Ю.А. Левада Время перемен. Предмет и позиция исследователя
© Ю.А. Левада, наследники, 2016,
© Л.Д. Гудков. Предисловие, 2016,
© Л.Д. Гудков, А.И. Рейтблат. Состав, 2016,
© В.М. Долгий, А.Г. Левинсон, Л.А. Седов, В.Л. Шейнис. Статьи, 2016,
© А.В. Борисов, Т.В. Левада, С.В. Макаров, А.И. Рейтблат, Е.И. Серебряная. Библиографический список, 2016,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2016
Социология Юрия Левады
Ибо много званых, а мало избранных.
Мф. 22: 14После смерти Ю.А. Левада был почти единодушно признан (теми, для кого это имя что-то говорило) «безусловным моральным авторитетом» и самым крупным российским социологом. Двусмысленность ситуации заключается в том, что работы Левады как раньше не читались, так и теперь остаются без внимания (мало известны и еще меньше поняты). Если в позднесоветское время отсутствие отклика еще можно было в какой-то мере объяснить цензурой и недоступностью его сочинений (на протяжении 1972–1986 гг. действовал запрет на публикацию его работ; а то немногое, что появлялось – всего несколько статей по урбанизации и антропологии, выходило в ведомственных малотиражных сборниках), то с конца 1980-х гг. ограничений больше не существовало: Левада много печатался, выступал в широкой прессе и т. п.[1] Но его статьи и книги почти не цитируются, не входят в учебные курсы по социологии или культурологии, а значит, не обращаются в качестве значимых теоретических конструкций, образцов анализа или интерпретации социальной реальности. На первый взгляд причина проста и лежит на поверхности – неприятие связано с непониманием. Действительно, теоретические работы 1970 – 1980-х гг. написаны предельно сжато, очень концентрированно, практически без примеров или разъяснений, а наша образованная публика, в том числе и научная, может усваивать только вторичные продукты, отмеченные чьим-то вненаучным авторитетом (раньше это были властные структуры, сегодня – модные западные авторы), только многократно адаптированные и представленные в облегченном изложении.
Стиль работ Левады 1970 – 1980-х гг. лишь отчасти обусловлен соображениями «проходимости» и цензуры, а также неопределенности своего положения – представится ли еще повод изложить свои мысли или нет. И поздние работы, написанные уже во время ВЦИОМа или Левада-Центра, хотя и кажутся более ясными и приземленными, «эмпирическими», содержащими массу цифр и других иллюстраций фактического материала из массовых опросов, очень не просты[2]. Более адекватным объяснением неприятия работ Левады, как мне кажется, было бы указание на предельную сосредоточенность мысли автора на проблемах, которые в принципе исключены в отечественной социальной науке, остающейся по сути эпигонской: это неопределенность выхода из колеи отечественной истории, завершившейся тоталитаризмом, и, соответственно, возможности понимания реальности, которые открывается для этого в социологии как системе позитивного знания, свободного от идеологии, а значит, в известной степени допускающего контроль исследователем своих иллюзий и массовых предубеждений. Поэтому можно указать на несколько причин, блокирующих интерес и рецепцию его идей «научной общественностью» России: первая – любые его предметные построения и интерпретации эмпирических исследований опираются на опыт анализа общей теории социологии, проведенного в 1960 – 1970-х гг., и ее главных составляющих, то, что совершенно отсутствует в нынешних социальных науках. Эта многоуровневость понятийного языка и имплицитно подразумеваемых предметных связей сразу же резко усложняет восприятие и понимание автора. При этом речь не идет об академических задачах выявления внутренних противоречий или расхождений у классиков, в истории идей и т. п. Задача, которую он ставил перед собой, как мне кажется, была более практической: определить возможности концептуального схватывания разных типов человека и соответствующей им организации социальных форм. Вторая причина может быть определена как безжалостная и безнадежная трезвость его взгляда на окружающую действительность, что радикально расходится с традиционными, внутрикультурными и идеологическими установками образованных слоев («интеллигенции») советского или российского общества: его ориентированность на изменение. Для сервильной, государственнически ориентированной части научного сообщества (социологов, экономистов, историков) эта задача выглядит как необходимость обслуживания власти, обеспечения ее консультациями, материалами оптимизации практических целей управления; для «оппозиции», внутренне не принимающей тотальный режим насилия, – как необходимость изменения системы власти, ее перестройки или слома. Проектная ориентированность социального мышления – это не только следствие институционализированной идеологии, того, что обусловлено рецепцией марксизма после революции, но и особенностями политической культуры, традициями «беспочвенности» интеллигенции в России.
И наконец, еще одна трудность интерпретации работ Левады вызвана его отказом от систематического эксплицирования общего плана своей работы, а это значит, что для него «публичность» своего признания никогда не была сколько-нибудь важным обстоятельством и условием научных занятий. Он постоянно думал над проблемами этого рода и давал свои решения, без каких-либо оговорок и скидок на особые обстоятельства, вытекающие из «специфики отечественной ситуации».
Глубоко спрятанная страстность Левады внешне почти никак не выражалась. Людей он делил на «хороших» и «неинтересных», считая, что настоящее дело может делаться лишь со страстью (когда ему что-то нравилось, он с чувством повторял чье-то выражение: «увлекает увлеченность»).
Одиночество, следующее из принятия такого рода позиции, было совершенно осмысленным, этически и, видимо, экзистенциально мотивированным. Оно открывало ему пространство внутренней свободы, ощущаемой окружающими, устанавливало дистанцию по отношению к событиям внешнего мира, а также давало неповседневную меру житейской и человеческой суеты. «Небо звезд», которое он время от времени упоминал[3], было для него не чужой цитатой, а действительно единственно значимой перспективой видения и оценки реальности. Однако эта высота означала не только одиночество, но и суровость, даже жесткость отношения к себе. Интерес к людям, любопытство по отношению к самодостаточной жизни несовместимы ни с нетерпением, рождающимся из необоснованных и очень примитивных упований на ближайшее будущее, ни с надеждами на быстрые перемены, равно как и со столь же плоским безудержным отчаянием, последовавшим у многих после неудачи «демократии» в России.
Именно поэтому такая точка зрения (или по-другому: характер отношения к себе и окружающему) вызывает непонимание его читателем. Такая позиция цензурируется, вытесняется, не принимается социологическим окружением, поскольку, с одной стороны, она выходит за рамки конвенциональных средств интерпретации российских перемен с их плоским государственничеством или транзитологизмом, с другой же – воспринимается как отказ от прямого участия в политике, а у более внимательных наблюдателей – как его глубокий пессимизм в отношении современного российского общества. Но и то, и другое суждение было бы неверным. «Незаинтересованное рассмотрение», разведение (но не отключенность от актуальных интересов) научной деятельности и политического действия требуют чего-то вроде феноменологической пропедевтики, воздержания от практических оценок и от смешения их с познавательными ценностями. Нельзя связывать проблемы исследования (понимания) с прямой включенностью в ситуацию действия. Как и во многих других отношениях, даже близкие и симпатичные ему люди с трудом воспринимали нехитрый тезис, что понимание – это тоже действие, причем более существенное, нежели участие в тех или иных прямых гражданских акциях.
Поэтому более важная причина игнорирования работ Левады, равнодушия или отсутствия интереса к тому, о чем он писал, заключается в отторжении российской социологической наукой той ценностно-этической позиции исследователя, которую он занимал, соответственно, нежелания признавать его подходы, оценки и выводы. Парадокс, однако, заключается в том, что – по законам нечистой совести – эта глухота, дистанцирование, отчуждение были вынуждены принимать характер декларативного почитания, тем самым вытесняя из поля сознания то, что являлось самым важным для Левады как человека и ученого.
Левада был человеком закрытым, и о нем самом его окружение, а тем более московская научная публика, несмотря на всю его известность, знали очень мало.
Юрий Александрович Левада родился 24 апреля 1930 г. в Виннице, что называется, в интеллигентной семье. Мать – журналистка местной газеты. Отец рано оставил семью, и мать вышла замуж за Александра Леваду, сотрудника республиканской «Литературной газеты», позднее ставшего известным украинским поэтом, писателем и драматургом, лауреатом государственных премий, высокопоставленным функционером, занимавшим в послесталинское время посты замминистра по кинематографии и по культуре. В 1937 г. отчим был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, но вскоре отпущен, в годы войны он – военный корреспондент. Дед Левады был уважаемым в округе человеком – врачом, обладателем большой библиотеки, определившей в детстве круг чтения Левады. Разнородная в языковом и культурном плане среда (переплетение русской, украинской, еврейской, польской истории), центр-периферийные проблемы советской империи, политические катаклизмы, расхождения идеологических и социальных планов действительности определили рамки будущих размышлений. С началом войны он и мать оказались в эвакуации в Западной Сибири, голодали и бедствовали. Рано с медалью окончил школу и в 17 лет поступил в Московский университет на философский факультет, где, как он позже говорил, надеялся найти «настоящую правду» о всем том, что его окружало. Но серое и схоластическое преподавание довольно быстро заставило разочароваться и разувериться в марксистско-ленинской философии как системе универсального объяснения мира, начисто отбив всякий интерес к философии. Годы учебы (он окончил университет в 1952 г.) пришлись на период «борьбы с космополитизмом», «буржуазным влиянием», с «идолопоклонством перед Западом», с тяжелыми в моральном и человеческом плане потерями в ходе факультетских кампаний разоблачений и самокритики, известных нам по литературе. Однако тогда же начали преподавать и другие профессора (В.Ф. Асмус, П.С. Попов, А.Ф. Лосев и др.), хотя некоторые из них (в том числе В.Ф. Асмус) вскоре были уволены. Отрезвляющим обстоятельством, о котором он также вспоминал, был опыт совместного обучения бывших школьников с людьми, вернувшимися с фронта: уважение к ним сочеталось с шоком от их грубости и жестокости, нацеленности на партийную карьеру, невежества и неспособности к учебе.
Но, видимо, что-то было необычное в атмосфере тех лет, если судить по тому, что именно тогда же складывался неформальный круг философов, будущих «шестидесятников»: в 1950 г. факультет оканчивает Э.В. Ильенков, на следующий год – А.А. Зиновьев и А.М. Пятигорский, еще через год вместе с Левадой – Б.А. Грушин, К.М. Кантор, еще через год (1953) – Г.П. Щедровицкий, в 1954 г. – М.К. Мамардашвили и др., ставшие в 1970-х авторитетными фигурами. А это означало, что появилось нигде никак не сформулированное, но четкое разделение на тех, кто ориентирован на ценности знания и того, что это знание питает, и оппортунистов, «прохиндеев», хотя внешне подобное разграничение выглядело как признание высокого профессионализма, эрудиции, независимости одних и менее явного, но очевидного клейма серости и начетничества других.
Сразу после университета Левада поступает в аспирантуру философского факультета МГУ, во время учебы в которой несколько месяцев проводит в Китае (в только что образованной КНР), учит китайский язык. В 1955 г. защищает диссертацию о народной демократии в Китае, работает в обществе «Знание», завотделом журнала «Наука и жизнь». Но вскоре переходит в Институт китаеведения АН СССР. С 1960 г. он старший научный сотрудник Института философии АН СССР, а с 1966 г. – завсектором Отдела конкретных социальных исследований. Именно с этого времени (с осени 1966 г.) и начинается история сектора Левады и его сотрудников. В 1968 г. по секретному постановлению Политбюро ЦК КПСС создается Институт социологии, который, однако, сохраняет в своей титулатуре название прежнего отдела – Институт конкретных социальных исследований АН СССР. Слово «социология», как и соответствующая научная дисциплина, вплоть до 1991 г. не будет иметь права на существование в СССР.
В 1964 г. защищает докторскую диссертацию «Социологические проблемы критики религии» и становится едва ли не самым молодым в стране доктором философских наук. В 1967 г. на факультете журналистики начинает читать первый в советское время курс лекций по социологии (в конце 1968 г. выходит их ротапринтное издание), который обрывается в ноябре 1969 г. После резкой критики партийных органов и знаменитого обсуждения книги в Академии общественных наук при ЦК КПСС, в котором участвовали практически все партийно-философские начальники и будущие «отцы-основатели» отечественной социологии[4], Леваду лишают только что присвоенного звания профессора и права преподавания[5], выносят строгий выговор «по партийной линии», но оставляют на работе.
Исходные ценностные посылки и установки
Вопрос заключался в том, где искать альтернативные по отношению к советской идеологии и тотально-репрессивной практике коммунистического господства ценности и представления, могущие быть основанием для иной социокультурной организации общества и человека. Общее движение в среде думающих людей начала – середины 1950-х гг., переживших первые годы после смерти Сталина и хрущевской «оттепели», были ограничены рамками «нормативности фактического»: раннего Маркса с его просвещенческим и эмансипационным потенциалом, новомирской литературы, появления «либералов» в партийном руководстве, допускавших использование некоторых инструментов и методов западных социальных наук для оптимизации задач управления. Рамки, задаваемые действительностью и уровнем ее понимания, были довольно ограниченными – «несколько очеловечить нашу жизнь, несколько ее гуманизировать, рационализировать, придать ей похожий на нормальный вид»[6]. Это требовало и большой работы по адаптации западных авторов к повестке дня, а К. Маркса – использовать для введения современных авторов и их «оправдания», изучения и включения в допустимый круг разбираемых вопросов. Левада, в отличие от своих коллег – участников Московского логического кружка (Мамардашвили, Зиновьева, Грушина, Ильенкова, Щедровицкого), довольно рано отошел от марксизма как парадигмы объяснения, но не отказывался от того, чтобы отслеживать то влияние, которое эта идеология (и заданная ею антропологическая модель) оказывала на социальную жизнь, не говоря уже об инструментальном использовании марксистской риторики для постановки собственно социологических задач.
Как можно понять, его интересовали в то время (первая половина 1960-х гг.) истоки гуманистической этики и культуры, то есть он искал ответы на вопрос, как возможно само появление идей, ценностей и представлений, ставших основой формирования современного общества – антипода советского тоталитаризма. Именно в это время молодой Левада пишет статьи о П. Тейяре де Шардене, А. Швейцере, рецензирует книгу Чарльза Сноу о двух культурах. Подобные ценности, идеи, моральные представления виделись ему не только как результат секуляризации трансцендентных оснований человеческого существования, но и как специфический элемент социальной системы, включая и институты социализации, идеологизации, легитимации социального порядка, но также и воспроизводства, а значит, поддержания интегративных механизмов общества. Занятия этими материями шли одновременно с освоением имеющихся социологических теорий социальных процессов и социальных форм, в которых «живут» эти экзистенциальные и религиозные проблемы, – социальной структуры, институтов, коммуникаций, массовой культуры. Отсюда особый интерес к «социальной природе религии», как называлась одна из его книг, к мифологическому сознанию, ритуалу, традиции, с одной стороны, к массовому усредненному человеку, идеологии, фашизму, типам социальной личности, с другой[7]. В отличие от структуралистов и последователей культурантропологов (и тех, кто ими занимался в СССР – Е.М. Мелетинского и др.) левадовский разбор принципиальной структуры и функций мифа (истории, традиции) всегда был соотнесен с системой власти. А это значит, что миф, история, традиции рассматривались им как важнейшие компоненты конструкции «вертикальных» институтов, то есть таких, которые легитимированы сакральными представлениями, а значит, включены в социальную организацию религиозного и идеологического воздействия на массы. Особенно примечательным оказывается его анализ социальной основы мышления и политических мифов (в том числе таких, как «величие нации», «всеведение фюрера» и иерархическая структура нацистского режима), тоталитарной пропаганды и культа в фашизме и нацизме[8]. Учитывая, что в те же годы он неоднократно обращался к кибернетике, системным моделям общества, процессам модернизации, массовой и элитарной культуры, переход к проблематике, с одной стороны, массового общества, с другой – тоталитаризма, имеющего уже прямое отношение к исследованиям советского «общества-государства», вполне обоснован и закономерен. Но, занимаясь этой проблематикой, он не терял из виду и возможности интеллектуального влияния на идеологию советской номенклатуры: обсуждаются принципы «обратной связи между обществом и властью», проблемы «научного управления», применимость кибернетических моделей и системного анализа и проч.
Вообще говоря, это время – примерно 15 лет (1963–1978 гг.) – уникальный период в интеллектуальной истории нашей страны. Оно никогда не повторится, поскольку никогда в будущем не будет подобной констелляции обстоятельств, порождающей такую интенсивность и силу желания свободной мысли у людей. Уходящий сталинизм, недавняя война, свежая память об исторических катаклизмах, восстания в Венгрии, ГДР, волнения в Польше, Тбилиси, Новочеркасске, довольно скудная и мрачная повседневность закрытого и статичного общества создали такой контрастный фон, на котором открывшиеся возможности занятия социальными науками, включения в идеальный мир знания о мышлении, обществе, истории стали эквивалентами свободы и человеческого достоинства. Никогда больше мотивация стремительного освоения этого мира знаний не была столь сильной, как тогда.
В концептуальном плане эта ситуация внезапного и стремительного расширения интеллектуальных горизонтов в пределах одного поколения напоминает или воспроизводит условия западного модерна, но только в более конденсированном и ускоренном виде. Для таких мыслителей, как Левада, это означало, что они оказываются в ситуации кристаллизации самой исходной проблематики социологии, то есть ровно в том же положении, в котором на рубеже XIX–XX столетий осознавали себя будущие классики социологической науки: он (как и его предшественники) вынужден был думать и решать одновременно предметные, теоретические, эпистемологические и методологические задачи, поскольку без удовлетворительных ответов на эти вопросы последующая работа была невозможной (по внутренней логике мышления). Конечно, позже все эти темы стали частью предметов узкоспециализированных областей социологии. Но в тот момент это означало, что ответы на подобные вопросы можно искать, только обращаясь к самым различным сферам гуманитарного знания, что означало потребность в освоении материалов западных мыслителей самого широкого круга. Поэтому это было время (недолгое) диалога и взаимодействия социологов и философов, историков и экономистов, исследователей религии и культуры, литературоведов и специалистов по системному анализу. Никогда больше высота, универсализм и серьезность этой общей работы не повторились. А. Пятигорский называл эту ситуацию «метафизической»[9]. Давид Зильберман, уехавший из СССР в 1973 г. и преподававший в американских университетах, писал, что ему не хватает в США той интеллектуальной атмосферы, которую он имел в Москве[10].
Нет сомнения, что в содержательном плане это был эффект «приоткрывшейся» двери в закрытом обществе, начавшейся перекачки идей, концепций, теоретически проработанного и интерпретированного материала из другого мира. Поэтому у российской публики возникала неизбежная в таких случаях иллюзия – восприятие тех, кто излагал идеи и концепции западных ученых и вводил их в интеллектуальную работу в России, как оригинальных мыслителей. Но эта особенность массового восприятия и складывания репутаций, характерная для состояния неразвитой сферы публичности, отсутствия систематической работы, дискуссий, рефлексии, никак не снижает оценку усилий тех, кто вел эту работу. Еще раз подчеркну этическую и эмансипационную сторону этой интеллектуальной деятельности, сегодня забытой и вытесненной последующей волной постмодернизма – эпигонского и крайне поверхностного релятивизма, проложившего дорогу цинизму путинской эпохи.
Круг интересов. Тематика занятий сектора Левады
В ИКСИ Левада возглавлял сектор изыскательского проекта «Методология исследования социальных процессов». Первоначально он состоял из 5 сотрудников и 7 аспирантов, позже разросся до 12 за счет окончивших аспирантуру и примерно такого же числа аспирантов. Под его руководством шла очень интенсивная общая коллективная работа по освоению круга идей и методологии западной социологии. В рамках сектора действовали три параллельных методологических семинара – общий, на котором по понедельникам шли доклады приглашенных гостей («варягов») или членов сектора, главным образом тогдашних аспирантов Левады Л.А. Седова и И.С. Кона; культурантропологический (его вел Д. Сегал) и логико-социологический (который, впрочем, был нерегулярным, его вел А.И. Ракитов при участии Ю.А. Гастева). Главное внимание уделялось изучению доминирующих на тот момент социологических школ – структурно-функциональной парадигмы Т. Парсонса (последний был предметом штудий не только Левады, но и Л.А. Седова, Н.Н. Стрельцова, В.В. Пациорковского, Г.Е. Беляевой), символического интеракционизма, социальной и культурной антропологии, в меньшей мере – понимающей социологии М. Вебера (здесь главное место принадлежало М.А. Виткину), еще меньше – Г. Зиммелю и др. О «немцах» с докладами выступали Ю.Н. Давыдов («Социология М. Шелера»), П.П. Гайденко и др. О продуктивности этой работы можно судить хотя бы по тому, что за это время было заслушано более 150 докладов и проведена одна конференция (по проблемам аномии в марте 1971 г.). Когда в связи с ликвидацией сектора (он просуществовал с ноября 1966 по май 1972 г.) и чистками в ИКСИ подводились итоги работы сектора, среди прочего в качестве отчета о пятилетней работе были представлены коллективная монография по структурно-функциональному анализу (она так и не была опубликована), сборник статей «Логика и социология» (та же судьба) и 17 сборников переводов работ зарубежных авторов по социологии и смежным дисциплинам. Здесь мне важно указать лишь на самый общий круг ведущихся разработок, источники, школы западной социологии, которые были в поле его постоянного внимания и как самостоятельного ученого, и как научного руководителя социологического проекта. Левада ушел из ИКСИ в ЦЭМИ, не дожидаясь окончания заказанного погрома социологии, учиненного М. Руткевичем[11]. В институте осталась лишь самая серая публика. В ЦЭМИ Левада оказался в круге дискуссий экономистов, позднее ставших идеологами реформ.
Особенности социологического подхода Левады. Теоретические работы 1973–1984 гг
Своеобразие левадовского способа работы состоит в стремлении обнаружить многообразие мотивов и образцов действия, в признании сложности социальной материи в конкретных российских обстоятельствах и ситуациях сейчас идущей жизни[12]. Мысль эта на первый взгляд кажется тривиальной, однако последствия ее признания будут совсем не банальны, если учитывать предопределенное имперской и советской культурой инфантильно-высокомерное отношение российского «совка» к себе и к своей стране. Сочетание идеологического миссионерства раннего тоталитаризма, принадлежности к супердержаве брежневского времени с комплексом неполноценности и самоуничижения, характерным для стран догоняющей модернизации, государственного патернализма с оправданием своей пассивности и безответственности подавляет интерес к себе и другому, лишает человека чувства собственного достоинства, заставляя страдать от сознания внутренней бесплодности. Но оборотной стороной этих же комплексов оказываются стойкие иллюзии и надежды на чудо, спасителя, ничем не мотивированные сдвиги к лучшему. И те и другие оказывают стерилизующее воздействие на интерес к действительности, порождая эффект дереализации настоящего. Поэтому сама установка на то, что российская жизнь в ее повседневности и уродстве может быть не менее ценной и значимой, чем в другие периоды мировой истории, появляется крайне редко и заслуживает всяческого внимания и понимания.
Парадоксы такого рода сам Левада выделял в качестве метки или симптоматики реально существующих социологических проблем, более того – он разворачивал их уже в виде коллизии социальных взаимодействий, противоречия в структурах идентичностей, ролевых или ценностно-нормативных конфликтов, столкновения групповых и институциональных интересов. Парадокс для него был не частным концептуальным или методологическим недоразумением, а указанием на многообразие социальных определений, источники которых лежат в гетерогенности или многослойности социокультурных систем и механизмов регуляции социального действия.
Занятия теоретическими проблемами социологии у Левады не имели самоценного, эскапистского характера, как было у многих в советское время (системы знания западной науки – социологии, истории, антропологии, философии, культурологии – для искренне увлеченных людей того времени выступали как вневременный и прекрасный, платоновский мир свободы, истины, идеальных сущностей, «третий мир» в смысле К. Поппера или кастальской игры Г. Гессе). Напротив, они были мотивированы внутренним, личностным, в этом смысле – ценностным, высокозначимым – интересом к настоящему и поиском надежных и адекватных средств, позволяющих понять особенности тоталитарных режимов (советского в первую очередь) и их последствий в самых разных отношениях – человеческом, институциональном и т. п. Помимо освоения соответствующих предметных социологических конструкций, шла критическая работа по переоценке концепций и понятий с точки зрения их необходимости и эффективности для анализа и объяснения социальной реальности этих обществ.
Теоретически проблема, стоящая перед Левадой, – если смотреть на нее глазами социолога знания – заключалась в том, что выработанные западной социологией объяснительные ресурсы были ориентированы на описание наиболее «рационализированных», технологических и институционализированных, «формальных» структур взаимодействия, отождествляемых с «современностью», то есть на системы социальной, экономической, правовой организации обществ, завершивших процессы модернизации (которая в основном совпадала с вестернизацией). Для других обществ – незавершенной или догоняющей, неклассической, в том числе тоталитарной модернизации – эти категории принимали характер утопических, идеологических, мифологических и т. п. образований, то есть не служили средствами описания положения вещей, а оказывались компонентами ценностных ориентаций, групповой идентичности (массовой или элитарной), легитимации власти, обоснования статуса или претензий на власть и т. п. Это касалось не только таких общих категорий, как «рациональность», «целенаправленность», «эффективность», «индивидуализм», но и предметных конструкций – «бюрократия», «урбанизация», «социальное развитие», понятия «культура» и т. п.[13]
Остановимся на этих моментах. Сложность аналитической работы заключалась в том, чтобы, отрефлексировав условия возникновения самой теоретической категории и социальную – групповую, институциональную – обусловленность ее использования, контекст ее функционирования, иметь возможность видеть различия ее функций, а тем самым и особенности структуры самого «человека» как главного элемента общественной системы. Иначе говоря, дилемму соотношения «модели и реальности» следует обсуждать, отталкиваясь от «поздних» ситуаций, в которых «история совпадает с абстракцией (предельно абстрактной моделью)» (С. 286), то есть либо разделяя субъектов действия, описания и объяснения, либо реконструируя генезис понятия и контекст актуального социального поведения. Понятно, что проблематичным это становится сравнительно редко, лишь в особых условиях, как правило, только там, где «исторический перелом как бы вынес на поверхность, обнажил, освободил от наслоений фундаментальные элементы и скрытые пружины всей человеческой деятельности» (с. 283). Отсюда берет начало концепция «перелома», «аваланша», распада, играющая значительную роль в описаниях «советского человека». Особенность таких исторических ситуаций заключается в том, что «проблемой становится сам человек (т. е. когда утрачивают черты “заданности” его потребности, интересы, возможности, рамки деятельности)». В этих условиях «эксплицирование человеческих, антропологических предпосылок социально-экономических систем и процессов приобретает принципиальное значение» (с. 275).
Этому предшествовала чрезвычайно важная в теоретико-методологическом плане, очень богатая по своему эвристическому потенциалу аналитическая работа по концептуальному моделированию процессов урбанизации и репродуктивных систем обществ, изложенная в нескольких статьях, но очень конспективно (что отчасти объяснялось соображениями цензурной проходимости текста)[14]. Урбанизация в данном случае была взята не столько как пример феноменологии социально-географических процессов определенного типа, сколько как повод представить общую структурно-функциональную модель – систему организации и воспроизводства сложного общества, а также характер его трансформации (=модернизации)[15].
В этих статьях Левада отрабатывал основной методологический принцип социологического исследования: давая феноменологический анализ социальной реальности или описывая морфологическую структуру той или иной социальной системы (различного уровня – институционального, группового, социетального), аналитик должен не только выявлять функциональное значение отдельных ее компонентов (их роль в обеспечении целого), но и связывать их с различными наборами культурных смыслов, фиксируемых и воспроизводимых разными элементами институциональной системы и разными способами «записи». Различные по времени способы культурной записи не исчезают, но уступают ведущее место иным типам хранения социальной памяти (традициям, способам социализации, организации социального поведения, ценностно-нормативным системам институтов и т. п.), подвергаясь при этом переоценке, перекодированию, «переупаковке». Только так они могут сохраняться в культуре. Но это означает, что имеет место не только вытеснение прежних значений, но и взаимовлияние разных культурных слоев. Иначе говоря, адекватная интерпретация социальной реальности требует принять во внимание не только само «явление», но и, как говорят феноменологи, «способ данности» этого явления, то есть, во-первых, подвергнуть теоретической, исторической, генетической рефлексии описательный и объяснительный аппарат исследователя, направленность его теоретико-познавательного интереса, а во-вторых, рассматривать то, как конституировались сами субъективные смыслы действующих в конкретной ситуации (структура и генезис семантики «явления»). Изучению подлежат не только наблюдаемые особенности социального поведения, но и институциональные рамки этого поведения, их генезис (исторические пласты ценностей и норм, определяющих их состав и структуру), доминирующий тип социализации, степень дифференциации и специализации институциональной системы, характер интеграции и т. п.
Знаменателен один из промежуточных выводов этой работы: «…город, фокусировавший на ранних стадиях своего развития функции сохранения и интеграции общества, затем функции адаптивные (активное взаимодействие общества и среды в системе производства), ныне становится сосредоточием функции целеполагания, наиболее “активной” и сложной из всех. <…> В современных условиях “поддержание культурного образца” предполагает сохранение приоритета целеполагания, а это последнее служит необходимой предпосылкой самосохранения общества. Отсюда и прогрессирующее изменение самого соотношения “центра” и “периферии” в фокусируемой городом общественной структуре» (с. 218). В переводе с языка структурно-функциональной парадигмы это означает, что общество с подавленной или деградировавшей политической системой (системой целеполагания) не имеет перспектив в будущем, что тоталитарный или авторитарно-патерналистский режим может сохраняться все с большим трудом, делаясь все более и более архаическим, то есть не имеющим шансов на завершение модернизации. «Повсеместное распространение городского образа жизни, городской иерархии ценностей и т. д. становится реальностью; без сомнения, оно является конкретной перспективой общемирового масштаба. Поскольку современные формы урбанизации при соответствующем развитии транспортных и коммуникативных систем не связаны только с концентрацией огромных масс населения, производства, застройки и т. д., постольку получают развитие многообразные и всепроникающие “рассеянные” ее продукты» (с. 218).
Типологически центральными функциями общества Левада считает (вслед за Т. Парсонсом): а) инструментальную (целевые ориентации, реализация поставленных целевых задач), б) нормативную (фиксирование нормативно-ценностной системы), в) символическую (поддержание механизмов, интегрирующих систему как целое). Различие социокультурных систем предполагает разное социоморфное представление центральных функций (различия определяются в первую очередь шкалой, на одном полюсе которой – наличие специализации элементов системы, на другом – диффузность функций или отсутствие дифференциации функций). Чем более жесткой (аскриптивной) является система, тем более выражена ее пространственная «центр-периферическая» структура: центр приобретает исключительно символический характер, нормативные функции воплощаются в управленческой иерархии, а инструментальная деятельность вытесняется на исполнительскую периферию. Этот тип характерен для традиционных или традиционализирующихся обществ, изменяющихся лишь под внешним воздействием или слома внутренних механизмов, путем адаптации к происходящим переменам, а не путем динамического развития, инноваций, усложнения и специализации своих структурных элементов. Ему противостоит другая возможность развития социальной морфологии, обусловленная «возникновением специфических средств записи культурного текста. В такой модели нормативные функции центра универсально значимы и доступны <…>. Инструментальные же функции иерархизированы, распределены по различным агентам социального действия (индивиды, группы, организации) вплоть до верхнего, социетального уровня организованности общества. Функции центра связываются здесь с “вертикальным” строением культурного текста», способного «вместить в принципе неограниченный объем и любую структуру информации» (с. 248). Тем самым в такую организацию общества введен принцип ценностного или идейного плюрализма, а значит, сняты ограничения на какие-либо интеллектуальные или смысловые ресурсы, что, собственно, и является предпосылкой интенсивного инновационного процесса в любых областях социальной и культурной деятельности. Известную завершенность этот подход получил в статье «О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориального аппарата)», вышедшей через четыре года после «урбанизационного цикла»[16].
Понятно, что такое схематическое моделирование социокультурных систем представляет собой попытку транспонировать парсоновскую парадигму на материал обществ с запаздывающей или догоняющей модернизацией, где институты, относимые (в соответствии с процедурами аналитических таксономий) к разнофазовым эпохам и состояниям, присутствуют в действительности «одновременно», то есть выполняют разные функции для разных групп. Чрезвычайно высоко оценивая вклад в общесоциологическую теорию Т. Парсонса[17], он вместе с тем довольно критически относился к тому, что он называл в частных разговорах его «рационалистическими упрощениями», склонностью к плоскому рационализму и утилитаризму: конструирование социальных систем (структур социального взаимодействия) из очень ограниченного набора типов действия. Парсонс в своей теории социального действия использовал лишь два веберовских типа рационального действия: целерациональное и ценностно-рациональное, ограничившись в своей трактовке рациональности только этими вариантами.
Строго говоря, М. Вебер не считал исчерпывающей ту типологию социальных действий, которую он представил в первой главе своего труда «Хозяйство и общество» и которой обычно ограничиваются социологи (учебники никогда не выходят за ее пределы): целерациональное (у Парсонса – «инструментальное»), ценностно-рациональное, традиционное и аффективное действия. Но для прагматических задач его социологических исследований этой схемы было достаточно, хотя в своих методологических работах он указал на другие возможности идеально-типического конструирования. Более того, его концепция процесса рационализации (не различения формальной и содержательной рациональности, а именно действий рационализации, ее условий и факторов, то есть систематического развертывания идей под воздействием определенных социальных интересов) предполагает введение разнообразных конструкций рационального действия, несводимого к чистой инструментальности[18].
Для Парсонса, как и для многих других современных социологов, ориентированных на изучение современных западных обществ, рациональность различалась лишь содержательно, по предмету рационального действия, а не по своей структуре[19]. Идентификация инструментальности с рациональностью (за образец берется прежде всего экономическое поведение и соответствующая конструкция человека – «homo oeconomicus») задавала совершенно определенную логику рассуждения: модернизация (самого разного рода) означала не просто прогрессирующую технизацию и специализацию функциональных подсистем общества, но и повышение уровня человеческой свободы, моральный и гуманитарный прогресс и т. п., то есть все то, что стоит за разного рода идеологическими утопиями, в том числе и марксизмом, а значит, и советским тоталитаризмом. Поэтому вполне логичным выглядит следующий шаг Левады-теоретика: критика рациональности экономического человека (включая и экономический детерминизм)[20].
Этот цикл («Социальные рамки экономического действия» (1980); «Проблема экономической антропологии у К. Маркса» (1983) и «Культурный контекст экономического действия» (1984)) завершила самая важная в этом плане работа, переводящая социологическую теорию действия в другой концептуальный горизонт: «Игровые структуры в системах социального действия» (1984).
Свой разбор Левада начинает с фиксации общих мест рассуждений об экономическом действии как специфическом идеале действия как такового, его понятности, мотивационной прозрачности, результативности и т. п. Он указывает на то, что с экономической («внутренней») точки зрения экономическое действие, характеризующееся предельной рациональностью, целенаправленностью, способностью к оптимизации и квантификации, представляется «естественным» (=обусловленным «потребностями» и т. п. квазиприродными императивами) и «беспредпосылочным» по отношению к социальной системе. «Это значит, что его нормативно-ценностные параметры (курсив мой. – Л.Г.) остаются вне поля внимания. Между тем для социологического анализа – предполагая последний достаточно зрелым методологически – рассмотрение таких предпосылок (рамок, контекста) представляет специфическую и постоянную проблему» (с. 306). Задача, следовательно, заключается в том, чтобы проблематизировать характеристики «очевидности» такого типа действия, представив их как «социальное содержание различных типов человеческих действий и общественных структур, то есть раскрыть сам символический смысл эквивалентно-обменных отношений и соответствующих мотиваций» (там же). Такая процедура снятия иллюзии самоочевидности оказывается возможной только тогда, когда демонстрируется, что эффект само-собой-разумеющности в отношении «цель – средства» возникает в результате нормативного ограничения средств для достижения поставленных целей или не менее нормативного санкционирования самих целей относительно используемых средств. Определенно рациональным в данном социально-историческом контексте и данных обстоятельствах признается лишь строго санкционированные выборы цели и средств. Соответственно, адекватным их соотношение в данной ситуации может расцениваться только с учетом предполагаемых последствий их выбора и наступления ожидаемых последствий действия. Но такая санкция (групповая, институциональная) возможна лишь тогда, когда сами «исходные» культурные параметры (нормы и ценности, задающие символические значения трансакции) рассматриваются как неизменные, неисторические, как «небо неподвижных звезд» по отношению к описываемым группам и институтам, что допустимо лишь в качестве аналитических посылок, а не фактического положения вещей. Другими словами, «естественность» структуры экономического действия – продукт довольно поздней идеологизации экономических отношений, с одной стороны, и однозначно трактуемой «культуры», с другой. Многократно предпринимаемые попытки представить «модель» или «структуру» культуры неизменно оборачивались неудачей, приводя либо к диалектическим играм и сочетанию мнимых сущностей с понятиями теоретического плана, либо к выведению за рамки культуры большей части смысловых проявлений и образований.
Поэтому Левада принимает важнейшую посылку – «в самой культурной подсистеме собственные нормативные регуляторы отсутствуют». Соответственно, «культуру методологически правильнее было бы представлять не как функционально-организованный механизм» (или фиксированный текст, жесткую семантическую структуру и т. п.), «а как систему значений, приобретающих действенность и смысл (организованность) только в процессе их использования. В этом плане культура аналогична языку» (с. 308). Аналогии с языком (речь и словарный запас, контекст высказывания, контекст понимания, языковой этикет и социально-культурная стратификация и т. п. различения) заставляют утверждать, что «семантический потенциал (“поле”) определенной культуры в принципе должен быть существенно большим, чем ее функционирующая часть. Он включает не только явные, но и латентные, не только функционально-полезные, но и дисфункциональные структуры, а также структуры, различающиеся временными параметрами своего действия, и т. д. <…> Потенциальный арсенал культурных значений и структур формируется исторически, временные параметры таких структур по определению несводимы к рамке социально-организованных систем. <…> Отсюда неизбежность противоречивого многообразия культурных структур, способных оказывать воздействие на социально-организованные системы деятельности. Отсюда также и неизбежность активного выбора действующим субъектом (индивидуальным или организованным) культурных ориентиров собственного поведения из набора потенциальных альтернатив» (с. 309).
Задача, следовательно, сводится к тому, чтобы получить концептуальные, теоретические возможности фиксировать то действие, которое совершает актор, «выбирая» ориентиры поведения из множества (логически) возможных. Совершенно очевидно, что для этой цели непригодны все прежние нормативно или идеологически заданные жесткие привязки мотива и результата действия, которые в социальных и экономических дисциплинах обозначались обычно как «потребности», обусловленные социально или биологически, «императивы» существования и т. п. Но точно так же оказываются непригодными и другие общепринятые конструкции действия, используемые в социологии для обозначения связи ценности и нормы, ролевого поведения, мотива или принятых форм действия, выводимого из рамок традиции или обычая, аффективного состояния и т. п. Все эти конструкции оказываются слишком «элементарными», не схватывающими принцип и схему подобного действия. Для описания сложных форм поведения приходится ad hoc нагромождать сочленения отдельных простых действий или их сочетаний, вводить неверифицируемые сущности в конструкцию поведения, вроде генетически обусловленных механизмов, паттернов, архетипов или каких-то других внесоциологических ключей, позволяющих связывать инструментальные, нормативные и символические компоненты действия и решать таким громоздким образом задачи временного (в категориях социального и символического времени) и пространственного описания действия.
Левада предложил новый подход к теории действия, предложив схему сложного действия, где актор сам связывает разные плоскости значений – символические, нормативные, институциональные, временные, пространственные – в единую структуру. Он назвал ее «игрой». Игра – это субъективная проекция культурных значений на плоскость социального действия, позволяющая действующему и его партнерам структурировать ситуацию и свое поведение (предвидеть, организовать свое поведение, придать ему смысл в ограниченных рамках контекстуального целого, устанавливаемых самими игроками или принимаемых ими в качестве общепринятых правил). Подвергнув критическому анализу романтические и социально– или зоопсихологические подходы к игре, Левада фиксирует важнейшие элементы этой структуры закрытого (или «возвратного», как я бы сказал), то есть обращенного к самому себе действия, задающего себе смысл и значения поведения в неопределенном поле возможных ситуаций и альтернатив: ценностно-ролевая идентификация («свои – чужие»), «сюжетная» идентификация (смысл и значение отдельных компонентов поведения внутри целого) и, наконец, дифференцированное восприятие всего «целого» (сюжет обозримого фрагмента действительности, наделяемого смыслом и значением: «война», «экономическая конкуренция», «кокетство», «спортивное состязание», «защита диссертации» как доказательство ученого достоинства, «зрительская демократия», «соперничество супердержав» и проч.). «Игровая структура действия как замкнутая культурно-обособленная форма – категория идеально-типическая; никакой из видов признанного и институционализированного игрового поведения ей полностью не соответствует. В то же время нельзя обнаружить такую форму или сферу человеческой деятельности, которая не испытывала бы влияния игровых структур и которая не могла бы – в определенных своих узлах – при соответствующих условиях трансформироваться в игровую. Культурно-замкнутое пространство игрового действия не только существует параллельно или на “полях” обычной, “открытой” пространственной структуры общества; оно может появляться (или проявляться) в любой точке такой структуры, более того, служить средством ее организации. <…> Структура игрового действия, вынесенная за пределы (идеально-типической) игры “как таковой”, превращается в своего рода рамку, накладываемую на некоторый “поток” событий с явной или неявной целью его упорядочить, т. е. представить в виде какой-то регулярности, рациональности, целостности. Игровая структура в качестве рамки может быть сопоставлена с концептом “предвосхищающей схемы” в когнитивной психологии, где такая схема считается средством подготовки индивида к принятию информации определенного вида. Однако задача – и соответственно структура – игровой рамки более сложна, поскольку она организует не познание, но целый комплекс поведения. Наиболее общие признаки игровой рамки – представление цепи деятельности как конечной и рациональной (даже в модели чисто случайной, азартной игры можно усмотреть рациональность методологии “черного ящика”), упорядоченная и обозримая связь действия и эффекта (достигаемые цели достижимы, возникающие проблемы разрешимы, жертвы вознаграждены и т. д.), наконец, как уже отмечалось, – “человеческие” масштабы всех подобных процедур (курсив мой. – Л.Г.). Само применение подобных рамок означает непременное – явное или неявное – обособление определенных сторон реальности (“культурный барьер”), формирование замкнутого социокультурного пространства – времени <…> игрового действия. “Вездесущность” игровых структур объясняется тем, что “замкнутые” фигуры действия – одно из универсальных средств упорядочения, структуризации событийного потока человеческого существования (а лишь будучи упорядоченным, оно выступает как “жизнь”, то есть как предмет целостного осмысления, ориентирования, проигрывания). Ведь игровое упорядочение (“замыкание”) социальной деятельности не только формирует ее структуру в соответствии с человеческими масштабами и желаниями (как индивидуальными, так и социально-организованными на любых уровнях), но и позволяет постоянно реализовать эти желания, получая соответствующее мотивационное подкрепление (игра может рассматриваться как очевидный пример “внутренне мотивированного действия”» (с. 331).
Концепция идеально-типической конструкции сложного (сложносоставного, закрытого) социального действия как условия для работы с антропологическими представлениями в эмпирических социальных науках стала методологическим регулятивом в последующей исследовательской работе Левады. Благодаря ей проблема человека как базового института приобрела в условиях социального разлома особое значение, уже не только теоретическое, но и моральное, практическое, став условием осмысления возможностей выхода из тоталитарного режима, состояния «общества-государства».
Теоретические работы 1970–1984 гг. сделали возможной последующую эмпирическую исследовательскую работу[21]. Поэтому Левада очень рано оценил открывающиеся возможности новой, практически ориентированной интеллектуальной деятельности. Еще в сентябре 1987 г., ломая скептицизм и недоверие, даже эмоциональное сопротивление своих сотрудников, он убеждал их, что горбачевская перестройка – это не рокировка номенклатурных старцев, а начало нового исторического периода, требующего принципиально других форм работы, других точек зрения и практического участия. В ситуации «горной лавины» (а в 1988–1991 гг. он воспринимал происходящее именно в таких категориях) поза «теоретика», вздымающего очи горе, была для него не только смешной, но и отталкивающей[22]. Еще неясны были перспективы и пределы возможного, а он уже задумывался об «общем деле». В качестве такого поначалу виделся проект издания интеллектуального журнала (идеи такого рода мы обсуждали осенью 1987 г.), но уже очень скоро он получил предложение от Т.И. Заславской, что открывало возможности собственно эмпирического изучения постсоветской (посттоталитарной) реальности.
Ни у него, ни у сотрудников его бывшего сектора в ИКСИ или тех, кто позднее, уже на семинаре, присоединился к его кругу, не было серьезного опыта эмпирических социологических исследований. Но были энтузиазм первооткрывателей, пыл собранных снова вместе близких людей, какие-то общие идеи и горячее желание их проверить, разобраться в том, что такое «советское общество-государство». Проблема теоретического рода заключалась в том, что материал исследований был исходно ограничен показателями массовых опросов «общественного мнения», а не институционального или группового поведения. Соответственно, анализ социальных фактов или ценностных структур можно было осуществлять только через призму общих коллективных представлений и их динамику. Таких проблем перед социологией еще не стояло, поскольку организация социальных наук в западных странах была принципиально иной.
Преимущества вциомовской работы были очевидны: открывалась возможность постоянного и систематического отслеживания массовых реакций, анализа их состава, интенсивности и т. п. Ни у кого из тех, кто был озабочен большими социологическими проблемами, таких средств научной работы не было (особенно учитывая перспективы и масштабы предполагаемой работы во времени). Обычно крупные социологи в лучшем случае участвовали в отдельных монографических исследовательских проектах. «Общественным мнением» и его динамикой занимались полстеры, «демоскописты», маркетологи, но не социологи. Недостатки или, точнее, методические границы открывающихся возможностей (первоначально не столь очевидные) тоже довольно скоро стали ощутимыми: оценивать социальные процессы и системы отношения можно было только в кривом зеркале общественного мнения, организованных коллективных представлений, специфически искажавших или преломлявших фактические взаимосвязи и отношения. Но в тех условиях эти ограничения никого не смущали (отчасти в силу отсутствия соответствующих знаний и из-за туманных представлений о социальной реальности).
Итак, исходным моментом для социологической работы Левады[23] оказывается ситуация крупномасштабного общественного кризиса тоталитарного режима, когда, с одной стороны, обнажаются скрытые ранее институциональные механизмы и структуры групповых отношений, а с другой – вместе с открытыми конфликтами различных группировок во власти, относительным идеологическим плюрализмом и временной автономностью СМИ начинает формироваться и проявляться совершенно новый институт «общественное мнение»[24]. Соответственно, рассматривать вопросы изучения трансформации общества (или воспроизводства прежних социальных структур)[25] можно только с учетом структуры и специфики функционирования самого общественного мнения. А это значит, что одновременно должны решаться несколько однопорядковых задач – анализ динамики массовых реакций, выявление их структуры и функций, устойчивых и переменных компонентов. Методологическая проблема заключалась прежде всего в том, чтобы обеспечить единство социологической интерпретации различных в содержательном плане феноменов, соединить их общими теоретическими и концептуальными «стыками» и «переходами», удержав тем самым социологическое видение проблематики. Ключом, объединяющим разные плоскости исследовательских задач и содержательных интерпретаций, могла в этих обстоятельствах быть только концепция социального типа «человека», связывающая разные теоретические ресурсы описания и объяснения (стереотипы и комплексы общественного мнения, идентификация с институтами, группами, соответственно, определение общих рамок действия, представления о времени и пространстве, включая будущее и прошлое, набор ценностей, механизмы адаптации или изменений – в ходе смены поколений или «героических» усилий «элиты», фобии, страхи, коллективные ритуалы и проч.). Такой моделью стал «советский человек», а позднее – следующий за ним, генетически непосредственно связанный с ним «постсоветский, российский» («обыкновенный, средний») человек.
«Советский человек» понимается Левадой как идеально-типическая конструкция человека, представляющая сложный набор взаимосвязанных характеристик, которые связывают и социальную систему (институционально регулируемое поведение), и сферу символически-смыслового производства (социокультурные образцы, паттерны поведения и ориентаций). Они подкреплены соответствующими механизмами социального контроля, а значит, набором различных санкций и гратификаций. По мысли Левады, этот тип человека должен находиться в ряду таких моделей, как «человек играющий», «человек экономический», «авторитарная личность» и т. п., а не этнических образов или характеров, поскольку этот тип имеет парадигмальное значение для целых эпох незападных вариантов модернизации и разложения тоталитарных режимов.
Речь идет о нормативном образце, длительное время оказывавшем влияние на поведение значительных масс тоталитарного общества. Было бы слишком большим упрощением полагать, что навязываемый пропагандой, поддержанной различными репрессивными структурами и институтами социализации (школой, армией, СМИ), этот образец человека принимался «обществом» и усваивался в полном соответствии с интенциями власти[26]. Воздействие этого рода было неоднозначным, поскольку сам образец представлял собой сочетание очень неоднозначных, различных по происхождению элементов и комплексов, а его трансляция шла не только через официальные каналы и структуры социализации, но и через неформальные отношения (групповое принуждение, коллективное заложничество, конформистское единомыслие, общность фобий и предрассудков). Это была и структура массовой идентификации и коллективной интеграции, обеспечивающей солидарность с властью, и утверждение общих ценностей, и набор массовых самооценок и мнений о самих себе, а также принудительное, демонстративное изображение того, что хотела бы видеть власть, декларативное принятие ее требований и одновременно лукавое или рабское подыгрывание ей. При том, что нереалистичность этих требований осознавалась людьми, сам по себе образец фиксировал и организовывал их надежды, ожидания, ориентации.
Влияние этого образца человека не сводилось только к прямому синхронному воздействию. В долговременной перспективе следует учитывать более сложные последствия его принятия, отвержения или трансформации отдельных составляющих (например, последствий самого подавления разнообразия, кастрации социальной, культурной и интеллектуальной элиты, состояния безальтернативности власти, отсутствия политического выбора, нарастания апатии и аморализма в обществе и др.).
Основу образца составляют представления:
– об исключительности или особости «нашего» (советского, русского) человека, его превосходстве над другими народами или по меньшей мере несопоставимости его с другими;
– его «принадлежность» государству (взаимозависимость социального инфантилизма – ожиданий «отеческой заботы от начальства» и контроля над собой, принятие произвола властей как должного);
– уравнительные, антиэлитарные установки;
– соединение превосходства с ущемленностью (комплекс неполноценности). Важно отметить, что каждая из этих характеристик представляет собой механизм управления антиномическими по своему происхождению или сфере бытования ценностными значениями, сочетание взаимоисключающих самоопределений или норм действия, придающее всему образцу неустранимый характер двоемыслия. Функциональная роль этого образца, собственно, и заключается в том, чтобы соединить несоединимое: официозный пафос героического служения, самопожертвования и принудительного аскетизма («жила бы страна родная, и нету других забот», как утверждалось в одной песне из фильма конца 50-х гг.), политику форсированной модернизации сверху, проводимую исключительно в интересах властной группировки, обживание репрессивного режима и системы, претендующей на тотальный контроль над повседневной жизнью общества, состояние искусственной бедности, оборачивающейся индивидуальной незаинтересованностью в результатах работы, имперскую спесь и дефектность этнической идентичности (комплексы национальной неполноценности) и т. п.
Ю.А. Левада следующим образом определяет основные черты советского человека: принудительная самоизоляция, государственный патернализм, эгалитаристская иерархия, имперский синдром. Такой набор характеристик свидетельствует «скорее об определенной принадлежности человека системе ограничений, чем о его действиях. Отличительные черты советского человека – его принадлежность социальной системе, режиму, его способность принять систему, но не его активность»[27]. Советский человек – «это массовидный человек (“как все”), деиндивидуализированный, противопоставленный всему элитарному и своеобразному, “прозрачный” (то есть доступный для контроля сверху), примитивный по запросам (уровень выживания), созданный раз и навсегда и далее неизменяемый, легко управляемый (на деле подчиняющийся примитивному механизму управления). Все эти характеристики относятся к лозунгу, проекту, социальной норме, и в то же время – это реальные характеристики поведенческих структур общества»[28].
«Правильный» советский человек не может представить себе ничего, что находилось бы вне государства. Для него негосударственные медицина, образование, наука, литература, экономика, производство и т. п. или просто невозможные вещи, или – как это стало уже в постсоветские времена – нелегитимные или дефектные институции. Он целиком принадлежит государству, это государственно зависимый человек, привычно ориентированный на те формы вознаграждения и социального контроля, которые исходят только от государства, причем государства не в европейском смысле (государства как отдельного от общества института), а пытающегося быть «тотальным», то есть стремящегося охватывать все стороны существования человека, играть в отношении него патерналистскую, попечительскую и воспитательную роль. Но одновременно он знает, что реальное государство его обязательно обманет, «наколет», не додаст что-то даже из того, что ему «положено по закону», будет всячески стараться выжать из него все что можно, оставив ему минимальный объем средств для выживания. Поэтому он считает себя в полном праве уклоняться от того, чего от него требует власть (халтурит, подворовывает, «линяет» от разного рода повинностей). В действительности он озабочен только тем, что может быть важным для собственного благополучия или для его семьи.
Такого рода асимметрия отношений государства и человека (подданного) означает, что полнотой дееспособности, символической значимости, права обладает только власть или вышестоящее начальство, тогда как сам человек лишен права голоса, способов выражения своих интересов, представлений. «Власть лучше знает, как надо для всех». Но это поверхностный взгляд. Более глубокое понимание этого человека заключается в том, что как власть пытается манипулировать населением, так и население, в свою очередь, управляет государством, пользуясь его ресурсами, покупая его чиновников для своих нужд. Это симбиоз принуждения и адаптации к нему. Генетически это человек мобилизационного, милитаризированного и закрытого репрессивного общества, интеграция которого обеспечивается такими факторами, как внешние и внутренние враги, а значит, признание (хотя бы отчасти) оправданности требований лояльности власти, «защищающей» население от них, привычности государственного контроля (отсутствие возмущения или недовольства) над поведением обывателей во всех сферах жизни, привычка последних к самоограничению (принудительный аскетизм потребительских запросов и жизненных планов).
В отличие от европейского массового человека, этот тип разделяет эгалитаристские нормы, но понимает их как нормы антиэлитарные, снижающе-уравнительные установки (ориентация не на возвышение и приближение к образцу, пусть даже в качестве подражания высшим слоям, «сливкам общества», культивирующим особый тип достоинства, присвоения образцов «аристократии» или «меритократии», а на понижение запросов, санкционирование «общепринятого» в качестве вульгарного или примитивного («будь попроще, и люди потянутся к тебе»)). Доминирующие латентные мотивы этого эгалитаризма – зависть, рессентимент, в свое время идеологически оправдываемый и раздуваемый большевиками, но сегодня все чаще принимающий формы цинизма, диффузной агрессии, вызванной последствиями вынужденной или принудительной коллективности. Результат – массовость без присущей западной культуре сложности и дифференциации. «Простота» в самоопределениях – это вовсе не открытость миру и готовность к его принятию, а примитивность социального устройства, отсутствие посредников между государством и человеком. «Человек советский» вынужден и приучен не только следовать очень упрощенным, даже примитивным образцам и стратегиям существования, но и принимать их в качестве безальтернативных («немногое, но для всех»)[29].
Ориентация на «простоту» является результатом культурно признанной и социально (нормативно) одобряемой стратегии выживания, минимизации запросов, сочетаемой с завистью, рессентиментом, с одной стороны, и пассивной мечтательностью и верой, что в будущем жизнь какимто образом улучшится, с другой. В случае недостаточной значимости этих компонентов их дополняют угрозы репрессий, распространяющихся уже не только на индивида, попавшего под подозрение, но и на всех связанных с ним (действует механизм нормативного коллективного принуждения или заложничества – «все в ответе за каждого», – парализующий возможность становления активной и ответственной личности западного типа, важнейшей предпосылки модернизации), причем это заложничество охватывает все сферы взаимоотношений – семейных, рабоче-профессиональных, учебных и проч. Однако тотальным претензиям власти (или коллектива) на полноту контроля противостоит не менее сильная ответная реакция – тенденция к партикуляристскому разграничению социального и культурного пространства и образованию отдельных частных зон доверия, неформальной регуляции, правил поведения, систем коммуникации. Различные внутренние и внешние барьеры социального действия приобретают здесь особую, конститутивную для структуры общества роль, включая сюда и неприятие субъективности, своеобразного, подозрительность к другим, отчужденность, различные формы дистанцирования или вытеснения всего непонятного или сложного. Так как основой ориентации в мире и понимания происходящего являются самые примитивные (самые общие и стертые, доступные всем) символические модели поведения[30], то схемами интерпретации и оценки социальной, политической, экономической или исторической реальности для обычного человека («большинства», «такого как все») могут выступать только недифференцированные в ролевом плане, а значит, персонифицируемые отношения. Персонификация в социологическом смысле выступает симптомом блокировки универсализма, а значит, – признаком традиционализма или его современных аналогов. Неизбежные социальные различия закрепляются в виде статусных различий, общественная жизнь приобретает характер множества закрытых для непосвященных пространств действия, изолированных друг от друга, внутри которых удерживается относительная гомогенность льгот и привилегий. Поэтому эгалитаризм советского или российского человека имеет очень специфический характер – это «иерархический эгалитаризм»[31].
Определяя общественное мнение как социальный институт (как структурированный процесс массовых реакций, полученных в массовых опросах), Левада методологически определяет три плоскости анализа (интерпретаций) материалов опросов:
1) символический план, или уровень значений социального поведения. В массовых представлениях выделяются различные атрибуты «общественного мнения» – стереотипы и символические компоненты (символ = знак знаков), идет разбор идеологических клише, ценностных комплексов, опорных моментов массовой памяти и т. п., что используется в актуальной социально-политической борьбе группами, партиями и властными кланами. Символы структурируют смысловое пространство общества, что в функциональном плане является более важным, чем обеспечение «собственно материальных интересов»: вне символической системы референций реальные события или изменения не воспринимаются или проходят незамеченными массовым человеком, поскольку не получают своего значения, не вписываются в общую картину реальности[32]. Символические компоненты определяют характеристики массовых надежд, «истину и правду», параметры общественного «доверия», конституирующие узловые моменты мотивации социального поведения. Сюда же можно отнести выявление и последующий разбор Левадой функций мифологических форм в организации и структурировании общественного мнения[33], а также значения иерархии, социальной стратификации и т. п.;
2) нормативный план; здесь наиболее важны его работы по фиксации партикуляризма этических правил и предписаний, резко расходящихся с декларируемым универсализмом ценностей, права и т. п. Диагностируя подобные расхождения, Левада говорит не столько о кризисе нравственности или об ослаблении социального контроля, сколько об одновременном обесценивании норм, производном состоянии от действия многообразных и противоречащих друг другу нормативных порядков, характерных для социального перелома и гетерогенных экономических отношений. Он подчеркивает, что не всякое сочетание разнородных императивов ведет к аномии, а лишь такое, в котором подавлены, то есть неразвиты, механизмы универсалистских регулятивов. Поэтому речь при исследовании российской действительности должна идти не столько об эрозии морали российского человека и общества (ее в западном смысле и не возникало), сколько об институционализированном лицемерии (двоемыслии) или о массовом цинизме, оказывающихся следствием вынужденной адаптации к патернализму власти, к репрессивному режиму советского типа, в котором не остается места для морального выбора или личной ответственности. Разбор разложения нормативной системы ведется прежде всего на материале коррупции, «человека коррумпированного» (в особенности – внутренней, личностной коррупции, игры человека в подкуп с самим собой); отдельная тема – сервильность и деградация элиты, лишающие общество идеальных образцов и ориентиров[34];
3) прагматический (или инструментальный) план охватывает данные различного рода, касающиеся массовых свидетельств людей о своем поведении или поведении других (потреблении, доходах, самочувствии, эмоциональном состоянии, мобильности, политических установках и голосовании, образовании, статусе и проч.). Важнейшие выводы, которые делает Левада, разбирая показатели этого условного плана, сводятся к следующему: поведение действующих лиц в рамках сохраняющихся или лишь внешне модифицированных институтов носит вынужденный характер, будь то очень узкий коридор возможностей, открывающихся перед «властями предержащими», или принудительная адаптация к изменениям большинства населения, не имеющего представлений о «новом» (ценностях, целях, стандартах жизни и т. п.). И у тех, и у других чаще всего имеет место выбор снижающих вариантов поведения. У причастных к власти, политиков, – это склонность к самым примитивным моделям политического действия (главным образом к беспринципной борьбе временщиков и имитаторов прежнего стиля господства за самосохранение), проведение консервативной политики, сервильность элиты, обслуживающей власть, ее самостерилизация, неспособность на инновационную политику или постановку новых целей национального развития. У массы, привязанной к государству, – это всегда тактика приспособления к произволу власти; стратегия выживания, основанная на удовлетворенности жизнью, обеспечиваемой низким (или даже снижающимся) уровнем запросов, отсутствием повышающих представлений. Левада описывает рациональность сохраняющейся пассивной адаптации населения, фиксируя изменения в массовых ценностных ориентациях, появление других моделей или стандартов образа жизни, не сопровождающихся, однако, изменениями нравственных и личностных характеристик человека.
Подчеркну один существенный момент. При таком подходе важнейшее методологическое значение приобретает сам концепт «игры», игровых структур сложного социального действия. Понятие «игровая структура действия» связывает разные плоскости анализа – символическую (область культурных представлений, ценностей и мифов) с нормативной (институциональными или групповыми предписаниями, моральными представлениями о должном и допустимом) и практическими мотивами повседневного поведения (семейного, группового, политического, экономического и т. п.). Применительно к задачам эмпирического исследования (интерпретации его результатов) использование этого понятия предполагает наложение этой схемы на материал, позволяет увидеть и выделить разные содержательные фрагменты реальности, структурируемые с позиций действующего. Благодаря фиксации модальных барьеров разного типа (внутренних и внешних: разделению на «свое/чужое», «мы/они», «участие/неучастие», «далекое/близкое», «нормальное/экстраординарное», «показываемое/обязывающее к ответственности» и т. п.) возникает относительно замкнутое смысловое единство – «сюжетность», устанавливается пространство действия, организованность реальности для действующего. Только внутри этих зон смысловой субъективной или коллективной упорядоченности становятся значимыми в теоретическом отношении групповые или частные интересы, системы гратификации, надежды или страхи и проч. Только внутри них можно говорить об эмоциональных балансах, фобиях, массовых комплексах, фрустрациях, рамках референтности, а значит, выявлять представления о качестве жизни, релятивной депривации, потолке запросов, политических ожиданиях и установках и т. п.
Но есть еще несколько важных особенностей работы Левады как социолога. Каждая из больших выделямых Левадой проблем (анализ структуры общественного мнения или динамики массовых реакций) предполагала включение нескольких систематических рамок ее рассмотрения. Эти рамки (система пространственно-временных координат или рамки соотнесения) задавались внутренними методическими приемами или «требованиями» к последовательной работе. Прежде всего было необходимо включить в анализ несколько уровней временных состояний (домодерное прошлое, особенности российского процесса модернизации[35], время перемен последних лет, локальное время анализируемых изменений (реакции на актуальные события) и проч.). Таким образом рассматриваемое явление помещалось в оптическое поле, конституированное различными типами времени – не только социальным (измеряемым институциональными ритмами выполняемых функций или групповыми действиями), но и культурным (изменения ценностных и символических структур, проявляющиеся в реконфигурациях антропологических конфигураций), что придавало самому предмету необычайную «объемность», возбуждая тем самым продуктивное воображение читателя, получающего возможность самостоятельно прослеживать цепочки смысловых следствий и связей. «Параметры социальных событий как во времени, так и в пространстве не могут ограничиваться непосредственными последствиями, намерениями участников, региональными масштабами конкретного конфликта и т. п. Определяющим служит значение событий, их место в процессах более широкого плана. В данном случае такими параметрами служат историческое время и общемировое, глобальное пространство»[36]. Кроме того, Левада увеличивал возможности анализа указанием на потенциал структурно-мифологической интерпретации, что предполагало учет игровых структур общественного мнения, например идентификационных композиций – грехопадения, жертвы, героизма, сотворения мира / преодоления хаоса, противостояния «своих» (светлого начала) «чужим» (значениям злого и пугающего), установления внутренних и внешних барьеров и проч.
Другим (аналогичным в методическом смысле) требованием было помещение рассматриваемого явления в несколько социальных пространств центра и периферии (с учетом их различного функционального значения), России и ближнего зарубежья, России и западноевропейских стран, России и США, России и ООН, внутрироссийских и мировых событий и т. п.[37]
«Человек советский» в условиях деградации советских институтов
Модель советского человека, описанная по результатам первого исследования 1989 г., в ситуации краха советского режима, нуждалась не только в дальнейшей проверке (насколько устойчивы ее элементы в отдельности и в целом сама система), но и в выяснении того, как ведет себя этот человек в ситуации рутинизации исторического перелома, разложения закрытого общества, уставшего от постоянного режима мобилизации, общества, не имеющего позитивных ориентиров и целей, общества с негативной идентичностью. Поэтому усилия и самого Ю.А. Левады, и исследователей, группировавшихся вокруг него, были сосредоточены на изучении разных институциональных условий сохранения «человека советского» и разных состояний, в которых он проявлялся (человек энтузиастический, обыкновенный, ностальгический, ограниченный, коррумпированный, протестный и др.). К этому примыкает разбор некоторых механизмов, которые обеспечивают целостность его идентичности: комплекс жертвы, структура исторической памяти, символы прошлого и исторические рамки самоопределения, феномены негативной мобилизации, астенический синдром, функции разнообразных «врагов» и динамика фобий, значение имитации большого стиля для поддержания основных ценностных образцов, роль институтов насилия и их трансформации, специфика существующей системы образования и другое.
Крах советской системы, вызванный невозможностью воспроизводства высшего уровня управления, не затронул кардинальных оснований этого общества-государства. Распад системы выражался прежде всего в верхушечной борьбе различных фракций, второго и третьего эшелонов номенклатуры. Предопределенность кризисов в тоталитарных режимах вызвана отсутствием институционально упорядоченных и урегулированных правил передачи власти, точнее, их принципиальной недопустимостью, невозможностью для власти, которая сама по себе конституирует социальный порядок, контролирует население, не будучи, в свою очередь, ничем ограниченной. Поэтому каждый цикл тоталитарных режимов определяется сроком жизни очередного диктатора (или, как пишет Левада, «короткими рядами традиции» (с. 748)). Попытки ограничения террора в условиях тоталитарного режима оборачиваются замедлением вертикальной мобильности и скрытыми процессами децентрализации, латентной апроприации властных позиций, что создает сильнейшие напряжения на нижележащих уровнях управления. В этом плане дефекты в репродуктивных структурах власти неизбежно вызывают периодические общественные кризисы, поколенческие смены кадрового состава управляющего верха. Раскол в верхнем эшелоне управления ведет к разрушению партийно-государственной монополии, появлению, условно говоря, «дефектных» или «маргинальных» лидеров (вроде Горбачева или Ельцина) и общий паралич и разложение номенклатуры.
Однако кризис верхов или даже распад системы институтов не должны отождествляться с крахом самих институтов: значительная часть базовых институтов сохранилась или подверглась минимальным, почти косметическим изменениям, переименованиям и т. п. А это значит, что воспроизводятся основные условия существования человека, постепенно привыкающего к переменам, «обживающего» их на свой лад. Именно характер и особенности массовой адаптации (протекающей без изменения ценностей, символов участия, структур мотивации) и указывают на подавление процессов социально-структурной, функциональной дифференциации, нейтрализацию условий для автономизации ведущих групп общества и их ценностей. Попытки восстановить централизованный государственный контроль в прежнем объеме без сопутствующих социальных механизмов (террора тотальной, то есть не имеющей каких-либо зон ограничений, политической полиции, насаждения единой идеологии, атмосферы страха и т. п.) невозможны, поскольку без обращения к ним нельзя подавить или сдержать постоянно возникающие неформальные (теневые, серые, сетевые) связи и структуры обмена ресурсами и коммуникации между различными группами и институтами, обеспечивающие процесс существования целого или функционирования его важнейших подсистем. Быстрое расползание коррупции свидетельствует не столько о падении социальной морали, сколько о настоятельной потребности институционального согласования частных, групповых и институциональных интересов (потребности в рамках соотнесения различных систем действия). Поэтому коллизии такого рода оказывают разлагающее воздействие на саму систему централизованного государственного контроля, но одновременно становятся залогом массовой адаптации к переменам и сохранения всего целого.
До определенного момента растущие напряжения в узловых точках системы компенсируются привычным двоемыслием «советского человека», но лишь до известного предела, пока серьезно не затронуты надежды на «доброго царя» или попечительскую роль государства. Государственно-патерналистские установки оказываются значимыми для большей части населения страны, поскольку в условиях падения экономики и жизненного уровня у основной массы нет достаточных ресурсов для независимого от государства существования. Неудовлетворенность фактическими результатами этой деятельности государства становится почвой для социального протеста и дискредитации властей, однако среда, где сохраняется потенциал социального протеста, отличается консерватизмом и неспособностью к самоорганизации. Это недовольство «социально слабых», государственно зависимых групп (бюджетников – работников госпредприятий и учреждений и пенсионеров). Иначе говоря, институциональные рамки «советского человека» сохраняют по инерции свою значимость, хотя уже далеко не в той мере, как это было в советское время.
Позднее (уже после анализа путинского режима) Левада несколько пересмотрел и скорректировал основные свои выводы. Суть поправок и уточнений сводилась к тому, что «советский человек» потерял значение образца для массовых ориентаций и идентификации. Советский человек уже не воспринимается как носитель каких-то ценностных качеств и свойств, как субъект новых отношений и, соответственно, лучшего будущего. С началом эрозии образца общество утратило представление о своем будущем, чувство направленного времени, пусть даже в форме казенного оптимизма или рутинной уверенности в завтрашнем дне.
Однако то, что первоначально казалось фактором разрушения системы[38], что составляло и образовывало «подсознание» советского человека (теневые, а потому аморфные, плохо артикулируемые значения социальности, касающиеся значений насилия как символического кода поведения, репрессивного контроля, недоверия к другому, страха перед ним, готовности к обману, агрессии и проч.), все это стало выходить на первый план, обретая уже не негативные, а позитивные определения и смыслы коллективной солидарности (значения «наших», «своих», «русских» в противопоставлении «чужим»). Именно они – структуры негативной мобилизации и идентичности – оказались механизмом нейтрализации или стерилизации потенциала гражданской солидарности, самостоятельности, демократии «участия» (а не «зрительства»), ответственности и обеспечили условия сохранения и воспроизводства базовых институтов власти.
Несмотря на разрыв между декларируемым и реальным уровнем изучаемых характеристик, значение советского «архетипа» вполне сохраняется. «Тенденции реставрации (или реанимации) ряда характерных черт “человека советского” (изолированность от “человека западного”, чуждого рациональному расчету, окруженного врагами, тоскующего по “сильной руке” власти и т. д.) действуют после общепризнанного крушения идеологических структур и соответствующих им пропагандистских стереотипов, присущих советскому периоду. Это подкрепляет предположение о существовании некоего исторического “архетипа” человека, “архетипа”, уходящего корнями в социальную антропологию и психологию российского крепостничества, монархизма, мессианизма и пр. <…> Чем дальше уходит в прошлое его [советского человека] собственное время, тем более привлекательным представляется оно массовому воображению. Демонстративная ностальгия, естественно, служит, прежде всего, способом критического восприятия нынешнего положения. Ее побочный продукт – поддержание в различных группах общества, вплоть до социально-научной среды, идеализированных моделей советского прошлого…»[39].
Отдельной темой, занимавшей в последние годы все больше и больше места в размышлениях Левады, стали «источники изменений». Есть ли они и откуда можно ждать импульсов дифференциации и усложнения социальной и культурной системы? В первые годы после краха советской системы среди более образованной части российского общества были довольно широко распространены представления о том, что новое поколение, социализированное уже в других условиях, окажется носителем совершенно иных ценностей, будет характеризоваться другой этикой, мотивироваться иначе, чем их родители и деды. Отчасти такие ожидания подкреплялись данными социологических исследований, говоривших о том, что молодежь не только более образованна, ориентирована на другие стандарты потребления, но и не испытывает обычных для старшего поколения страхов. Однако эти предположения оказались набором иллюзий, а не прогнозами, основанными на теоретическом знании и фактическом материале. Разрушение прежних образцов не сопровождалось какой-либо позитивной работой по пониманию природы советского общества и человека, выработкой других ориентиров и общественных идеалов. Возобладали эклектические тенденции имитации прежних символических структур: ностальгия по былому величию, идеализация прошлого, прежде всего мифологизация победы во Второй мировой войне, дореволюционного времени, обрядово-магическая сторона религиозного «возрождения» и проч. Но замена одних символов другими не меняет самой структуры общества и, стало быть, характера идентификации людей, их ценностных ориентаций. Главный итог этих пятнадцати лет заключается в том, что общество, массовый человек приспособились, адаптировались, притерпелись к вынужденным изменениям и при этом оказались не в состоянии понять их или изменить условия своего существования.
Выводы и заключения
Если суммировать все наблюдения и выводы из анализа разнообразного материала, проведенного Левадой, то получается, что российская модель или версия «человеческих» последствий догоняющей модернизации может получить гораздо большее теоретическое значение, чем один из многих примеров социетальной неудачи[40]. По сути, Левада показал, что крах тоталитарной системы советского типа (как и многих других) не является основанием для суждений о предопределенности перехода к современному обществу и завершения процессов модернизации, начатой несколькими столетиями ранее. Напротив, сам тоталитарный режим был лишь одной из версий модификации «вертикально» организованного общества («власть» как «осевой», конституирующий общество институт) и блокировкой модернизационного развития, или контрмодернизацией. Большевики, идеологически провозглашая необходимость модернизации общества и обличая старый порядок как архаический, нелегитимный в силу неспособности обеспечить форсированное развитие страны, в действительности создали лишь еще более жесткую, репрессивную и примитивную по своему устройству социальную систему, оказавшуюся неспособной к развитию, социально-функциональной дифференциации. Но точно так же конец этой системы означает не изменение структуры общества, а лишь реконфигурацию его составляющих. «Надежда на спасительную руку государства не покидает людей, не умеющих найти силы в самих себе»[41].
Переход общества от «возбужденного» к обычному, повседневному состоянию сопровождается переоценкой и символических значений социального действия, и его прагматики. В «героические времена» общественных переломов массовые надежды вспыхивают и трансформируются по законам мифологии, лидеры идеализируются, оппоненты демонизируются до образов чудовищ и заклятых врагов и т. п., в период рутинизации идет обратный процесс заземления и деидеализации. «Расставание общества (как и отдельного человека) со своими иллюзиями, как показывают исторический опыт и современные наблюдения, простым не бывает. Так, расставание общества (прежде всего его интеллектуально-политизированной элиты) с иллюзиями коммунизма заняло десятилетия, происходило в несколько этапов, с романтикой перестройки прощались не столь долго, но тоже не просто. Трансформацию ожиданий и символов последующего периода еще предстоит изучать обстоятельно. Во всех случаях пути трансформации прагматических и символических компонентов расходились. Уровень практических действий и ожиданий шаг за шагом снижался, фантастические ожидания прорыва к новой жизни, изобилию, мировому уровню и т. п. низводились до некоторого улучшения или даже до просто сохранения достигнутого ранее. (В любом случае отсчет от воображаемого будущего заменялся отсчетом от наличных обстоятельств, происходило “приземление” образца.) Такова, в принципе, прагматическая составляющая рутинизации»[42].
Принять подобную, лишенную всяких сантиментов и иллюзий позицию российскому образованному человеку, в том числе социальному исследователю, не просто трудно, а нестерпимо. Именно поэтому профессиональное сообщество отдает должное Ю.А. Леваде, но делает вид, что ничего не слышало, ничего не произошло. И в этом, собственно, и заключается тот феномен «двоемыслия» и примитивизации, о котором постоянно писал Левада. В более общем смысле речь идет о периферийном по отношению к Западу, отсталом и полузакрытом обществе, не могущем (не желающем) расстаться с собственным традиционализмом. Какими бы ни были трансформации его внешних форм, оно остается «вертикально» интегрированным, инертным, завистливым по отношению к динамически развивающимся модерным странам. Поэтому «перед нами – не просто ряд исторических примеров, но парадигма, своего рода стандарт преобразующих процедур. Этот стандарт сохраняется не только массовой инерцией, но и действием вполне определенных рудиментарных социально-политических структур – военных и карательных, которые выступают хранителями и инкубаторами традиционно-советских поведенческих типов. Шансов на преодоление этой парадигмы в обозримом будущем – скажем, на два ближайших поколения или дольше – не видно. Протяженность российской социальной реальности “вглубь” принципиально отличает ее от “одновременной” реальности американской, немецкой, польской, эстонской и т. д.»[43].
Лев ГудковОт составителей
Научное наследие Ю.А. Левады – крупнейшего отечественного социолога – не очень знакомо современному читателю. В советское время его важнейшие работы выходили в малотиражных сборниках, ставших сегодня труднодоступными. Сам Юрий Александрович был начисто лишен тщеславия и не заботился о переиздании своих работ. Первая попытка собрать и издать его теоретические работы была предпринята его учениками и сотрудниками (книга «Статьи по социологии» вышла в 1993 г. небольшим тиражом). Лишь в 2000 г. Ю.А. Левада по инициативе Ю.П. Сенокосова и Е.М. Немировской выпустил под грифом Московской школы политических исследований сборник «От мнений к пониманию», включивший важнейшие статьи, публиковавшиеся в журнале тогдашнего ВЦИОМа. Второй сборник его статей, «Ищем человека» (2006), вышел за три месяца до его смерти.
В 2010–2011 гг. его жена Тамара Васильевна Левада подготовила и выпустила серию из семи томов (тиражом 200 экз.), в которую вошли два тома воспоминаний и статей о Леваде и пять томов его сочинений. Они включали его ранние работы (периода формирования советской социологии) и монографию «Социальная природа религии», первые в отечественной истории «Лекции по социологии», ставшие поводом для идеологического погрома социологии в конце 1969 г., теоретические статьи 1970 – 1980-х гг., перестроечную публицистику и, наконец, работы, написанные во ВЦИОМе, а затем в Левада-Центре на основе эмпирических социологических исследований. Однако хотя они и были представлены на сайте Левада-Центра, но все равно оказались известны лишь узкому кругу людей, интересующихся историей отечественных социальных наук.
Подготовка полного собрания сочинений Левады необходима, однако для этого предстоит затратить немало усилий. Предлагаемый читательскому вниманию сборник работ Левады – очередной шаг на этом пути.
Завершающий том задуманной Т.В. Левада серии книг должен был состоять из ранних и малоизвестных его работ, писем, набросков, интервью. Но по ходу работы замысел существенно изменился. Настоящее издание призвано решить две задачи. Первая – представить наследие Левады более широкому кругу гуманитариев – культурологов, историков, антропологов, философов, для которых сейчас он выступает по преимуществу как моральный авторитет и значимая публичная фигура, но не как мыслитель и ученый. Поэтому тут собраны наиболее важные и актуальные публикации, прежде всего теоретические работы по социологии и статьи, в которых осмысливаются природа советской системы и воспроизводство ее институтов (прежде всего человека – «института институтов», по выражению Левады) уже после краха СССР. Вторая задача – продолжить работу по собиранию наследия Левады: тут представлены как никогда не печатавшаяся его статья, так и ряд забытых или опубликованных после выхода его последнего сборника).
Поэтому в книге две не во всем совместимые проблемные линии: хроникальная (история внутреннего развития и формирования исследователя) и тематическая, охватывающая различные концептуальные и теоретические аспекты аналитической работы Левады.
Тексты печатаются по прижизненным публикациям (они указаны в списке в конце книги). Дополнением к републикуемым работам Левады служит библиографический указатель его публикаций и интервью.
Ранние работы
Альбер Швейцер – мыслитель и человек
Он человек был в полном смысле слова. Шекспир. Гамлет. Акт 1, сцена 24 сентября 1965 г. из Габона пришло известие, заставившее склонить головы многих друзей мира и гуманизма в разных странах: умер Альбер Швейцер. О его деятельности написаны десятки книг и сложено немало легенд; их число вряд ли уменьшится в ближайшие годы. В Швейцере видели не только мыслителя-гуманиста, но и подвижника, личность которого вызывала в памяти образ Франциска Ассизского, а у иных и образ самого основателя христианства. Сколь ни фантастичны эти сопоставления, они говорят о необычной для нашего времени славе Швейцера куда убедительнее, чем многочисленные знаки почета (Нобелевская премия мира в том числе), которыми осыпали Швейцера в последние годы правительства разных стран и международные фонды. Эта яркая личность долго будет привлекать внимание не только его восторженных поклонников, но и трезвых исследователей целой эпохи, преломившейся в его долгой жизни.
Альбер Швейцер родился 14 января 1875 г. в Кайзерсберге, в Эльзасе. Поэтому на протяжении первой половины своей жизни он был германским подданным, а во второй ее половине – французским. Мать Ж. – П. Сартра приходилась двоюродной сестрой Альберу Швейцеру. В студенческие годы Швейцер изучал философию, теологию и музыку в Страсбурге, Париже и Берлине. В 1899 г. вышла в свет первая его работа – докторская диссертация «Философия религии Канта», а в 1905 г. – книга о творчестве Баха, «музыканта-поэта» (она издавалась у нас дважды, последний раз в 1965 г.; это пока единственная работа Швейцера, с которой знакомы советские читатели). Исключительная многосторонность его таланта уже тогда вызывала восхищенное удивление. Ромен Роллан отмечал «отлично известное историкам музыки» имя Альбера Швейцера – «директора семинарии св. Фомы, пастора, органиста, профессора Страсбургского университета, автора интересных работ по философии, теологии и книги, отныне уже знаменитой: “Иоганн-Себастьян Бах”»[44]. Когда Р. Роллан писал эти строки, Швейцер уже принял решение, определившее всю его дальнейшую жизнь: отстаивать идеалы добра и красоты путем непосредственного, личного служения людям, отодвинув на второй план философию и музыку. Случайно попавший в его руки миссионерский журнал, сообщавший о том, что селению Ламбарене на реке Огове (в Экваториальной Африке) требуется врач, подсказал конкретный путь осуществления этой цели. Последующие семь лет были отданы основательному изучению естественных и медицинских наук в Страсбурге (одновременно с исполнением обязанностей пастора, органиста и профессора теологии). В марте 1913 г., спустя месяц после получения диплома доктора медицины, Швейцер привез в Ламбарене оборудование для госпиталя (основную часть его средств составили гонорары за книгу о Бахе и сборы от органных концертов). Госпиталь строился по проекту Швейцера, в значительной мере его собственными руками. Высылка, а потом интернирование (как немецкого подданного) в 1917 г. прервали работу в Африке и на время вновь заставили его окунуться в музыкальную и философскую жизнь Европы. В 1923 г. он выпустил два тома своей «Философии цивилизации» («Упадок и восстановление цивилизации» и «Этика и цивилизация»), другие два тома так и не были завершены. В следующем году он снова (и теперь уже до конца жизни) стал прежде всего «доктором из Ламбарене». Хотя в течение последних десятилетий Швейцер неоднократно – иногда и надолго – приезжал в Европу, выступал с концертами и лекциями, издавал и перерабатывал свои философские и теологические сочинения, госпиталь в джунглях оставался центром всей его работы и главной трибуной проповеди его идей. Там пережил он и события Второй мировой войны. Широкая известность Швейцера и его антивоенных выступлений последних лет в огромной степени связана с его деятельностью в Ламбарене.
Но вот что кажется странным на первый взгляд: чем больше был известен Альбер Швейцер широкой публике и широкой прессе, тем меньше жаловала его вниманием специальная, «серьезная» литература, к какому бы философскому или теологическому направлению ни принадлежали ее издатели. Прямые или завуалированные намеки на «наивность», «старомодность», «невыдержанность» концепций Швейцера всегда сопровождались вежливым расшаркиванием перед его гуманизмом и благородством. Дело здесь не только в симпатиях или антипатиях лидеров признанных современным Западом идейных течений. Рассматривая отдельные компоненты воззрений Швейцера, мы ни в одном из них не обнаружим целостной и оригинальной системы. Он проявлял огромную эрудицию и талант во всех областях, в которых работал, но ни в какой отдельно взятой области он не открыл новых путей и не поставил новых проблем. В то же время ни в одну из сложившихся схем движения философской мысли взгляды Швейцера не укладываются. Сам Швейцер писал, что не придает значения системе категорий и «техническим выражениям» философского языка, поскольку они «затрудняют естественное развитие мысли, так же как колеи на дорогах мешают движению»[45].
Но не только философия Швейцера уязвима для аналитической критики. То же самое можно сказать и о его врачебной деятельности: госпиталь в Ламбарене не является первым, или единственным, или самым крупным, или самым современным медицинским учреждением в Экваториальной Африке.
Сколь ни значительна заслуга Швейцера в создании лечебного центра, через который за годы его существования прошло до 80 тысяч жителей Габона, ее нельзя рассматривать отдельно от всего образа мышления «доктора из Ламбарене». Несколько лет назад Швейцер в беседе с Норманом Казенсом так объяснял свое решение работать в Африке: «Я решил сделать свою жизнь своим аргументом. Я должен защищать то, во что я верю, в терминах жизни, которой я живу, и работы, которую я выполняю. Я должен попытаться, чтобы моя жизнь и моя работа говорили о том, во что я верю»[46].
Вот почему нельзя понять личность Швейцера и значение его деятельности, рассматривая лишь систему его теоретических воззрений. Результатом такого подхода – вполне оправданного в тех случаях, когда мы имеем дело с системами, разрабатывавшимися философами-профессионалами, – оказывается констатация отдельных черт, заблуждений, догадок, противоречий и т. п. При этом за пределами рассмотрения остается сам способ соединения различных сторон мышления и деятельности интересующей нас личности, который, собственно, и придает ей целостность и неповторимость. А вот в этом отношении немногие в современной западной философии могут сравниться со Швейцером. «Он является воплощением своей теории», – пишет о Швейцере один из исследователей его воззрений[47]. По словам Л. Мамфорда, жизнь и мышление Швейцера дают великолепный пример уравновешенной целостности. «Ни в ком не находил я столь идеального единения доброты и страстного стремления к прекрасному, как в Альбере Швейцере», – говорил Эйнштейн[48]. В столь необычной для мыслителей нашего века цельности личности – главный «секрет» действительной неповторимости и общественного влияния того феномена идейной, нравственной человеческой жизни, каким был Альбер Швейцер.
* * *
Швейцер изучал философию в Страсбургском университете у Т. Циглера и В. Виндельбанда. Величайшим идеалом мыслителя для него всегда оставался Кант (он сравнивал роль Канта в немецкой философии с ролью Баха в немецкой музыке), а образцом гармонического синтеза познания и этического духа – Гете. В числе близких себе по духу мыслителей Швейцер называл поздних стоиков, Лао Цзы, апостола Павла, английских рационалистов XVIII в. Наиболее цельной по своим устремлениям в его глазах была философская мысль рационализма и гуманизма XVIII в., превыше всего ставившая идею свободного и этического индивида. Последующее же столетие знаменует нарастание трагического разрыва между познанием и этикой и порабощение личности обществом. Оправданием этой деградации, по мнению Швейцера, послужила гегелевская формула разумности всего действительного. «В ночь на 25 июля 1820 года, когда эта фраза была написана, начался наш век, век, который дошел до мировой войны и который, возможно, в один прекрасный день покончит с цивилизацией!»[49] Отсюда, утверждал Швейцер, идут все современные попытки отождествить прогресс человечества с ростом познания и техники, увидеть поступательное движение во всяком общественном изменении. «Гегель решился сказать, что все служит прогрессу. Страсти правителей и народов – все это слуги прогресса. Можно сказать лишь, что Гегель не знал страстей народных так, как знаем их мы, иначе он не решился бы это написать!»[50] Конечно, Швейцер не вполне справедлив по отношению к Гегелю: он клеймит прежде всего те формы апологии существующих порядков, которые представляют всякое развитие благом и всякое торжество силы – показателем неодолимого прогресса.
Растущее противоречие между внешним прогрессом буржуазной цивилизации, в том числе и прогрессом познания, и идеалами гуманистической этики, которое тревожило немногие умы в первые годы нашего столетия и которое стало столь очевидным в дальнейшем, в 30 – 50-е гг., – исходный пункт всего мышления Швейцера. Нет необходимой связи между «внешним» развитием общества (экономика, техника, образование и т. д.) и духовным совершенствованием человека, утверждал он. Национализм, войны, растущее подчинение человека социальным институтам являются признаками нравственного упадка ХХ в. по сравнению с XVIII в. Трагедия «европейской мысли» состоит в том, что она не хочет видеть этого противоречия, увлечена «внешним» прогрессом. В то же время «современное отношение к миру», превозносящее науку и рациональность, не является подлинно рациональным и неизбежно ведет к разлагающему скепсису. «С духом века я совершенно не согласен, так как он исполнен недоверия к мышлению», – писал Швейцер в своей автобиографии[51]. Современный скептицизм – это «декларация духовного банкротства цивилизации»; «наша духовная жизнь насквозь прогнила, так как она насквозь пропитана скептицизмом… Мы живем в условиях мира, который во всех отношениях полон фальши»[52].
Не будучи в состоянии постичь собственным разумом исполненную тайн и страданий действительность, люди в массе своей оказываются во власти «авторитарных истин», то есть пропагандистских догм, навязываемых им «организованными государственными, социальными и религиозными сообществами»[53]. Отсюда, по мнению Швейцера, исходит современное влияние национализма, милитаризма, тоталитарно-фашистских идеологий. Тысячи путей уводят человека от его «естественных связей с реальностью».
Проторенные дорожки универсального скептицизма и «диалектического» (в смысле экзистенциалистской «диалектической теологии») оправдания противоречий действительности всегда были чужды Швейцеру. «Мое знание пессимистично, но моя воля и моя надежда оптимистичны», – писал он, подводя итог своим размышлениям[54]. В этой фразе отчетливо виден ключ, который должен открыть врата оптимизма: противопоставление «воли и надежды» «знанию».
Если путь понимания мира и сознательного подчинения его необходимости, по которому шла мысль Фихте и Гегеля, ведет лишь к скептицизму и порабощению духа, нужно сойти с этого пути: «Мы больше не обязаны выводить наши взгляды на жизнь из знания мира»[55]. Не сам по себе мир и отношения к нему человека прежде всего важны для философии, утверждает Швейцер. Возникает задача – найти «элементарную» единицу такого отношения. Возражая картезианской формуле «мыслю, следовательно, существую», Швейцер говорил, что первично дан не сам по себе факт наличия мысли, но нечто гораздо более конкретное и содержательное – именно факт жизни человека в среде множества иных жизненных форм: «Я жизнь, которая хочет жить в среде жизни, которая хочет жить»[56]. Из этих соображений выводится тезис, которому Швейцер всегда придавал решающее значение в системе своих взглядов: «Преклонение перед жизнью» («Erhfurcht vor dem Leben»). Стремление сохранить и развить всякую жизнь призвано, по его словам, стать основой этического обновления человечества, противоядием от холодной рассудочности, скептицизма и бесчеловечности современной цивилизации. Требование «преклонения перед жизнью» у Швейцера выступает как высшее достижение знания. Но оно приобретает вес, лишь будучи подкреплено авторитетом образа Христа (правда, не библейского, а этически и духовно понимаемого). Если у Тейара де Шардена залогом оптимизма является имманентный миру и целенаправленный разум, то у Швейцера оптимизм гарантируется божественностью духа. В самой же реальности такой гарантии он не видит.
Швейцер часто называет свою систему взглядов рационалистической, подчеркивая ее прямую связь с концепциями века Просвещения: «В то время, когда все, что так или иначе считается продуктом рационализма и свободомыслия, выглядит смешным, обесцененным, устаревшим и давно преодоленным и когда высмеивается достигнутое в XVIII веке представление о неотъемлемых правах человека, я заявляю о своем доверии к разумной мысли»[57]. Он писал, что для поколения, ставшего жертвой скептицизма и порабощения разума, спасение должно состоять в «новом рационализме, более глубоком и действенном, чем прошлый»[58]. Но к рационализму в системе Швейцера добавляется эпитет «мистический», что должно означать разум, согретый верой в святость жизни, то есть опять-таки гарантированный свыше.
Такова в самых общих чертах схема мировоззрения Швейцера. Она далеко не нова: в ней нетрудно отметить повторение установок этического рационализма XVIII в., санкционированных авторитетами либерального христианства XIX в. Весь вопрос, однако, не в новизне, а в том, какое место занимает мышление Швейцера в идейных и человеческих условиях ХХ в.
Одна из центральных тем его философии – современные судьбы человеческой личности. «Современный человек, – констатирует Швейцер, – потерян в массах в такой степени, которая не имеет прецедента в истории, и это, может быть, самая характерная его черта»[59]. Сегодня человек может существовать, «лишь принадлежа душой и телом к множеству, которое контролирует его абсолютно», лишь подчиняясь магическим формулам социальных институтов. Над человеком сегодня нависла не только опасность потерять свою свободу и способность к всестороннему развитию: «перед ним угроза потерять свою человечность…»[60] Здесь мысль Швейцера движется в рамках, заданных старым добрым рационализмом XVIII в., то есть в рамках противопоставления личности обществу. Критика этого противопоставления, начатая еще Гегелем, осталась не воспринятой Швейцером, поскольку не воспринята его веком и та вульгарно-моническая картина прогресса, истоком которой он считает гегелевскую концепцию. «Общество – это нечто временное и эфемерное; человек же, однако, всегда человек»[61]. Эти слова произнесены в речи, посвященной памяти Гете в 1932 г. во Франкфурте. В условиях, когда рвущийся к власти фашизм провозглашал ничтожество человека и устами своего фюрера заявлял, что «личность преходяща и только народ бессмертен», эти слова звучали не только как архаизм, но и как лозунг. Швейцер искал духовного якоря спасения в океане всепоглощающей бесчеловечности.
Швейцер не звал к социальным преобразованиям. Его требование – «утвердить человеческую личность в неблагоприятных условиях», отстаивать человечность жизни с помощью «личного действия», самоотдачи на благо других людей – отражение все того же глубокого недоверия к логике общественного процесса в наши дни.
С этим связано и настойчивое стремление Швейцера не принимать непосредственного участия в политических противоречиях, раздиравших современное ему общество. В первые годы столетия Швейцер (вместе с Р. Ролланом и другими видными представителями европейской культуры) разделял иллюзию о возможности спасти европейский мир, обеспечив сближение мыслящей и творческой интеллигенции равно близких ему стран. Крах этих надежд он пережил очень тяжело, и это наложило отпечаток на все отношение Швейцера к социально-политическим проблемам. «Всю жизнь я тщательно избегал публичных заявлений по общественным вопросам, – говорил Швейцер. – Я поступал так не потому, что не интересовался общественными проблемами или политикой. Мой интерес и мое внимание к этим вопросам велики. Но дело в том, что я чувствовал, что моя связь с внешним миром должна вырастать из моей работы и моих теорий в области теологии, или философии, или музыки. Я пытался связать себя с проблемами всего человечества вместо того, чтобы оказаться ввязанным в споры между той или иной группой. Я хотел быть человеком, который говорит с другим человеком»[62]. Швейцер считал, что отрицательное отношение к войне, фашизму и милитаризму он должен выражать своей проповедью любви к жизни и работой в госпитале, а не участием в политических манифестациях. И лишь в последнее десятилетие он стал нарушать это жизненное правило, выступив с антивоенной речью в 1954 г. (после получения Нобелевской премии мира), а затем с энергичным призывом к прекращению ядерных испытаний (две речи по радио «Мир или атомная война» в 1957 и 1958 гг.). Швейцер горячо поддержал идею «встречи в верхах», приветствовал Московский договор 1963 г., внимательно и с сочувствием следил за жизнью в ГДР. В последние свои годы Швейцер поставил свою подпись под совместным обращением лауреатов Нобелевской премии, призывавших к восстановлению мира во Вьетнаме. К этим выступлениям Швейцера привела сама логика его жизни, посвященной служению «всему человечеству» в условиях, когда вопросы войны и мира стали приобретать столь непосредственную связь с судьбами земной цивилизации.
То же стремление «непосредственного», «личного» служения страдающему человеку привело Швейцера в джунгли Габона. Он писал, что надеется бескорыстной работой на благо местного населения учить добру простых и свободных от низостей цивилизации людей и тем самым в какой-то мере искупить вину европейских колонизаторов, совершивших бесчисленные злодеяния. Он стал свидетелем глубочайших перемен в жизни африканских народов, сложными, нередко мучительными путями выводящих их на путь прогрессивного и независимого развития. Отношение Швейцера к этим процессам определялось его симпатией к местному населению и его тревогой за последствия насильственного приобщения этого населения к «прогнившей европейской цивилизации». В его отношении к своим пациентам, да и в его взглядах на судьбы Африки, можно легко обнаружить влияние представлений о «свободных детях природы», которых нужно уберечь от порабощения бесчеловечной цивилизацией. С горечью отмечал он разрушительное влияние стратегических дорог (через Ламбарене в годы войны прошла трасса Кейптаун – Алжир), торговли, непривычных для африканцев форм труда, фабричной дисциплины. Внутренний протест вызвало у него зарождение тенденций к национальной замкнутости, появление в развивающихся странах оторванной от народа бюрократической прослойки. Деятельность своего госпиталя Швейцер стремился максимально приблизить к условиям жизни и быта окружающего населения (этим объясняется некоторое своеобразие порядков в Ламбарене: больные приходили и жили здесь вместе с домочадцами, минимально использовалось электричество и т. д.). Обращение к личности, действия личности Швейцер и в этой работе считал наиболее важным: «Все великое в Африке, как и повсюду, – это всегда лишь дело одного человека…»[63] Сообщения некоторых западных корреспондентов из Ламбарене не раз будоражили европейскую публику толками о старомодности госпиталя и экстравагантных принципах его руководителя. В то же время, по отзывам многих очевидцев, «местные жители доверяли Швейцеру так, как не доверяли они раньше ни одному белому в Африке»[64].
Религиозные убеждения и теологические воззрения Швейцера – неотъемлемая часть его личности, и их особенности нельзя сбрасывать со счетов при оценке этого человека. Он был глубоко и честно религиозным – в том смысле, что видел высшую санкцию своего понимания жизни и человека в идеях и образе евангельского Христа. Но его религия весьма далека и от старых церковных канонов, и от господствующих сейчас теологических школ. Миссионерское руководство в Париже когда-то долго не решалось доверить работу в Африке человеку, чьи взгляды по библейским вопросам далеко расходились с общепринятыми (Швейцеру разрешили ехать в Ламбарене лишь как врачу, с тем условием, что он не будет вмешиваться в деятельность тамошней протестантской миссии). В дальнейшем же признанные лидеры протестантской теологии (Барт, Нибур, Фогельзанг) не раз говорили о «небиблейском», наивном, дилетантском характере религиозных взглядов Швейцера, разумеется, отдавая дань его добрым стремлениям и подвижничеству. Швейцер продолжает традицию либерального богословия XIX в., во многом находившегося под влиянием Канта. Рассматривая состояние вопроса об историчности Иисуса («История исследования жизни Иисуса», 1913), Швейцер делает два как будто противоречащих друг другу вывода: 1) Иисус – реальное лицо, 2) для нашего времени важны не столько реальные взгляды этого лица, зависящего от духа своего времени и среды, а наш собственный, внутренний дух христианства. Основной элемент всего христианства для Швейцера – общение с богом через любовь к людям, через отдачу им самого себя. Не желая признавать и проводить в жизнь этот принцип, церкви и теологи отвернулись от мира, потеряли влияние на него. «Является ли религия силой в интеллектуальной жизни нашего века? Нет… Доказательство? Война», – писал Швейцер в 1934 г. Единственный способ возродить христианство, по его мнению, состоит в том, чтобы превратить его в «рациональную» и «пантеистическую» религию преклонения перед жизнью, а главное, подкрепить ее авторитет самоотверженным служением этой жизни.
Швейцер был убежден в возможности подлинного возрождения человечества к новой жизни, более того, вопреки всякой очевидности верил в близость этого возрождения. По его словам, если христиане раньше могли из века в век откладывать реализацию «царства божия» (которое, по Швейцеру, равнозначно этическому возрождению), то сейчас настал момент, когда дальнейшее промедление грозит гибелью всей культуре. С горечью писал он о том, что современные теологи не намерены войти в двери, открытые им.
* * *
Андреа. «Несчастна та страна, у которой нет героев!»
Галилей. «Нет! Несчастна та страна, которая нуждается в героях».
Брехт. Жизнь Галилея. Сцена XIIIНаше время выдвигает деятелей, которые велики своими связями с движением миллионных масс, с революционными переворотами в научном мышлении. Альбер Швейцер не принадлежал ни к тем, ни к другим. Его деятельность, его философия, его личность в высшей степени не типичны для современного ему общества. Швейцер проповедовал личное благородство в среде, которая признает лишь обезличенную силу. Он искал «рациональный мистицизм» в либеральном христианстве в тот период, когда оно давно вышло из моды. В условиях политического пробуждения Африки он возлагал главные надежды на индивидуальное подвижничество. Восхищались ли им образованные толпы или снисходительно терпели его экстравагантность, он, по существу дела, всегда оставался одиночкой. Швейцер был типичным исключением из господствующих правил и хорошо знал это. Именно этим он современен своей эпохе: он воплощал в себе то, что было для нее невозможным. Конечно, сохранение этой позиции на протяжении всей жизни дорого стоило Швейцеру. Многие детали его мышления и его стиля жизни, казавшиеся сторонним наблюдателям мелочными причудами, могут быть поняты именно как психологические барьеры, предназначенные для защиты «своего» отношения к миру от разлагающего воздействия чуждой среды, моды, господствующих установок.
«Философия жизни», в той или иной форме противопоставляемая «философии разума», – отнюдь не редкое явление в современной западной идеологии. Но образ жизни и проповеди ее сторонников крайне редко соответствуют их учению. Признанные лидеры экзистенциализма, скажем, рассчитывают на ту же кабинетно-логическую аргументацию, на ту же силу словесного, книжного довода, которой пользуются их оппоненты. Швейцер же собственную жизнь сделал аргументом в защиту своих убеждений. В этом он был абсолютно последователен, и эта последовательность тоже делала его исключением. Поэтому лишен всякого смысла вопрос: а что было бы, если бы многие, если бы все думали и поступали так, как этот удивительный человек? В обширной литературе о Швейцере можно, например, встретить утверждения вроде того, что, будь в Африке сто или тысяча таких людей, нынешнее отношение африканцев к колонизаторам было бы иным. Норман Казенс писал, сколь нужны современному американскому обществу «свои Швейцеры». Но в Африке просто не могло быть ни ста, ни десятка Швейцеров, и вряд ли возможны они в сегодняшней Америке. Мы знаем сейчас имена многих благородных борцов за расовое равноправие в США, мужественных противников милитаризма, чьи убеждения (в том числе религиозные) часто близки к идеям Швейцера. Но они часть все более влиятельного массового движения, между тем как Альбер Швейцер значителен именно как единичный феномен.
И эту его исключительность опять-таки нельзя объяснить тем, что современники часто не понимают открывателей новых путей мышления. Швейцер к таким открывателям не принадлежал. Ни в одной из областей, в которых он работал, с его именем не связаны какие-либо радикальные новшества. (Восторженные и поверхностные почитатели славы Швейцера, правда, иногда говорят об открытии нового пути спасения человечества, об «эйнштейновском перевороте» в этике[65].) Этот человек, сформировавшийся как мыслитель и как личность в конце прошлого – столь далекого от нас – века, искавший свои идеалы в устремлениях лучших умов прошлого века, был удивительно старомоден. Ему сродни скорее героический и трагический образ рыцаря, созданный Сервантесом, чем героический и трагический – на иной лад – образ Прометея. Это отнюдь не значит, будто Швейцер жил в мире собственной фантазии. Он жил в современном мире, но смотрел на его болезни и судил его с высоты благородных и гуманных идеалов старого рационализма и гуманизма. Он был старомоден ровно настолько, чтобы напоминать современникам о том, сколь далеко ушла их действительность и их фантазии от этих высот. «Как дерево из года в год приносит одни и те же, но каждый раз новые плоды, так и все идеи, имеющие непреходящую ценность, должны вновь и вновь рождаться в мысли», – писал Швейцер, поясняя необходимость такого напоминания[66].
Альбер Швейцер – один из последних (если не последний) «могикан» тех представителей классической культуры, чье влияние определялось не силой стоящих за ними масс, а прежде всего масштабом их собственной личности. Измерять наше отношение к нему расстоянием от его философии до современного научного мировоззрения, до марксизма было бы невозможно; здесь должны действовать иные меры, и они в конечном счете оказываются связанными с тем же «личностным» масштабом. Жизнь и личность Швейцера – это горький упрек эпохе и обществу, которые не имеют героев и не нуждаются в них. И в то же время эта жизнь – яркий пример человечности, нравственная вершина, на которую долго будут оглядываться люди, какими бы путями они ни шли.
1965«Феномен Тейара» и споры вокруг него
За последние годы «тейардизм» занял заметное место в философской литературе во Франции, получив известность во многих странах. Борьба за наследство Тейара идет на страницах печати самых различных направлений – религиозной и рационалистической, буржуазной и прогрессивной.
Пьер Тейар де Шарден (1881–1955) – крупный геолог и палеонтолог-эволюционист, академик, президент Французского геологического общества, один из «первооткрывателей» синантропа – был членом «Ордена Иисуса». Добрую половину жизни ученый, не пользовавшийся расположением французской иерархии, провел в «полуссылке» (в частности, 23 года служил советником геологической службы в Китае). Философские работы Тейара при его жизни католическая цензура не допускала к печати; часть из них распространялась на ротаторе. Лишь после его смерти был издан главный теоретический труд Тейара «Феномен Человека» («Phénomen Humain»), написанный еще в 1938–1940 гг. в Пекине, а также «Будущее человека», «Божественная среда» («Milieu Divin»), сразу же принесшие широкую известность Тейару как философу.
Направленность мысли Тейара де Шардена определили поиски «гармонического синтеза» научной картины мира с финалистическими установками религиозного мировоззрения. Чрезвычайно широко задуманная натурфилософская система Тейара, призванная, по мысли автора, объяснить «смысл» всего процесса мировой эволюции, на деле лишний раз показала ненаучность всякого подобного синтеза. Под оболочкой модернизированной христианской мистики, нередко превращающейся в чисто внешнюю, формальную «крышку», Тейар развивал ряд глубоко материалистических по своей природе эволюционистских представлений. Философию Тейара его последователи обычно характеризуют как «мистический материализм»[67]. Р. Гароди говорит о наличии в тезисах Тейара «материалистической диалектики в мистическом виде»[68], указывая, что источником этого явилась верность науке. «То же желание принять науку всерьез привело Тейара и Энгельса к очень близким результатам»[69]. «Случай с Тейаром де Шарденом, – пишет один католический автор, – точно такой же, как со “священниками-рабочими”. Он погрузился в материальную массу так же, как “священники-рабочие” погрузились в человеческую массу. В обоих случаях победителем оказался марксизм»[70].
Тейар прежде всего выступает как убежденный эволюционист: «Эволюция – это не теория, не гипотеза и не система, это общая предпосылка, перед которой должны преклониться и которой должны удовольствоваться отныне все теории, все гипотезы и все системы»[71]. Весь мир, по Тейару, – это эволюционный процесс, необходимыми стадиями которого выступают жизнь и сознание. Поступательный характер этого процесса определяется универсальным законом «усложнения и центризма». По мере эволюции ее объекты индивидуализируются. Единая цепь развития охватывает всю Вселенную: «Придет день, когда будет найден порядок расположения звезд <…>. Имеется какая-то связь, генетически соединяющая атом со звездой»[72].
Сознание Тейар соотносил с различными стадиями организации живой материи; в то же время «зачатки» духа он считал уходящими в «темные глубины» простейших материальных форм и даже составляющими их «внутреннюю природу» (au dedans). С этим (по мнению Р. Гароди, близким к известной гипотезе Дидро и Гассенди) представлением связано и утверждение Тейара о наличии «двух составляющих» энергии: «радиальной» (психической) и «тангенциальной» (материальной, обычной), – из которых первая неудержимо растет, а вторая идет на убыль.
В необратимости эволюционного процесса, которую он объясняет «конвергентностью» пространства – времени, Тейар усматривает «направленность» этого процесса, имманентно присущий ему финализм: эволюция в этом смысле характеризуется как ортогенез. Издеваясь над наивным антропоцентризмом, Тейар в то же время объявляет целью развития материи создание мыслящего духа, который, в свою очередь, должен привести в конечном счете к «точке Омега» – стадии «сверхжизни». Этапами мировой эволюции в «Феномене Человека» выступают поэтому «Дожизнь» (Prévie), «Жизнь» (Vie), «Мысль» (Pensée) и «Сверхжизнь» (Survie).
«Те, кто умеет разбираться в диаграмме фактов, установленных наукой, – писал Тейар, – знают, что человечество уже нельзя считать случайным явлением, почему-то возникшим на одном из самых незначительных небесных тел. В сфере нашего опыта человечество представляется наиболее совершенным явлением, к которому ведут все процессы материальной жизни»[73]. Для него человек – это «эволюция, осознавшая самое себя»[74].
Такое понимание эволюции Тейар делает основой своего исторического оптимизма. «В наше время, – с горечью отмечал он, – считается “хорошим тоном” относиться с презрением ко всему, что хоть чем-нибудь напоминает веру в будущее»[75]. Ополчаясь «против всех пессимистов – светских и религиозных»[76], он рисовал радужные картины грядущей «сверхжизни» объединившегося человечества («трансчеловечества»), заменившего жажду войны благородной страстью исследования, свободного от индивидуализма людей и наций, сочетающего высокий коллективизм с высшим развитием личности и т. д.
Земной смысл достаточно мистических положений о «трансчеловечестве» составляла идея общества, сознающего самое себя (это осознание, по Тейару, служит условием «второй гоминизации»). Не видя ни специфики социального развития, ни тех конкретных общественных сил, которые способны обеспечить дальнейший прогресс, Тейар пытается обосновать возможность социального прогресса соображениями биологического порядка плюс концепции сублимированной христианской любви. «Мы должны беспредельно верить в возможность и необходимость вселенской любви»[77]. Призывы Тейара к осознанию коллективной ответственности человечества, к всемирной солидарности, «чтобы жизнь не взорвала самое себя или не разрушила Землю, на которой она возникла»[78], нередко звучат весьма актуально и в наши дни.
Столь же благородно-наивны и поиски Тейаром, человеком весьма далеким от политики и от ее понимания, позиции, подымающейся над всеми известными ему системами общества. Резко – и во многом метко – критикуя буржуазную демократию и отвергая расизм, Тейар признавал, что «в коммунизме <…> вера в человечество, объединенное в едином универсальном организме, получила полное и вдохновенное выражение»[79]; за этим следовали, однако, шаблонные обвинения коммунизма в отрицании личности и духовной жизни. Социальный протест принимал у Тейара форму протеста против «служения материальному прогрессу», якобы приводящего к поглощению свободы людей ими же созданными детерминизмами и обоготворению «грубой силы»[80].
Формально Тейар де Шарден оставался покорным членом иезуитского ордена, не высказывавшим сомнений ни по одному из пунктов католического катехизиса. На деле же в его миропонимании христианская трансцендентность бога превращалась в его имманентность природе, теряли канонический смысл концепции греха, загробного воздаяния и т. д. «В нашем сознании бог открывается во всемирной эволюции более великим, чем когда-либо»[81]. Этот почти целиком растворенный в материи бог не был, однако, пустым символом в системе Тейара: в конечном счете именно он выступает гарантом «осмысленности» мирового процесса. Тейар пытался «изобразить Христа не как опиум (или дериватив), но как существенный стимулятор гоминизации»[82].
Созданная Тейаром натурфилософская система, как и всякая иная попытка универсального синтеза, очевидно, оказывается за рамками строго экспериментально-логической науки. Грандиозные экстраполяции Тейара во многом носят эмоциональный, даже поэтический характер (на последнюю черту, получившую отражение в самом языке его философских работ, обращает внимание Ж. Нунез[83]). И сам факт их популярности в условиях засилья бескрылой позитивистской «научности» выявляет показательную для атмосферы современного буржуазного общества жажду цельного, гуманизированного мировоззрения. Отсюда и исходит «борьба за Тейара».
Глашатаи официального католицизма высказывают явное неудовлетворение «тейардизмом», не решаясь, однако, пока прямо выбросить за борт столь крупный научный авторитет. Церковные власти не раз обращались к Тейару с «советами» бросить занятие философией; в настоящее время его философские работы, хотя еще не включены в Индекс, изъяты из семинарских библиотек. В то же время предпринимаются и более тонкие попытки обезвредить опасные идеи. Профессор парижского Католического института Грене, заявляя, что не следует придавать большое значение взглядам «философа поневоле», упрекает Тейара в «попытке разрешить проблемы, которые являются метафизическими <…>, не располагая метафизическими средствами, которые выработаны на протяжении столетий под контролем церкви»[84]. Он напоминает требование церкви считать тело, дух и бога отдельными видами бытия, а не какими-то звеньями революционного развития. «Будущее тейардизма, – утешает себя Грене, – состоит в его очищении от гиперфизики и в обогащении метафизикой»[85]. Оценку этой критики Тейара справа – «с позиций веры» – дает Э. Каан в «Pensée»[86].
Последователями тейардизма объявляет себя группа либеральных католиков (в их числе физиологи П. Шошар, К. Тремонтан, К. Кено и др.; следует отметить, что три названных католических деятеля участвовали в известной дискуссии 1960 г. о соотношении марксистской и религиозной морали[87]), готовых видеть в Тейаре некоего апостола ХХ в., создателя «современной апологетики», преодолевшего вековую противоположность религии и науки, и т. п. П. Шошар заявляет, что понимание Тейаром природы человека близко к социалистическому гуманизму в понимании Ж. Жореса[88].
Спеша зачислить опального иезуита в свои сторонники, французский протестантский журнал выступил с заявлением о том, что реформатская церковь согласна с тейаровским пониманием отношений между богом и миром и потому «является единственной религиозной формой, способной воспринять учение Тейара де Шардена»[89].
Споры о Тейаре занимают немало места в буржуазной антиклерикальной литературе. Выход английского издания «Феномена Человека» (1959, с предисловием Дж. Хаксли, который находит «много общего» между тейаровской и своей концепциями эволюции) приветствовали «Freethinker» и «Humanist». Позитивистские наклонности западноевропейского «свободомыслия» (или большинства его представителей) мешают, однако, видеть в «феномене Тейара» что-нибудь, кроме очередного скандала в католическом стане[90]. В среде французских рационалистов немало спорят о значении Тейара: высказываются как мнения о ненужности популяризации столь далекого от атеизма мыслителя, так и восторженные оценки тейардизма, приравнивающие его к пантеизму и скрытому атеизму[91].
О Тейаре много пишет прогрессивная французская печать. Секретарь союза рационалистов Эрнест Каан в своей книге о Тейаре, говоря о необходимости понять и оценить с рационалистических позиций то здоровое, что содержится в его работах, восхищается «великолепием выражения, широтой концепций, смелостью обобщений»[92]. Значительное внимание характеристике взглядов Тейара де Шардена уделено в последних работах Р. Гароди, особенно в «Перспективах человека»[93]. По словам Роже Гароди, «труды Тейара благодаря возвышенному оптимизму, который пронизывает и вдохновляет их, благодаря признанию того, что специфика человеческого феномена ничуть не исключает исторического происхождения его духа, благодаря безоговорочному утверждению им смысла истории и его осуждению отчаявшегося индивидуализма декадентских мыслителей создают почву для плодотворного диалога между христианской и марксистской идеологиями»[94].
Внутренняя противоречивость тейардизма отражает духовные блуждания определенной части западноевропейской интеллигенции в поисках подлинно гуманистического мировоззрения. Попытки «синтеза» науки с религией и «гуманизации» христианства, предпринятые Тейаром, разумеется, потерпели неудачу; больше того, именно «феномен Тейара» говорит о бесплодности таких попыток, даже если они исходят от столь крупного ученого и искреннего гуманиста. Девизом Тейара де Шардена были слова: «Все подымающееся сходится в одну точку»[95]. Они верны в том смысле, что логика науки с необходимостью требует прогрессивного мировоззрения.
1962Основные направления буржуазной социологии религии
1. Общая характеристика
Как специфическая дисциплина социология религии (во Франции – «религиозная социология», в Германии – «религионсоциология») возникла в начале XX в. главным образом в трудах Макса Вебера и Эрнста Трельча в Германии, Эмиля Дюркгейма во Франции. В последующие десятилетия социология религии не привлекала к себе большого внимания и, как выражается один из ее нынешних американских проповедников, «не пошла далеко в направлении большей теоретической адекватности»[96]. В послевоенные годы, в связи с общим усилением интереса буржуазии к религии (в частности, в США), вновь заметна активизация работ в этой области.
«Границы области религиозной социологии, – пишет видный французский социолог Г. Ле Бра, – варьируют в зависимости от того, что понимают под религией и что – под социологией»[97]. Однако на деле эти вариации не столь велики.
И. Вах выделяет в религии три «области религиозного выражения»: 1) теоретическая (миф, доктрина, догма), 2) ритуальная, 3) «религиозные группировки, религиозные товарищества и ассоциации, индивидуальное, типологическое и сравнительное изучение которых является областью социологии религии»[98]. Продолжая ту же линию, немецкий социолог Меншинг относит к социологии религии вопросы о взаимоотношении религии с естественными и социальными «группами» (с семьей, родом, государством и т. д.) и специфически-религиозные социальные отношения (например, в религиозной общине, секте и т. д.)[99]. По Ингеру, социология религии – это «научное изучение всех путей, по которым взаимодействие людей влияет на религию – влияет на ее происхождение, ее доктрины, ее ритуал, типы групп, в которых она воплощается, виды руководства» и обратно[100]. Известный американский социолог Т. Парсонс считает задачами социологии религии «анализ условий, определяющих специфический тип верования или символической системы, деятельности или моральной роли, форм коллективной организации», а также взаимоотношение «религиозных систем» с другими системами[101]. Ле Бра, лидер французской школы эмпирической социологии, добавляя к аналогичному перечню проблем такие, как отношения религиозных сообществ с «потусторонними сообществами»[102], основной упор делает на «социологию культа», то есть на социальные условия выполнения ритуала.
Приведенные определения достаточно ясно характеризуют основную особенность буржуазной социологии религии: она ограничивает исследования лишь внешними отношениями религии к различным общественным явлениям, заведомо исключая саму постановку вопроса о социальной природе религии. Религия предполагается (или прямо провозглашается) чем-то данным, трансцендентным по отношению к обществу. По И. Ваху, уделом науки о религии (Religionswissenschaft) является описание различных проявлений религии, не допускающее «метафизических» суждений о ее сущности. «Те из нас, которые изучают социальные приложения религии, ошибутся, если мы вообразим, что наша работа раскроет природу и существо самой религии», – пишет Вах[103]. «Метафизический аспект религии составляет законные области философии и теологии, – утверждает американский социолог Дж. Ингер, – только ее эмпирические аспекты являются собственно объектом науки»[104].
Излишне говорить о том, что буржуазная социология религии во всех своих вариантах враждебна марксистскому пониманию социальных корней религии. Дж. Ингер, например, обвиняет исторический материализм в «редукционизме», то есть в стремлении свести все и всякие религиозные явления к простому выражению классовой борьбы.
Характерна постановка этого вопроса Э. Трельчем, повторяемая многими теоретиками социологии религии. В своем «Социальном учении христианских церквей и групп» Трельч не раз говорит о «влиянии» на религию классовых интересов, экономики. Трельч даже заявлял, что «применение марксистской идеи о зависимости духовной надстройки от социально-экономического базиса <…> представляется, при необходимой осторожности, правомерным и объясняющим»[105]. Но «необходимая осторожность» означает у него на деле признание того, что социально-экономические условия лишь «влияют» на развитие религиозной мысли, но не формируют и тем более не порождают ее. «Последняя основа всего этого все же собственная преемственность самого религиозного сознания»[106]. Так он объяснял появление сект, реформацию и т. д. Известный немецкий феноменолог Макс Шелер писал, что социальные факторы искажают подлинный смысл религии; согласно Меншингу, социальные условия лишь накладывают свой отпечаток на религию, но не определяют ее существа[107]. Эти тезисы составляют один из существенных компонентов всей буржуазной социологии религии.
Современная социология религии выступает как откровенно антиисторическая дисциплина. Буржуазные социологи исключают из области научного знания вопрос о происхождении религии. Дюркгейм писал, что, «как и все человеческие институты, религия вообще не имела начала»[108]. Начальным пунктом эволюции религии Дюркгейм предлагал считать наиболее «элементарную» из ее доступных наблюдению форм – австралийскую тотемическую систему. Неудача его попыток сведения религии к «элементарной форме» (которую он неоднократно сравнивал с «клеточкой» или «протоплазмой» – явное влияние биологизма конца XIX в., полагавшего возможным объяснить организм из одной клетки) послужила одним из поводов для отказа современных буржуазных социологов от эволюционного рассмотрения религии. Примерно такая же судьба постигла, по сути дела, и предложенные Вебером схемы логического развития «религиозной этики». Современная социология религии провозглашает невозможность объяснения каких бы то ни было сторон религии обращением к ее примитивным формам. «Изучение генезиса какого-либо явления ничего не может сказать о его сущности», – заявлял Р. Отто, один из «духовных отцов» социологии религии (особенно Г. Меншинга)[109]. Он ссылался при этом на то обстоятельство, что новые взаимоотношения придают развивающемуся явлению новый смысл. Эти установки и служат опорой претензий современной социологии религии на «актуализм». Метафизическим спекуляциям о природе и первичных формах религии «религиозные социологи» противопоставляют требование изучать положение современной религии в современном обществе, а это изучение с неизбежностью сводится на деле к регистрации и формальной классификации внешних проявлений.
Показательны отношения современной социологии религии с теологией. Та формулировка предмета этой дисциплины, которую дают ей буржуазные социологи различных течений, вполне устраивает теологов. Было бы явным упрощенчеством объяснять это только сознательным стремлением извратить характер научных исследований в угоду церкви, научной недобросовестностью отдельных лиц. Более глубокой причиной в данном случае следует считать общие отношения между социальными дисциплинами и религией в буржуазном обществе.
В то же время не следует упускать из виду, что логика научного исследования – а порой даже и заинтересованность церкви в выяснении определенных вопросов «жизненности» религии – ведет к тому, что социология религии может дать материал, действительно ценный в научном отношении, заслуживающий внимательного изучения и анализа.
Прежде чем характеризовать типичные течения и школы современной социологии религии, следует отметить на первый взгляд странное, но вполне объяснимое в свете изложенного выше обстоятельство: отсутствие какой бы то ни было борьбы между этими течениями. Причиной этого положения является прежде всего нарочитая ограниченность социологии религии, что вполне устраивает и агностиков, и убежденных фидеистов. Другую причину теоретического «мира» в социологии религии составляет отсутствие каких бы то ни было обобщающих теорий в этой области, измельчание проблематики, партикуляризация объектов изучения, о чем уже шла речь.
В настоящее время можно выделить следующие направления буржуазной социологии религии, отличающиеся главным образом выбором объекта и методов изучения; грани между ними в значительной мере подвижны.
1) Школа Вебера, продолжающая традиции своего основателя главным образом в разработке вопросов влияния религии на экономику («экономическая этика религии»).
2) Компаративно-типологическое направление, занятое преимущественно систематизацией «религиозных групп», форм «религиозного руководства» и т. д.
3) Функциональная школа, изучающая религиозные взгляды и институты под углом зрения выполняемой ими общественной функции.
4) Американское течение эмпирической социологии религии, отчасти связанное с функциональной школой, рассматривающее «массовую» религию через тестификацию общественного мнения (то есть социально-психологически).
5) Французское (по существу – международно-католическое) направление эмпирической социологии религии, изучающее главным образом «жизненность» католицизма на основе анализа исполнения обрядов различными группами населения. Чрезвычайно широко поставленное собирание фактов по единообразной (с теоретической точки зрения – крайне убогой) программе придает определенную ценность ее материалам.
2. Наследие Вебера и Трельча
Значение Макса Вебера (1864–1920) в современной буржуазной социологии религии, особенно в Германии и США, общепризнано. «До Макса Вебера не существовало никакой социологии религии, – заявляет Вах, – она создана им и его друзьями Эрнстом Трельчем и Вернером Зомбартом»[110].
Взгляды М. Вебера оказывают серьезное, причем растущее воздействие на современную буржуазную социологию (социальную философию) в целом. Неокантианец, близкий к Г. Риккерту по своим общефилософским взглядам, Вебер предпринял попытку противопоставить марксизму цельную концепцию всемирного общественного развития, в которой важнейшая роль отводилась истолкованию общественной роли религии.
Вебер поставил перед собой задачу раскрыть источники и роль «хозяйственной этики» мировых религий в историческом развитии, прежде всего – роль «хозяйственной этики» протестантизма (кальвинизма) в становлении буржуазного общества. По мнению Вебера, «хозяйственная этика», то есть некая совокупность традиций и норм, должна предшествовать утверждению определенного типа хозяйства; в значительной мере эта этика определяется господствующей религиозной системой. Попытка решения этой задачи привела Вебера к сложной логической схеме, призванной систематизировать отношение религии к обществу, в особенности к экономической жизни.
Цели, указываемые людям большинством религий (кроме христианства), утверждал Вебер, – вполне земные, посюсторонние: «Здоровье, долгая жизнь, богатство – вот что являлось обоснованиями китайской, ведической, зороастрийской, древнеиудейской, мусульманской, финикийской, египетской, вавилонской и древнегерманской религии, а равно индуизма и буддизма, поскольку дело касалось благочестивых мирян»[111]. При этом, по мнению Вебера, каждая из мировых религий воплощала идеалы того слоя населения, который определял его формирование: конфуцианство – образованных чиновников, буддизм – бездомных монахов, ислам – воинов, христианство – бюргеров. Кроме того, Вебер подчеркивал, что различные классы по-своему толкуют одни и те же положения религии, выпячивая на первый план импонирующие им элементы. Крестьяне, например, в силу своей зависимости от стихии склонны к магии, воины – к вере в судьбу; горожане же (бюргеры), отличаясь «практическим рационализмом», – к самым различным формам религии.
Религиозные системы, по Веберу, возникают обычно в умах образованных людей («интеллигентов») независимо от социальных интересов, однако закрепляются лишь те из них, которые соответствуют интересам массы. При этом развитие «религиозной этики» происходит главным образом на почве социальных низов, ибо имущие основывают свою «классовую легенду» на своем бытии, неимущие же – на вере в потустороннее воздаяние. Именно этим якобы и определяется то, что «массовые религии» соответствуют нравам и порядкам данного общества и не играют какой-либо активной роли. От «массовой» религиозности Вебер отличал «виртуозную», характеризующуюся высокой степенью веры и в связи с этим – аскетическим отрицанием мира. «Виртуозная» вера – удел немногих «религиозно музыкальных» людей (дервиши, монахи, сектанты и пр.), однако она играет весьма важную роль в определении облика всего общества.
Вебер предлагал строго различать два принципиально различных, по его мнению, пути развития религиозной «виртуозности». Первый путь – это пассивный, внемировой аскетизм, направленный на созерцание высшего существа «внутри нас». Этот путь ведет к созерцательным религиям деистического вида, каковы, по мнению Вебера, религии Востока. Другой путь развития аскезы – это «внутримирской», активный аскетизм, стремящийся построить земную жизнь в соответствии с волей какого-либо бога. Вебер считал, что активный аскетизм, связанный с теистическим, действенным представлением о боге, присущ иранской, переднеазиатским и в особенности западноевропейской религиям, достигая своей вершины в кальвинистском протестантизме. Протестантизм считает «призванием» (Beruf) не бегство от мира в монастырь или в мистику, а энергичное исполнение повседневных человеческих обязанностей. Благодаря этим своим особенностям протестантизм («протестантская этика», под которой Вебер понимал толкование реформаторами земных обязанностей человека) являлся решающим фактором формирования «духа капитализма», превращающего в заповедь безостановочное умножение капитала. Современный капитализм, по Веберу, не мог бы сформироваться, если бы ему не предшествовало появление «духа капитализма».
С противопоставлением двух типов религиозного аскетизма Вебер связывал противопоставление неподвижного «Востока» динамичному капиталистическому «Западу».
Такова в самых общих чертах религиозно-социологическая схема Вебера[112].
Очевидно, что она носит формальный характер. Вебер пытался объяснить причины предположенных им дихотомий религиозной этики географическими, организационно-экономическими факторами. Однако на деле он характеризовал лишь типы логического движения религиозной мысли. Наиболее ярко выступает идеализм Вебера в его тезисе о роли религиозной этики в становлении капитализма. Хотя Вебер приводил целый ряд оговорок (ссылаясь на то, что «хозяйственная этика» определяется не только религией, что имеет место и влияние экономики на религию и что лишь для целей исследования он выделяет одну сторону взаимодействия), это не меняет общего характера его конструкции. Вебер не объясняет, в частности, откуда появился кальвинизм с его пуританской этикой и еще меньше – почему проповедь Кальвина была подхвачена бюргерской массой. Он попытался это сделать, опираясь на исторический материал, в результате чего констатировал зависимость религиозных идей кальвинизма от уже существовавшего капиталистического строя. Но в этой констатации – противоречащей всей его схеме – Вебер отнюдь не оригинален: вопрос о связи протестантизма с капитализмом, с обществом товаропроизводителей вообще поставлен, как известно, Марксом[113].
Схема Вебера содержала также ряд ошибок фактического порядка (игнорирование развития капитализма в Италии до всякой реформации и др.).
В буржуазной научной литературе религиозно-социологические теории Вебера (главным образом о роли религии в генезисе капитализма) вызвали интенсивную, не прекращающуюся до сих пор полемику. Английский историк Р. Тоуни, соглашаясь, по сути дела, с Вебером, считал, что он слишком упростил вопрос, недооценив влияние капитализма на Кальвина и пуритан. По его словам, «Кальвин сделал для буржуазии XVII века то, что Маркс для пролетариата в XIX веке»[114], а кальвинисты попытались не столько «материализовать» религию, сколько «идеализировать коммерцию». В католицизме же, особенно в томизме, Тоуни усматривал противоположные духу наживы идеи ценности человека, которые будто бы и были продолжены марксизмом. «Истинным наследником учения Аквината, – писал он, – явилась трудовая теория стоимости. Последним из схоластов был Карл Маркс»[115]. Вернер Зомбарт разделял веберовскую идею о роли религиозной этики в истории капитализма, утверждая, что истинным провозвестником «духа капитализма» явилось иудейство, а не христианство[116]. Л. Брентано, в свою очередь, выступил с утверждениями о преимущественной заслуге католицизма в этом процессе. А. Фанфани (ныне известный демохристианский деятель) писал, что капитализм появился прежде всего в католических странах, хотя и вопреки установкам церкви. «Опустошение веры объясняет установление капиталистического духа в католическом мире, но в известном смысле это опустошение вызвано установлением капиталистического духа»[117].
В последние годы дискуссия о «духе капитализма» в буржуазной социологии измельчала и приобрела «эмпирический» оттенок. П. Сорокин в своей «Культурной и социальной динамике» в характерной для него манере построил наукообразную статистическую таблицу, якобы учитывающую количество изобретений и открытий по основным странам начиная с XVII в. По его словам, «данные» этой таблицы (очевидно, не имеющей научного значения) не подтверждают выводов Вебера о связи протестантизма с предпринимательством. Американский эпигон Вебера А. Торнер занялся критическим пересмотром той же таблицы, убедившей его в преимуществе протестантских стран и, следовательно, в правоте Вебера[118]. В большей или меньшей степени отпечаток веберовских концепций несут и многие эмпирические работы американских социологов, например о «духе капитализма» в Норвегии[119], о связи «протестантской этики» с социальной мобильностью[120] и др.
Общие же схемы Вебера о всемирно-исторических типах религиозной этики, по сути дела, не вмещаются в узкие рамки современной социологии религии и остаются вне поля ее зрения. Родельгейм тщетно призывает ее теоретиков обратить внимание на значение веберовской схемы соотношения религий Востока и Запада в свете нынешнего положения на Востоке[121].
Другая сторона веберовской конструкции – его (и Трельча) типология религиозных сообществ. Следуя идее Вебера, Трельч изложил концепцию «социологических типов» религии, которыми он считал церковь, секту и мистику. Пошлому, исходящему от церковной апологетики представлению о том, что церковь является «законной» обителью веры, а секта – неправомерным обломком, выкидышем, Трельч попытался противопоставить тезис, согласно которому церковь, секта и мистика являются закономерными и постоянными, хотя и неодинаково влиятельными типами организации религии, которые вытекают из ее положения в обществе. Эти типы Трельч характеризует следующим образом. Церковь – это универсальная, в основном приемлющая мир и приспособленная к его порядкам консервативная массовая организация; ее сущность составляют объективные учреждения, дарующие милосердие. Глубокая религиозность, аскеза – чрезвычайный подвиг, редкое исключение в лоне церкви. Секта же интенсивно религиозна, а потому ограничена узким кругом членов, которые противопоставляют себя миру. «Секта – это свободное объединение стойких и сознательных христиан, которые выступают как действительно возродившиеся, отделенные от мира, ограниченные узким кругом, подчеркивающие не милосердие, а закон и в своем кругу с большим или меньшим радикализмом осуществляющие христианский порядок жизни, преследуя всем этим цель продвижения к грядущему царству божию и ожидания его»[122]. И церковь, и секта, по Трельчу, равно вытекают из Евангелия. К третьему «социологическому типу» – мистике – он относил «духовные» религии, пренебрегающие культом и организацией ради внутренней веры: этические религии, интеллигентский деизм и т. п.
Эти положения послужили исходной точкой для целой серии подобных схем, варьируемых в современной социологии религии. Нарекания, особенно со стороны американцев, вызывает обычно чрезмерная полярность противоположения церкви и секты у Трельча, в которую не укладывается реальное многообразие типов религиозных организаций, не столь резко отличных друг от друга. Поэтому в ходу более расчлененные определения: например, Г. Беккер выделял (по признаку возрастающей организованности религиозного сообщества) культ, секту, деноминацию, экклесию[123], Ингер – секту, установленную секту, универсальную церковь и просто церковь[124]. Вах и Меншинг предлагают начинать классификацию с типа, который характеризует «отношение между учителем и учеником», кончая «универсальной церковью». Тем самым буржуазная социология признает, что типология Трельча имеет смысл лишь как указание определенной тенденции.
Но основная ограниченность этой типологии – в ее чисто формальном характере. Она не выходит за теологические рамки (кстати, Трельч был лютеранским богословом), поскольку исходит из «чистого движения религиозного сознания», конструируя «мыслимые» варианты его мирских выражений и пытаясь подогнать под них реальные формы культовых сообществ. Схемы Трельча и Вебера не учитывают реальных отношений различных типов религиозных организаций со всем контекстом социально-экономических формаций.
3. Компаративно-типологическая социология религии
Компаративно-типологическое направление в социологии религии[125], представленное прежде всего И. Вахом и Г. Меншингом, можно рассматривать как один из итоговых продуктов разложения (и вырождения) веберовской школы. Теоретические конструкции Вебера, прошедшие обработку М. Шелера, Р. Отто, Л. фон Визе, превращаются в конечном счете у Ваха и Меншинга в совершенно формальные, мертвые классификационные схемы, по которым раскладывается эмпирический материал. Тем самым ликвидируется всякая видимая связь описания религиозных форм с социальной философией («метафизикой»), то есть в данном случае с попытками объяснения природы религии. Показательно, что Вах упрекает Вебера в «недостаточно четком» разграничении области социологического анализа религии от трансцендентной сферы самой религии[126]. Это разграничение Л. фон Визе абсолютизировал в форме противопоставления религии как явления «внутренней жизни» и церкви как социального института.
Подобное разграничение проводит и Вах. Для него, как мы уже видели, сфера социологии религии – это преимущественно отношение между «религиозными группировками». При этом Вах считает основным интегрирующим фактором в этих группировках (и в обществе вообще) не столько религию как идеологию, сколько культ. Стремление поставить культ впереди «доктрины» (идущее от М. Шелера) базируется у Ваха на неправомерном смешении примитивных нерасчлененных верований с современными религиозными системами; на деле же оно выступает одним из предлогов для того, чтобы преуменьшить значение критики религиозной доктрины.
Социология религии у Ваха выступает в виде громоздкой типологии религиозных групп, их положения в обществе и государстве, форм религиозного авторитета. При этом особо рассматриваются: а) отношения религии к «естественным группам», б) специфически религиозные организации общества, в) отношения религии к социальной дифференциации и государству. Рассмотрим некоторые из рубрик типологии Ваха.
Первой из «естественных групп» он считает семью и поэтому перечисляет как признаки семейных культов формы, имеющие – всегда или изначально – родовое и племенное значение (например, церемониал инициации). Подобным же образом описываются (на весьма обширном материале) племенные, локальные и т. п. культы. Отмечая в заключение «обнаруженную» подобным нагромождением примеров «идентичность» естественных и религиозных единиц, Вах протестует против их отождествления (Дюркгеймом), ссылаясь, между прочим, на то, что социальные отношения людей – это в конечном счете отношения индивидов, в то время как в религии первично сообщество[127].
Типология «специфически-религиозных групп» принимает у Ваха следующий вид (он утверждает, что предлагаемые им типы носят не исторический характер): тайное общество – мистерийное общество (более сложное) – «сампрадайя» (тип индуистской организации) – «основанные религии». В последних выделяются следующие закономерные подтипы: круг учеников, братство, церковь; кроме того, внутрирелигиозный протест («против основного направления в их развитии») создает особые сообщества, наиболее радикальным из которых Вах считает секту. Эта система, отличаясь во многих пунктах от трельчевского образца, разделяет, конечно, всю ограниченность и формализм последнего.
Рассматривая (в большой мере на основе материала Вебера) вопрос о влиянии социальной дифференциации на религию, Вах прежде всего проводит мысль о поверхностности этого влияния, касающегося почти исключительно внешних, «объективных» сторон религии, но не «субъективной религии». «Хотя чувство классовой солидарности, по крайней мере поверхностно, заменило чувство религиозной солидарности в современной Европе, Америке и в некоторых частях Востока, – пишет Вах, – пример римско-католической церкви, которая не является ни церковью богатых, ни церковью бедных, напоминает об опасности поспешных обобщений»[128]. Ссылка на «универсальность» католицизма, которая, как показывают данные самой католической социологии религии, является мнимой, служит хорошим примером несостоятельности самой методологии Ваха.
Основными типами «религиозного авторитета» Вах считает следующие: основатель религии, реформатор, пророк, провидец, маг, святитель, святой священник, подвижник и, наконец, рядовой «слушатель». Основанием этой классификации (исходящей от Вебера) служат различия в степени религиозности, в характере влияния на окружающих и т. д.
Г. Меншинг в трактовке социологии религии в основном следует Ваху (он, например, сводит историографию этой дисциплины к трем именам: Вебер, Трельч, Вах[129]).
Общая «теория социологии религии» у Меншинга сводится к утверждению о том, что «общее развитие идет от примитивного коллективизма к высокорелигиозному индивидуализму, который, в свою очередь, преодолевается высокорелигиозным коллективизмом»[130]. Первая часть этого тезиса повторяет общеизвестное с конца прошлого века утверждение, вторая – явно выдает желаемое за сущее.
В целом дескриптивно-типологическое направление означает глухой тупик социологии, формальное рядоположение различных явлений, взятых вне их связи и развития, оторванных от своей социально-экономической основы. Но существенно то, что к этому тупику закономерно ведет сама логика развития социологии религии. Дело здесь, конечно, не в самой типологии, которая необходима любой науке (и которая неизбежно предполагает ту или иную степень формализации реального многообразия отношений), а в нежелании научного анализа природы явлений.
В среде самих буржуазных социологов религии рассматриваемое направление вызывает немало нареканий. «Во всяком случае, – пишет один из американских авторов, – исключительная занятость социологов типологическими проблемами как таковыми отвлекла их внимание от ряда других вопросов, имеющих значение для социологии религиозных институтов»[131].
4. Функциональная теория
Эмиль Дюркгейм признается в современной социологии религии главным образом как инициатор направления функционального анализа (или структурно-функционального анализа), которое развивалось затем У. Рэдклиф-Брауном, Б. Малиновским и др.; ныне эта школа наиболее влиятельна в США (Т. Парсонс, Р. Мертон). Основную ее идею Дюркгейм выразил в виде следующего «постулата социологии»: «Ни один человеческий институт не мог быть построен на ошибке и вымысле; иначе он не мог бы сохраниться. Если бы он не основывался на самой природе вещей, он встретил бы в ней сопротивление, которого не смог бы преодолеть». Поэтому, по его мнению, «нет в конечном счете религий, которые были бы ложными. Все они истинны на свой лад: все они по-своему соответствуют данным условиям человеческого существования»[132].
По Дюркгейму, религия – основа всех человеческих институтов и всех категорий сознания; она не имеет в человеческом обществе ни начала, ни конца; происходит лишь смена «частного символизма», в котором она выражается в различные эпохи.
В трактовке существа религии Дюркгейм следовал Конту. Для ответа на вопрос о том, в чем же состоит извечная функция религии, определяющая ее существо, он обратился к «элементарной форме» религиозной жизни – австралийской тотемической системе. Обнаружив, что всякое явление в жизни тотемической группы выражается в ритуале, а всякий ритуал у австралийцев носит групповой характер, Дюркгейм сделал вывод о тождественности религиозного и социального. «Генеральный вывод» его книги таков: «Религия – явление по существу социальное. Религиозные представления – это коллективные представления, которые выражают коллективные реальности; обряды – это способы поведения, которые могли возникнуть лишь в собравшихся вместе группах и которые призваны вызывать, поддерживать или обновлять определенные умственные состояния этих групп»[133]. В религии Дюркгейм усматривал систему верований и действий, относящихся к «священным, то есть обособленным, запретным, вещам», которые объединяют людей в церковь. Из этого толкования религии, в котором представления о боге и сверхъестественном выступали как временные, преходящие символы, и исходили заявления Дюркгейма о вечности религии. Он писал, например, что не видит существенной разницы между празднованием церковью какой-либо даты из жизни Христа или иного божества и собранием горожан, отмечающих знаменательное событие.
Толкование религии Дюркгеймом исходит из идеалистического представления о «социальных чувствах», якобы сплачивающих человеческое общество, и из непонимания действительной «противоречивости земной основы религии» (Маркс). Религиозные представления, чувства, действия, институты бесспорно имеют социальное происхождение и постольку социоморфны. Но отождествить религию с коллективностью, общественностью («человечеством» у Конта) – значит отказаться от понимания тех исторически преходящих противоречий общественного бытия, которые порождают религиозные формы сознания. Один из истоков этой ошибки у Дюркгейма – перенесение отношений недифференцированного, доклассового сообщества на все общество.
Фактические ошибки, допущенные Дюркгеймом в его анализе тотемической системы, а главное, его попытка отрицать всякую трансцендентность религии привели к тому, что его система отвергается почти всеми без исключения буржуазными социологами. Отмежевываясь от универсального социоморфизма и «радикального позитивизма» Дюркгейма, они (например, Лe Бра) отделываются реверансами в адрес «основателя французской школы», давшего «стимулы» и т. п.
Функциональному анализу современная социология религии придает направление, вполне безопасное для прерогатив теологии, если не содействующее ей. Бронислав Малиновский (польский социолог и этнограф, работавший в 20 – 30-х гг. в Англии и ее колониях) заявил, что «странные и довольно темные» выводы Дюркгейма не могут быть приняты, поскольку религия прежде всего является делом отдельных индивидов, а группа якобы лишь исполняет даваемые ею команды[134]. Это положение Малиновский пытался обосновать трактовкой материала, на который опирался и Дюркгейм (то есть примитивных культов), но оно выглядит у него просто предвзятым, навязанным исследованию соображением.
Малиновский провозгласил «постулат абсолютного функционализма»: «В любом типе цивилизации любой обычай, материальный объект (культа. – Ю.Л.), идея и верование выполняют определенные жизненные функции»[135]. Этот принцип применяется прежде всего к «обоснованию функциональной полезности “трехзвездия”» – науки, религии и магии. Малиновский рассуждал следующим образом. В той или иной мере элементы научного мышления всегда присущи людям, даже в наиболее примитивных обществах (вопреки мнению Леви-Брюля), что видно, например, из того, с каким знанием тонкостей дела австралийские островитяне строят свои лодки, как хорошо они учитывают закономерности движения волн. Но при этом сфера влияния научного мышления ограничена, ибо остается огромная область непредвиденного, не поддающегося воздействию: самая совершенная лодка может разбиться о рифы, перевернуться в шторм и т. д. Поэтому «рядом» с наукой у примитивных племен всегда остается место для магии, в функции которой входит попытка воздействовать непосредственно на стихийные силы (отличие магии от религии Малиновский толкует по Фрэзеру).
Широкую известность получил следующий пример, приводимый Малиновским в подтверждение этого взгляда. На одном из Тробрианских островов занимаются рыболовством жители двух деревень, причем одни в лагуне, другие – в открытом море. В первой деревне всегда достаток пищи, ловля рыбы не сопряжена с опасностью; ее жители не знают никаких магических обрядов. Во второй же деревне при том же уровне техники магия, напротив, развита, поскольку рыболовы пытаются с ее помощью оградить себя от бесчисленных опасностей, подстерегающих их в океане. Именно положение во второй деревне Малиновский считает типичным для всего человеческого общества на любых стадиях его развития: неудача, болезнь, смерть и т. п. явления всегда сосуществуют с любыми достижениями науки, а потому оставляют место для магии. Извечная функция магии, по Малиновскому, – «ритуализировать оптимизм человека, усиливать его веру в победу над страхом»[136]. Тем самым, утверждает он, «магия выполняет незаменимую функцию в культуре»[137].
Совершенно в том же духе толкует функции магии и религии (не разделяя их) Т. Парсонс. Их удел – сфера «напряженности», «неудачи» (strain, frustration) в человеческой жизни. Никакие магические или религиозные действия, пишет он, не ликвидируют факта смерти, и никто из верующих всерьез на это не рассчитывает. Но такие действия дают выход настоятельной потребности «что-то сделать», когда известно, что сделать ничего нельзя; они психологически примиряют человека с ужасным, невыносимым[138].
Подобная функционализация религии и магии выявляет одну из наиболее характерных черт всего направления, а именно предпосылку о наличии раз и навсегда заданной, присущей человечеству потребности «психологического» приспособления к ситуации «напряженности», причем потребности, которая всегда и обязательно удовлетворяется только религиозно-магическими средствами. Несостоятельность этой предпосылки довольно очевидна. Резкое разделение сфер науки и магии в примитивном коллективе, проводимое Малиновским (и противоречащее данным этнографии), представляет собой несомненную натяжку; тем большую натяжку представляет собой утверждение о том, что член этого коллектива колдует во имя «психологического утешения». Но главное заключается в том, что нельзя ограничивать функции научного мышления «освоенной» областью бытия. Достижения науки и производственной практики составляют основу научного взгляда на мир, научного материалистического мировоззрения. Оно может давать и дает основу для оценок также и нежелательных, непредвиденных, «напряженных» моментов жизни.
Функцией религии, по Малиновскому, является превращение индивидуального поступка, переживания, физиологического импульса в социальное, устойчивое, целостное. Например, церемония инициации «сакрализует жизненный кризис», «из естественного события она делает социальный переход», свадьба «создает сверхъестественно санкционированную связь, надбавленную к первичному биологическому факту»[139]. Таким образом, если у Дюркгейма социальное и есть религиозное, у Малиновского религиозное выступает творцом социального из первично данного индивидуального «материала». Вся конструкция строится именно на ложной идее о примате индивидуального и физиологического. Как свидетельствуют факты, в примитивном коллективе (и в любом другом) достижение зрелого возраста, брак, рождение и т. п. являются всегда фактически социальными по своему значению, независимо от того, признается ли это и выражается ли это признание в ритуале или как-либо иначе. Религиозный ритуал может выступать лишь выразителем, но не творцом этого значения.
Малиновский пишет, например, что религиозная «стандартизация» жизненных явлений является хранительницей традиций, играющих решающую роль в сохранении единства общества и самом его существовании. «Знания первобытного человека, его социальная фабрика, его обычаи и верования составляют неоценимый плод долгого пути опыта его предков, купленный чрезвычайной ценой и подлежащий сохранению во что бы то ни стало»[140]. Если подходить к этому факту с позиций примата индивидуального, напрашивается вывод об особой неоценимой функции сохранения традиции, выполняемой в примитивном обществе преимущественно религией. Материалистическое же понимание первобытного общества с его нерасчлененной коллективностью (не оставляющей места для обособления какого-либо индивидуального опыта, а значит, и для индивидуальной инициативы) объясняет действительные источники святости и неподвижности традиций в этом обществе. Тем самым лишается всякого ореола особый «институт традиций».
Общий порок всех функциональных определений – в стремлении найти единую, универсальную, незаменимую функцию религии, на деле скрадывающую и природу религии, и ее действительную историческую роль.
Как отмечает известный американский социолог Р. Мертон, функциональный анализ опирается на три постулата: 1) единство общества, позволяющее уподоблять его организму, 2) абсолютность функционализма (в духе приведенной выше формулы Малиновского), 3) незаменяемость функций: роль религии не может быть выполнена чем-либо иным[141]. В самой буржуазной социологии они в последнее время подвергаются известной (большей частью – весьма осторожной) критике, главным образом со стороны эмпириков.
Функциональное направление уподобляет общество организму с его целесообразным единством органов и функций. Это означает, во-первых, игнорирование социальных противоречий, а во-вторых, представление о телеологическом по существу характере социальных отношений.
Перед лицом явного упадка роли религии, наблюдаемого и в условиях того же американского «религиозного бума», твердолобые функционалисты твердят о невозможности вытеснить религию: «Никакое общество не может быть столь полно секуляризованным, чтобы полностью ликвидировать веру в трансцендентальные существа и сверхъестественные сущности»[142]. Религия, по К. Дэвису, всегда потребуется для поддержания возвышенного чувства над органическим желанием, групповых целей над частными интересами и т. п. Но как быть с тем, спрашивает Ч. Глок, что подобные функции сплошь и рядом выполняются без всякой религии?[143] Постулат «незаменяемости» функций опрокидывается элементарными, известными любому поверхностному наблюдателю фактами. Многие социологи понимают, что, поскольку религия может иметь явно антиобщественные («дезинтегрирующие») функции, а общество может обходиться без нее, все функционалистические конструкции оказываются под вопросом. Ими отмечаются и трудности выделения функций в сложном, внутренне противоречивом обществе[144].
Стремясь спасти престиж функционального направления, в частности, в социологии религии, Р. Мертон предлагает отказаться от абсолютизирования функционализма, вводит такие понятия, как функции и дисфункции (отрицательные функции), латентные и явные функции[145]. По мнению Мертона, функциональный анализ следует сделать совершенно нейтральным в идеологическом отношении методом, могущим нести любую идеологическую нагрузку, сочетаться и с марксизмом, и с антимарксизмом. Прав Ч. Глок, отметивший, что отказ от утверждения незаменимости религии, рассуждения о том, что религия «играет определенную роль», «вносит определенный вклад», лишают смысла сам функционалистический принцип (поскольку вопрос переносится в плоскость объяснения того, почему религия играет в такой-то момент данную роль и т. п., – то есть в плоскость, недоступную функционализму).
Рациональное зерно функциональной школы – использование биологической модели отношений «потребность – функция» и «функция – орган» – представляет допустимый в известных пределах способ рассмотрения многих социальных явлений, причем способ далеко не новый. Всякая же попытка абсолютизировать эту модель, это уподобление, превратив этот способ анализа в универсальный принцип, заведомо несостоятельна. Весь вопрос заключается в понимании исторического характера тех или иных функций, причин их появления, трансформации и исчезновения, которые выходят далеко за рамки функциональной модели.
Подход к религиозным явлениям под углом зрения выполняемых ими социальных функций (и удовлетворяемых ими социальных потребностей) широко используется в классических марксистских работах. В своих статьях о раннем христианстве Ф. Энгельс дает пример глубокого решения вопроса о том, каким общественным потребностям каких классов удовлетворяло христианство на определенных стадиях своего развития[146].
5. Американское социально-психологическое направление
Для американской социологии религии характерно отсутствие теории при наличии ряда разработанных эмпиристских методов. Отличие традиционно «американских» методов в социологии от «европейских» (главным образом немецких) Р. Мертон образно выразил в форме иронических «лозунгов»: «Не знаем, верно ли то, что мы говорим, но это, во всяком случае, значительно» (европейская социология) и «не знаем, значительно ли то, что мы говорим, но это, во всяком случае, верно» (американская социология)[147]. Антиномия абстрактного теоретизирования и беспомощного эмпиризма ясно выражена и в социологии религии. Спецификой американского направления при этом является пристрастие к массовому субъективному социально-психологическому методу исследования фактов – к опросам общественного мнения (данные которых верны лишь при условии правильной организации). В ряде случаев эти опросы проводятся с заведомой целью подкрепить какое-либо положение Вебера или функциональной школы, чаще же – без всяких теоретических предпосылок (равно как и выводов).
Особенности положения религии в американском буржуазном обществе (преобладание протестантизма в его бесчисленных разновидностях, отсутствие господства одной церкви, столкновения различных оттенков религиозной идеологии и т. д.) во многом определяют и проблематику, и методологию работ по социологии религии в США. Основная задача, которую ставят перед собой американские буржуазные социологи, формулируется Ч. Глоком: «Только в Соединенных Штатах духовенство пытается передать определенные учения 50 миллионам человек по крайней мере 52 раза в год <…>. Однако как социологи мы не имеем базы, чтобы сообщить, что, кому и с какой эффективностью было передано»[148]. Такую «базу» и пытается создать американская социология путем тестификации общественного мнения.
По данным одного из опросов, 97 % американцев полагают, что они верят в бога, причем 87 % «абсолютно уверены» в бытии божьем, а 10 % «почти уверены». В то же время, по другим данным, в загробную жизнь верят 73 % из них, а боятся адских мук лишь 25 %[149]. Подобные данные подкрепляют подозрения о том, что за внушительными процентами посещаемости церквей и уверенности в бытии божьем кроется не глубокая религиозность, а скорее религиозность умирающая, «секуляризованная», сводящаяся к привычке. «Христианство растворилось в смутной религиозности», – пишет протестантский богослов Марти[150]. Показательны данные опросов о важности религии. Согласно одному из них, 75 % опрошенных считают религию «очень важной», 20 % – «относительно важной», 5 % – «не очень важной»; из той же группы 83 % считают Библию откровением божьим, хотя 40 % никогда ее не читали. При этом более всего ценят религию католики (83 % из них считают религию «очень важной», между тем как у протестантов – 76 %, а среди евреев – 47 %), читают же Библию, естественно, больше всего протестанты (лишь 32 % не читали)[151]. На вопрос о том, влияет ли религиозная вера на деловые отношения опрашиваемых, 54 % ответили отрицательно, 34 % – положительно, 7 % не ответили[152]. Проведенный по американским образцам опрос 612 швейцарских молодых людей показал, что 407 из них верят в бога, но лишь 59 могут указать какую-либо причину своей веры[153].
Бросается в глаза порок всех подобных опросов – критерий анализа («вера в бога»), очевидно, не однозначен: верующим может считать себя и убежденный католик, и спирит, и склонный к пантеизму или этической религии интеллигент, и т. д. Другой порок методологии – случайность выбора групп опрашиваемых, игнорирование (как правило) их социального, возрастного, национального состава, уровня образования.
Более обоснованные данные ряд американских социологов рассчитывает получить по вопросу об отношении к Библии, вере в отдельные догматы и т. д. В целом такие данные также говорят о значительной расшатанности канонической веры. Более трех четвертей опрошенных (взрослых американцев), например, верит в то, что Библия исходит от Бога, но 53 % не знают названий ни одного из евангелий[154].
Показательны данные о «положении, местожительстве и фундаменталистских религиозных верованиях на юге Аппалачских гор» и их анализ Томасом Фордом (Университет Кентукки). 1466 семей протестантов было обследовано «на фундаментализм», под которым понималась традиционность религиозных и моральных представлений. Первый из поставленных вопросов формулировался так: «Имеются четыре мнения о Библии, и я просил бы вас сказать мне, какое из них ближе к вашим собственным взглядам: (1) Библия – слово божие, и все, что она говорит, – истинно, (2) Библия написана людьми, вдохновленными богом, но, поскольку авторами были люди, она содержит некоторые человеческие ошибки, (3) Библия является ценной книгой, ибо она написана мудрыми добрыми людьми, но бог не имеет к ней никакого отношения, (4) Библия написана людьми, которые жили столь давно, что она имеет мало ценности сегодня». Из общего числа опрошенных за первый, наиболее фундаменталистский вариант высказались 67,7 %. При этом из «низшего социального статуса» – 79,5 %, из «высшего» – 32,4 %, из лиц с низким образовательным уровнем (не выше шести классов) – 79,9 %, а из окончивших 13 и более классов (классы колледжей и т. д.) – 44 %; из сельских жителей – 72,3 %, поселковых – 62,1 %, городских – 59,6 %.
Второй вопрос касался веры в загробное воздаяние («Верите ли вы, что в будущей жизни некоторые будут покараны, а другие вознаграждены богом?»). Положительные ответы дали 69,4 %, в том числе в селах – 74,6 %, в поселках – 65,6 %, в городах – 62,5 %; из лиц с низким образованием – 79,6 %, с высшим – 68,0 %; из «низшего статуса» – 70,8 %, «высшего» – 64,5 %.
Третий вопрос Форда («Некоторые религиозные группы учат, что мир скоро придет к концу. Верите ли вы в то, что это правильно?») показал, что в близкое светопреставление верят лишь 22,6 %, в том числе в селах – 30,5 %, поселках – 15,2 %, в городах – 14,6 %; в «низшем статусе» – 35,9 %, «высшем» – 2,3 %; среди малообразованных – 30,6 %, высокообразованных – 5,7 %. Дальнейшие вопросы выясняли отношение к некоторым религиозно-этическим табу (из опрошенных считают недопустимым употребление спиртных напитков – 76 %, танцы – 21,7 % и т. д.; соотношение степени традиционализма у различных групп остается тем же)[155].
Подробные, относительно разработанные в социальном разрезе данные (однако без учета классового положения опрашиваемых, их занятий), по сути дела, могут лишь подтвердить далеко не новую (и отнюдь не «функциональную») истину о разрушительном влиянии индустриальной культуры на религиозные традиции. Пойти дальше этого весьма банального положения Форд не может хотя бы потому, что он не принимает в расчет всю совокупность социально-экономических, исторических и, наконец, субъективных условий, воздействующих на религиозность различных слоев населения, влияние соответствующих традиций разного порядка и т. д.
Ряд исследований американских социологов посвящен выяснению связей между религиозностью и церковностью, с одной стороны, и социальным положением верующих, с другой. Получаемые ими данные в большей мере обесцениваются обычной для буржуазной социологии подменой категории классов весьма неопределенным понятием «высших», «средних» и «низших» групп. В лучшем случае такое исследование дает известное представление о тенденциях религиозности отдельных слоев общества.
Другую, в принципиальном отношении более значимую сторону проблемы затрагивают работы, пытающиеся установить связь между социальным положением и религиозной активностью (главным образом членством в религиозных общинах). Полученные данные говорят о большей активности в церквах буржуазии, меньшей – пролетариата. П. Хатчинсон, следуя некоторым идеям Вебера, сделал попытку объяснить тот факт, что «средний класс» является главной фигурой в религиозной жизни США. «Люди среднего класса, – писал он, – как правило, находятся в трудном положении. Они боятся возможности соскользнуть обратно, к положению низшего класса, они постоянно ищут средств, чтобы взобраться далее»[156]. Горький опыт кризиса 1929–1932 гг., мировой войны, Кореи, «холодной войны» и т. п., по его мнению, развеял «оптимистическую веру в прогресс», свойственную ранее этому классу, создал потребность в «обновлении веры и оптимизма в период, когда его не хватает»[157]. Т. Хоулт, констатируя, что для большинства американских церквей (за исключением католиков и лютеран) «религиозный формализм чаще всего связан с высшими классами, религиозный эмоционализм – с низшими», дает этому факту такое «объяснение»: «Нужды низших классов могут быть охарактеризованы словом “компенсация”, средних классов – словом “подтверждение”, высших классов – словом “узаконение”»[158].
Авторы подобных объяснений игнорируют, между прочим, метко подмеченную Вебером особенность американского сектантства, выражающего скорее стремление буржуазии организоваться, получить почетное в ее среде право членства в церковном «клубе», чем особую религиозность. Именно в этом духе толкует церковность в США и У. Кларк, признающий, что в церкви ее члены видят, скорее всего, «общинный центр», клуб, не требующий вступительных взносов[159].
Из американских работ, посвященных проблеме социальной роли религии, наиболее известна (и интересна по своему материалу) книга Л. Поупа «Заводчик и проповедники», в которой весьма убедительно показана роль церкви в капиталистическом развитии известного центра хлопкоперерабатывающей промышленности – графства Гаскония (штат Северная Каролина) за 1880–1939 гг. (Поуп стремится убедить церковников в необходимости либеральной политики в духе «социального Евангелия»)[160]. Ч. Глоск и Б. Ринджер провели обширную серию опросов по выяснению отношения священников и прихожан к различным социальным вопросам международного и внутреннего порядка. Согласно полученным данным, церковь, как правило, не играет никакой самостоятельной роли в буржуазном обществе, а проводит взгляды, господствующие в буржуазной среде, подгоняя под эти взгляды установки Евангелия. Этот факт признает Т. Хоулт. «При прочих равных условиях, – пишет он, – религиозные ценности отражаются в поведении в той мере, в какой эти ценности совместимы с соответствующими светскими акцентами, и в такой степени, в какой данная религия является доминирующей в рассматриваемой области»[161].
Примером использования так называемой объективной методики в американской социологии религии может служить исследование межконфессиональных браков. Сопоставление данных за несколько десятилетий позволяет выявить тенденцию к увеличению числа браков между лицами различных деноминаций, что, несомненно, служит показателем падения влияния религии в решении этических вопросов. Например, у ирландцев в США «внутренние» (гомогенные в конфессиональном отношении) браки составляли в 1870 г. 93,05 %, в 1900 г. – 74,75 %, в 1930 г. – 74,25 %, в 1940 г. – 46,05 %. У католиков в целом доля гомогенных браков за 1870–1940 гг. уменьшилась с 95,35 до 83,71 %, у протестантов она составляла в 1940 г. 79,72 %[162]. Ряд данных о межконфессиональных браках в горных районах США недавно изложил (без каких бы то ни было выводов) Дж. Хейс[163].
Специфически «американский» вопрос социологии религии о причинах многообразия верований в США (где насчитывается, между прочим, 11 разновидностей пресвитерианской церкви, 14 толков меннонитов, 27 толков баптистов[164]) разбирался в свое время Ричардом Г. Нибуром (братом известного теолога Рейнгольда Нибура)[165]. Но его мнению, разделяемому сейчас Ингером, социальными истоками деноминационализма выступают, с одной стороны, извечная «дилемма церквей» (противоречие между стремлением к массовости и верностью исходной доктрине), а с другой – факторы этнического, национального, социального порядка, приводящие к появлению «национальных» или «классовых» религиозных групп[166].
В настоящее время поистине критической проблемой для американской социологии религии является проблема пресловутого религиозного оживления, «религиозного бума», наблюдающегося в США за последние годы[167]. В американской социологической и теологической литературе высказываются самые разнообразные точки зрения, начиная от утверждений о подлинном возрождении религиозных настроений, по крайней мере, у «средних классов» США и кончая заявлениями о том, что оживление деятельности церквей сопровождается их растущей секуляризацией, то есть превращением в нерелигиозные организации. Весьма показательно в этой связи признание Ч. Глока: «Неадекватность нашего нынешнего понимания иллюстрируется трудностями, возникающими при попытке оценить, сколь “религиозно” общество в определенный момент времени или вне времени. Много споров, например, возникает о значении видимого возрождения религиозного интереса в Соединенных Штатах. В данный момент, однако, у нас нет способа измерить и таким образом определить, что возрождается, объяснить его значение или точно указать, откуда оно появилось»[168]. Жалуясь на отсутствие теории, которая могла бы дать верное направление эмпирическим исследованиям и их интерпретации, Р. Мертон призывает выработать «теории среднего радиуса действия» – «средние между мелкими рабочими гипотезами, в изобилии появляющимися в ходе повседневной рутины исследования, и всеобъемлющими спекуляциями»[169]. Однако и «средними» теориями американская социология религии, погрязшая в трясине социально-психологического и иного эмпиризма, не располагает.
6. Католическая «религиозная социология»
За последние годы значительное распространение получила возникшая главным образом во Франции так называемая религиозная социология, ведущими представителями которой выступают Габриель Ле Бра[170] и аббат Ф. Булар[171]. Своим наименованием они подчеркивают отличие этого направления от немецких теоретических и компаративистских школ. Получив активную поддержку со стороны католической иерархии, это направление уже сейчас охватило своими исследованиями значительную часть французских епархий. «На протяжении десятка лет религиозная социология получила право гражданства в римской церкви и значительное развитие. Лишь немногие епархии еще не имеют епархиальных бюро религиозной социологии»[172], – не без зависти сообщал протестантский орган. К началу 1960 г. появилось около полутора десятков монографических исследований об отдельных епархиях во Франции. В настоящее время религиозная социология фактически стала международным течением социологии религии, специфически католическим как по своей организации и направленности, так и по методам исследования. Его сторонники активно работают в Бельгии, Италии, Испании, ФРГ и США[173].
Предпринимаются попытки перенести некоторые приемы католической социологии религии на изучение протестантизма. В 1959 г. в Страсбурге был организован «Европейский комитет социологии протестантизма», который, по-видимому, пока не получил активной поддержки церковных властей[174].
Невиданно широкий в истории буржуазной социологии размах исследований католических «религиозных социологов» стал возможным лишь благодаря разностороннему содействию церкви, аппарат которой и является основным поставщиком данных для их работ (авторы, за редким исключением, являются церковниками). О религиозной социологии одобрительно высказывался папа Пий XII, заявляя, что сбор фактических данных о религии должен послужить целям «морали и воспитания», что полученные сведения «позволяют приспособить апостольские труды к современным требованиям»[175]. Особенно энергично религиозную социологию поддерживает парижский кардинал Фельтен, создавший епархиальную статистическую комиссию под председательством Г. Ле Бра. Сам Ле Бра, стремясь рассеять недоверие к религиозной социологии, существующее еще среди части клира, подчеркивает, что проводимые им исследования призваны оказать помощь церкви в укреплении ее позиций, совершенствовании методов деятельности. «Если мы раскрываем связи между безрелигиозностью и нищетой, это и означает приглашение духовенству бороться против трущоб и голодной зарплаты», – заявляет Ле Бра[176].
Однако даже самое робкое в своих помыслах, открыто взявшееся услужить церкви и нимало не покушающееся на ее прерогативы исследование фактических данных (а сама церковь заинтересована в объективном исследовании, поскольку оно требуется для выработки тактики), может давать и дает немало материала, помогающего научному уяснению положения и роли религии в современном буржуазном обществе. Многочисленные статистические данные, собранные католическими социологами, могут быть критически использованы при разработке атеистического, марксистского понимания вопроса. Недавно вышла, например, книга известного философа-марксиста Жильбера Мюри о судьбах французского католицизма, фактическую основу которой составляют именно данные Ле Бра и его группы[177].
Определяя область исследования социологии религии, Ле Бра излагает весьма широкие планы анализа «видимых установлений» религии (вера, ритуал, организация), их структуры и «жизненности», «коллективных отношений с другими сообществами, религиозными или светскими, а также потусторонними (Au-delà)»[178]. На деле, однако, представляемая им социология занимается почти исключительно состоянием исполнения католиками предписанных церковью обрядов; по существу, это социология культа (или, точнее, частица таковой). Именно в этом выборе объекта исследования наиболее ясно сказывается внутренняя связь религиозной социологии с католицизмом: именно в этой церкви социология находит сейчас строго регламентированный культ, исполнение которого обязательно для верующих и который рассматривается в качестве показателя состояния религиозности. Разбирая различные проявления религии, Ле Бра пишет, что «только в соблюдении обрядов (pratique) преимущественно выражается жизнь церкви»[179]. Он признает, правда, что обряды совершаются не только под влиянием веры: побудителями к этому служат и «обычай, давление церкви, государства, общинных властей, соседства»[180]. Разбирая, например, данные об активном посещении церкви бретонцами, Ле Бра говорит, что это не столько результат действительно высокой религиозности, требуемой церковью, сколько выражение зависимости крестьянина от местного кюре. Но при всех оговорках о необходимости учитывать различные психологические предпосылки соблюдения ритуала он все же считает возможным рассматривать это соблюдение как основной, поддающийся учету, показатель «жизненности» католицизма. При этом наиболее элементарным и массовым проявлением ритуала Ле Бра и его сторонники считают посещение воскресной мессы. Большинство их исследований строится именно на основании этого критерия. (Очевидно, что подобный метод не может быть эффективным при изучении протестантских религий с их разделением субъективной веры и ее ритуального выражения[181].)
Основным методом исследований французского направления социологии религии является, таким образом, учет объективных выражений религиозности. Ле Бра и его коллеги не отрицают, правда, и субъективного («американского») метода, но ему обычно отводится подчиненная роль. (Отчасти это, несомненно, объясняется католическими установками о недопустимости произвольного толкования веры и т. п.). Г. Ле Бра утверждает в этой связи, что «религиозные чувства зависят от личности, в то время как выбор обряда в большей мере – от класса, места, момента», то есть от условий общезначимого учитываемого порядка[182].
Ле Бра провозглашает новаторством своей школы разрыв с традицией заниматься изучением религии в Австралии и Полинезии – во имя изучения нынешнего ее состояния. Это выражает общий для современной социологии религии отказ от историзма, о котором уже говорилось. «Новые тенденции религиозной социологии, – пишет Ле Бра, – легко определить: это наблюдение нынешнего кризиса всех религий – от самых элементарных до самых совершенных; содействие местным анкетам и первым попыткам синтеза; солидарность со всеми соседними науками; практическая ориентация большинства наблюдателей»[183]. В соответствии с общими установками социологии религии он уверяет, что ничуть не переходит «границ науки», вторгаясь в область веры. С почтением упоминая о Дюркгейме и Вебере, Ле Бра, конечно, категорически отмежевывается от их попыток социологизировать религию. В то же время он и его последователи (например, Э. Пэн) многократно ссылаются на положения французской школы микросоциологии, на Г. Гурвича и Ж. Фридмана. Влияние этой модной школы на католическую социологию сказывается уже в самом характере организации серии местных исследований, перед которыми ставится цель выявления не каких-то общих закономерностей, а сугубо местных явлений, чтобы содействовать тем деятельности местного духовенства и т. д. Церковь, в общем, устраивает трактовка современного кризиса религии как явления местного порядка. Другое дело, что католические социологи вынуждены приходить к нежелательным для них выводам об общем упадке религии, о «дехристианизации» страны.
Г. Ле Бра заявляет, что строить религиозно-социологические теории рано: «Время больших синтезов, которые можно было бы серьезно предпринять в социологии религии, еще далеко. Мы находимся в периоде проблематики и введений»[184]. Как и всегда в таких случаях, подчеркнутое отсутствие теории обрекает эмпиризм на самое пошлое пресмыкательство перед взглядами церкви или теми же конструкциями «дифференциальной» социологии. Католическая религиозная социология – едва ли не наиболее примитивная по своей методологии из всех течений буржуазной социологии религии.
В конечном счете, пишет Ле Бра, «почти вся наша информация зависит от формы вопросников и ценности ответов»[185]. Но именно отсутствие теоретического понимания рассматриваемых явлений определяет форму его вопросников. Более 30 лет – с 1931 г. – Ле Бра ведет энергичную агитацию за широкое изучение религиозности во всех странах путем анкетных опросов. Он рекомендует, изучая определенную епархию, с разрешения епископа собрать данные о числе католиков («по рождению», то есть крещеных), их распределении по полу и возрасту, о состоянии клира, о количестве брачных и похоронных обрядов, наконец, о числе мужчин и женщин, посещающих церковь еженедельно, на Пасху, причащающихся раз в месяц или чаще, о числе впервые причащенных и т. п. В заключение рекомендуется сопоставить эти данные за ряд лет, вывести процентные соотношения, изобразить их в виде таблиц[186]. В этом перечне требуемых сведений отсутствуют данные о социальном составе прихожан, их культурном уровне, образе жизни и т. д., то есть именно те, которые могли бы при правильно поставленном исследовании пролить свет на причины большей или меньшей религиозной активности. Правда, в некоторых вопросниках часть подобных сведений присутствует. В «примерном вопроснике» для изучения района Ле Бра предлагал характеризовать «духовное и моральное состояние» по следующим данным: а) верования: предрассудки, колдовство, диссиденты, протестанты, новообращенные, янсенисты, в) соблюдение обрядов: посещение месс, уклонение от пасхализации, с) нравы: социальные добродетели (милостыня, взаимопомощь), главные грехи: конкубинат, адюльтерия, кражи, хищения, ссоры, недоверия, танцы, попойки[187]. Очевидно, что сколь бы подробные сведения ни удалось Ле Бра и его коллегам собрать по такой «программе», они отнюдь не позволили бы составить даже приближенную картину духовного и морального состояния района.
Фактически католические социологи ограничиваются даже значительно более узким кругом вопросов, что придает большую ценность их массовым исследованиям, но почти не дает основы для анализа причинных связей между отдельными явлениями.
Примером обстоятельного монографического рассмотрения района с позиций французской религиозной социологии может служить книга иезуита Эмиля Пэна о соблюдении обрядов различными социальными слоями населения в одном из приходов г. Лиона[188]. Э. Пэн приводит детальное описание территории прихода, его истории, характеристики населения и т. д., но основное внимание сосредоточивает на анализе посещения воскресных месс. Часть приводимых им данных получена с помощью небольших анкет, распространяемых непосредственно в церкви во время службы и подлежащих немедленному возврату. Предлагались вопросы: адрес, место рождения, год рождения, год прибытия в Лион, пол, занятие. В 1952 г. было распространено около 4500 таких анкет, в 1954-м – около 5500, которые охватили практически всех регулярно посещающих церковь. На основе разработок этих данных Э. Пэн строит целую серию таблиц об участии в богослужениях мужчин и женщин, лиц разного возраста, разных профессий, уроженцев разных мест и т. д. Другая серия таблиц базируется на более подробном опросе жителей 55 домов, проведенном в 1954 г. В ней отражены связи «стиля жизни» и классового положения с регулярностью участия в богослужении. Кроме того, как сообщает Пэн, в этом приходе предпринимались попытки распространения анкет с вопросниками «американского» типа (например, задавались вопросы о причинах, побуждающих посещать церковь, о настроениях людей, не посещающих ее, и т. п.), однако ответов на них получено мало и они носят случайный характер.
Обратимся к основным выводам, установленным (точнее, подкрепленным) исследованиями религиозной социологии, и проблемам, возникающим при анализе этих выводов.
«Общий глас» Ле Бра и его коллег, работающих во Франции, – признание весьма тяжелого положения церкви, которое выражается в невысоком проценте регулярного исполнения обрядов, особенно в городах. Ле Бра выделяет три категории среди людей, числящихся католиками: 1) «Сезонные конформисты», для которых религия сводится к обрядам крещения, брака и похорон, а также иногда к первому причастию детей. По словам Ле Бра, это «люди, которые не идут в церковь, если колокола звонят не по ним». 2) «Регулярные прихожане», которые обязательно бывают в церкви на Пасху и порой посещают воскресные мессы. 3) «Убежденные прихожане», которые состоят в церковных советах, помогают в богослужениях, причащаются по большим праздникам или чаще. По мнению Ле Бра, из 40 миллионов французов 72 % могут быть отнесены к «сезонным конформистам», 16 % – к «регулярным прихожанам», 3 % – к «убежденным прихожанам», остальные 9 % – некатолики (инаковерующие и атеисты). Правда, позже (1955) он писал, что в этой таблице следует несколько уменьшить крайние цифры в пользу средних, то есть более активных верующих[189]. Известный интерес представляют в дополнение к этим подсчетам данные Французского института общественного мнения, изучавшего религиозность французской молодежи. Согласно этим данным, из 8 миллионов французов и француженок в возрасте 18–30 лет в 1958 г. католиков, посещающих церковь, было 33 %, католиков, не посещающих церковь, – 43 %, деистов – 4 %, колеблющихся атеистов – 5 %, убежденных атеистов – 14 %, верующих других религий – 6 %. Характер верований той же группы характеризовался следующими данными: в Троицу верили 43 %, в загробную жизнь – тоже 43 %, в существование рая, чистилища и ада – 24 %, в телесное воскресение из мертвых – 17 %, в первородный грех – 40 %[190].
Данные, собранные Э. Пэном, показывают, что в приходе Сен-Пэтон посещают церковь 31–32 % католиков, причем наиболее высок этот процент среди детей до 13 лет (60–65 %) и женщин старше 40 лет. Из мужчин старше 20 лет посещают церковь 17 %, из женщин – 26 %[191]. Ле Бра приводит ряд данных о том, что женщины составляют до 75 % участвующих в пасхальном богослужении[192]. О преобладании женщин сообщает и Дж. Фичтер. (Э. Пэн пытается, помимо того, установить особенность религиозности у холостых, женатых, вдовых, разведенных.) Эти данные в ходе действительно научного исследования надлежало бы дополнить конкретным анализом тех социально-экономических, бытовых и прочих факторов, которые приводят к большей зависимости женщин от церкви. Католические социологи, конечно, ничего подобного не делают, пускаясь, однако, в рассуждения о том, что «религиозная роль более совместима с другими ролями женщины» как носителя культуры и высших ценностей в семье (Фичтер)[193] или что женщина более эмоциональна и готова к восприятию религии (Ле Бра). Последний, правда, замечал также, что женщина, возможно, находит в церкви общество и отвлекается от монотонности домашнего хозяйства[194].
Наибольший интерес представляют полученные французской религиозной социологией данные об участии различных классов в религиозной жизни. Результаты различных исследований говорят о том, что менее всего религиозен французский рабочий класс, более всего – средние слои буржуазии и интеллигенции; крестьянство сохраняет традиционные связи с церковью, которые, однако, связаны скорее с рутинностью обычаев и влиянием духовенства, чем с верой.
В монографии Э. Пэна из опросов 454 мужчин и 677 женщин в 55 домах, произведенных в 1954 г. (все учтенные – католики), получены такие данные о лицах, еженедельно посещающих церковь (в %)[195]:
В том же обследовании распределение данных по образовательному цензу прихожан показало на первый взгляд совершенно парадоксальное соотношение: среди лиц с незаконченным начальным образованием прихожане составили 9,9 %, со средним образованием – 21,7 %, а с университетским образованием – 57 %. Однако секрет этого соотношения довольно прост: низшее образование имеют рабочие, не посещающие церкви, более высокий образовательный ценз соответствует высшим ступеням социальной лестницы[196]. Данные, собранные в Париже, Марселе и других городах, рисуют аналогичную картину.
Католические социологи (и просто церковники) пытаются дать свое толкование этим фактам. Ле Бра объясняет равнодушие рабочих к церкви тем, что многие из них по воскресеньям работают, что они «материализованы механической работой», а потому чужды мифам, кроме того, они будто бы «обратились к мифам и ритуалу специфически классовому»[197]. Э. Пэн заявляет, что недовольство рабочих существующим положением и малокультурность ограничивают их кругозор чисто земными интересами совместной борьбы за лучшую жизнь, и в этом находят выражение их «религиозные устремления»[198]. Другой католический автор полагает, что рабочие, подавленные материальной нуждой, просто неспособны воспринять «стеснительные ценности принципов, не имеющих связи с реальностью»[199].
Многие католические теоретики пытаются изобразить отход пролетариата от религии аргументом против марксистского атеизма. «Вопреки марксистской схеме <…> они не ищут спасения в религии, которая обещает небо», – пишет о рабочих Э. Пэн[200]. «Если бы марксистский тезис был правилен, – заявляет архиепископ Герри, – следовало бы искать верующих среди жертв капиталистической эксплуатации. Но происходит обратное»[201]. Но марксисты, как известно, никогда не утверждали, что эксплуататорский строй обрекает всех трудящихся на религиозное отчаяние. «Современный сознательный рабочий, воспитанный крупной фабричной промышленностью, просвещенный городской жизнью, – писал Ленин, – отбрасывает от себя с презрением религиозные предрассудки, предоставляет небо в распоряжение попов и буржуазных ханжей, завоевывая себе лучшую жизнь здесь на земле»[202]. Разрыв пролетариата буржуазной страны с религией обусловлен, с одной стороны, самими материальными условиями промышленного производства, разрушающего рутину и косность мышления, и, с другой стороны, практикой классовой борьбы, деятельностью пролетарской партии. Иногда это признают и католические социологи. «Рабочие условия закрепили в сознании трудящихся (у одних скорее, у других медленнее) активную концепцию жизни, мира, общества, существенные черты которой выработал Маркс», – пишет аббат Монтюкляр[203].
Подтверждением правоты марксистского понимания религии оказываются и данные, полученные католической социологией во французской деревне. Аббат Роке на IV международной конференции по религиозной социологии приводил следующий пример. В одном из горных районов часть молодежи занята в сельском хозяйстве, часть – на карьере; если первая сохраняет традиционные связи с церковью, то вторая не знает их[204]. Условия промышленного труда революционизируют сознание трудящихся вопреки всякой идеологической обработке. О том же говорит и падение религиозности в сельских районах с наиболее развитым товарным хозяйством, монокультурой. Церковь во Франции пытается задержать процесс капиталистического развития деревни. «Подтверждая на свой лад ценность исторического материализма, она открыла существование объективной связи между общественной практикой определенной группы и состоянием ее сознания», – замечает по этому поводу французский марксист Ги Бесс[205].
Возвращению французской буржуазии и буржуазной интеллигенции в лоно церкви защитники религии придают чрезвычайно большое значение. «Мы всегда убеждены, что католическое обновление, ощущающееся в среде интеллектуальной и социальной элиты, без задержки распространится на все классы общества», – писал папа Пий XII кардиналу Фельтену[206]. Религиозная социология, пытаясь найти причины этого, строит разнообразные гипотезы, как обычно, не подкрепленные фактами, но нередко содержащие трезвые замечания о действительной природе современного буржуазного сознания. Ле Бра утверждает, например, что «рационализм потерял почти весь свой авторитет у буржуазных классов», ибо теперь буржуазия заинтересована в религии, защищающей порядок и собственность[207]. Э. Пэн же конструирует целую теорию, согласно которой буржуазию устраивает проповедь о загробной жизни, ибо она стремится продолжать за гробом свое земное благополучие. «Дайте нам небо, это все, что нам нужно!» – так формулирует он интересы буржуазии, довольной своим положением на земле. Другим истоком религиозности буржуазии он считает ее индивидуализм и эгоизм[208].
В подобных объяснениях есть немало полезного для обличения буржуазии, но нет научного объяснения вопроса. Буржуазия никогда не была удовлетворена своим земным положением, тем более это относится к современной буржуазии. Будучи хозяином на своем предприятии, буржуа, особенно средний и мелкий («средние слои»), отнюдь не является хозяином в обществе, потрясаемом жесточайшими конфликтами. Аналогичными причинами объясняют французские марксисты и «христианизацию некоторых кругов интеллигенции, в которых больше не читают Вольтера». Ж. Мюри пишет, что в условиях кризиса капитализма, мировых и колониальных войн многие интеллигенты, чуждые пролетарскому движению, лишенные научных методов социального мышления, которые дает научный социализм, приходят к убеждению, что разум беспомощен обеспечить счастье человечества; церковь протягивает им руки[209].
Собранные для атаки против марксизма данные религиозной социологии на деле помогают углубить и уточнить в ряде пунктов марксистский анализ положения религии, ее социальных корней и роли в буржуазном обществе.
* * *
Критический анализ теоретических конструкций и эмпирического материала буржуазной социологии религии представляет интерес прежде всего в связи с проблемами дальнейшего развития теории научного атеизма.
В последнее время у нас получили распространение конкретно-социологические исследования процесса преодоления религии в советских условиях. Излишне пояснять, что их ориентация и теоретическая основа принципиально отличаются от эмпирических исследований буржуазной социологии религии. Но отнюдь не лишним представляется внимательный анализ того, что сделано этой последней – и в смысле накопления данных, и в смысле выработки технических приемов их сбора и обработки, классификации и т. д., и в особенности учет ограниченности и слепоты ее эмпирических направлений.
Буржуазная социология религии (эмпирические направления) может представлять интерес с указанной точки зрения в следующих трех отношениях.
Во-первых, как источник данных о положении и корнях религии в капиталистическом обществе. Так как социалистическое общество не создает каких-либо новых, «своих» корней религии, таковые – поскольку они в том или ином виде сохраняются – являются генетически наследием капитализма (и докапиталистических формаций). Поэтому глубокое изучение социальных корней религии в капиталистическом обществе служит предпосылкой понимания их положения при социализме.
Во-вторых, с точки зрения сопоставления процессов падения религиозности в буржуазном обществе с процессами преодоления религии при социализме.
В-третьих, в целях использования в научном исследовании отдельных приемов и конкретных методов, разработанных буржуазными социологами.
При продуманном критическом их использовании (и сочетании) социально-психологические и объективные методы религиозно-социологических исследований могут сыграть немалую роль в изучении социальных корней религиозности, ее современного характера, равно как и характера влияния научного атеизма в массах, сознательности его восприятия и т. д.
Следует иметь в виду, однако, тесную связь самой техники обоих методов исследования с условиями места и времени. Как мы видели, «французская» школа эмпирической религиозной социологии пользуется прежде всего критерием обрядности, а именно посещения воскресной мессы. Использование же таких критериев, как крещение детей или свадебный обряд, не могло бы дать практически никакой основы для оценки религиозности различных групп населения, ибо, по единодушному признанию самих церковников, эти обряды в современной Франции до такой степени формальны, что, исполняемые почти всем населением, не дают почти никакого представления об интересе к религии. При изучении ряда форм протестантизма (церковного) обрядность нередко вообще не может служить показателем религиозности, зато известное значение имеют такие показатели, как членство в церковных общинах, размер членских взносов и т. д. Возможно социологическое изучение религиозности и на базе других объективных показателей, например, доли затрат времени на культ в бюджете времени, а также доли материальных расходов на культовые нужды в бюджете семьи[210]. При всех условиях, конечно, необходима корреляция объективных, «внешних» методов субъективными, разработанными применительно к изучаемым условиям.
Впрочем, эти вопросы имеют более или менее техническое (методическое) значение. Более важно в данном случае обратить внимание на два порока обеих разновидностей буржуазной эмпирической социологии религии, которые отражают влияние общих установок ее методологии на методику и организацию исследований.
Прежде всего это вопрос о широте и глубине исследований. Установка Ле Бра состоит в требовании организовать возможно более широкое анкетирование религиозности во всех районах и странах, охватить им максимально большее число людей. Эта установка оправдана общей ориентацией его религиозной социологии, направленной на то, чтобы представить положение религии результатом действия чисто местных, специфических факторов и содействовать клиру в решении опять-таки сугубо местных проблем. Широкий размах исследований позволяет сделать известный отбор в массе данных. Но с точки зрения действительного понимания корней религиозности (и безрелигиозности) подобная погоня за широтой базы исследования совершенно не нужна. Определенный размах, конечно, необходим (вступает в действие закон больших чисел), но неизмеримо более ценно и важно для подлинно научного исследования углубление исследования – увеличение круга выясняемых вопросов, членение изучаемых объектов и т. д. Не суммирование поверхностных фактов, а глубокий анализ, возможный лишь при выделении типичных объектов, позволил бы сделать научное обобщение о закономерном; учет же местной специфики более перспективен, если он выступает как коррелата к разработанной типовой модели.
Второе замечание относится к выбору изучаемых данных. Над всей буржуазной социологией религии, независимо от оттенков взглядов отдельных ее представителей, висит проклятие принципа «религия из религии»: преобладает тенденция изучать (эмпирически) только религиозные явления, дабы из них делать обобщения. По сути дела, даже самые «фундаментальные» исследования религиозных социологов (Э. Пэна, например) рассматривают только религиозность, отводя для перечня разношерстных сведений по истории, экономике, этнографии куцые предисловия; данные этих наук выступают у них не более как фон для «движения религиозной мысли», выражаясь термином Трельча. Подобный порок в полной мере присущ и социально-психологическим работам американского направления. Идеологические предпосылки такого метода не нуждаются в пояснении; об ограниченности его результатов уже говорилось. Для изучения отдельных моментов развития религиозного сознания допустимо рассмотрение тех или иных его отрезков в «чистом виде», но для выяснения социальных корней религиозности в любых условиях необходим многосторонний анализ всей наличной (в пределах выделенной базы) системы экономических, бытовых, этических и т. п. отношений, итогом чего и могут явиться научные обобщения о социальной обусловленности религиозных явлений.
1963Точные методы в социальном исследовании
1. Мода или тенденция науки?
В последнее время в системе научного знания заметно возрастает роль абстрактных, формальных дисциплин (математических, логических) и – что нас в данном случае особенно интересует – происходит энергичное вторжение методов, приемов, аппаратов этих дисциплин в еще недавно «запретные» для них области исследования. Если более полувека тому назад В.И. Ленин отмечал «завоевание физики духом математики», то сейчас этот «дух» проникает в области, изучаемые биологией, психологией, экономикой, лингвистикой, социологией.
Явным, хотя не всегда строго определенным признаком этого «духа» может служить распространение в социальных областях тех методов исследования, которые принято считать точными. В обиходе «точность» часто смешивается с «истинным», «надежным», «подробным» (как «абстрактное» – с «пустым» или «формальное» – с «поверхностным», «невнимательным», и т. д. и т. п.). Очевидно, что понятие точных методов в научном исследовании имеет иной и значительно более узкий смысл. Формализованные языки науки «точны», поскольку их термины, равно как и правила их применения и интерпретации (перевода), строго определены математически, формально-логически. Образцы таких систем мы находим прежде всего в математике и математической логике.
Математизированное, формализованное знание является точным в том смысле, что оно абстрактно, то есть однозначно соотнесено со «своим» предметом.
Таким образом, мы рассматриваем в данном случае точность как характерную черту абстрактных дисциплин, имеющих дело с особым предметом исследования – абстрактными структурами, которые выделены развитием науки и практики. Только в этом смысле мы и будем пользоваться терминами «точные методы» и «точное знание». Никакая предметная дисциплина, изучающая определенную область действительности – естественную или социальную, – целиком формализованной быть не может и постольку в рассматриваемом нами смысле не является точной (что, разумеется, говорит о принципиальной ограниченности любых точных методов, хотя еще и не указывает строгих пределов их применения). В конечном счете движение научного знания в любой области опирается на конкретный опыт, предполагает какую-то подвижность определений и постольку не может быть уложено в жесткую формализованную систему. Это справедливо и в отношении самого математического знания[211]. Но в то же время во всякой предметной области может складываться как бы жесткий «скелет» абстрактных, строго определенных соотношений, которые находят свое выражение в соответствующих формулах и терминах и которые превращаются в одно из важных вспомогательных средств дальнейшего движения всего «тела» исследования.
Поэтому разработка и применение точных, абстрактных, математических приемов моделирования отдельных сторон социальной действительности не противостоят всему комплексу общих, проверенных опытом средств изучения общества, опирающихся на методологию исторического материализма. Только на основе подлинно научной методологии социального знания возможно плодотворное развитие всех его методов, в том числе и «точных», формализованных.
Иногда высказывается мнение, что, поскольку математика изучает преимущественно количественные отношения действительности, объектом математических методов исследования являются «внешние», «количественные» стороны явлений. За этим мнением кроется совершенно необоснованная онтологизация категории количества. Количественный (или структурный, более соответствующий современной математике) анализ означает определенный способ исследования любых явлений и сторон действительности.
Постановка проблемы (или, точнее, возникновение идеала) «точного знания», «математизации» науки отнюдь не нова. Нетрудно заметить, что она сопровождала каждый взлет научной мысли в прошлом (например, Античность, Просвещение). Об идеале математизации знания говорил Ф. Бэкон. Эта тенденция проходит через всю историю европейской мысли, в особенности с начала Нового времени.
Тот факт, что человеческая мысль с удивительной настойчивостью уже много веков подряд стучится в дверь «точности», подкрепляет нашу уверенность в том, что мы имеем дело не просто с научной модой (с ее поверхностностью, претенциозностью и соответствующими контраргументами), а с одной из необходимых тенденций развития научного знания. Но это еще ровно ничего не говорит нам о значении этой тенденции и о ее судьбах (то есть о том, открывается ли заветная «дверь» и сколь вместительно находящееся за ней помещение). Неудача же попыток создания «социальной математики», предпринимавшихся без достаточно развитого логико-математического аппарата, вопреки требованиям научного подхода к общественным процессам и к тому же претендовавших на исчерпывающее описание этих процессов, не может не служить аргументом против рассмотрения новых возможностей точных методов исследования.
Ныне проблема применения (интерпретации – семантической и эмпирической) зафиксированных каким-либо образом систем знания занимает важнейшее место в методологии науки[212].
Сейчас уже речь идет не о том, чтобы применять или не применять математические или близкие к ним приемы в изучении общественных явлений, а о том, чтобы попытаться выделить реальное содержание современных изменений в методологии социального знания, отделить необходимость и перспективные тенденции развития науки от поверхностной моды.
Каким же образом используются в социальном знании методы точных наук?
Можно выделить по крайней мере три тесно связанных друг с другом уровня их применения.
Во-первых, «иллюстративный»: математические формулы, графики, логические конструкции используются в качестве добавочного, избыточного изображения или подкрепления определенных положений. С такой операцией мы на каждом шагу встречаемся, например, в популярно-педагогическом изложении науки как «суммы примеров» и т. д. Ее значения нельзя не признать: формализованное выражение определенной закономерности может способствовать большей четкости, наглядности, доходчивости материала. Но какого-либо развития, обогащения знания она не дает.
Во-вторых, «технический»: применение к данному социальному материалу готовой, внешней по отношению к нему математизированной «техники» исследования (включая логическую и электронную технику).
Типичным примером может служить подбор эмпирических формул, пригодных для описания отдельных сторон социальной действительности, или статистическая обработка материалов массовых наблюдений. Об операциях такого типа говорится, например, в статьях П.П. Маслова[213]. Процессы, которые иногда называют «социальной диффузией» (скажем, распространение каких-то сведений), могут достаточно эффективно изображаться при помощи хорошо известных формул математики, некоторые процессы развития хозяйства уподобляются цепным реакциям и т. д.
Так строятся математические модели, используемые в экономике, демографии, социальных исследованиях. На том же, по существу, принципе основано применение электронно-вычислительных машин для расшифровки каких-либо текстов (для машинного перевода), анализа исторических памятников и т. п.[214] Во всех этих случаях налицо как будто два независимых друг от друга ряда явлений, в которых мы находим определенные соответствия (изоморфизмы).
Дело, однако, в том, что производимая операция в действительности сложнее описанной. Прежде чем «считать» (исчислять, логически и математически моделировать), надо иметь особый предмет «счета». Во многих случаях этот предмет строится интуитивно, неосознанно. Скажем, подсчитывая количество населения в городе, мы редко обращаем внимание на то, что операции сложения, умножения и пр. производятся не над какими-либо конкретными индивидуумами, а над обобщенным, абстрактным предметом – понятием «житель». Различие задач подсчета обусловливает выделение различных «предметов» при одном и том же составе эмпирически данных объектов. При этом в то же время вопросы о том, как и для чего следует рассматривать эту массу – как «потребителей» или как «производителей», «зрителей», «заказчиков» и т. д., – требуют специального рассмотрения. Иначе говоря, «предмет» соответствующей операции должен быть сознательно построен.
В связи с построением предмета математического исследования мы переходим к более высокому, третьему уровню применения математических средств. Так, решение экономических задач предполагает каким-либо образом выделенный абстрактный предмет «счета» (если, скажем, речь идет о ценах в капиталистическом товарном хозяйстве, то в роли механизма обобщающей абстракции выступает и сам рынок; но учет стоимости и тем более потребительной стоимости «полезности» продуктов требует применения теоретических способов построения соответствующих предметов). При машинном переводе (расшифровке) основная трудность состоит в создании формализованных словарей и грамматик, то есть опять-таки в построении абстрактного предмета, к которому применимы универсальные операции исчисления. Таким образом, прежде чем «считать», нужно иметь «что» считать. Нужно построить специальные абстрактные модели исследуемых процессов и явлений. Это уже социологическая, методологическая проблема, это «методологический уровень» применения средств точного знания к изучению социальной действительности.
Следует отметить, что при обсуждении в среде экономистов проблем применения математических методов в народном хозяйстве на первый план выступает вопрос о разработке математических моделей, критериев, оценок экономических процессов. Для успешного применения электронно-вычислительных машин в социалистическом хозяйстве, пишет В.В. Новожилов, «главным условием является разработка математических моделей экономических процессов»[215]. Аналогичное положение создается и в других науках.
Очевидно, что и философское, общеметодологическое рассмотрение проблемы точных методов в изучении общественных процессов прежде всего требует обсуждения возможностей построения соответствующего предмета исследования, то есть абстрактных моделей таких процессов.
Существует точка зрения, будто имеются какие-то «естественные» различия в отношении тех или иных областей науки к «точному» знанию.
По мнению ряда авторитетных авторов, современные средства логического и математического выражения слишком примитивны и не пригодны для адекватного выражения столь сложных явлений, как социальные или биологические. «Математический язык и математический образ мышления, которые сложились в основном на базе задач физики, механики, техники, слишком далеки от учета физиологической специфики, не адекватны основным физиологическим явлениям и понятиям физиологической науки», – пишут математики И.М. Гельфанд, В.С. Гурфинкель и М.Л. Цейтлин[216]. В том же духе высказывался Н.А. Бернштейн[217]. Наконец, аналогичный момент отмечают Дж. Кемени и Дж. Снелл. Они говорят, что математика, применяемая к социальным наукам, должна быть «более тонкой», а «время для того, чтобы развивать нетривиальные модели для социальных наук, может быть значительным даже в наш век быстрого научного прогресса»[218]. Правда, эти авторы тут же делают чрезвычайно любопытную оговорку: поскольку математика рассматривает любые абстрактные отношения, она «применима к любой хорошо определенной области»[219]. В результате возникает мысль о том, что нет нужды упрекать в «грубости» математику, ибо дело прежде всего в «неопределенности» того предмета, к которому ее стремятся применить. Таким образом, перед нами опять вопрос не столько о том, как «считать», сколько о том, что «считать», то есть как выделить строго определенные абстрактные структуры в соответствующих областях.
«Кажется правильным начинать с реального и конкретного, с действительных предпосылок, следовательно, например в политической экономии, с населения, которое есть основа и субъект всего общественного процесса производства. Между тем при ближайшем рассмотрении это оказывается ошибочным», – пишет Маркс, характеризуя свой метод в политической экономии[220]. Правильным и плодотворным оказывается, по его словам, метод восхождения от «тощих абстракций» и «простейших определений» к конкретному целому. Научный анализ, по словам Маркса, начинается не с непосредственно данных «живых» отношений общественного целого, а с определенных абстрактных изображений этого целого, его сторон, свойств. Гюйгенс не создал бы теории маятника, если бы он ограничился изучением действительного, «материального» маятника. Мы не имели бы политической экономии Маркса, если бы ее создатель не начал с абстрактных характеристик товара, труда, производства и т. д. Очевидно, существуют различные уровни в процессе создания подобных абстракций.
Между тем характерная черта ряда проектов «математической социологии» (Додд, Рашевский, Саймон) состоит как раз в том, что проблема построения специфического предмета исследования заменяется конструированием формул для выражения «наблюдаемых фактов».
Возможности образования абстрактных моделей реальных процессов существуют в различных областях исследования. Но значение подобных моделей неодинаково в различных областях. Всякое построение абстрактного предмета исследования «оплачивается» ценой потери каких-то особенностей, качественной «индивидуальности» непосредственно данных явлений, процессов, областей действительности. Учесть целесообразность подобного огрубления процессов можно лишь исходя из логики самой предметной области. Содержание, значение, рамки использования абстрактных моделей в социальном знании – проблема социологическая. Чтобы выделить соответствующую абстрактную структуру и определить ее значение, нужно исходить из «предметной структуры», из содержательной, а не только формальной «логики» данного предмета исследования.
2. О специфике социального моделирования
Нас интересует лишь один, методологический аспект специфики социального моделирования, то есть возможность построения «точных» абстрактных моделей социальных явлений. Имеет широкое распространение возведенное усилиями Риккерта и других в некую догму представление о принципиальной невозможности распространения на социальное знание тех методов анализа явлений и построения теоретических конструкций, которые сложились в других областях. Основой подобных представлений обычно служит часто встречающееся отождествление методологического и предметного плана рассмотрения действительности. Предполагается, что поскольку в социальной жизни фигурируют такие предметы, как люди, их воля и сознание, орудия и продукты производства и т. д., то к ним применимы лишь абсолютно специфические методы исследования. При этом «метод» низводится до зеркального отображения объекта. Между тем сопоставление и взаимосвязь методов исследования различных областей действительности возможны прежде всего потому, что наука (и сознание вообще) имеет право исследовать, «как» происходит движение в той или иной области (то есть ее структуру), отвлекаясь от того, «что» движется, иначе говоря, рассмотрение реального объекта заменяется в этом случае рассмотрением одной из его абстрактных моделей.
Взаимная связь и взаимообогащение методов различных областей знания – явление не новое. Скажем, в прошлом веке с его явно выраженной тенденцией к обособлению различных сфер знания получили широкое распространение за пределами своего «места рождения» и приобрели методологическое значение категории «прогресса», «эволюции», «клеточки», «организма» и т. д. (что далеко не тождественно анализу содержания таких категорий!). Существуют, конечно, внутренние пределы для подобных заимствований. Именно о них говорит В.И. Ленин, разбирая «благонамеренные», по его словам, попытки А.А. Богданова «подогнать» биологические дефиниции «под готовые выводы марксизма», переодевание им «уже раньше добытых этим исследованием результатов в наряд биологической и энергетической терминологии»[221].
Общеизвестно, что в любом социальном процессе и явлении можно выделить такие стороны или элементы, которые подлежат рассмотрению в рамках биологии, механики или аналогичны процессам, которые изучаются этими дисциплинами. Допустим, проблема потребления пищи может рассматриваться в плане ее калорийности, характер урбанизации может оцениваться скоростью передвижения жителей в городе, научная работа – измеряться объемом опубликованных трудов и т. п. В каждом из этих случаев нечто специфическое заведомо, в каких-то специальных целях, рассматривается вне этой специфики, в рамках иной системы (подобным же образом можно, например, факты культурной жизни анализировать с экономической или правовой их стороны). Тот же прием употребляется при построении теоретических моделей, основанных на изоморфизме разнородных явлений, при нахождении эмпирических формул для различных процессов. Фактически такие средства и модели не затрагивают специфики социального, ибо последняя сознательно снимается. Не подлежит сомнению, что определенные моменты социальной действительности могут описываться при помощи тех же моделей, которые были разработаны применительно к другим областям знания. Однако столь же несомненно (и даже тавтологично) утверждение о том, что никакая совокупность «внешних» приемов рассмотрения этих явлений не способна не только охватить их всесторонне, но даже проникнуть в их специфику, в их специфическую структуру, системность.
Но существуют ли вообще средства для того, чтобы проникнуть «внутрь» социальной структуры? Можно ли в принципе построить абстрактные модели внутреннего «механизма» социального движения, причем такие, которые имели бы содержательное значение для развития научной мысли?
Доводы, которые выдвигаются обычно представителями идеалистических направлений в социологии (или могут возникнуть в обыденном сознании) против применения точных приемов знания к изучению социальной жизни, основаны обычно на упоминавшейся тенденции «онтологизировать» специфику «собственно социального», вынести ее за рамки объективного научного исследования вообще. Самое общее из возражений сводится к тому, что социальная действителность «слишком сложна» для строгого научного анализа. При этом показателями сложности считаются множественность субъектов, неповторимость ситуации, присутствие «духовного начала», воли и сознания людей, неустранимость элементов субъективности в оценке значения явлений и т. д. Общественная наука и не претендует на теоретическое изображение соответствующей области действительности «во всей ее сложности». Да этого и не требуется. «Сумму всех этих изменений во всех их разветвлениях не могли бы охватить в капиталистическом мировом хозяйстве и 70 Марксов. Самое большее, что открыты законы этих изменений, показана в главном и в основном объективная логика этих изменений и их исторического развития»[222]. Частные социальные дисциплины рассматривают «логику» отдельных сторон жизни общества. Социология как наука призвана давать теоретические изображения логики этой жизни как целого (как системы или иерархии систем), но не описание всей совокупности социальных явлений, связей, процессов, систем. Всякая теоретическая модель реальных процессов одностороння, узка, ограниченна, причем эта ограниченность едва ли не прямо пропорциональна ее определенности, «точности». В этом смысле всякое абстрактное изображение процесса будет «внешним» по отношению к нему. Вопрос заключается в том, как построить такие абстрактные модели, которые позволяли бы судить о специфических для общественной жизни структурах и процессах.
Множественность социальных субъектов (индивидов) – реальный, зримый факт, из которого исходит фактически вся социология, вдохновляющаяся индивидуалистическими или бихевиористскими установками, следуя которым социолог в основу понимания общества кладет предполагаемое понимание сознания или поведения индивида. Вот вполне последовательное изложение этой точки зрения Г. Карлссоном: «Социология есть изучение функционирования групп и обществ. Группы и общества составлены из индивидуальных лиц. Эти лица взаимодействуют, в противном случае они не составляют группы. Таким образом, социология может быть описана как изучение взаимодействия и поведения двух или более взаимодействующих лиц»[223]. Неудачные попытки создания на этой основе точных систем социологического знания ведут к отказу от построения абстрактных моделей общества во имя «микромоделей», то есть формул и схем, которые должны изображать структуру поведения индивида или малой группы в данных социальных обстоятельствах. Можно сказать, что в подобных социологических теориях (к которым примыкают и упомянутые выше попытки создания «математических социологий») одним и тем же способом «преодолеваются» трудности исследования сложной социальной действительности: выделяется некий набор «простых» индивидуальных актов, оценок, желаний и т. п., которые повторяются в различных конфигурациях.
Иной путь теоретического анализа общества предполагает поиски упорядоченных закономерностей общественной жизни в деятельности масс, классов, общественных систем, то есть организованных и целостных множеств людей. Этот путь предполагается самой методологией исторического материализма, который, по словам Ленина, в отличие от всех предшествующих социальных теорий охватывает деятельность масс. Эта установка существенно изменяет всю проблему «сложности» общественной жизни. Дело не просто в уменьшении количества социальных объектов при сведении индивидуального к социальному. В последнем сняты, взаимно аннигилированы индивидуальные варианты стремлений, способностей, интересов и пр.; лишь общественно необходимое оказывается здесь значащим. Поэтому в деятельности «социальных субъектов» неизмеримо меньше элементов случайности, меньше степеней свободы системы. Очевидно ведь (для сравнения), что деятельность отдельного солдата в принципе сложнее (информационно богаче), чем деятельность армии, точно так же как движение молекулы «сложнее» движения Солнечной системы. Именно последняя в большей мере поддается теоретическому анализу. Эта же мысль содержится в известном афоризме Н. Винера: «Государство глупее, чем большинство его членов»[224]. Аналогична мысль А.А. Ляпунова о том, что чем шире группа, «тем меньший и тем более поверхностный объем информации от каждого индивидуума поступает в общий котел»[225]. Тот очевидный факт, что структура «более широкой группы» обусловливает появление новых закономерностей ее поведения и новых каналов передачи информации, не противоречит отмеченному соотношению.
Переход от созерцания поступков «непосредственно зримого» множества индивидов к теоретическому изображению иных компонентов социальной действительности – общественных действий масс, социальных процессов, систем, институтов – позволяет преодолеть и традиционные для старой социологии положения о «неповторимости» ситуаций общественной жизни.
Это не только «гносеологический» прием. Внимание социологической мысли к движению целостных социальных образований и «абстрактных» социальных структур, снимающих информационное многообразие индивидов, определяется тенденциями развития самой социальной действительности. «Абстрактные» социальные структуры столь же реальны, сколь, например, исследованный Марксом «абстрактный труд»[226], и они с такой же очевидностью обнаруживаются в современном обществе. Политэконом может свести всякий конкретный, индивидуальный и неповторимый акт труда к некоторому количеству абстрактного труда, то есть в конечном счете к отношениям стоимости, лишь потому, что в системе капиталистических отношений труд выступает как создатель стоимости. Аналогичным образом социолог вправе отвлекаться от неповторимой индивидуальности отдельных личностей и отдельных конкретных ситуаций, оперируя «абстрактными» категориями, массовыми явлениями, общественно значимыми практическими результатами мыслительных процессов, ибо именно ими «оперирует» сама история общества. Действия человека могут быть заменены действиями машины (или объяснены таковыми, то есть теоретически заменены) лишь постольку, поскольку они уже деиндивидуализированы, механизированы. Аналогии отдельных сторон общественной системы с «машиной»[227] или с «организмом» действенны, поскольку подобное «замещение» имеет место в действительности.
Как выяснил Маркс, лишь извращенно-философскому сознанию этот процесс представляется исторически развивающимся отчуждением «общества», общественной нормы и необходимости от «человека», в то время как на деле здесь лишь выступает тот «костяк», та структура общества, которая доселе была скрыта, завуалирована, зашифрована[228].
3. Некоторые перспективы
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о возможности различных, дополняющих друг друга направлений абстрактного моделирования общества, каждое из которых способно зафиксировать отдельные стороны, моменты, соотношения этого бесконечно сложного, живого целого. Мы остановимся на некоторых из этих направлений, располагая их в порядке возрастания специфичности («социальности») описываемых ими процессов.
Прежде всего социальная действительность служит объектом статистического исследования и воспроизведения. Статистические методы анализа и моделирования изучаемых явлений давно завоевали право гражданства в самых различных областях социального знания: в демографии, экономике, лингвистике, в конкретно-социальных исследованиях и т. д. Социологическое значение статистики, на которое в свое время указывал В.И. Ленин, в настоящее время вряд ли нуждается в доказательстве. «Универсальная» применимость статистических приемов объясняется тем, что в социальной действительности мы повсеместно имеем дело с массовыми процессами и явлениями, которые могут быть выражены с помощью определенного множества величин, притом величин соизмеряемых и независимых друг от друга. Это относится и к статистическому моделированию («метод Монте-Карло»). И наоборот, эти приемы теряют свою действительность при изучении «слишком коротких» рядов, при рассмотрении явлений взаимосвязанных, явлений, включенных в определенные структуры. Из того обстоятельства, что «основные величины, действующие на общество <…> определяются чрезвычайно короткими статистическими рядами», Н. Винер сделал вывод, что «гуманитарные науки – убогое поприще для новых математических методов»[229]. Это вполне реальное препятствие можно преодолеть, во-первых, путем выделения в многообразии социальной действительности таких сторон, где действуют «длинные» статистические ряды (например, в языковых нормах), и, во-вторых, путем использования приемов системного анализа соответствующих явлений.
Методологические проблемы изучения систем в последние годы интенсивно обсуждаются в научной и философской литературе[230]. При этом определились различные приемы подобного исследования. Например, получили известность разрабатываемые Л. Берталанфи и его группой приемы математического моделирования различных областей действительности (преимущественно живой природы) как «закрытых», «открытых», «устойчивых», «гармонических» и т. п. систем. Специфическая особенность такого приема состоит в характеристике систем по их связи со «средой», с иными системами, по их способности сохранять свою целостность, без рассмотрения внутреннего механизма, который обеспечивает функционирование данных образований. Подобные методы, получившие распространение в различных дисциплинах[231], находят применение и в изучении некоторых моментов общественной жизни. Например, различные формы общности людей, общественные группы и институты могут характеризоваться по их устойчивости, способам связи с социальной средой. На подобной основе возможна известная систематизация социальных явлений. Очевидно, что здесь перед нами опять-таки не только чисто методологический прием (поскольку определенная «классификация» систем осуществляется самим процессом общественного развития).
Иной тип анализа систем представлен кибернетикой, поскольку последняя конструирует общие модели систем управления, «функциональных систем» или «систем с обратной связью». В рамках функциональной системы приобретает реальный смысл различение «материальных» и «информационных» процессов, фиксируется зависимость данного состояния процесса от последующего состояния (собственно говоря, функциональная система фиксирует взаимообусловленность фаз процесса, а не их последовательность). Функциональная система по самому своему определению гомеостатична, то есть обладает тенденцией к поддержанию «заданного» состояния. «Нет сомнения, что общественная система является организованным целым, подобно индивидууму; что она скрепляется в целое системой связи; что она обладает динамикой, в которой круговые процессы обратной связи играют важную роль», – констатировал Винер[232]. Однако сколько-нибудь конкретная кибернетическая интерпретация общественной системы с таких позиций порождает серьезные трудности.
Правомерность оперирования кибернетическими категориями функциональной системы при анализе общества, вообще говоря, обусловлена выявлением в социальной действительности таких систем, которые могут быть уподоблены «социальным организмам». Известно, что научный подход к пониманию общества как организованного целого разработан марксизмом и для характеристики этого целого. Маркс и Ленин неоднократно пользовались понятием социального организма.
Применение определенных понятий кибернетики как общей теории управляющих систем позволяет выделить в социальных организмах «управляющие», «регулятивные» системы. Появляется возможность обобщенного рассмотрения различных социальных институтов, которые осуществляют управление общественным процессом (политических, идеологических, а также «стихийно-статистических» – примером последних может служить капиталистический рынок). Представляется перспективным, например, сопоставление «организованности» различных формаций на основании соотношения их структурных и статистических регуляторов, а также анализ присущей им иерархии относительно автономных саморегулирующихся систем. Такое сопоставление, в частности, позволяет выявить важные специфические черты социалистической организации общества и некоторые проблемы ее дальнейшего развития. В определенном аспекте общесоциологическая проблема соотношения сознательности и стихийности выступает как проблема соотношения различных структурных уровней регуляции общественного процесса (ведь стихийность не просто «беспорядок», а определенный уровень регуляции).
В последнее время наибольшее внимание к кибернетическим моделям общественных явлений проявляют, по понятным причинам, экономисты. При этом вопрос о разработке соответствующих моделей народно-хозяйственной системы как целого закономерно ставится именно в нашей экономической науке[233].
В буржуазном же обществе математико-экономическая мысль отдает преимущество кибернетическим моделям отдельных предприятий и фирм как автономных саморегулирующихся систем[234]. И именно задача разработки моделей саморегулирующейся системы хозяйства[235] с необходимостью приводит к выводу о том, что в наших условиях «чисто экономическая» система в весьма ограниченной мере может рассматриваться как замкнутая и саморегулирующаяся. Внеэкономические факторы общественного процесса должны выступать элементами саморегулирующейся системы, а не посторонними ей «толчками» или «помехами». Вопрос об экономических моделях общества перерастает в вопрос о моделях социологических.
Отметим две принципиальные трудности в изображении общественных систем при помощи кибернетических моделей. Во-первых, все сказанное выше по этому поводу пока относится лишь к применению «духа» кибернетического моделирования, как бы системы кибернетических «образов», к характеристике общества. Чтобы от «образов» перейти к «понятиям», нужно научиться каким-то образом измерять количество информации, циркулирующей в той замкнутой системе, при помощи которой изображается общественный организм. Это измерение предполагает, как известно, учет альтернатив поведения данного «организма». Возможности такого подсчета (как бы перечня вероятностных состояний, которые способна принимать подобная система) в настоящее время не разработаны. Другая трудность более существенна. Кибернетическая (функциональная, управляющая) система по определению система адаптивная, «вневременная», в то время как в общественной жизни (да и в живой природе) мы имеем дело с развивающимися, изменяющимися во времени системами. Втиснуть их в рамки кибернетики невозможно. Но это показывает нам, что кибернетика универсальна в описании одного из аспектов действительности (у нее, как и у других «точных» дисциплин, свой абстрактный предмет), другие же аспекты требуют иных способов абстрактного изображения, иных моделей.
Существенная черта протекающего во времени общественного процесса состоит в том, что в нем происходит непрерывная смена «субстрата» (людей, поколений, средств производства) при сохранении «формы», то есть системной организованности процесса (в известных пределах, конечно). Социальная система является, таким образом, «порождающей» («исторической»). Это происходит благодаря тому, что движение общества связано с действием особых структур – особых типов человеческой деятельности, особых институтов, – которые обеспечивают хранение и передачу из поколения в поколение социальной «наследственной информации». Это, вообще говоря, еще не специфическая черта общественной жизни; порождающие, или «исторические», системы действуют и в живой природе. Но там «наследственная информация» кодируется и передается преимущественно через биологические организмы (через генетический аппарат), и лишь малая ее часть, у высокоорганизованных животных, – через семью и популяцию (обучение). В человеческом же обществе соотношение форм передачи «наследственной информации» совершенно иное[236]. Здесь фактически все приобретения социального опыта хранятся и передаются по наследству через многообразные системы специфически социального происхождения и значения. «Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм общения, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное…»[237] составляет, по Марксу, условия, определяющие характер деятельности этого поколения. Формы общения могут рассматриваться нами как формы передачи информации в общественной системе. Совокупность форм общения, характерных для данной системы общества, составляет содержание его культуры.
Конечно, применение столь общего термина, как «формы общения», к весьма широкому кругу явлений и даже целым социальным институтам не означает отрицания их реальной разнокачественности, их диалектической, социальной и классовой противоречивости. Более того, использование общего представления о передаче форм общения помогает выявить некоторые особенности исторически различных типов (или уровней) общения. Различные эпохи общественного развития отличаются друг от друга способами и формами общения, а стало быть, в частности, и тем, как хранится и передается во времени социальная информация.
Можно, например, рассматривать вопрос о том, сколь дифференцированной является культура соответствующего уровня. На «примитивных» уровнях цивилизации наследственная социальная информация, по-видимому, передается такими «блоками», нерасчлененными кусками, которые включают описание среды, субъекта и действия как чего-то цельного[238]. Для современных форм общения характерна передача общественного опыта в расчлененном виде, прежде всего как далеко зашедшее разграничение в описании объекта, субъекта и норм человеческой деятельности. Но реально действующая в массах «культурная система» не сводится, видимо, никогда к этому уровню: в ней сохраняются и вновь складываются «привычные» действия, которые закрепляются и передаются именно в целостном, нерасчлененном виде, как «культурные окаменелости», по выражению Л.С. Выготского[239], причем, конечно, конкретное содержание «привычек» изменяется.
В ином плане можно различать типы форм общения по характеру их связи с другими сторонами социальной жизни. «Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни… То же самое относится к духовному производству, как оно проявляется в языке политики, законов, морали, религии, метафизики и т. д. того или другого народа»[240]. Очевидно, здесь речь идет не о «лингвистических» (например, обыденных, разговорных, национальных) языках, а о языках культуры, об идеологических системах, рассматриваемых как особые языки. К этим языкам относится и «язык реальной жизни», то есть практической, например производственной, деятельности, рассматриваемой как средство общения. Выделение из общей массы практической человеческой деятельности особых, господствующих над ней идеологических систем, превращающихся затем в обособленную сферу разделения общественного труда, можно считать одной из тенденций развития общества. Другой тенденцией явится в таком случае закрепление идеологических систем в привычках, потребностях, повседневной деятельности масс – это как бы ликвидация обособленности идеологий, их возвращение к «языку реальной жизни». Различной степени самостоятельности идеологической системы, очевидно, соответствует и различная ее информационная емкость.
Сказанное непосредственно приводит нас к проблемам семиотического анализа «языковых» систем различных обществ. Общая семиотика разработана Моррисом и другими как формальная бихевиористская дисциплина; многими марксистскими авторами она воспринята прежде всего как теоретико-познавательная конструкция[241]. Между тем существуют вполне реальные возможности для разработки семиотических проблем в социальном плане, то есть в плане коммуникативного значения знаковых систем.
Таковы некоторые направления в создании «точных» моделей определенных аспектов социальной действительности. Возможны и другие пути. В недалеком будущем можно предвидеть усиление внимания к обсуждению этого круга проблем в среде социологов, не говоря уже об экономистах, историках, математиках. Сколь ни очевидна ограниченность, неполнота, узость любых абстрактных срезов «вечного дерева жизни» – общества, те перспективы, которые они открывают или обещают открыть перед познанием общества (а заглядывая в будущее, и в управлении им), все же оказываются слишком заманчивыми.
Язык «точных» моделей и приемов исследования позволяет выразить определенные стороны социальной действительности, обнаружить общность, аналогии, связь и т. д. в таких процессах, где они нередко ускользают от привычного взгляда исследователя. Один из основных стимулов разработки всего комплекса проблем «точного» знания в социальных дисциплинах составляет растущая потребность в управлении общественными процессами. Наконец – и это в настоящее время едва ли не самое важное – разработка этих проблем способствует анализу структуры социального знания в целом, выявлению различных его компонентов.
1964Сознание и управление в общественных процессах
Жизнь общества – это прежде всего функционирование, изменение, развитие определенных систем социальных отношений, в которых индивиды, группы, институты и т. д. не только взаимодействуют друг с другом, но и выступают как элементы некоторого целого. Существенную сторону этой деятельности составляют многообразные процессы управления. Сознательные действия людей и групп, если подходить к ним под углом зрения их общественного значения, можно рассматривать как одну из форм (или как ряд форм) управления социальными процессами.
Особую актуальность анализу процессов управления обществом придают сегодня те насущные задачи дальнейшего развития коммунистического строительства, которым была посвящена работа XXIII съезда КПСС. Важно отметить в этой связи, что эффективное решение конкретных, практических проблем сознательного воздействия на общественные отношения в современных условиях должно опираться на глубокую теоретическую разработку специальных и общих аспектов управления общественными процессами.
На протяжении человеческой истории развивались, дифференцировались, сочетались друг с другом различные механизмы и формы управления социальными процессами – экономические и идеологические, формальные и неформальные; борьба антагонистических сил и интересов (классовых) занимала важное место в этих процессах. Отдельные формы и каналы управления обычно рассматриваются в рамках юридических, экономических, технико-административных дисциплин (в обиходе понятие «управление» обычно относится лишь к административной деятельности в рамках государства или отдельного предприятия, отрасли). Эта узость в рассмотрении проблемы управления исторически объяснима: в поле зрения соответствующих дисциплин оказывались лишь те конкретные, «особенные» формы управления, которые предполагали участие правовых институтов, сознательные действия людей. (Этим, кстати, можно объяснить и тот акцент, который сделан в буржуазной социологии начала ХХ в. на одном из элементов управления, а именно на социальном контроле.) Сейчас положение самих форм управления в обществе существенно изменилось. Развитие массовых средств общения (коммуникации), прогрессирующая «технизация» этого общения (технические системы и формализованные, технические языки как посредник в человеческих отношениях), «массификация» культуры, политики и других сфер общественной жизни способствовали выдвижению на первый план проблемы управления в общем виде (в его «всеобщей форме»). В известной мере эти изменения можно сравнить по своему значению с теми процессами генерализации явлений общественного производства и классовой борьбы, которые в свое время ввели в науку понятия абстрактного труда, стоимости, класса, государства, социально-экономической формации и т. д. Если капитализм в период своего утверждения и подъема обнажил экономическую структуру общества, то современная эпоха общественного развития как бы обнажает также и «информационную структуру» общества, то есть прежде всего структуру управления общественными процессами, организованной деятельностью масс. В социалистическом обществе, где непрестанно возрастают роль и масштабы сознательной деятельности масс, эта проблема имеет особенно серьезное значение.
Существует некоторое предубеждение, имеющее свои исторические корни, против постановки проблем управления в общем плане: высказываются, например, опасения относительно того, что это может привести к забвению принципиально разного социального содержания процесса управления в различных социально-политических, классовых, идеологических условиях. Такие опасения представляются неоправданными. Конечно, в реальных общественных системах «управление» облечено в конкретные формы действий классов, государств, партий, испытывает влияние рыночной конъюнктуры и т. д., что подлежит конкретному изучению. Но этому отнюдь не противостоит рассмотрение процессов управления под углом зрения их структуры, в известном отвлечении, необходимом как рабочий прием (то есть когда принимается во внимание не «кто действует», а «как делается»). Такой подход, все более характерный для современных методологических дисциплин вообще, в конечном счете способствует и более глубокому пониманию соотношения различных по содержанию форм управления, точно так же как, например, выделение и анализ структуры общих моментов труда, стоимости, класса и т. д. способствуют сопоставлению их качественно различных форм.
1. Сознание и программа деятельности
Существует определенная – и отнюдь не поверхностная – аналогия между структурой индивидуального и общественного сознания, поскольку мы рассматриваем его в интересующем нас плане управления деятельностью людей. Историческую основу для такой аналогии дает, в частности, развитая Л.С. Выготским концепция высших психических функций как «интериоризованных отношений социального порядка»[242]. Так как структура индивидуального сознания воспроизводит некоторую структуру действия общественного сознания (в определенных рамках, вполне достаточных для нас в данном случае), создается возможность для использования знаний относительно одного из этих уровней в качестве модели для объяснения другого уровня. Эту возможность мы и будем использовать в дальнейшем изложении. Напомним, что нас в данном случае занимает не сознание как таковое, но лишь его «социальная действительность», то есть сознательные социальные действия индивидов и групп.
Какие аспекты человеческой деятельности позволяют характеризовать ее как сознательную?
Во-первых, это наличие определенной согласованности разнородных единовременных актов (подчинение элементов целостной системе), а также согласованной определенным образом последовательности актов (подчинение настоящего будущему, средств – цели). Такая организованность человеческих действий характерна для любой социальной системы и любого ее автономного элемента (это относится, конечно, и к действиям личности, и к массовым движениям и т. д.).
Мы можем сказать, что характерным признаком всякой сознательной деятельности (индивидуальной и групповой) является осуществление определенной программы, служащей своего рода моделью будущих действий. Находящая ныне столь широкое применение в точных и технических дисциплинах категория программы пригодна для анализа структур различной природы, в том числе и анализа ряда социальных процессов. Под «программой» в данном случае мы понимаем, в соответствии с кибернетической интерпретацией термина, зафиксированную каким-либо образом в наличной системе последовательность ее будущих состояний, направленных к достижению определенного результата (цели)[243].
Следует отличать «реальные» программы деятельности, то есть такие, которые заданы самой ситуацией (при этом в силу вероятностного характера массовых явлений одно и то же состояние системы может содержать некоторый набор программ), от программ «вербальных», выраженных в каких-либо заявлениях, теориях и т. д. В последних могут лишь отчасти фиксироваться реальные программы соответствующих процессов.
Другой момент социальной деятельности, интересующий нас в данном случае, – это способ осуществления такой организованности, то есть способ фиксации программ.
Ведь поведение животных и их сообществ тоже «организовано», но эта организация обеспечивается преимущественно реализацией наследственной программы, зафиксированной в генетическом коде и в меньшей мере передающейся через обучение. Между тем та организованность общественной жизни, которую можно связывать с сознательностью, достигается благодаря действию иных систем хранения и переработки общественно необходимой информации (систем культуры). Эта информация фиксируется в знаковых моделях, передается благодаря обучению и составляет реальное содержание форм общественного и индивидуального сознания. Подчеркнем, что в качестве программы выступает не просто знаковое отображение, модель наличной ситуации, но непременно модель будущих состояний системы, план ее движения.
Конечно, о «сознательности», организованности, упорядоченности действия правомерно говорить лишь в рамках определенных, ограниченных во времени ситуаций, систем деятельности. Так, оценка организованности действий солдата, техника, исследователя и т. п. в «узких» рамках (отдельное сражение, производственный процесс, лабораторный эксперимент) и в «широких» рамках (например, общественная перспектива) существенно различны. Сознательное поведение у станка еще не предполагает сознательного поведения в обществе и наоборот (на деле, разумеется, эти ситуации не отделены строго друг от друга).
Выделяя программу как основу всякого организованного (в отмеченном выше смысле) процесса, мы получаем возможность сделать следующий шаг в подходе к интересующей нас проблеме: характеризовать функционирование общественных систем, в том числе и поведение индивидов, как управление соответствующими формами деятельности со стороны определенного «программирующего устройства». Компонентами деятельности в таком случае выступят: 1) фиксация социальных программ (в индивидуальном или общественном сознании, в системе культуры, выполняющей функции «социальной памяти»), 2) реализация программы, 3) контроль за реализацией (обратная связь).
Определяющим моментом служит фиксация программ, поскольку их структура содержит и конкретные способы реализации и контроля. При этом всякая реальная программа (да и, как правило, их вербальные выражения) не содержит непосредственных указаний на последовательность отдельных актов поведения, но лишь указания на последовательность типов поведения, то есть состоит из программ, в свою очередь имеющих иерархическую структуру. Различные типы программ обладают неодинаковой «жесткостью» и, следовательно, допускают различные варианты перехода к программам следующего уровня. Так, например, ситуация опасности включает либо «программу» паники и дезорганизации, либо программу мобилизации сил данной системы; последняя может тоже обладать различной степенью жесткости, осуществляться через разные каналы и т. д. Повышение уровня организованности живых систем предполагает возрастающую гибкость, вариативность программ их деятельности (ср. интересное замечание Винера о жестокости «ума муравья»[244]).
Под углом зрения реализации определенных программ могут рассматриваться многие стороны общественной жизни: обучение, воспитание, воздействие искусства, функционирование и развитие экономических систем, изменения социальной структуры и др. Анализируя особенности различных типов управления этими процессами, мы получаем возможность оценивать и место социальной группы и отдельных индивидов, роль их сознания и воли в соответствующих процессах.
Конечно, никакие реальные процессы, в том числе и социальные, не могут быть описаны полностью с точки зрения реализации заранее определенных программ. В любой деятельности, в любом процессе имеют место случайные, непредвидимые моменты, происходят и определенные новообразования. В этом случае определяющую роль играет содержание программы, от которого зависит способность последней воспринимать «незаданные» изменения. Осознание этого исключает опасность методологического финализма.
Деятельность общественных личностей можно рассматривать в интересующем нас плане как максимально конкретный (информационно наиболее богатый) этаж в иерархии социальных программ. Место отдельной личности в социальном процессе, реальные возможности индивидуального выбора того или иного варианта действия, более того, значение активности личности в конечном счете определяются типом действующей в данной социальной системе программы. Необходимым моментом развитой, многоуровневой социальной программы служит активная и творческая деятельность самих индивидов.
2. Типы управления социальной деятельностью
Необходимость анализа человеческой деятельности под углом зрения ее сознательности возникает как в социологии, так и в историческом исследовании, в юридической практике. Однако критерии, на основании которых строится такой анализ, не всегда являются достаточно строгими. В правовых дисциплинах принято – в силу практической необходимости – учитывать различные аспекты и различные формы осознания людьми своих поступков (по таким признакам, как прямой и эвентуальный умысел, неосторожность, учет ближайших и отдаленных последствий и т. д.).
В социологической и исторической литературе для оценки степени сознательности человеческих действий (как индивидуальных, так и групповых) требуются иные показатели.
Во многих ситуациях имеет значение оценка действий по характеру осознания их целей. В шкале такой оценки на нижней ступени окажутся действия, цели которых, заданные обстановкой, вообще не моделируются в общественном сознании, на следующей ступени – действия, ориентируемые «мнимой» фантастической целью, имеющей только стимулирующее значение (примером могут служить религиозные движения, крестовые походы и т. п.), далее – ориентированные реальной, достижимой целью. В качестве подразделений этой ступени выступят в таком случае различные формы «обратной связи» и взаимной корректировки цели и действия. Сколь бы детально ни были разработаны подобные схемы, они предполагают низведение действия до последовательности актов. Представляется поэтому более целесообразным подойти к характеристикам социальной деятельности с иной стороны, обратив внимание прежде всего на то, каким образом фиксируется и реализуется ее программа.
Возьмем прежде всего типы социальных процессов, о которых принято говорить как о «стихийных»: экономические отношения в условиях товарного хозяйства, неорганизованные массовые движения, миграции населения, колебания общественного мнения, изменение художественных и иных вкусов масс. Можно ли считать, что «стихийные» процессы никак не управляемы, абсолютно не упорядочены, лишены какого бы то ни было направления? Отнюдь нет. Как известно, сама «беспорядочная» игра спроса и предложения ведет к установлению определенных пропорций в экономическом развитии (осуществляемых, как писал Маркс, через их постоянное нарушение). С аналогичным положением мы встречаемся и в иных областях: «стихийность» представляет собой одну из форм управления общественным процессом. Упорядочение процесса достигается через сопоставление, конкуренцию, столкновение множества различных и противостоящих друг другу сил. Этот механизм управления имеет статистическую природу, и в этом смысле он в принципе не отличается, скажем, от биологических механизмов регулирования пола организмов или численности популяции; по содержанию же подлежащих регуляции параметров этот механизм является специфически социальным.
В данном случае наиболее существенная для нас особенность такого типа социального управления состоит не в самом статистическом характере его действия (в конечном счете любые процессы передачи информации в социальных системах статистичны). Главное здесь в отсутствии особых управляющих устройств, то есть особых структур, предназначенных для хранения и реализации «моделей будущего», особых каналов и «языков», служащих для их трансляции. Носителем информации о способе деятельности здесь является только сама эта деятельность. Примером такой системы общественного управления может служить рассматриваемая Марксом модель уравновешивания различных сфер производства благодаря «прихотливой игре случая и произвола»[245].
Очевидно, что в «стихийных» («статистических») процессах управления – если рассматривать их в «чистом», идеализированном виде – еще не существует разграничения уровней социальной информации. Здесь нет ни проблемы соотношения «индивидуального» и социального в управлении общественной системой, ни проблемы произвольного выбора между возможными вариантами деятельности. Для управления системами такого типа направленность каждого индивидуального выбора просто безразлична, играет роль лишь суммарная тенденция. Лишь система в целом является носителем своей программы, то есть информации о будущем ее состоянии.
В процессе общественного развития формируются (и как бы надстраиваются над «статистическими» механизмами управления) иные типы регуляторов, связанные с наличием специальных управляющих систем, особых каналов связи, специфических «языков» (кодов), предназначенных для передачи соответствующей информации; их можно называть «структурными». В них программа будущей деятельности «задана» системе или отдельным ее компонентам, поскольку она тем или иным образом «записана» (закодирована) в каких-то особых (специфически информационных, семиотических) элементах этой системы. Два крайних варианта такой записи со всей очевидностью обнаруживаются в «традиционных» и «рациональных» (научных) формах человеческой деятельности.
Под «традиционными» формами деятельности мы в данном случае понимаем все те, в которых основным средством передачи общественного опыта от поколения к поколению, от одной группы к другой и т. д. является следование установленному («традиционному») образцу, причем эта передача обеспечивается благодаря действию особых социальных институтов. Социальная информация здесь не расчленена на информацию о предмете, способе, мотивах, целях и т. д. действия. Программа передается целостными комплексами, в которых не отделены друг от друга (то есть не осознаны, не воспроизведены отдельно в соответствующих знаковых моделях) субъект, объект, процесс и способ деятельности.
Именно так обстоит дело в обычаях – наиболее древней и постоянно воспроизводимой вновь форме культуры. Независимо от того, закреплен ли в общественном сознании данный обычай авторитетом мифологических или исторически реальных его основоположников или лишь авторитетом «общепринятости» («все так поступают»), фактически фиксируется необходимость следовать данному образцу. Осознаваться может мнимая, формальная цель деятельности (исполнение воли богов, подчинение старшим и пр.), реальная же его программа (его социальный смысл) остается закодированной в мозаике общественных отношений как целом. Такая программа не подлежит теоретическому моделированию в общественном сознании (точнее, для реализации программы не требуется такое воспроизведение). Действие состоит фактически в реализации фиксированной последовательности средств, лишенных какой-либо осознанной связи с реальными целями и поэтому выступающих в качестве самодовлеющих, абсолютных, священных и т. п. Так, для «традиционных форм» общественного сознания чрезвычайно характерной является установка на следование «заветам предков», то есть как бы ориентация на прошлое. По существу, конечно, действует установка на воспроизведение прошлых отношений в будущем[246].
Как известно, идеалом социального утопизма служило сведение всех общественных требований к формам, которые воспринимались бы людьми как «естественные», внутренне необходимые для них (вспомним, что еще в Телемской обители у Рабле устав мог состоять из одного правила «делай что хочешь», так как свободных и просвещенных людей «сама природа наделяет инстинктом и побудительною силой, которые постоянно наставляют их на добрые дела и отвлекают от порока»). Идея сведения всего регулятивного механизма общества к традиционному уровню, совокупности «привычек» – достояние наивного утопизма. Превращение же в повседневную привычку определенной части этических и других норм общежития необходимо совершается в любой общественной системе, и это естественно.
Характерной чертой «традиционного» (в указанном смысле) управляющего механизма является его простота и устойчивость; с этим связана и основная его вариативная ограниченность, информационная бедность. Всякий обычай, скажем, содержит некоторую раз и навсегда установленную последовательность действий (точнее, типов действий, то есть подпрограмм). Вариативность допускаемой обычаем деятельности сравнительно невелика, поэтому характерной чертой всякой «традиционной» программы деятельности является ее стабильность. Традиции скорее ломаются (в условиях резкого изменения обстановки, в период глубоких социальных переворотов), чем изменяются; как правило, формирование и закрепление новых традиций являются долгим и сложным процессом. Мы, естественно, рассматриваем в данном случае лишь структуру, механизм «традиционной» деятельности, отвлекаясь от вопросов о ее содержании (какие именно нормы, навыки передаются) и ее социальном значении (кому и для чего данная традиция полезна или вредна). Следует лишь отметить, что форма здесь отнюдь не безразлична по отношению к своему содержанию: содержание, скажем, культовых (религиозно значимых) норм в принципе не может передаваться иначе, как через механизм традиций, в то время как научные идеи и убеждения с такой формой трансляции несовместимы.
В общественной жизни мы встречаемся и с такими регуляторами человеческой деятельности, как социально значимые вкусы, склонности, предпочтения и т. п. ценностные ориентиры, в которых характеристики объекта действия неразрывно связаны с субъективным отношением, установкой. Если, скажем, обычай фиксируется как некое непреложное требование в общественном (нравственном, религиозном) сознании, то ценностные ориентации часто вообще не фиксируются специально, то есть не осознаются как таковые. Сама конфигурация частных ориентиров, соотношение разнородных запретов и устремлений определяет общую направленность человеческой деятельности в той или иной ее сфере.
Формирование ценностной ориентации нельзя поэтому объяснить только тем, что в индивидуальном сознании осваиваются (интернализируются) какие-то требования общественного целого, которые первоначально заданы индивиду извне. Здесь перед нами важная и специфическая черта человеческого познания и человеческой деятельности вообще: целостное «субъективное» восприятие ситуации, вообще говоря, исторически предшествует объективному расчленению на компоненты, выделению функциональных и причинно-следственных цепей. Многочисленные психологические (например, Л.С. Выготского) и этнографические (Б. Малиновского, Р. Турнвальда и др.) данные говорят о существовании такой закономерности в онто– и филогенетическом развитии психики. В конечном счете примат целостной оценки ситуации в отношении теоретического анализа последней выражает тот факт, что субъект различает полезные и вредные воздействия внешней среды до того, как он выделяет отдельные объекты этой среды, их связи и отношения. Разумеется, сами критерии указанного различения зависят от характера и степени развития системы «субъекта» – в данном случае общественного. Ценностная ориентация в обществе выступает одним из элементов реализации социальных программ и сама зависит от их развития.
«Традиционный» тип управления социальными процессами предполагает подчинение соответствующих действий индивида заданной социальной программе («традиции»). Приобщение индивида к наличной системе культуры выступает как усвоение, интернализация заданной суммы императивных требований. Индивидуальное сознание здесь действует как частица, «винтик», реализующий заданную программу, но не как автономная ступень ее функционирования (структура «традиционного» сознания в принципе исключает индивидуальное новшество, расценивает его как нарушение сложившейся системы отношений).
Специфической чертой рациональной деятельности (примеры которой в изобилии дает современное научное сознание, научное планирование деятельности) является прежде всего тот факт, что в общественном сознании деятельность фиксируется в расчлененном виде («способ» и «объект» действия выделяются и моделируются отдельно от самого процесса и от субъекта действия). Поэтому реализация программы обеспечивается благодаря соблюдению определенных принципов, методов, деятельности (а не просто благодаря повторению заданных ее образцов). Особенности программирования рациональной деятельности объясняют многие специфические ее черты.
Прежде всего эта деятельность выступает как ориентированная на объект (между тем как «традиционная» деятельность ориентирована на соблюдение заданного образца). В рациональной деятельности на первый план выступают отношения субъект – объект, в «традиционной» же это место принадлежит отношению норма – исполнитель. Во-вторых, рациональная деятельность ориентирована непосредственно своей целью, будущим, в то время как всякая «традиционная» формально обращена назад, к прошлому.
Рациональная программа деятельности предполагает теоретическое вычленение целей и средств, воспроизведение способов подчинения средств целям, обоснование целесообразности (то есть значения) в программе отдельных актов и т. д. Реализация определенной рациональной программы включает индивида в более общую систему общественной деятельности, в сеть соответствующих идеологических отношений.
Такая структура социальной информации в рациональной деятельности (выделение способа деятельности из ее процесса, расчленение деятельности на цель и средства и т. д.) ведет к изменению соотношения между общественным и индивидуальным сознанием. Собственно говоря, именно здесь индивидуальное сознание может обособляться, выступая в качестве необходимого уровня действия регулятивного механизма общества. Индивидуальное сознание оказывается здесь «правомочным» не только теоретически воспроизводить требование системы, но и выбирать тот или иной вариант их реализации. Причем индивидуальные инновации являются не только допустимыми, но и необходимыми для успешного функционирования системы в целом.
Вместе с тем возникает и проблема соотношения индивидуальных и социальных программ управления (точнее, проблема подчинения «низших» уровней социального управления «высшим»).
В числе разных способов такого подчинения, выработанных историей общества, в качестве крайних типов можно выделить «иерархический» и «референтный».
Для первого характерно наличие некоторой лестницы уровней хранения информации, каждый из которых подчинен вышестоящему. Упрощенной моделью может служить военно-командная система управления: там на каждом уровне управления действует строго ограниченный объем информации, причем значение операций каждой низшей ступени раскрывается лишь на более высокой. (Разумеется, в данном случае нас интересует только структура «военного» сознания; мировоззренческие и этические факторы не входят в поле зрения.) Универсальное правило такого типа информационной структуры сводится к «Слушай мою команду» (а в традиционных действиях оно звучало бы: «Делай, как я»).
Диаметрально противоположный тип такой структуры – назовем его «референтным» – предполагает обращение каждого к равноудаленному от всех резервуару информации. Простейшим примером может быть использование многими людьми какой-то совокупности знаний, норм, правил, зафиксированных в справочном пособии, этической системе, уставе и т. д. Конечно, в чистом виде и этот вариант информационной структуры не существует: в любой реальной ситуации обращение к универсальному источнику информации опосредовано иерархией прошлых знаний, авторитетами толкователей и пр. (поэтому, скажем, Лютерово представление о свободном толковании каждым христианином Священного Писания – фикция).
Не менее существенен и вопрос о том, какими «порциями» упакована социальная информация в той или иной системе ее хранения и передачи. В одних случаях могут быть предписания, носящие характер конкретных правил действия («поступай так-то и так-то»; примеры мы легко обнаружим в древних этических кодексах, технических и т. п. правилах, наставлениях, инструкциях). В других же случаях предписание содержит более или менее общий принцип поведения, который предполагает конкретную интерпретацию («держись правой стороны» – правило, а «соблюдай осторожность на улице» – это почти принцип поведения). Современные этические системы и особенно системы научного знания имеют дело с принципами, то есть с более или менее абстрактными закономерностями деятельности общества и его членов; при этом на долю низших, более конкретных этажей общественного сознания (групп, индивидов) остается решение о способе их реализации в конкретных ситуациях.
Современные перспективы развития человеческого сознания прежде всего связаны с теми изменениями в структуре социальной памяти, которые несет с собой ее «рационализация» (в смысле расширения сферы действия рациональных программ управления по сравнению с традиционными). Современный человек способен хранить неизмеримо больше информации, чем первобытный, не благодаря увеличению «емкости» своего мозга, но благодаря иной структуре самой этой информации. Прогрессирующее «методологическое» расчленение социальной памяти (то есть обособление информации о способе деятельности от информации о ее процессе), выделение науки как особой сферы деятельности общества служат предпосылкой для неограниченного увеличения ее информационного объема. В развитии науки этот же процесс ведет к формированию особых методологических дисциплин (которые, в свою очередь, переживают подобное расчленение, порождая метанауки разного уровня).
В то же время увеличение объема и усложнение структуры социальной информации создают новые проблемы в процессе реализации этой информации людьми, общественными группами, социальными институтами. В частности, возникает тенденция ко все более узкой специализации «адресатов», к иерархизации (в указанном выше смысле, то есть к увеличению числа «ступенек» в передаче информации) самого процесса освоения социального опыта. С другой стороны, насущные потребности накладывают определенные ограничения на неограниченную в принципе подвижность рациональных способов хранения и передачи социальной информации.
3. О структуре управления социальными процессами
Ни один из отмеченных выше типов социального программирования в чистом виде нигде не встречается. Во всех известных истории реальных общественных системах взаимодействуют и взаимообусловливают друг друга разные схемы механизмов управления. Кстати, в сознании и поведении отдельного человека также нетрудно обнаружить все градации, все формы доступной организму регуляции, составляющие единую систему.
Становление капиталистических отношений в свое время привело к существенным изменениям, в частности и в особенности в средствах регуляции социальных процессов и отношений. Если во всех докапиталистических формациях преобладали традиционные средства (обычаи, табу, сословные системы и т. д.) подчинения индивидов социальным требованиям, подкрепляемые идеологическими (религиозными) санкциями, то капитализм выдвигает на первый план стихийную «конкурентную» регуляцию общественных отношений. «…общественное разделение труда противопоставляет друг другу независимых товаропроизводителей, не признающих никакого иного авторитета, кроме конкуренции, кроме того принуждения, которое является результатом борьбы их взаимных интересов»[247]. При этом независимость и разнообразие множества рациональных, то есть сознательно преследующих свои цели, индивидов («разумных эгоистов») считались естественной основой статистического регулирования как экономических, так и политических и идеологических – вплоть до эстетических – отношений. На этой посылке строились классические концепции буржуазной политэкономии и буржуазной демократии. Исторический опыт показал, однако, что сама реализация этих посылок ведет к их отрицанию.
Так, развитие современного производства и государственно-монополистических тенденций накладывает на статистический конкурентный механизм все более жесткие ограничения. В то же время возникающие в этом процессе тенденции к плановому регулированию производства неизбежно оказываются ограниченными. С наибольшей очевидностью эти тенденции выявляются в развитии науки как высшего образца рациональной деятельности, превратившейся в особую социальную силу в условиях современного индустриального буржуазного общества. Научная организация производства, обучения, рекламы и т. д., даже осуществляемая в невиданных ранее общественных масштабах (военно-космические и т. п. проекты), неизбежно оказывается не более чем придатком или даже побочным продуктом игры неорганизованных, «иррациональных» сил экономической и международной (в том числе военной) конкуренции. Отмечая существование подобной парадоксальной ситуации, Б. Рассел писал: «В современном мире есть умные в лабораториях и дураки у власти. Умные являются рабами, как джинны в “1001 ночи”. Человечество коллективно, под руководством дураков и при помощи изобретательности умных рабов занято великим делом подготовки своего собственного уничтожения»[248].
Что же касается классических буржуазных концепций политической демократии (равно как и соответствующих концепций идеологического развития), то они оказываются все менее реальными в условиях нивелировки массового политического сознания и развития бюрократического аппарата власти. Как известно, в эпоху империализма всеобщие голосования и плебисциты нередко выступают формой прикрытия диктаторских и бюрократических режимов, отнюдь не свидетельствуя об участии масс в управлении обществом. Райт Миллс с полным основанием говорил о том, что характерное для этой эпохи превращение народа в безликую «массу» является величайшей угрозой демократии[249].
Стандартизация мнений и запросов, осуществляемая всем аппаратом «массовой» культуры и массового идеологического порабощения индивидов, – действительно смертельная опасность для иллюзий, полагавших разнообразие свободных и разумных индивидов «естественной», извечной основой общественной жизни.
По М. Веберу, государственная бюрократия (не в смысле «бумажного руководства» и волокиты, а как специализированный и строго организованный механизм управления) являет собой высший образец рациональной деятельности. Между тем даже доведенная до «кибернетического совершенства» (с применением ЭВМ и т. д.) техника бюрократического управления остается здесь рациональной в средствах и в частностях и иррациональной в своей общей направленности (эта ситуация великолепно выражена в «Процессе» Ф. Кафки).
В социалистическом обществе развитие управления социальными процессами происходит на принципиально иной основе. Дело здесь не только в ином содержании целей, идеалов, субъектов социальной деятельности, но и в изменении структуры самого механизма управления (не только содержание средств определяется содержанием поставленной цели, но и способ подчинения средств цели зависит от этого содержания). Характерной чертой социального процесса здесь является действие рациональных научно организованных механизмов управления, подчиняющих различные сферы общественной жизни единому плану, определяемому на основе марксистского учения об обществе. Здесь теряют свое значение, устраняются или отодвигаются на второй план старые, свойственные капиталистической системе механизмы статистического «уравновешивания» пропорций и сфер общественной деятельности через борьбу антагонистических сил, интересов, тенденций. Значит ли это, что программирование общественных процессов – по крайней мере в тенденции – может быть сведено к единому уровню, к единой системе научно обоснованных, плановых директив? И практика, и теория уже дали отрицательный ответ на этот вопрос.
В реально действующей сейчас структуре общественных отношений социализма находят свое место различные формы рационального планирования, регулятивные механизмы статистического типа, сохраняют определенное значение и традиционные регуляторы (закрепление новых социальных норм в нравственных привычках, соответствующих ценностных ориентирах).
Анализ некоторых социальных процессов в современном социалистическом обществе показывает нередко сложную картину «надстраивания» прямого и косвенного планового регулирования над действием «стихийных» факторов[250]. Игнорировать эту «сложность» общественного развития теперь нельзя, как нельзя, ссылаясь на сознательность общественного процесса при социализме, отказываться от изучения его «стихийных» моментов. Вряд ли кто-нибудь возразит сегодня против необходимости анализа таких явлений, как колебания потребительского спроса, движение общественного мнения, изменения рыночной ситуации и т. д.; преодолено недоверие к статистической методологии в общественных науках.
Но не является ли, однако, такая сложность, «многоуровневость» механизма управления общественными процессами чем-то преходящим – наследием былой отсталости, средством преодоления временных трудностей и т. п.?
В научной литературе иногда высказываются мнения о том, что повсеместное внедрение электронно-вычислительной техники и четкая организация информации в народном хозяйстве в конечном счете позволяют избавиться от всякого статистического регулирования в производстве и потреблении, обмене. От этого не так далеко и до предположений об универсальном планировании всей внеэкономической сферы. Однако сколь ни велики перспективы роста сознательного воздействия человека («общественного человека, государства, общества») на процессы регуляции своей жизнедеятельности, попытка целиком возложить эту регуляцию на «высшие отделы» общественного сознания столь же нереальна, как, предположим, попытка подчинить все поведение человека контролю высших отделов его мозга. Кибернетические исследования показали принципиальную невозможность свести к одному уровню управление всем многообразием процессов, свойственных столь сложной системе, как общественный организм. Эффективное управление сложной системой с необходимостью предполагает наличие разных уровней и типов действия в самом «управляющем устройстве», сочетание быстродействующих и относительно консервативных, структурных и статистических, универсальных и локальных элементов и т. д. (Недаром говорено было в свое время, что «порядок, красота и совершенство мира требуют, чтобы во Вселенной были деятели различного рода: необходимые, свободные и случайные»[251].)
Поэтому прогресс в управлении общественными процессами нельзя представлять себе как универсальное жесткое программирование или как моделирование всей схемы такой универсальной программы в индивидуальном сознании. Рациональное управление здесь должно осуществляться через наиболее эффективное соотношение различных по своей структуре регулирующих механизмов. При этом если в условиях капитализма плановые, рациональные механизмы управления общественными процессами неизбежно оказываются придатком конкурентного механизма, для социализма характерна принципиально иная зависимость: статистические по своей структуре регуляторы здесь выступают необходимым дополнением к регуляторам рациональным, плановым. Единство основных установок развития общества, определяемых на основе научного анализа его объективных возможностей, с необходимостью восполняется многообразием инициативы, творчества, запросов, потребностей отдельных общественных групп и отдельных личностей. Если, как мы уже отмечали, массовая культура капитализма нивелирует вкусы и потребности, обедняя индивида и лишая действенности механизмы политической демократии и общественного мнения, необходимостью коммунистического прогресса на современном этапе становится формирование богатства и многообразия человеческих потребностей, находящих свое выражение в общественной деятельности и творчестве масс.
Именно в этом направлении наиболее эффективного сочетания различных средств воздействия на общественные процессы работает теоретическая мысль в нашей стране после XXIII съезда партии. Директивами съезда указан путь широкого развития инициативы и самодеятельности предприятий при условии глубоко научной разработки основных, подлежащих непосредственному планированию параметров народного хозяйства. Значение намеченных мероприятий выходит далеко за пределы административно-хозяйственной или экономической сферы и соответствующих социальных дисциплин. Проблема управления общественными процессами требует многостороннего теоретического анализа, в котором, несомненно, займут свое место и точные, теоретико-информационные методы.
1966Историческое сознание и научный метод
Почти столь же старая, как само историческое познание, методологическая дискуссия о характере его научности, о степени строгости, сопоставимости, обязательности его результатов не только не прекращается, но, видимо, имеет шансы на расширение. Относительно недавний пример – дискуссия на страницах «Международного журнала социальных наук», издаваемого ЮНЕСКО, о различии между «социальными» и «гуманитарными» дисциплинами. Участники ее отмечали неопределенность научного характера социальных и гуманитарных дисциплин и, как следствие этого, нескончаемость и безрезультатность дискуссии о том, что на самом деле является «наукой», а что – нет[252]. Расходясь в определении самого понятия «научности», большинство участников этой дискуссии (равно как и множества подобных ей) стоит на той точке зрения, что философия, литературоведение, историография не могут относиться к социальным наукам и имеют право лишь на причисление к довольно неопределенной категории «гуманитарных дисциплин» (humanities).
Следует сразу же обратить внимание на два момента, существенно осложняющих ход и оценку дискуссии о научности исторического знания.
Во-первых, неоднозначность самого термина «наука», в особенности в том случае, когда он применяется к различным областям социальной мысли; тем более относится это к современной науке. Так, Ю. Хохфельд отмечал в качестве широко признаваемых показателей «растущей научности» в социальных дисциплинах: 1) развитие точной техники наблюдений, 2) применение математики, статистики и различных типов моделей, 3) сотрудничество с биологией и другими естественно-научными дисциплинами, 4) развитие кибернетики и теории информации[253]. При всей его «общепризнанности» такой подход к научности весьма спорен и в конечном счете ведет к профанации проблемы. Использование современных технических средств исследования не дает никакой гарантии научности и современности самого движения исследовательской мысли, так что оценка научной мысли по ее внешним атрибутам вдвойне нежелательна и опасна именно вследствие своей способности стать «ходячей» (здесь перед нами одна из сторон вопроса об иллюзорном престиже науки и научности – с ним мы встретимся несколько позже). Кроме того, «статичная» характеристика научности знания (при помощи заданного набора требований) неплодотворна, поскольку оставляет вне поля зрения сам характер движения познания – в данном случае исторического познания. Гораздо надежнее и полезнее анализировать тенденции, особенности, формы этого движения, чем конструировать границы.
Вторая оговорка связана с существующим ныне и доходящим до суеверия в обыденном сознании престижем науки как деятельности (в сущности, это тоже область иллюзорного престижа науки и научности). Выражением этого феномена служит – нередко подсознательное – отнесение всего, что не признается наукой в строгом смысле слова (хотя этот смысл и не очень ясен), за пределы важного, достойного; соответственно на всю дискуссию о характере научности истории накладывается фальшивая печать этической оценки, что опять-таки отнюдь не способствует научному подходу к проблеме. Феномен этот далеко не случаен, имеет широкое распространение[254] и составляет один из интереснейших объектов социологии науки. Конечно, сложившаяся (и не только у нас) система научно-организационных отношений, ученых званий и пр., уравнивающая различные формы теоретической деятельности по безличному, бюрократическому критерию «науки», также создает некоторый барьер на пути анализа интересующего нас вопроса (подчас даже психологический барьер, чувство недооценки, принижения, причем плохая и вредная наука оказывается «все-таки наукой», то есть чем-то более высоким по сравнению с гениальным дилетантизмом, эстетическим откровением и пр.!). Преодолеть этот барьер можно лишь осознанием его иллюзорности. Не вопрос о «престиже», но лишь вопрос о структуре знания и способах его движения имеет реальное значение, когда ставится интересующая нас проблема научности этого знания.
И именно поэтому само по себе наличие в руках исследователя сколь угодно глубоко разработанной марксистской философско-социологической методологии не избавляет его ни от необходимости критического рассмотрения современного характера истории как дисциплины, ни от необходимости соответствующего строго научного самоанализа.
Но почему возникает сегодня необходимость в таком анализе? Наиболее зримый аргумент – доносящиеся с разных, даже противоположных сторон выражения неудовлетворенности современным состоянием исторического знания. Насколько, однако, обоснованы эти мнения, точнее, насколько глубоки их основания?
Э. Трельч еще в начале века писал, что «если в области теоретического исследования не может быть и речи о настоящем кризисе <…> то зато имеется кризис в сфере общих философских основ и элементов исторического мышления, в трактовке исторических ценностей»[255]. Эти слова вполне могли бы быть произнесены и сегодня. Почти то же мы читаем в современных рассуждениях относительно «тупика, в который зашла историческая наука»[256].
Правда, ситуация кризиса признается не всеми даже на Западе, и прежде всего его не хотят знать «историки-практики» вроде Э. Карра. Предлагаемый ими путь дальнейшего движения исторических дисциплин фактически сводится к пожеланию «сочетать» традиционные методы с новыми, исторические – с социологическими и на такой основе профессионально-добропорядочного эклектизма продолжать идти проторенной прошлыми поколениями дорогой. Этот путь весьма выразительно охарактеризовал недавно Холлоуэй: «Если мы не решаемся мыслить, существует только один путь создания иллюзии того, что мы выполняем какую-то полезную функцию: придерживаться течения непрерывно изменчивого исследования <…>. Это защитит нас от острого неудобства столкновения с фундаментальными проблемами жизни общества»[257].
Изложенные выше предварительные замечания позволяют нам в дальнейшем сосредоточить внимание на наиболее существенных с методологической точки зрения моментах движения и противоречиях современного исторического знания, сознательно отвлекаясь от многообразия реально существующих внешних по отношению к нему и кратковременных обстоятельств социально-политического или социально-этического порядка.
Видимо, можно выделить две взаимосвязанные группы факторов, лежащих в основе современных противоречий исторического знания: 1) историография не оправдала некоторых из возлагавшихся на нее надежд, 2) изменились и меняются сами требования, предъявляемые обществом к системам исторического знания. Эти факторы можно обнаружить – в неодинаковой форме – в разных по своим мировоззренческим установкам течениях современной исторической мысли.
Прежде всего (и очевиднее всего) расхождение между реальностью социальной жизни и ожиданиями, которые вольно или невольно создавала историческая мысль прошлого, точнее мысль XIX в. Вряд ли можно считать достаточно глубокими объяснения этого явления лишь «страхом» реакционных сил перед реальностью исторического движения общества или, скажем, «разочарованием» иных прогрессистов, смущенных сложностью и непредвиденностью путей желаемого прогресса и размером платы за него. Как неизменно подчеркивал В.И. Ленин, действительность всегда оказывается сложнее, чем представляют ее самые умные и дальновидные теоретики и политики. И тем не менее на каждом своем этапе историческая реальность содействовала возникновению определенных оценок, ожиданий, надежд, расчетов, а в дальнейшем ставила их под сомнение. Отсюда как будто вполне логичен вывод: не было достаточных оснований для таких именно (в той или иной степени детализации) расчетов; преходящее стечение обстоятельств изображалось универсальным законом или же, наоборот, общая тенденция движения принималась чуть ли не за железнодорожное расписание, где указаны минуты остановок. Достаточно банальные сами по себе, эти напоминания нужны нам в данном случае лишь для того, чтобы подчеркнуть значение вопроса о характере «претензий», предъявляемых обществом к историческим дисциплинам. Претензии могут быть фантастическими, неразумными, нелепыми, анализ этих претензий должен быть научным, а значит, раскрывающим их внутреннюю логику, их обоснованность.
Отсюда – второе, не столь заметное, но, видимо, наиболее существенное сейчас обстоятельство: изменение характера самих требований, которые предъявляет общество к историческому знанию и вообще к социальному знанию[258]. Древнейшая историография говорила о религиозной и моральной ценности исторического знания, классическая – о культурной и философской ценности (это относится и ко всякому «гуманитарному» знанию). По сути дела, это знание всегда строилось в соответствии с явно идеологическими запросами, выступавшими в форме моральных, религиозных и т. д.; практически-научных задач традиционная историография не ставила и не решала. Гегель писал «о моральных рефлексиях и о моральном поучении <…> для которого история часто излагалась <…>. Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее»[259]. Между тем в сочинениях современных критиков историзма мы встречаем как раз призывы поставить историю наряду с иными социальными дисциплинами на службу практическим потребностям общества, воссоздать картину мира, адекватную действительности, и тем самым заложить основу для правильных решений, принимаемых человеком[260]. Притом речь идет не об извлечениях из истории тех философских выводов, о которых говорил и Гегель, и не об ориентации общественной деятельности по компасу «прогресса» – в соответствии с тем или иным его пониманием[261], – но именно о конкретно-практическом использовании ее уроков.
Каковы бы ни были частные мотивы формулировки такой задачи тем или иным исследователем, теоретиком, критиком, задача эта реально существует и ее содержание нам предстоит рассмотреть более внимательно.
Имеется еще один, не относящийся специально к социальным дисциплинам, но характерный для современной науки в целом момент – речь идет о процессе «методологического расчленения» научного знания. Рост объема научных знаний наряду с растущими требованиями строгости научного мышления закономерно привел к превращению методологии научного познания в особый предмет исследования, к формированию (и дальнейшему расчленению) целой системы методологических дисциплин, то есть областей знания, рассматривающих методы движения самого этого знания. До конца XIX в. этот процесс был сравнительно мало заметен (или происходил внутри определенных, отграниченных друг от друга дисциплин). Не лишенный противоречий и собственных тупиков, процесс этот в дальнейшем своем развитии, видимо, должен создать условия для рационального разделения труда и плодотворного обмена деятельностью между методологическими и «содержательными» дисциплинами разного уровня (включая логико-философские, формальные и т. д.). Пока же он с неизбежностью шаг за шагом приводит к выявлению секретов скрытого ранее движения научной мысли и ее предпосылок. Процесс этот бывает болезненным, поскольку он вскрывает и механизм «возвышающего обмана», представляя в холодном свете рассудка интимные тайны движения привычных исторических иллюзий; возникающая ситуация порой напоминает психоаналитическую. Тем не менее, по существу дела, вся проблема научности исторического исследования в конечном счете сводится не к совокупности отдельных приемов и технических средств, но именно к эксплицированию, расчленению, анализу самой логики движения исследования, что является необходимым условием современного развития этого сознания в направлении к большей строгости результатов.
Историческое сознание и его трансформации
Постановка вопроса об изменении требований, которые предъявляет общество к знаниям о своем прошлом, подводит нас к весьма интересному, но не часто рассматриваемому в нашей научной литературе понятию исторического сознания общества. Этим понятием охватывается все многообразие стихийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых общество осознает (воспроизводит и оценивает) свое прошлое, точнее в которых общество воспроизводит свое движение во времени.
В каждую данную эпоху историческое сознание представляет собой определенную систему взаимодействия «практических» и «теоретических» форм социальной памяти, народных преданий, мифологических представлений и научных данных (последние, разумеется, выступают лишь с момента появления науки на общественной сцене). Во всяком случае, научное знание об истории выступает лишь одним из моментов (правда все более важным) в этой системе.
Следует подчеркнуть, что речь идет об историчности как атрибуте, присущем прежде всего сознанию общества и тем самым определяющем рамки движения всякого типичного индивидуального сознания данного общества. В этом отношении историческое сознание может быть сопоставлено с такими широко известными формами общественного сознания, как правовая, нравственная, национальная и т. д., но не поставлено в один ряд с ними. Если каждая из этих форм представляет собой одну из плоскостей человеческого отношения к наличной действительности, историческое сознание вводит в эти отношения дополнительное измерение – время. Причем способ введения этого «четвертого измерения» бытия неодинаков в различных типах и в различные периоды развития общественного сознания.
Очевидно, что всякая общественная система должна располагать какими-либо способами фиксации (отображения, моделирования) своих прошлых состояний; без этого невозможно было бы продолжение ее жизнедеятельности, не говоря уже о ее развитии. Различия же между этими способами состоят, во-первых, в предмете отображения и, во-вторых, в способе осуществления этой процедуры.
Вообще говоря, объектом отображения в историческом сознании всегда служат определенные моменты прошлых состояний общественной системы. Меняется прежде всего сама протяженность событий, которые запечатлеваются в сознании общества. Это могут быть ближайшие прошлые состояния общественной системы, которые непосредственно воспроизводятся в ближайшем будущем. В том же качестве могут выступать и сравнительно длительные – охватывающие десятки и даже сотни лет – периоды, на протяжении которых сохраняются относительно стабильными некоторые параметры деятельности общественной системы (нравственные, правовые, культовые). В обоих случаях здесь перед нами не только «короткая» (то есть охватывающая непосредственное прошлое) память общества, но память, обеспечивающая лишь воспроизводство сложившегося типа общественных отношений или определенных сторон этих отношений, так сказать память, обеспечивающая функционирование «заведенного» общественного механизма.
Когда же фактом общественного сознания в той или иной форме становится отдаленное прошлое, то есть то прошлое, которое уже не может воспроизводиться, отношения которого к настоящему (а под «настоящим», как известно, обычно имеется в виду некоторая протяженность прошлых и будущих состояний системы, функционирующей в каких-то стабильных рамках) опосредованы рядом иных состояний, – изменяются сами функции исторического сознания: либо оно выступает как осознание процесса развития общества во времени, либо оно фиксирует противопоставление «нынешнего» состояния «прошлому» (возможен целый ряд таких противопоставлений); эта последняя операция внутренне присуща многим нравственным и религиозным системам. Опосредованная, долговременная социальная память по самой уже протяженности своей не может служить интересам непосредственного продолжения запечатленного (закодированного) в ее структуре типа деятельности.
Таким образом, оказывается, что даже само по себе изменение протяженности «памяти» общественного сознания связано с переоценкой ее предмета, перестройкой ее структуры и функций.
Под «структурой» исторического сознания мы в данном случае имеем в виду способ (или, лучше, взаимосвязь способов) фиксации в нем своего предмета, то есть подлежащих отображению моментов общественных процессов. Сюда относится все многообразие вариантов «сознательного» и «бессознательного», «теоретического» и «практического», «научного» и «мифологического» и т. п. вариантов запоминания обществом своего прошлого.
Аналогия между историческим сознанием и памятью, которой нам уже приходилось пользоваться, имеет немало оправданий. Как писал Ч. Райт Миллс, «историк представляет организованную память человечества, и эта память в виде писаной истории чрезвычайно подвержена искажениям»[262]. Память всякого организма, как теперь хорошо известно психологам, физиологам, кибернетикам, – система весьма сложная, действующая по-разному на различных уровнях; сам характер «ошибок» разных типов памяти представляет предмет специального изучения. Разумеется, это относится и к «социальной памяти», причем, анализируя историческое сознание как один из элементов «памяти» общества (социального организма), мы получаем возможность видеть определенные закономерности в самом соотношении разных типов этого сознания, а в грубых и как будто случайных «ошибках» – разглядеть неизбежные или даже функционально необходимые для определенных фаз общественного развития или для определенных состояний общественной системы иллюзии.
Рассмотрение исторического сознания под углом зрения исторического развития его функций позволит подойти к непосредственно интересующей нас проблеме научности в этом сознании.
Первый очевидный тезис: наличие строго определенного разнообразия форм исторического сознания на различных этапах его развития.
Для непосредственной социальной памяти (в том смысле, как мы о ней говорили ранее) характерна ясно выраженная практичность. Это означает, во-первых, что накопленная социальная информация обслуживает ближайшие, повседневные практические потребности (потребности повседневного функционирования общественного организма), а во-вторых, что эта информация хранится и передается преимущественно «практически», в самом процессе практической деятельности. Поскольку всякая «сегодняшняя» деятельность (в этих исторических условиях) является прямым продолжением и повторением «вчерашней», необходимый для ее осуществления прошлый опыт выступает в виде практических навыков, привычек и т. д.; примерно так можно представить и способ существования непосредственной социальной памяти[263]. (Здесь, видимо, вполне правомерно отождествление «памяти» с «опытом», поскольку память сводится к практически используемым сведениям; понятие же «исторического опыта», отнесенное к более сложным формам социальной памяти, в значительной мере метафорично.) К этой форме могут быть отнесены данные Марксом и Энгельсом характеристики первобытно-практического сознания, которое «вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни»[264].
В наиболее «чистом» виде с непосредственно-практической формой хранения социальной информации мы встретимся, видимо, лишь на теоретически реконструируемых этапах примитивного сознания. В знакомых же нам формах общественной жизни о непосредственно-практических способах хранения и передачи социального опыта можно судить по тем формам культуры, которые находят свое выражение в народных обычаях и традициях. (При этом следует заметить, что сами по себе зафиксированные в общественном сознании обычаи охватывают лишь отдельные моменты этого опыта и скорее служат средством его санкционирования, чем записи; основное содержание непосредственно-практической памяти не осознается, поскольку в этом нет необходимости.)
Элементами этой формы хранения социальной информации служат стандартные отрезки человеческой деятельности, которые должны быть воспроизведены на последующих ее фазах. Поскольку принципом деятельности социальной системы является простое повторение «вчерашнего» (непосредственно-прошлого) состояния, не существует необходимости в выделении каких-то отдельных параметров деятельности (норм, принципов, критериев и т. д.) из общего ее потока, тем более нет условий для фиксации в общественном сознании оценок прошлой деятельности (по самой природе своей эти оценки могут относиться лишь к отдельным элементам прошлой деятельности). Единственным «принципом» работы всего механизма непосредственно-практической социальной памяти является воспроизводство в целости и сохранности нерасчлененных прошлых состояний общества.
Разумеется, эта форма социальной памяти должна быть максимально точной в смысле адекватного воспроизведения «деталей» общественного состояния. В ней попросту нет места для «социально-необходимых» искажений (всякое искажение оказывается помехой, которая терпима лишь статистически, то есть поскольку ее действие перекрывается действием множества «правильных» ячеек памяти).
Конечно, мы рассматриваем заведомо упрощенную, идеализированную картину отношений, которые в чистом виде не существуют.
Но рассмотрение идеализированной ситуации (лучше бы сказать – модели) в науке оправдано постольку, поскольку оно дает некоторый ключ к пониманию проблемы.
Какое, однако, отношение к интересующей нас проблеме исторического сознания имеет рассмотрение модели действия непосредственной социальной памяти, которая – по всем ходячим и общепринятым критериям – явно неисторична? Возможно, такой вопрос не раз уже возникал перед читателем при знакомстве с изложенными выше соображениями. Но «ходячие критерии» – плохая основа для научного анализа именно потому, что в них иллюзия «общепринятости» (это всегда иллюзия!) прикрывает неопределенность или бессодержательность употребляемых категорий. Непосредственно-практический опыт имеет дело лишь с функционированием, но не с развитием; основное его содержание вообще не осознается. Можно сказать, что реальная история общества выступает здесь лишь в своем «снятом виде» – как результат, требующий повторения. Тем не менее с этой примитивнейшей формой существования социальной памяти, различными ее модификациями мы встречаемся на самых разных этапах движения исторического сознания; выделить ее нужно хотя бы для того, чтобы отграничить от иных форм фиксации прошлого.
Существенно иную структуру и, соответственно, иные общественные функции найдем мы у того довольно обширного и многообразного класса идеологических форм, которые можно отнести к мифологическому сознанию. В данном случае оно интересует нас лишь как одна из форм исторического сознания; мифологизм может рассматриваться в разных планах и прежде всего, конечно, как момент культовой (религиозной) системы отношений. Это предпочтение вполне закономерно, поскольку мифологическое сознание рождается в культовом комплексе и переносит культовые отношения (характерный для культа способ иллюзорного снятия реальных противоречий) на иные, обособившиеся или независимые от культового комплекса сферы отношений – моральных, познавательных и др. Именно в культовом комплексе мифологическое сознание, выражаясь на языке изысканной гегельянщины, находит свое «у-себя-бытие». Тем не менее широта сферы воздействия этого типа сознания, прямо или косвенно наложившей свой отпечаток на множество философских, социально-политических, этических, эстетических и, разумеется, исторических концепций, не имеющих прямого отношения к признанным культовым системам, создает возможность рассматривать мифологизм вне связи с другими элементами культа.
Что представляет собой мифологическое сознание как форма сознания исторического?
Очевидно, что в религиозных и сказочных преданиях, былинном эпосе, исторических притчах и т. д. (мы берем пока наиболее зримые формы) в том или ином виде воспроизводятся и оцениваются определенные ситуации, действительно имевшие место в прошлом. Очевидно, далее, что они воспроизводятся «искаженно», «извращенно», «не так, как на самом деле» (то есть, по сути дела, не так, как они были бы воспроизведены в практически-непосредственной или в рационально-научной социальной памяти). На этой достаточно банальной констатации останавливается обычно всякое вульгарное обличение мифологии. Для науки же эта (как и всякая иная) очевидность служит лишь предпосылкой исследования, которое в принципе может идти по двум путям: 1) дешифровки и перевода на рациональный язык тех исторических сведений, которые скрыты в мифологических ситуациях[265], 2) анализа самого способа «шифровки», его внутренних связей, его обусловленности и т. д. В данном случае нас интересует второй путь, или, yже, один из вариантов этого второго пути: анализ особенностей мифологической «обработки» исторической реальности.
Анализ этот с самого начала вынуждает нас признать, что мифологическое сознание представляет собой не просто «извращение» реальности, но какую-то весьма устойчивую, сравнительно мало и медленно (в зримых исторических и географических пределах) вырьирующую систему «извращений», последняя же сохраняется в ходе исторического развития, поскольку оказывается социально необходимой, удовлетворяющей определенным общественным потребностям, или, следуя терминологии Маркса, «восполняющей» действительность. Специфическую особенность мифологического сознания составляет способ иллюзорного преодоления реально значимых противоречий: конструируются такие ситуации и персонажи, в описании которых низкое оказывается высоким, смертное – бессмертным, конечное – бесконечным и т. д. Такое преодоление реальных (для соответствующей эпохи) оппозиций происходит и в иных компонентах культового комплекса, для чего служат свойственные им категории ритуального («литургического», как иногда говорят) времени и пространства, обозначающие особые, исключительные условия, в которых происходит (разумеется, иллюзорно, то есть социально-психологически) снятие реальных противоречий. В мифологическом сознании имеются свои аналоги этих исключительных, священных условий: свои категории времени, пространства, действий и деятелей, которые выполняют те же функции.
Под мифологическим временем обычно понимается свойственное религиозному миру, сказке, притче представление о некотором периоде, когда не существовало смерти, болезней, страданий, различий между человеком и животными, половых табу и т. д.; это время может быть отнесено к прошлому («точно» датированному, как, скажем, грехопадение в библейской литературе, или связанному с неопределенно-отдаленной эпохой, «давным-давно», «когда звери говорили» и т. п.) или также к будущему (рай, «тысячелетнее царство» и пр.). Соответственно, под мифологическим пространством понимается то «тридесятое царство», в котором оказываются возможными действия, неосуществимые в действительности. В качестве мифологических персонажей выступают люди, животные, фантастические существа, наделенные способностью преодолевать непреодолимые барьеры между жизнью и смертью, «землей» и «небом»[266].
К мифологическому типу исторического сознания, исходя из сказанного, мы можем отнести все те способы воспроизведения прошлого, которые служат «восполнению» действительности, иллюзорно решая ее оппозиции, создавая картины мифологического времени («золотого века») и выводя на сцену мифологических персонажей. Очевидно, что нас в данном случае интересуют характеристики исторического сознания, обусловленные самой его структурой, а не убеждения и намерения отдельных историографов или их отношения к каким-либо признанным культовым системам.
Если, как мы уже говорили, непосредственно-практическое сознание должно с неизбежностью стремиться к максимально строгому, детальному воспроизведению реальной ситуации, то в сознании мифологическом такая установка принципиально невозможна. Последнее моделирует реальность вовсе не для ее дублирования, но для воспроизводства иной реальности; оно, следовательно, заведомо необъективно (и не нуждается для своего успеха в том, чтобы быть или выглядеть объективным). Так, известный переднеазиатский (библейский, вавилонский) миф о сотворении мира служит, конечно же, не для воспроизведения этого акта, но для иных целей – оправдания определенных установлений, санкционируемых божественной волей, и т. д. Точно так же рассказ о страданиях Христа важен христианской мифологии прежде всего как источник моральных и теологических выводов, но не как источник исторических сведений о I в. н. э. (Другое дело, что в апологетике достоверность деталей мифа иногда – не обязательно, впрочем – превращается в критерий священности рассказа; богословская позиция в данном случае меняет местами концы каузальной цепи: достоверным кажется в этом сознании то, что свято, во что верят, что выполняет свои функции, – но не наоборот!)[267]
Из этой особенности мифологического сознания вытекает далее, что мифологический текст не может (и не призван) служить в качестве инструкции или образца действия, которое должно быть воспроизведено. «Жить» мифом нельзя, как нельзя и объяснять при помощи мифа историческую действительность. Задача мифа в ином – санкционировать, навязать, распространить определенные типы социальных и социально-психологических отношений.
Мифологическое сознание, следовательно, выполняет свою социальную функцию иначе, чем непосредственно-практическое: путем заведомой трансформации исторического материала, приводящей к его актуализации, то есть заведомого подчинения прошлого сегодняшним – притом мифологическим – оценкам, требованиям, нуждам. Это не значит, что такая операция сознается отдельными ее участниками в настоящем виде; более того, обычно она выступает в «перевернутом» виде – как подчинение настоящего стандартам некоторого идеального прошлого (или будущего), – в то время как на деле происходит лишь трансформация исторического материала в угоду некоторым текущим иллюзиям.
Широкое поле исследования – проблема народности мифологического типа исторического сознания, то есть его связи с массовым сознанием и такими традиционными его формами, как эпос, обычай и т. д. Широко распространенные в нашей литературе тенденции противопоставления этих форм мифологии, как правило, строятся на заведомо узком или даже просто неверном отождествлении мифологического сознания с одним из наиболее известных (точнее, предполагаемом таковым) типов религиозной идеологии. Между тем есть основания полагать, что массовое сознание никогда в принципе не совпадает с какой-либо формой установленной, «специализированной» культовой идеологии. В то же время сам способ воспроизводства и оценки прошлого, характерный для традиционного массового сознания, бесспорно мифологичен. Героизация, морализация, символизация и т. п. превращения, которые являются необходимым условием хранения исторической информации в «народной памяти», – атрибуты мифологического сознания.
Видимо, не будет излишним – особенно для дальнейшего хода рассуждений – подчеркнуть вновь, что нас интересует вовсе не «обличение» мифологического сознания как такового или его воздействия на историческую мысль. Поверхностное обличение, сколь бы резким оно ни было, еще не выводит нас за пределы самого мифологического сознания; оно способно лишь перевернуть присущую ему шкалу ценностей. Эта ситуация вполне аналогична соотношению между легендой и сплетней: «Легенда и сплетня – антиподы. Но они антиподы одного ряда, одной системы. Сплетня – изнанка легенды <…> легенда и сплетня дополняют друг друга»[268].
Функция науки – не в «обличении» легенд, а в объяснении общественных потребностей, которые привели к формированию и господству именно таких продуктов мифологического сознания, в анализе условий, которые приводят или могут привести к переоценке мифов.
Способы мифологической трансформации истории сравнительно немногочисленны и, как показано рядом исследований, повторяются в культурах различных эпох и народов. Отметим четыре из них: 1) прошлое рисуется как адекватное настоящему; время снимается, и «сегодняшний» миф выступает извечным; 2) конструируется картина мифологического времени, прямо противоположного нынешнему; апология настоящего происходит через иллюзорное его отрицание (сюда относятся и представления о рае, золотом веке и т. п.); 3) настоящее выступает неким исключением из хода событий (хаос, упадок, гибель), которое существует благодаря вмешательству исключительных факторов – культурных героев и сил; 4) настоящее выступает результатом всех предшествующих состояний общества. В тех или иных вариантах или сочетаниях мы найдем следы этих типов мифологической трансформации истории и в легендах индейских племен, и в гегелевской концепции мирового процесса.
Тень немецкого философа потревожена не случайно. В его грандиозной конструкции всемирно-исторического процесса, содержавшей немало рациональных подходов к истории и гениальных соображений, открывших новые возможности движения исторической мысли, помимо всего этого (и надо всем этим) виден лик доброго старого мифологизма. Правда, Гегель упорно воевал с ним, стремясь преодолеть богословский разрыв между богом, творящим историю, и историей, им творимой. Но получалось у него то, что, по словам Маркса, Лютер проделал с попами: он превратил попов в мирян, сделав самих мирян попами. Гегель же превратил священную историю в светскую, придав последней священный смысл. Не лишено интереса то обстоятельство, что для подкрепления своей основной идеи о шествии разума в истории («единственной мыслью, которую привносит с собой философия, является та простая мысль разума, что разум господствует в мире»[269]) он прямо ссылался на авторитет Библии и ставил в упрек своим противникам (Канту) отход от ее учения[270]. Гегелевская философия истории мифологична по своим истокам и по своему значению, ибо история в ней подчинена схеме исторической апологетики, а диалектика духа в истории по существу оказывается лишь «инобытием» одного из вариантов христианской концепции преодоления греховности мира.
Однако в данной связи нас интересует не столько сама гегелевская философия истории, сколько один из ее предшественников, противников и в то же время ее наследников. Речь идет об утопизме, который вырос на корнях просветительского рационализма и который пережил гегелевскую критику.
Идею о восстановлении «первоначального» счастливого состояния человека, которой пытались придать рациональную форму многие просветители XVIII в. (Морелли, Руссо), Гегель критиковал резко и верно: «Ведь состояние невинности, это райское состояние, есть животное состояние. Рай есть парк, в котором могут оставаться только звери, а не люди. <…> грехопадение есть вечный миф человека, именно благодаря ему он становится человеком»[271]. Конечно, ни эта, ни последующая критика (и самокритика) утопического сознания не прекратила его существования.
По своим истокам и по своему содержанию утопическое сознание является одним из вариантов сознания мифологического (здесь мифологическое время как бы «социализировано», опрокинуто вперед, то есть «золотой век» усматривается в будущем). Конечно, утопизм в таком понимании значительно шире категории утопического социализма; с другой стороны, идеи общественного прогресса и социального переустройства лишь тогда могут быть отнесены к утопическому сознанию, когда они исходят из утопической схемы исторического движения.
Обратим внимание на некоторые характерные черты утопического сознания:
1) исторический процесс выступает как направленный, ориентированный своей целью, как ортогенез. Все предшествующие состояния общества рассматриваются как ступеньки восходящей к цели лестницы;
2) относимое к мифологическому будущему состояние цельности бытия, свободного от противоречий, выступает в качестве «подлинной» человеческой истории, снимающей все предшествующие ей «неподлинные» этапы, смысл каждого из которых состоит лишь в приготовлении почвы для своего преемника;
3) незаметно входящее в эту схему убеждение, что цель (бога и человечества) оправдывает средства; это убеждение естественно вырастает из самого уже «линейного» расположения этапов восхождения к финалу, где каждое предыдущее состояние оказывается средством достижения следующего и т. д.;
4) отношение к человеческой личности как элементу, средству реализации общественной программы, поскольку реализация утопического идеала считается средством решения всех человеческих проблем.
Эта характеристика утопического сознания отнюдь не предрешает вопрос об исторической роли тех или иных его форм: неизбежность и прогрессивность целого ряда из них достаточно хорошо известны. Другое дело, что консервативность самого типа мифологического сознания вполне присуща любым утопическим представлениям (поскольку история подчинена наперед заданной схеме, вольно или невольно происходит «подгонка» исторических представлений под наличную схему; здесь объективная основа тенденции к стабильности схемы, а значит, и катастрофического преодоления последней). Поэтому оправданная и полезная в одних условиях, утопическая схема оказывается неоправданной и вредной в изменившейся ситуации, но изменяться вместе с ситуацией она не способна. В этом, кстати, одно из отличий мифологического сознания от научного.
Вряд ли можно, однако, сформулировать характеристики научного сознания истории через серию подобных отрицаний. Формирование научного подхода к исторической действительности – процесс долгий и противоречивый, так что гораздо важнее выявить его тенденцию, а не какой бы то ни было изолированный признак.
Предпосылкой развития научного подхода к истории служит изменение места исторического сознания в обществе. Скажем, такие элементарные (по современным нам понятиям) факты, как изменения формы хранения исторической информации, связанные с переходом ее в ведение профессиональных хронистов, пользовавшихся записью, создали серьезнейшую предпосылку для изменения самой структуры зафиксированного знания. По всей видимости, именно здесь появилась та «клеточка» исторического исследования, которая и сейчас составляет основное его содержание; она же составляет центр всей методологической дискуссии вокруг исторического знания: речь идет об «историческом», подлежащем объективной регистрации факте. Стремление фиксировать объективные факты в их хронологической последовательности – независимо от того, сколь полно оно могло реализоваться – задало новый «тон» движению исторической мысли, резко противопоставив его «тону» мифологического сознания. Это не значит, что историческое сознание в этой его форме сразу же выступает неким антиподом сознания мифологического. Скорее наоборот: исторические сочинения, объективные на «низшем» уровне, то есть детально и подробно описывающие факты в их хронологической последовательности, оказывались заведомо субъективными в своих установках, подчиняя описание фактов той или иной мифологической, моралистической, утопической схеме исторического сознания. (Потребовались десятки веков, чтобы стала ясной обусловленность самого понятия «факта» общей установкой описания.)
Как известно, наша «Повесть временных лет» составлялась с ясно выраженной целью: дать оправдание определенным социально-политическим и нравственно-религиозным идеям (противопоставление христианского мира варварскому, единство славян и др.). Современный исследователь «Повести…» Д.С. Лихачев усматривает в ней «осмысление политической действительности», отмечает «героическое и учительное» значение исторической хроники[272]. Он связывает эти особенности древних памятников исторической литературы с «особым характером народной памяти», с влиянием «народно-поэтического отношения к миру»[273]. По сути же дела, речь идет именно о тех явлениях, которые служат атрибутами мифологического сознания.
С той же картиной встретимся мы и в «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина, которую отделяют от нас всего полтора столетия. «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего»[274]. И эту программу прославленный основоположник отечественной историографии последовательно реализует.
Отметим, что еще во времена Карамзина в историю входила едва ли не вся совокупность социальных знаний. Дальнейшее движение исторической мысли связано с двумя принципиально важными процессами: 1) обособлением дисциплин, рассматривающих определенные аспекты функционирования общества как системы (политическая экономия, социология); 2) десакрализацией, демифологизацией самого исторического сознания, связанной с изменением его функций в обществе (продуктами этого процесса – как бы продуктами «полураспада» мифологизма – выступают многообразные варианты утопического сознания, этического, эстетического, короче говоря, ценностного отношения к исторической реальности). Рассмотрение этих процессов неизбежно приводит нас к вопросу о характере и судьбах историзма как важнейшего явления исторического сознания, сложившегося непосредственно после его избавления от мифологических концепций.
Метод и концепция историзма
Крупнейшим явлением научной мысли XIX в. было формирование и торжество историзма, выступившего в качестве метода исследования как в сфере естественно-научной, так и в сфере социального знания. Принципы историзма за последние сто лет столь прочно вошли в научный обиход, приобретая признаки очевидности, что – как это, впрочем, всегда бывает с обиходными категориями – их реальное содержание не часто привлекает специальное внимание. Эта мнимая очевидность служит источником многих методологических ошибок.
Так, прежде всего возникает вопрос, правомерно ли считать, что исторический метод применяется в таком «жанре» исторического исследования, как хроника, то есть расположении реальных событий на шкале времени. Мы отнюдь не собираемся дезавуировать хронику как способ фиксации исторического материала. Хроника – исторически первый способ объективного (точнее, стремящегося быть объективным) отношения человечества к своему прошлому. В то же время это вновь и вновь повторяющаяся в движении исследования фаза «собирательства». С хронологизмом, однако, связаны по крайней мере две чрезвычайно распространенные иллюзии. Во-первых, иллюзия относительно того, что хроника служит «началом» всякой историографии и потому свободна от всякого мифологизма (и идеологизма вообще). На деле же сама фиксация фактов предполагает какие-то предварительные, большей частью неосознанные способы выделения и классификации этих фактов, и уже благодаря этому последовательность их расположения в той или иной форме содержит некоторую схему их взаимосвязи, направленности этой взаимосвязи[275]. Вторая же иллюзия состоит в том, что хронологизму приписывается некая концепция «исторического процесса» (в частности и в особенности – концепция историзма). Последовательность фактов объявляется закономерностью, благодаря чему донаучные (по крайней мере предшествующие какому-либо определенному исследованию) предпосылки отбора и оценки «фактов» выступают в качестве «научных выводов». Эта иллюзия, носящая характер профессиональной болезни хронистов всех времен (и подкрепляемая упомянутым ранее фактором иллюзорного общественного престижа научного знания и его суррогатов), в немалой мере способствует разрушительной работе кантианской и позитивистской критики историзма.
В самом общем виде историзм как метод исследования может быть охарактеризован как: а) рассмотрение явлений действительности как процессов, протекающих во времени, и б) признание обусловленности данного состояния процесса его предшествующим состоянием. От хроники историческое рассмотрение отличается тем, что оно берет не столько последовательность, сколько детерминацию явлений; от мифологического (утопического и т. п.) подхода к прошлому историзм принципиально отличен, как каузальность от финализма, то есть как объяснение «почему» от объяснения «для чего».
Но что такое переход от хронологизма к историзму? Обиходное представление о том, что внимательное наблюдение достаточно большого числа фактов, при наличии соответствующего интереса, «ведет» исследователя к обнаружению связей между фактами или к построению теории, охватывающей целый класс таких связей, неверно и являет собой распространенный пример логической ошибки «post hoc, ergo propter hoc». В действительности обращение к фактам обеспечивает проверку, браковку, отбор концепций, которые, конечно, не априорны, не извечны, но которые сложились в каком-то ином процессе, на ином уровне. Так обстоит дело и с историзмом. Отсюда следует, что, собственно, происходит переход от явного или скрытого мифологизма, утопизма к историческому рассмотрению прошлого, которое подчиняет себе хронику и определяет ее движение, подобно тому как до этого хроника подчинялась иным методам.
Для формирования историзма как универсального метода исследования в общественных науках решающее значение имели философские концепции прогресса (Гердер, Гегель) и в особенности эволюционные идеи в естествознании (биологии, геологии, космологии), серьезно повлиявшие на все мировоззрение своего времени. Р. Виппер справедливо отмечал, что Гердер «находился под обаянием прежде всего естественно-научных открытий. Фундамент его истории человечества – это история Солнечной системы, история образования земной коры, история развития растительных и животных видов»[276].
Нет нужды доказывать, как повлияли на распространение исторического подхода к обществу успехи дарвинизма. Общеизвестна та высокая оценка роли эволюционной теории в формировании диалектико-материалистического метода, которая дана в классической марксистской литературе; в то же время эта теория оказала огромное влияние и на немарксистскую общественную мысль. «Всепроникающая концепция истории в своем приложении не только к человеческим действиям, но к самой природе обязана, как я полагаю, в основном Дарвину»[277], – писал С. Александер.
Марксистская теория выступила как последовательное применение исторических принципов к общественной жизни. «Мы знаем только одну-единственную науку, науку истории», – писали Маркс и Энгельс[278]. (Очевидно, что здесь речь идет именно о методе исторического рассмотрения действительности, а не об истории как особой дисциплине.) Излишне напоминать, что марксистский историзм базируется на понимании роли материального производства и материальных отношений в общественном процессе, в то время как иные исторические концепции, как правило, выделяли культурные факторы движения общества. В данном случае представляется целесообразным сосредоточить внимание на судьбе самого принципа историзма, поскольку от той или иной его трактовки зависит и выбор «факторов».
К концу XIX в. историзм стал универсальной модой. Хорошим выражением ситуации можно считать известный тезис Бернгейма о «трех стадиях исторической науки» (повествовательной, поучительной, генетической)[279]; представлялось, что «генетическая история» (то есть историзм) окончательно одержала верх над хроникой, мифологизмом и морализированием. Тому же автору принадлежит характерное определение истории как «науки, которая изучает и излагает в каузальной связи факты развития людей как социальных существ во всех видах их действий (индивидуальных, равно как типических и коллективных)»[280]. И именно универсальная «мода» на историзм позволила выявить существенные его изъяны и слабости. В.И. Ленин отмечал, что принцип развития получил широкое распространение в своем опошленном, вульгаризированном виде; для общественных наук справедливость этого замечания особенно очевидна.
Прежде всего вульгарно интерпретировался сам принцип каузальности в историческом процессе. Не умея подойти к определению «механизма» этого процесса, либеральнопошлые разносчики историзма и их вульгарные оппоненты попытались зримую, наглядную (во второй половине прошлого века) картину общественных изменений выдать за универсальный закон. С этим связана та концепция вульгарного «прогрессизма», которая с легкостью обернулась концепцией универсального отчаяния и паники, столкнувшись с двумя мировыми войнами, фашизмом и тому подобными проявлениями противоречий современного общественного развития. Немалый ущерб нанесло вульгарно понятому прогрессизму и обнаружение многообразия общественных систем, которые не укладывались в схему «линейного» восхождения человечества.
«Внешние» удары стимулировали и вывели на поверхность давно назревавший внутренний кризис вульгарного историзма. Так, например, стала ясна вся противоречивость понятия «исторического факта», которое примитивный историзм принимал за нечто незыблемое; вместе с этим оказалась подорванной и наивная достоверность «фактологической» историографии. Брошенный в свое время Л. Ранке лозунг «в простом и чистом виде раскрыть, как это было»[281], который как будто соответствовал наивно-реалистической трактовке историзма, обнаружил свою бессодержательность при первом же столкновении с анализом исторического исследования. В конечном счете этот лозунг не отличается от поучения Цицерона историкам: «Первый закон истории – не сметь говорить неправды, второй – говорить всю правду»[282]. «Факт» в вульгарном историзме оказался функцией концепции, исторической схемы, причем именно в силу того, что наложение концептуальной системы на фактологию произошло неосознанно, в роли такой системы выступила некоторая трансформация известного нам мифологизма и утопизма. Прогрессизм, претендовавший на объективное, «идеологически нейтральное» выражение реальности процесса, был уличен как переодетый финализм, конструирующий схему всеобщего движения к предзаданному всеобщему «happy end».
Смешение разнородных процессов функционирования и развития, а также разных типов каузальной обусловленности явлений (динамической и статистической) в значительной мере способствовало изображению всего исторического движения в виде этакого поступательного восхождения, а исторического прошлого – апологией данного настоящего.
Лапласов тезис о возможности вывести все события мирового развития из формулы, обозначающей «первоначальное» состояние мира, у Фихте звучал так: «Все, что действительно существует, существует с безусловною необходимостью и с безусловною необходимостью существует именно так, как существует; оно не могло бы существовать или быть иным, чем оно есть»[283]. То же самое, но теперь уже просто вульгарное (ибо атрибуты божества всегда банальны без своего носителя) понимание исторического детерминизма мы находим и у Конта: «Учение, которое удовлетворительно объяснило бы прошлое в целом, неизбежно получило бы, вследствие одного этого достижения, духовную власть над будущим»[284]. Из этих методологических позиций – сознательно или нет – исходят все те разновидности описаний «закономерного прогресса» истории, в которых трактовка направленности этого прогресса непосредственно зависит от «точки отсчета», то есть от места облюбованной историком точки зрения на «линии» воображаемого прогресса.
Изъяны историзма в том виде, в каком он получил широкое распространение, были отмечены и подвергались критике задолго до начала «критического похода» против историзма, предпринятого в последние десятилетия историками и логиками, этнографами и философами, главным образом связанными с современными вариантами кантианских, позитивистских, экзистенциалистских теорий. На пошлость вульгарного прогрессизма в его буржуазных и мелкобуржуазных разновидностях не раз указывали классики марксизма. Специальное и усиленное внимание к ней было, однако, привлечено именно в период «критического похода».
Социально-политические предпосылки этого явления уже неоднократно получали оценку в советской философско-исторической литературе[285], что избавляет нас от необходимости возвращаться к этой наиболее очевидной стороне вопроса. Важно отметить некоторые моменты логики «критического похода» (или «походов»), поскольку они объясняются логикой самого историзма.
Одной из особенностей «критического похода» был (и есть) намеренный или ненамеренный оттенок «разоблачительства», присущий самой критике историзма XIX в. В этом нет ничего удивительного, причем дело опять-таки не столько в намерениях и интересах «критиков» (от Риккерта до Поппера), сколько в характере критикуемых концепций и в методе подхода к ним. Научные теории, гипотезы, выводы подлежат критике, сомнению, дополнению, пересмотру, опровержению и т. д., но не подлежат разоблачению; этой последней операции просто нет, не должно быть в научном исследовании. Объектом разоблачения может быть лишь миф, легенда, то есть нечто иллюзорное, облаченное в священные одеяния. (Не факт отсутствия нового платья у короля, но миф о наличии этого платья был развенчан мальчишеским возгласом.) Либеральный прогрессизм подлежал разоблачению и опасался разоблачения, поскольку был трансформацией и продолжением мифологического восприятия истории.
Основным пунктом неокантианской критики историзма (Риккерт) было, как известно, противопоставление двух способов образования понятий – естественно-научного (натурализма) и культурно-исторического (ценностного). Кантово различение «естественного» порядка природы и «морального» порядка человеческой жизни у Риккерта превратилось в различение способов построения знания, причем один и тот же объект (явления общественной жизни) может рассматриваться в разных планах, при помощи «исторических» (индивидуализирующих) и «натуралистических» (генерализирующих) методов в зависимости от того, интересует ли исследователя неповторимость данного конкретного события или какая-либо общая закономерность (социология при такой трактовке противопоставлялась истории как один из образцов «генерализирующего» подхода). Требуя строгого разграничения указанных методов, Риккерт резко ополчался против «историзма как мировоззрения»[286].
Было бы неверно, однако, утверждать, что неокантианцы отрицали возможность истории как науки. По словам того же Риккерта, именно история является «подлинной наукой о действительности»[287], поскольку она и только она имеет дело с реальными, единичными фактами, в то время как «натурализм» оперирует с «общими понятиями». В этом отношении неокантианство резко отличается от «философии жизни», скажем, О. Шпенглера: «Природу должно трактовать научным образом; напротив, история должна быть предметом поэтического творчества»[288]. То же у Ортеги-и-Гассета: «Физико-математический разум, то ли в грубой форме натурализма, то ли в возвышенной форме спиритуализма, не был в состоянии справиться с человеческими проблемами <…>. Человек – не вещь, но драма: его жизнь – чистый и универсальный случай, который случается с каждым из нас и в котором каждый является не чем иным, как случаем»[289]. В противоположность «философии жизни» у Риккерта есть такое понятие, как «система безусловных ценностей»[290], которая призвана служить некой мерой для индивидуальных событий (высшая ценность – свободная, автономная личность).
Категорическое противопоставление генерализации и индивидуализации при описании исторической реальности подвергается критике давно и с разных сторон. (Хотя противопоставление это, как мы уже видели, касается методов познания, а не областей знания, различие характера самих познавательных интересов при изучении общества и природы с неизбежностью приводит к тому, что именно история общества как сфера действия интереса к «индивидуальному» отграничивается от «области науки».)[291] Наиболее часто повторяемое возражение состоит в том, что в любом конкретно взятом историческом исследовании мы встречаемся и с генерализацией, и с индивидуализацией, и с частными разновидностями (или побочными продуктами) этих процессов, вроде типизации, сравнения и т. д. Эмпирически очевидная такого рода критика нередко выражается в виде общих рекомендаций «конкретно», «творчески», «диалектически» сочетать различные приемы исследования[292]. Подобного типа «обобщения» никоим образом не добавляют строгости к наличному арсеналу приемов, используемых историком, и не опровергают пресловутой дилеммы (если историк пользуется разными, даже взаимоисключаемыми методами исследования, это говорит не об их совместимости, но о характере самой исторической дисциплины, в которой различные подходы соединяются при помощи чутья, интуиции, интересов исследования). Видимо, независимо от мотивов и формы ее постановки (Риккертом или Аристотелем) дилемма «истории» и «закона» не столь проста, хотя практически она решается ежедневно и ежечасно.
Хорошей моделью интересующей нас ситуации может служить одно рассуждение Л.Н. Толстого: «Доктора ездили к Наташе и отдельно, и консилиумами, говорили много по-французски, по-немецки и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней; но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа, как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек, ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь, не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и т. д., записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов»[293]. Этот пример удобен потому, что ситуация медика (при диагнозе), пожалуй, более подобна ситуации историка, чем, скажем, ситуации физика, ботаника или любого другого естествоиспытателя. И, конечно же, это пример, показывающий практическую несостоятельность рассуждения о «неповторимости» исторического события. Успехи медицины говорят о том, что болезни при всем их своеобразии с достаточно большой степенью уверенности могут быть отнесены к каким-то (вовсе не «бесчисленным») вариантам и излечимы при помощи определенного (тоже не бесконечного) набора приемов и средств; именно принципиальная возможность сосчитать эти варианты вызывает к жизни и «машинную диагностику», да и саму медицинскую науку как науку. Но так же поступает практически всякий историк, когда он типизирует и обобщает исторический материал, отвлекаясь от некоторых несущественных индивидуальных подробностей. Весь вопрос, следовательно, в возможности «отвлекаться» от деталей и сосредоточивать внимание на «существенном».
Еще одной иллюстрацией нашей дилеммы может служить следующая мысль К.А. Тимирязева: «Всякое же возможно полное изучение конкретного явления неизменно приводит к изучению его истории. Для изучения законов равновесия и падения тел довольно данных экспериментального метода и вычисления; для объяснения же, почему именно развалился дом на Кузнецком мосту, нужна его история»[294].
«Практический» выход и здесь, очевидно, прост: выбор необходимого угла зрения. Теоретическая же проблема состоит в том, чтобы выяснить возможности, условия, «цену» такого выбора. И это опять приводит нас к понятию интересов, определяющих выбор историка.
Марксистская концепция исторического развития как «естественно-исторического процесса» (Маркс), как процесса, происходящего с «естественно-исторической необходимостью», как процесса, который «можно констатировать с естественно-научной точностью» (Ленин), предполагает совершенно сознательное выделение определяющей тенденции этого развития и, соответственно, сознательное отвлечение от несущественного, от конкретных деталей. Именно это дает реальную основу соединению различных исследовательских приемов в марксистской историографии. Конечно, этот механизм действует, поскольку сохраняет свое значение принятая концепция. Что же касается интересов историка, то здесь марксистская позиция, как известно, состоит в анализе их как общественно необходимых, объективно обусловленных и т. д. (это, конечно, относится и к ценностям). Названная дилемма перестает быть делом произвольного выбора отдельного исследователя, а вместе с этим она перестает быть и дилеммой научной мысли. Реально значимой оказывается проблема множественности путей движения исторического сознания.
Самая резкая критика всего развития этого сознания исходила за последнее время от К. Поппера, известного логикапозитивиста. В своей «Логике исследования», а затем особенно в «Нищете историзма» и «Открытом обществе» критика историзма (или «историцизма», как называет его Поппер) является излюбленным коньком автора. Характеристика взглядов Поппера как антиисторических стала в нашей литературе почти общепринятой. Однако такую характеристику нельзя считать достаточно содержательной: абстрактное противопоставление «историзма» и «антиисторизма», которое нередко встречается у самих участников «критического похода», вряд ли следует принимать за отражение реального положения дел. О значении их разрушительной работы следует судить не столько по явным или тайным намерениям, сколько по результатам, по тем целям, в которые не только метят, но и попадают критические стрелы.
В действительности объект критики Поппера существенно отличается от предполагаемого. Рассчитывая, по-видимому, попасть в «яблочко» историзма, он задевает, по существу, лишь побочные или пережиточные его транформации (мифологизм и утопизм в историческом сознании), хотя эти трансформации вполне реальны. Ведь, по Попперу, историзм – это «вера в историческую судьбу»[295], вера в непреложные законы, однозначно определяющие будущее, это стремление насильственно разрушить существующий порядок во имя некой социальной утопии и т. д. Создав подобную картину историзма (которая, очевидно, не имеет ничего общего с Марксовым пониманием «естественно-исторического процесса»), Поппер весьма легко ее разрушает. Для этого ему достаточно упоминания о том, что будущее непредсказуемо, поскольку непредсказуем рост такой важной составляющей процесса, как наука, что история знает лишь «тенденции», но не нормативные «законы» и т. д. На таких посылках строится и решающий вывод о том, что «нищета историзма <…> это нищета воображения»[296].
Альтернативой «историцизму» Поппер считает «частичную социальную инженерию», то есть сознательное развитие ближайших тенденций общества. Сколь ни резко противостоит эта умеренно-реформистская точка зрения утопической, она тоже предполагает некоторое, пусть недалекое, проектирование будущего. Сама эта идея противоречит тезису Поппера о неприменимости научного метода к процессам, развертывающимся во времени («даже если бы обычные методы физики были применимы к обществу, они никогда не были бы применимы к его наиболее важным чертам: его делению на периоды и появлению нового»[297]). Из этого затруднения Поппер выходит чисто логическим путем. Теории общественного процесса, по его мнению, не могут быть доказаны, но могут быть опровергнуты в сопоставлении с данными («принцип фальсифицируемости»). Отсюда следует, что лишен всякого смысла вопрос о том, откуда взялась та или иная теория, важно лишь, как она проверена[298]. Между тем неважное или случайное для отдельно взятого исследователя знание об источниках его концепций важно и закономерно для общества, а происхождение такого-то именно комплекса теорий подлежит научному анализу.
Другой аспект воззрений на исторический метод стал предметом резкой критики со стороны функционалистских, а затем и наследующих им структуралистских течений в социологии и этнографии. Помимо целого ряда внешних и случайных для научного исследования мотивов, в этой критике есть и содержательная сторона: речь идет о соотношении структуры и процесса. Если историзм первоначально представил общественную жизнь как ряд процессов, то следующий за этим шаг неизбежно должен был состоять в объяснении «организованности» этих процессов, их взаимообусловленности в рамках определенных систем отношений. Серьезнейшее методологическое значение провозглашенного функционализмом принципа соответствия общественных явлений определенным потребностям[299] состоит в том, что он перенес центр внимания с «исторических рядов» на «исторические системы» (точнее, на системность общества, рассматриваемого вне истории).
Как мы видим, длящиеся уже несколько десятилетий дискуссии вокруг проблемы историзма практически не изменяют самого характера исторического исследования. Оно остается столь же комплексным, методологически столь же многоликим, как пятьдесят или сто лет назад (повторяем: мы говорим о структуре, а не об общефилософской основе исследования). Методологический спор не изменил историографии, но и не исчерпал себя, поскольку сохранились породившие его реальные противоречия исторического метода.
Число и структура в истории: новые соблазны или новые возможности?
После того как выявился ряд реальных и глубоких противоречий, разъедающих исторический метод в тех формах, в которых он получил широкое распространение, реакция на эти противоречия приобрела немаловажное значение в определении дальнейших судеб историзма.
Реакция эта может быть троякой.
Первая, наиболее банальная ее форма – и, к сожалению, чаще всего дающая о себе знать – состоит в том, чтобы попросту игнорировать проблему, продолжая катить тяжелогруженую колесницу исторического знания по проторенным, сложившимся (и слежавшимся) колеям. Престиж традиции, закрепленной различными институциальными формами, создает и долго еще будет создавать здесь иллюзию стабильности и стройности, скрывая методологические «стыки» и коллизии, позволяя относить теоретическую дискуссию куда-то в дальний угол или даже в какую-то пристройку здания, занимаемого историческими дисциплинами. Конечно, такая позиция не всегда означает отрицание определенной методологической ориентации в историческом эмпиризме: отрицается лишь необходимость осмысления давно действующей и привычной ориентации, сложившейся, по существу дела, стихийно. Поскольку, как мы уже видели, в самом фундаменте этой привычности заложена немалая доза трансформированного тем или иным образом мифологизма, утопизма, финализма, сохраняется и почва для противоборства «мифа» и «разоблачения» как двух полярных точек привычного вращения всего колеса исторического сознания. Такой подход не выводит историческое сознание из донаучных рамок, и в данном случае нам важно было обратить на него внимание лишь как на показатель силы традиции в наш век бурной ломки идеологических традиций.
Второй тип реакции на противоречия историзма – это уже знакомая нам позиция Шпенглера и Ортеги-и-Гассета: раз и навсегда признать невозможность научного подхода к истории человечества, сознательно отдав последнюю иррациональному мифу. Позиция эта довольно четкая и ссылающаяся в свое оправдание на то, что практически все историческое знание таково. Именно в силу сознательной иррациональности такой точки зрения какая-либо логическая ее критика затруднена, и надежным ответом может быть лишь доказательство от противного: доказательство плодотворности иного, рационального и научного подхода к исторической действительности.
Это и составляет реальное содержание третьего, наиболее интересного для нас типа ответов на поставленные ранее вопросы – поиск более эффективного и более современного научного подхода к истории.
Современный авторитет «точных» методов и сфер научного исследования (то есть тех, которые основаны на количественном анализе и четкой логической структуре вывода), естественно, приводит к вопросу о том, какое значение для исторического познания могут иметь эти методы.
Собственно говоря, проникновение в исторические дисциплины математических и статистических методов – не событие наших дней, оно началось еще в первой половине прошлого столетия. При этом уже тогда дело не ограничивалось просто увеличением цифровых данных в описаниях общественного бытия соответствующей эпохи, но речь шла и о попытках использовать в исследовании новый для своего времени подход к самой характеристике этого бытия. Так, появление термодинамики дало стимул для рассмотрения общества как статистического агрегата, характеризуемого определенными показателями.
Классическим примером может служить трактовка уголовной статистики Ж. Пэше, а потом Л.А. Кетле, Г. Боклем и др. Из книги Пэше К. Маркс выписал следующее положение: «Ежегодное число самоубийств, которое является у нас до известной степени нормальным и периодическим, следует считать симптомом плохой организации нашего общества, так как во время застоя промышленности и ее кризисов, в эпоху дороговизны средств к существованию и в суровые зимы симптом этот более бросается в глаза и принимает эпидемический характер. Проституция и кражи растут тогда в такой же пропорции»[300]. Исходя из аналогичных данных о постоянстве числа преступлений, Бокль (следуя взглядам Кетле) делал вывод о том, что «самоубийство есть продукт известного состояния всего общества», «проступки людей происходят не столько от пороков отдельных виновников, сколько от состояния общества, в которое эти люди бывают заброшены»[301].
Очевидно, что по мере развития социальной (в частности, демографической) статистики появились возможности для выделения новых и новых, надежно измеренных суммарных показателей «состояния общества» (национальный доход на душу населения, потребление культурных благ и т. д.). Существенная ограниченность подобных методов состоит в том, что они не дают надежной основы для сопоставления различных типов общества, поскольку изменение учитываемого показателя является плодом совокупного действия разнородных факторов; не приближают они и к выяснению механизма изменения «общественных состояний».
Влияние естественных наук на социальные не кончилось. «Могущественный ток к обществоведению от естествознания шел, как известно, не только в эпоху Петти, но и в эпоху Маркса. Этот ток не менее, если не более, могущественным остался и для ХХ века», – писал В.И. Ленин[302]. Вопрос в том, какой характер носит в современных условиях влияние на историческое исследование «естественно-научных методов» (точнее, методов, разработанных в русле естествознания и «точных» математических дисциплин).
Прежде всего, конечно, бросаются в глаза такие важные новшества, как применение современных физических методов (радиокарбонного и др.) для датировки памятников, растущее использование электронно-вычислительных машин для анализа массовых данных, для расшифровки текстов[303].
Уже сейчас применение новых методов и новой техники анализа массовых данных позволило ввести в научный оборот новые материалы (анкеты и др.), более строго обосновать определенные теоретические положения, гипотезы. Возможности дальнейшего движения в этих направлениях, по-видимому, неисчерпаемы.
Более сложен, однако, вопрос о методологическом значении самого факта все более интенсивного проникновения точных методов в историческое знание. Ведь само по себе дополнительное количество данных или ряд более строго обоснованных выводов непосредственно не изменяет характера исторического исследования и мышления исследователя. Никакое количество статистических данных, сведенных в ряды, таблицы и графики, не делает еще точной концепцию исследователя (хотя иногда и создает иллюзию обоснованности концепции). Поскольку речь идет только о технических приемах, прав Коллингвуд: «Статистические исследования для историка – хороший слуга, но плохой хозяин. Он ничего не выгадает от статистических обобщений, если он не выделит мысли, стоящей за фактами, которые им обобщаются»[304]. И даже такой поборник математизации социологии, как П. Лазарсфельд, признает, что «статистические результаты могут быть получены только в ответ на предыдущие рассуждения»[305].
Значение точных данных социальной статистики или результатов математической обработки массовых источников в историческом знании зависит от сознательно или бессознательно принятой или усвоенной исследователем схемы, концепции. Совершенно аналогичная ситуация складывается при применении математических методов в биологии, в экономике, в лингвистике. Использование теории информации при изучении процессов жизни, например, осложняется отсутствием научной характеристики содержания информационных процессов в организмах.
Но можно ли считать, что формирование «исходной» исследовательской схемы – то есть выделение предмета исследования – неизбежно должно оставаться полуосознанной, традиционной, интуитивной предпосылкой исторического изучения? Не поддается ли этот процесс научному анализу и воздействию современных достижений научной мысли? Очевидно, что здесь – центральное звено всей интересующей нас проблемы.
И здесь уже возникает вопрос о воздействии не отдельных достижений, приемов, техники, но самого «духа» научного мышления нашего века на историческое знание. (Кстати, применение статистических методов для изучения исторического материала – это не только способ обнаружить или пополнить некоторые новые знания, но и особый способ изображения общественных отношений как статистических закономерностей.)
Одной из важнейших составляющих этого «духа» является категория структуры, широко используемая в самых различных областях знания.
Видимо, нельзя считать структурализм особым и целостным направлением научной мысли; этим термином, однако, широко пользуются для обозначения ряда более или менее сходных тенденций в подходе к рассмотрению социальных объектов[306]. Общими их чертами являются стремление выделить методологические принципы изучения системных объектов, поставив в связи с этим рассмотрение взаимоотношений элементов системы на первое место по сравнению с их историей и придавая отношениям между элементами («структуре») большее значение, чем самим элементам. В числе теоретических предпосылок структурализма обычно фигурируют методы современной физики, кибернетики, теории информации, а также структурной лингвистики и ее производных.
Категория структуры, поиски путей анализа структурных явлений – одно из наиболее ярких выражений духа современного естествознания. «Физика сегодня занимается больше энергией, чем материей, больше формой, чем субстанцией, больше организацией, чем веществом <…>. Весь мир опыта начинает выглядеть как иерархия систем; и главная задача науки состоит в том, чтобы формулировать законы, при которых эти системы сохраняются и взаимодействуют»[307].
Сама по себе постановка задачи исследования системных объектов как таковых не нова: теоретики лингвистического и антропологического структурализма (Л. Блумфилд, К. Леви-Строс) нередко ссылаются на «Капитал» как образец анализа системы, на анализ структур родственных отношений у Л. Моргана и Ф. Энгельса[308].
Эти ссылки, конечно, не случайны. Материалистическая концепция общественной жизни впервые дала образец научного подхода к структуре общественного организма, прежде всего экономического «скелета».
Новым и специфическим для современного структурализма как тенденции (а не определенной школы) являются попытки создать абстрактную методологию изучения систем безотносительно к их вещественной, эмпирической природе. С этим связано, в частности, открытое размежевание с традиционными формами историзма.
В общественных дисциплинах наибольшее развитие структурные методы получили в лингвистике, поэтому целесообразно оценить их значение именно в этой области.
Исходным пунктом развития лингвистического структурализма послужило сделанное Ф. Соссюром в его «Курсе общей лингвистики» разграничение двух способов рассмотрения языка: синхронного и диахронного, причем решающим выступал первый. Провозглашение примата синхронии связывалось с представлением о языке как целостной функционирующей системе. Ф. Соссюр так пояснял свою концепцию: «Чтобы описать шахматную позицию, совершенно незачем вспоминать, что случилось на доске десять секунд тому назад»[309]. В дальнейшем теоретики различных школ структурной лингвистики сформулировали принципы исследования языка как системы абстрактных отношений. «Чувственное содержание фонологических элементов менее существенно, чем их взаимные отношения в рамках данной системы», – гласил один из основных тезисов Пражского лингвистического кружка[310]. Не отрицая исторического рассмотрения языка, структуралисты требовали судить о его исторических изменениях как об изменениях в рамках целостной системы.
В современных методологических дискуссиях вокруг структурной лингвистики существенное место заняли проблемы соотношения формальных и «живых» языков в плане их системности и в связи с этим значения различий между синхронией и диахронией. Никакой реальный, исторически сложившийся язык не является замкнутой системой взаимообусловленных элементов; представление о языковой системе есть методологическая абстракция. «Неисторичность (синхронность) принадлежит к сущности описания, а не к сущности языка <…>. Описание, история и теория не находятся в антитезе и не противоречат друг другу; они взаимодополняют друг друга и составляют единую науку»[311]. Отсюда – поставленная, но не решенная проблема перехода от описания структур к их историческому рассмотрению. «Основная проблема современности – это проблема включения структур в процессы»[312].
С самого начала своего развития лингвистический структурализм выявил определенные методологические требования к иным, внеязыковым социальным явлениям. История этого течения связана с влиянием социологии Дюркгейма на лингвистическую теорию Соссюра, а последней – на социологические идеи Мосса, преемника Дюркгейма. Теоретики Копенгагенского лингвистического кружка Л. Ельмслев и Х. Ульдалль писали об отставании гуманитарных наук, которые не решаются перейти от рассмотрения «вещей» к свойственному точным дисциплинам анализу отношений и функций в их абстрактном виде[313].
Эту установку стремится реализовать в последние годы Клод Леви-Строс, крупный французский этнограф, увлеченный сторонник применения «точной» методологии в социальных дисциплинах. Леви-Строс не склонен категорически отграничивать точные и естественные науки от социальных и гуманитарных, но в то же время полагает, что научен по своему духу только подход точных и естественных наук, на который должны опираться гуманитарные науки[314]. Гуманитарные дисциплины при этом используют в первую очередь не количественные, а структурные методы естествознания. Примером служит структурная лингвистика, призванная «сыграть по отношению к социальным наукам ту же новаторскую роль, какую, например, ядерная физика сыграла для всех точных наук»[315].
В своих работах Леви-Строс выделяет два момента, которыми, по его мнению, обусловлено использование точных, структурных методов в социальных науках. Во-первых, это выделение «бессознательной» стороны общественной жизни, которым, по мнению автора, подход этнологии отличается от подхода истории к одному и тому же объекту[316]. «Необходимо и достаточно принимать во внимание бессознательную структуру, составляющую первооснову всякого института или всякого обычая, чтобы получить принцип интерпретации, действительный для других явлений, – конечно, при условии дальнейшего анализа»[317]. Фактически речь идет о том объективном подходе, который Маркс называл естественно-историческим и который предполагает рассмотрение объективно закономерных процессов. Не случайна поэтому и ссылка Леви-Строса на Маркса[318]. Правда, ограничение сферы истории рассмотрением «бессознательной» стороны общественных процессов, как у Коллингвуда, нельзя признать плодотворным. Сознательные и целенаправленные действия также могут и должны рассматриваться в их закономерности, под углом зрения их места в социальном процессе, их структуры и т. д. Второе существенное условие развития структурных принципов в обществоведении – это необходимость создания теоретических структурных моделей. «Основной принцип заключается в том, что понятие социальной структуры соответствует не какой-либо эмпирической реальности, но лишь сконструированным по ней моделям»[319]. Структуры должны быть «сводимы к моделям, формальные особенности которых были бы сравнимы независимо от элементов, их составляющих»[320].
Таковы исходные требования структурного исследования по Леви-Стросу. В общественной жизни Леви-Строс различает три сферы, три типа «бессознательных» процессов, к изучению которых применимы методы структурализма: 1) система родства («циркуляция женщин в социальной группе»), 2) экономика («циркуляция благ»), 3) язык («циркуляция сообщений»)[321]. Собственные интересы автора и, по его мнению, этнологии вообще сосредоточены на системах первого типа.
Одним из частных приложений концепции Леви-Строса является анализ им мифологических систем. Им выдвинуто положение о том, что значение мифа «содержится не в изолированных элементах, но только в способе, каким эти элементы соединяются»; отсюда выводится исследовательская задача – выделить в каждом мифологическом тексте его дифференциальные элементы и сопоставить их структур[322]. Весьма спорные в некоторых отношениях, например в отношении критериев выделения «элементов», эти конструкции требуют отдельного рассмотрения. Отметим лишь, что они развивают тенденции формального анализа мифологического «языка», предложенного ранее феноменологическим религиеведением (М. Элиаде и др.) и отвлекающегося от проблемы социального, «коммуникативного» значения этого языка[323].
Вполне закономерно, что взгляды Леви-Строса и его сторонников – точнее, предлагаемые ими методы рассмотрения социальных явлений – вызывают многочисленные споры. При их оценке представляется важным учитывать, что концепция Леви-Строса может рассматриваться как один из вариантов трактовки структурализма применительно к социальному исследованию, притом это как раз метод, оставляющий в стороне собственно исторические задачи. Любопытная деталь: рассматривая структуру отношений в наиболее «примитивных» общественных коллективах, исследователь обнаруживает в них не предполагаемую «простоту» и «целесообразность», но многочисленные наслоения прошлых эпох[324].
В советской научной литературе за последнее время разрабатывался ряд структурных (или близких к ним) методов анализа внелингвистических явлений. Следует упомянуть анализ мифологических по характеру систем А.М. Пятигорским, а также работы В.В. Иванова и В.Н. Топорова и других авторов[325].
До последнего времени попытки вывести структурализм за рамки формальной лингвистики встречали оживленные, а порой и резкие споры как в зарубежной, так и в советской научной литературе. Некоторые моменты дискуссии мы затронем ниже, а пока ограничимся констатацией одного положения: дилемма «истории» и «структуры» и проблема «включения» структур в «процессы» остаются в силе, пока и поскольку не решена проблема структурного понимания самих исторических процессов.
Но как можно представить себе специфически историческую задачу как задачу структурного исследования?
Особенностью исторического исследования является рассмотрение своего объекта (системного объекта) изменяющимся во времени. При этом рассмотрению подлежит не сам по себе ряд последовательных временны́х событий объекта, но необратимая обусловленность этих состояний, «механизм» перехода от одного к другому. Необратимость исторического процесса, обусловливающая индивидуальность каждого его состояния, и дает повод для представлений о невозможности подлинно научного познания исторических фактов (как мы уже видели, подобный довод используется К. Поппером). По остроумному замечанию Герцена, история – всегда импровизация. Тем не менее в самом «механизме» исторического процесса – как, скажем, в механизме цепной реакции! – видимо, можно выделить определенные структурные компоненты. Рассмотрим два типа структур, с которыми имеет дело исследование исторического процесса: структуры функционирования и структуры развития.
О функционировании мы можем говорить применительно к любой системе, последовательность различных состояний которой служит реализацией какой-то единой «программы». Здесь имеет место периодическая повторяемость, цикличность определенных фаз процесса. Очевидные «естественные» примеры дает функционирование биологических организмов, деятельность системы общественного производства и воспроизводства материальных благ, равно как системы воспитания и т. д. Теоретическое изображение подобных процессов приводит к моделям «цикличного» (то есть повторяющего определенные фазы) изменения во времени.
Для развивающихся же структур характерна необратимость временных изменений, в ходе которых происходит как бы кумуляция последствий; здесь каждое последующее состояние возникает как бы на основе «суммирования» предыдущих. Так мы рассматриваем эволюцию различных природных объектов, линии общественного прогресса. Теоретическое изображение процессов развития связано с представлением о квазинаправленных «линиях» (или «пучках линий»), обозначающих траекторию соответствующих объектов.
Очевидно, что различие между функционированием и развитием не является абсолютным. В любом реальном процессе оба типа структур как бы наложены друг на друга: любой организм или, скажем, любая циклически работающая машина находится и в необратимом потоке времени. С другой стороны, многие (хотя и не любые) изменения могут рассматриваться в рамках различных систем и как циклические, и как необратимые. Так, последовательность стадий в жизни отдельного организма является необратимым процессом, но в системе существования данного органического вида – это момент ее функционирования (и в то же время момент общего необратимого течения органической эволюции).
Вопрос о том, в какой мере тот или иной общественный процесс может быть рассмотрен в рамках какой-либо функционирующей системы, имеет серьезнейшее значение для изучения истории общества (точнее, он приобрел такое значение после крушения донаучных представлений, сводившихся к тому, что либо общество рассматривалось как стационарное, неизменное, либо общественным изменениям приписывалась телеологическая направленность). Марксистская концепция общественно-экономических формаций предполагает, что отдельные общественные изменения должны рассматриваться как в составе наличного функционирующего социального организма, так и в необратимом процессе общественного развития.
Внимание исторических и философско-исторических исследований неизменно привлекает проблема «повторяемости» в общественном развитии. Переход от накопления фактов «сходства» тех или иных черт организации и деятельности удаленных во времени и пространстве общественных систем к их объяснению сопряжен со многими трудностями методологического порядка. Поскольку мы не можем говорить в каком-либо данном конкретном случае о последовательности фазовых состояний в рамках какой-то функционирующей системы, постольку здесь нет подлинной периодичности, нет определенного цикла или циклов. Оказались бесплодными многочисленные, не прекращающиеся до сих пор попытки свести наблюдаемые повторения исторических структур к функционированию какого-то целостного, охватывающего все формы человеческих обществ «социального организма» (или, в иной трактовке, к влиянию внешних циклических процессов, например фаз солнечной активности, повторяющихся каждые 11–12 лет). Это не значит, что «повторения» можно объяснить случайными совпадениями, подобно тому как случайны осмысленные сочетания отдельных беспорядочно высыпанных букв. Здесь действуют определенные – структурные – закономерности (имеющие свои аналогии и в органическом мире, в частности в тех «гомологических рядах» эволюции, которые были описаны Н.И. Вавиловым).
При всей ограниченности возможных типов устойчивые социальные структуры с теми или иными модификациями появляются на различных уровнях общественного развития и в совершенно не связанных друг с другом культурных районах. Это находит свое выражение в «повторяемости» аналогичных типов государственной организации, художественного или мифологического мышления и т. д. при совершенно различных уровнях экономического и культурного развития. По-видимому, можно говорить и об определенных, измеряемых не общей меркой, но «собственным» временем данной системы, вариантах последовательности таких типов. Смена форм правления в античных общественных образованиях или последовательное чередование различных форм собственности на землю и господствующих религиозных форм и т. д., очевидно, не могут считаться процессами функционирования, поскольку здесь нет единого организма с «заданной» программой его развития. Это квазициклические процессы, где каждая фаза обусловлена предыдущей и наличными условиями, но где последовательность фаз представляет не линию, но периодическую структуру «менделеевского» типа.
Так, например, события, связанные с фашистским нашествием на европейскую цивилизацию, поставили перед наукой ряд проблем, которые все еще требуют решения. Те формы национализма, расизма и социально-культовых отношений, которые несло с собой это нашествие, во многом аналогичны соответствующим явлениям Средневековья и варварства, но в то же время не могут быть объяснены как непосредственное продолжение каких-то линий развития, дотянувшихся до наших дней (очевидно, что объяснение международных и классовых обстоятельств, благоприятствовавших появлению на свет определенного явления, не равносильно объяснению самого явления). Можно предположить, что здесь действует некоторая структурная закономерность, охватывающая однотипные в каких-то чертах организации явления различных «этажей» исторического развития – это сравнимо с повторяемостью свойств элементов менделеевской системы. Нетрудно отметить также структурные аналогии между общественными явлениями, относящимися к различным фазам исторического развития (подъему и упадку, конкистадорству и деколонизации и т. д.). Подобно тому как повторяемость свойств химических элементов нашла свое объяснение в сложности их внутренней многоуровневой структуры, периодичность «исторических элементов», возможно, будет объяснена благодаря анализу «многоэтажности» человеческой культуры, этой генетической системы общества.
В историческом процессе развития общества, как и в процессах функционирования отдельных социальных систем, происходит непрестанная смена «субстрата» (то есть человеческого материала – людей, поколений) при сохранении и развитии его «формы» (способа деятельности). Если в органической природе преемственность структур обеспечивается благодаря функционированию особых (генетических) систем в организме, то в общественном процессе функции хранителя и передатчика «наследственной» информации выполняют специфические социальные образования. Вся совокупность исторически развивающихся форм хранения знаний, умений, традиций, обычаев, норм поведения людей может быть охарактеризована как «культурная система», «культура». Различные типы исторического развития связаны с различными «механизмами» хранения и переработки социальной информации, с различиями по способу действия и по информационному объему отдельных компонентов культуры. Структурный анализ «информационной» стороны общественных процессов, видимо, позволит выявить некоторые их особенности, ранее ускользавшие от внимания исследователей.
Довольно распространенные попытки противопоставить структурализм историзму в целом, независимо от того, делаются ли такие попытки с целью возвышения или дезавуирования структурализма, оказываются безуспешными, поскольку сам механизм исторического движения может стать предметом структурного анализа.
Не лишним кажется подчеркнуть, что при всем возможном их развитии структурные методы рассмотрения исторических явлений и процессов никогда не в состоянии будут заменить или вытеснить ни «живое» описание конкретных эпох и действий, ни другие формы их теоретического анализа. Структурализм сам столь же односторонен, узок, неполон, как, в принципе, и любой иной научный метод (общие ссылки на «ограниченность» какого-либо из них поэтому просто лишены смысла; универсальные панацеи – достояние мифологического, а не научного мышления). Противопоставление структурных или иных методов анализа отдельных моментов исторической действительности их описанию в традиционных формах историографии или их статистическому моделированию столь же бессодержательно, как, например, противопоставление химического анализа цветочного запаха наслаждению этим последним или экономике торговли цветами. Можно, правда, указать немало случаев, когда отдельные люди или профессиональные группы увлекаются одним из «аспектов запаха», недооценивая или попросту игнорируя остальные; аналогичные явления (структурная аналогия) мы встретим, конечно, и в отношении к историческому сознанию. Но увлечения наукой, даже если они социально обусловлены и неизбежны, не входят в состав науки…
Нет поэтому (и не только поэтому: эмпирический опыт свидетельствует о тех же закономерностях) оснований ожидать превращения всей совокупности форм исторического сознания в формы движения строгого и абстрактного научного мышления. Но есть все основания добиваться: во-первых, как можно более строгого анализа самого пути движения исторического знания; во-вторых, повышения удельного веса научных продуктов среди отходящих на второй план мифологических и тому подобных форм исторического сознания.
1969Методология исследования социальных процессов
Основные направления и проблемы социологических исследований[326]
Широкое развитие социологических исследований становится все более настоятельной необходимостью, которая сейчас общепризнана. На XXIII съезде КПСС было особо подчеркнуто значение социологии для практики коммунистического строительства.
Эффективность этих исследований в значительной мере определяется тем, насколько правильно определены их направления и перспективы. Решение этих вопросов неразрывно связано с анализом функций и структуры самой социологической науки, с определением области социологического знания.
Следует иметь в виду, что развитие социологических исследований в их современных формах означает не только определенное приращение социального знания, но и явное изменение самой структуры этого знания. Если ранее функции социальных дисциплин в обществе сводились к определению общей направленности процессов, расстановки классовых сил, характера всемирно-исторических процессов, и прежде всего тех из них, которые подлежат сознательному регулированию в социалистическом обществе, то с развитием социологии социальное знание, сохраняя свойственные ему идеологические функции, все в большей мере приобретает черты конкретно-научного, приближаясь по своей строгости к другим областям науки.
Наше общество сегодня нуждается в социологии как никогда раньше, так как качественно изменился сам характер проблем, решаемых обществом, изменились и методы их решения. Периоды крутой ломки старого, нажима на ударных участках сменились периодом, когда необходимо налаживать бесперебойно функционирующую систему социальных отношений, планомерное и всестороннее развитие хозяйства, культуры, управления в наиболее рациональных формах. Здесь нужны принципиально новые методы, в выработке которых решающее слово принадлежит социологии.
В этих новых условиях все менее эффективными оказываются те давно сложившиеся методы воздействия на социальные процессы, которые опирались на интуитивный, то есть недостаточно осознанный и недостаточно полный, учет нескольких главных факторов общественной жизни.
Аналогичная ситуация складывается и в других областях общественной деятельности, например в обучении и воспитании, в пропаганде, в культуре, в работе государственных органов и т. д. Складывавшиеся в прошлом методы регулирования общественных процессов шаг за шагом уступают место более эффективным – или даже единственно эффективным в современных условиях – методам, основанным на строго научном анализе социальной практики во всех ее измерениях.
Этим объясняется не только растущее внимание общества к развитию социологии, но и растущие требования к социологической науке.
Значение социологии для социальной практики можно сравнить со значением науки для производства. Пока орудия труда носили ремесленный характер, производство могло обходиться без науки (то есть пользоваться накопленным опытом), но развитое современное производство уже невозможно без сознательного применения естествознания.
Благодаря этому умение управлять технологическим процессом (например, плавкой и обработкой металлов и др.) перестает быть делом искусства, личного мастерства, превращаясь в предмет строгого и объективного научного исследования. Аналогичным же образом развитие современных форм социологических знаний способствует превращению управления обществом из сферы искусства в сферу строгого научного знания.
В развитии социологических исследований одна из главных проблем и одна из главных трудностей состоит в том, чтобы найти пути эффективного сочетания социологической теории и эмпирических исследований, пути обобщения полученных фактов и развития на этой основе самой социологической теории. Лишь на этом пути можно избежать как одностороннего эмпиризма, так и схоластического повторения общих мест. Пока мы не можем сказать, что разрыв между теорией и эмпирией – эта тяжелая болезнь буржуазной социологии – у нас в социологии преодолен. Это объясняется рядом обстоятельств.
Известно, что длительное время исторический материализм существовал у нас преимущественно как предмет преподавания, а не область научного исследования. Работы по историческому материализму либо иллюстрировали различными примерами уже известные положения и принципы, либо ограничивались некоторым уточнением понятий и категорий науки. Прогресс конкретных общественных наук слабо сказывался на самом историческом материализме. С другой стороны, он почти не применялся для конкретных исследований в собственно социологической области познания. Все это порождало догматизм и вырабатывало у людей, специализирующихся в области исторического материализма, скорее пропагандистский – если не начетнический, – чем научный стиль мышления. В том виде, в каком существовал исторический материализм в последние годы, он выполнял прежде всего идеологические функции общей теории социального развития.
Следует иметь в виду, что рамки философских и других дисциплин, в том числе социальной философии, исторически изменчивы и отчасти условны. То, что вчера (10, 50 лет назад) было предметом лишь социально-философского анализа (личность, общественное мнение, социальная структура), сегодня все в большей мере стало или становится (вместо этого или кроме этого) предметом конкретного рассмотрения при помощи социологических методов. Однако для того, чтобы эта общая теория могла применяться к анализу фактов в собственно социологической сфере познания, необходимы были «посредствующие звенья» в виде более конкретных теорий отдельных социальных структур и процессов, которые подлежали бы эмпирической проверке в конкретном исследовании. Отсутствие этих посредствующих звеньев свидетельствует о недостаточной разработке социологической теории и, несомненно, препятствует применению теории и метода исторического материализма в социологических исследованиях. Вывод из всего этого: нужно не исключать исторический материализм из рамок социологической теории, а разрабатывать его дальше, находить посредствующие звенья между самой общей социальной теорией и фактами. Речь, следовательно, должна идти не об «исключении» исторического материализма из социологии, а о том, чтобы эффективно использовать его общие принципы в анализе конкретных общественных явлений и процессов. Однако надо четко представлять, что решение этой задачи зависит от развития и конкретизации марксистской социологической теории.
Нужно признать, что в дискуссиях, которые долго велись в научной литературе вокруг социологии, искусственное сооружение «границ» в науке скорее мешало плодотворному развитию связей между философией марксизма и социологией, чем помогало им. Не слабость, но силу, показатель влияния исторического материализма следовало бы видеть в том факте, что в нашей науке из-под его «крыла» выходят как самостоятельные научные дисциплины этика, научный коммунизм, социология и пр.
В известном смысле можно говорить о социологической теории как о применении исторического материализма для объяснения социологических структур и т. п. Аналогичным образом можно говорить и об исторической науке как одном из применений истмата. Ср. у Гегеля: всякая наука – прикладная логика. Это не значит, что реальный рост знания получается из прикладывания шаблона к материалу – нужны специальные исследования и теоретические конференции в каждой области исследования.
Иногда спорят о том, «отпочковалась» ли социология от философии (в наших условиях – от диалектического и исторического материализма) или «не совсем отпочковалась». Но философия (социальная философия в первую очередь) – лишь один из истоков социологии как особой дисциплины. Другие: экономика (А. Смит), демография и социальная статистика (А. Кетле), психология, история, этнография, а также и естественно-научная методология XIX в. (эволюционизм и др.). Философия – лишь одна из «нянек» социологии.
Как особая дисциплина социология начинает формироваться с конца XIX в., хотя принципы научного подхода к обществу были выработаны ранее (марксизм) и исследования («Положение рабочего класса в Англии») проводились. Это формирование связано:
а) с появлением методов научного анализа отдельных общественных процессов в комплексе;
б) с развитием специфически-социологических исследований (в «Капитале» для социологической теории использованы экономическо-статистические данные);
в) с появлением социальной задачи рационального познания и использования людьми механизма функционирования общества.
Эта задача (социальный заказ) является неизбежным следствием (и в то же время преодолением) задачи социально-критической или социально-утопической. Разумеется, такой заказ имеет существенно разное содержание в условиях современного капитализма и в условиях социализма.
В буржуазном обществе социология как особая наука становится на ноги тогда, когда возникает проблема (неразрешимая в принципе на частнокапиталистической основе) рациональной организации общественной системы, то есть когда оказывается неэффективным традиционный механизм свободной борьбы интересов в политике, культуре и т. д. Отсюда, в частности, вытекает неизбежный партикуляризм самих установок большинства социологических школ, действующих в буржуазном мире, – узость и чисто прикладной характер теории; неумение и нежелание разрабатывать социологические методы анализа «макросистем» и «макропроцессов» в обществе.
В социалистическом обществе насущная потребность в социологии – это прежде всего потребность в сознательном управлении общественными процессами (в «макро» – масштабах, то есть в разрезе страны) содружества стран, в рамках ряда лет и пятилеток. Она становится особенно настоятельной, когда:
а) изменился сам характер проблем, решаемых обществом (период крутой ломки, авралов, организованного нажима на ударных участках сменился периодом, когда необходимо планомерное, всестороннее развитие в наиболее рациональных его формах);
б) возможна сложнейшая и имеющая огромное социальное значение проблема изменения некоторых форм управления общественными процессами (экономическая реформа);
в) интересы дальнейшего повышения производительности труда и культуры производства требуют эффективной организации производства, распределения, науки, обслуживания как сфер общественной жизни;
г) новые условия идеологической и воспитательной работы партии – через систему образования, через печать и другие средства массовой коммуникации – требуют строго научной оценки эффективности тех или иных форм пропаганды, отношения к ним общественного мнения и т. д. Соотношение социально-философского и социологического знания можно представить так. Идея прогресса, примата материальных условий жизни общества, уничтожения классов – огромные завоевания человеческой мысли, которые научно сформулированы марксистской философией (историческим материализмом). Эти идеи оказывали и оказывают огромное влияние на теоретические установки всех социальных дисциплин. Но их недостаточно для решения задач, сегодня вставших перед обществом. Теперь нужно знать, например, как сочетаются (и как должны наиболее эффективно сочетаться) культурный рост, жизненный уровень, интересы определенных групп населения, как осуществляется передвижение определенных категорий населения из одной общественной группы в другую (социальная мобильность) и т. д. Все это – проблемы не философские и не экономические, не педагогические, а социологические и только социологические.
Социология шаг за шагом вводит строгие правила логического мышления (причем во все больших масштабах – и математического мышления) в исследование общественных процессов, в том числе и тех из них, которые охватывают состояние интересов, вкусов, мнений людей.
Показателем конкретности социологического анализа общества служит способность социологии предвидеть развитие определенных общественных процессов и давать практические рекомендации для управления этими процессами. Так, например, сейчас одна из актуальнейших задач социологической науки в СССР – определение (и строгий расчет) оптимальной профессиональной структуры занятого населения в перспективе одной или нескольких пятилеток. Очевидно, что, лишь имея хорошо обоснованную теорию такого процесса, можно с уверенностью определять содержание обучения, перспективы жилищного и культурного строительства и т. д.
Функции социологии определяются ее предметом и методом, характером социологического знания, с одной стороны, и практическими потребностями общества, с другой.
Область социологического знания составляют функционирование и развитие социальных систем – взаимосвязь различных элементов социальной системы, механизм действия социальных институтов в конкретных условиях и социальные процессы человека в системе общественных отношений и структуре личности. Характер социологического знания определяется тем, что социология изучает общественные явления и процессы в их взаимодействии и взаимной обусловленности.
Конкретные социологические исследования несут с собой новый, конкретно-научный подход к исследуемому объекту, связанный с применением:
– эмпирических методов (наблюдения, опросов, изучения документов и др.), анализа массовых данных;
– социального эксперимента, возможность и необходимость которого в нашей литературе признана лишь в самое последнее время;
– строгих логических и математических правил процедуры исследования; непосредственной связи с решением конкретных практических задач организации, управления.
Этот подход выражает «дух» социологии, то новое, что она несет с собой по сравнению с философским знанием о прогрессе и общих проблемах общественного развития. Это не значит, что социология исчерпывается конкретными (эмпирическими) исследованиями.
Требования конкретности и строгости мышления относятся и к социологическим теориям. Основой научного познания общества и научного управления обществом является строго объективная информация о действительности, притом информация не об отдельных поступках и действиях, но о процессах, о состоянии общественных институтов и отношений. Показателем точности этой информации является возможность ее количественной обработки.
У нас в государственных масштабах поставлена или ставится экономическая информация, но информация о социальных процессах крайне недостаточна. А обществу необходимо знать реальное состояние социальных, национальных отношений, общественного сознания и общественного мнения, эффективность тех или иных мероприятий и т. д. Эти сведения может дать и правильно интерпретировать только социология, опирающаяся на весь комплекс общественных дисциплин (демография, криминология и др.).
Сила любой науки в том, что она дает возможность предвидения. В задачу социологии также входит предвидение тенденций общественного развития. Частным, но специфическим для социологии и играющим все более важную роль видом предвидения является прогнозирование отдельных социальных процессов, связанное, в частности, с их количественной оценкой в рамках ограниченных промежутков времени. Прогнозы, касающиеся социальных последствий определенных экономических нововведений, прогнозы миграции населения, преступности, общественного мнения и т. д. имеют важное значение для научного программирования общественного развития, для своевременного устранения нежелательных моментов, препятствующих развитию данного процесса. В задачу социологии входит выработка практических рекомендаций для социального программирования, имеющих значение для деятельности государства, партийных, хозяйственных организаций.
Структура марксистской социологии
Как в любой обширной области познания, в социологии происходят процессы дифференциации знания, обособления отдельных уровней и методов исследования, а также отдельных направлений приложения социологических знаний. В то же время происходят и процессы иного рода: социология интегрирует определенные знания и методы исследования, сформировавшиеся в рамках различных и довольно далеко отстоящих друг от друга дисциплин – социальной статистики, этнографии, психологии и др. Этот процесс может порождать иллюзию, будто каждое направление социологических исследований представляет собой самостоятельную социологическую науку. По нашему мнению, социологию можно рассматривать как единую науку, предполагающую различные направления и методы исследования. Единство социологии как науки находит свое выражение в том, что одни и те же принципы методологии и методики оказываются действенными при исследовании различных областей социальной действительности.
Поэтому, говоря о различных разделах социологии, мы имеем в виду различные структурные элементы социологии как единой науки. Переход от суммарных определений социологии к анализу ее «тонкой структуры» важен для перехода от общих разговоров о социологии, которые велись на страницах ряда научных журналов в последние годы, к более содержательному ее рассмотрению.
Основными элементами структуры марксистской социологии являются:
1. Социально-философская теория марксизма. Она включает в себя общую теорию исторического процесса и теорию общественного познания, имеющие общеметодологическое значение для любых конкретных и теоретических исследований в социологии. Основные моменты этой теории излагаются в курсах исторического материализма (хотя в вузовских курсах исторического материализма и сейчас сохранилось немало материала, имеющего чисто иллюстративное значение для общесоциологической теории. Такое соединение в историческом материализме принципов общей теории и более конкретной социологической проблематики объясняется исторически и педагогически). К философско-социологической теории относятся общие проблемы соотношения общественного бытия и общественного сознания, базиса и надстройки, производительных сил и производственных отношений, теория общественных формаций, концепция исторического прогресса, исследование общесоциологических законов. Эти проблемы не являются и, видимо, не могут быть предметом конкретно-социологических исследований, «кругозор» которых остается слишком узким, эмпирически ограниченным: обобщение всемирно-исторической практики и исторического развития социально-философской мысли с необходимостью выражается в иных формах знания. В то же время многие проблемы, например формы этнической общности, семья, быт, социальная структура и т. д., могут и должны изучаться методами социологии – как эмпирически, так и теоретически.
2. Социологическая теория в собственном смысле слова – анализ закономерностей развития и функционирования отдельных общественных институтов, систем, процессов. Предмет социологической теории в этом смысле слова уже, конкретнее, «нагляднее» (то есть доступнее для эмпирического исследования) по сравнению с предметом социально-философского анализа: так, например, наличная социальная структура общества может быть не только описана детально, но и «измерена» при помощи достаточно надежных шкал. Существуют поэтому различия и в методе построения самого знания в социологических теориях такого типа по сравнению с социально-философским знанием (хотя резкая грань между ними далеко не всегда может быть проведена); при всех условиях философские установки марксизма служат важнейшей основой и движущей силой развития социологии.
Развитие социологической теории является необходимым моментом отпочкования социологии от философии. Именно в этой области социологической науки у нас особенно много пробелов, многие стороны общественной жизни социологически еще не исследуются; более того, имеется довольно сильное сопротивление созданию этой сферы социологической науки. Причем оно исходит, с одной стороны, от работников, догматически мыслящих и опасающихся, что развитие конкретных социологических теорий каким-то образом может умалить значение социально-философских принципов, а с другой стороны, от людей, увлекающихся эмпиризмом социологических исследований. Поскольку вопрос этот для нас в значительной степени новый, то на нем мы остановимся подробнее после рассмотрения основных составляющих социологии.
3. Сравнительно новая, по существу даже формирующаяся область исследования – методология социологического исследования. Выделение в структуре науки особых ее методологических подразделений является важной чертой движения научной мысли в последние десятилетия. В сферу социологической методологии входит разработка вопросов логики социального исследования, соотношения разных уровней знания (в том числе эмпирического и теоретического), особенностей теоретических моделей в социологии и т. д.
4. Конкретно-социологические (эмпирические) исследования различных общественных процессов и явлений – труда, быта, культуры, науки управления, урбанизации и т. д. Это, как мы уже отмечали, – наиболее характерный (и наиболее бросающийся в глаза) момент современной социологии, который, однако, не исчерпывает ее содержания.
5. Необходимым элементом социологической науки является методика и техника социологических исследований вообще. Она включает в себя приемы и способы получения, систематизации и обработки эмпирической информации об исследуемых социальных объектах. Ее назначение в том, чтобы обеспечить объективный характер этой информации как основы для теоретических обобщений, эффективное использование математического аппарата и средств машинной переработки социологической информации. Методика и техника социальных исследований – это большой и относительно самостоятельный элемент социологии, призванный обеспечить правильность применения методологии. В области разработки методики и техники социальных исследований открывается широкое поле для сотрудничества социологов с математиками, статистиками, психологами, кибернетиками и т. д.
Кроме того, надо учитывать, что методика исследования общественных явлений, разрабатываемая для нужд социологии, применяется и в других общественных науках. Значение современной социологии для других общественных наук состоит не только в том, что она дает им методологию, но и в том, что она разрабатывает для них методику и технику исследования современной социальной действительности. Опыт показывает плодотворность применения социологических методов в комплексных социальных исследованиях, проводимых с участием представителей различных наук.
Структура социологической теории
Под социологической теорией мы в данном случае понимаем всю систему теоретических концепций, непосредственно связанных с конкретными исследованиями и вырастающих как теоретическое осмысление (а в то же время – как теоретическая предпосылка) этих исследований.
Области социологического исследования многообразны, поскольку практические потребности вынуждают выделять и делать предметом исследования разные «срезы» общественной жизни. Конечно, необходимо ясно представлять, что каждый из этих аспектов дает одностороннюю картину, является известной абстракцией. Поэтому одна из задач социологии – учитывать в своих исследованиях взаимодействие и взаимопроникновение различных аспектов социальной действительности.
1. Предметом социологического исследования прежде всего является общество как система общественных явлений (социальных институтов). Рассматривая общество в этом плане, социология исследует специфику различных общественных явлений, их взаимодействие, социальные функции, место и роль в развитии общества в целом. Сюда относится исследование взаимодействия экономики и политики, материальной и духовной жизни, специфики и взаимодействия различных форм общественного сознания и т. д.
Эти проблемы рассматриваются такими отраслями социологической науки, как политическая социология, социология права, социология образования и воспитания, социология науки, социология искусства, социология религии и др. Другой аспект социалистического исследования – анализ общества под углом зрения его социальной структуры.
2. Разделение и кооперация функций многообразных обыкновенных групп, отношения между которыми определяются характером производственных отношений, разделением труда, потребностями социальной жизни, отчасти и социально-биологическими факторами, тенденций изменения социальной структуры, судеб различных общностей – задача социологии, исследующей социальную структуру как в масштабах общественной формации, так и отдельных стран и даже в более локальных рамках. Особенно важно сейчас исследовать классовую структуру социалистического общества и происходящие в ней изменения. Но социальная структура не сводится к основным классам. Практические потребности нашего развития настоятельно требуют исследования не только классов, но и других социальных групп и слоев. Предметом социологических исследований являются: классы, межклассовые и внутриклассовые различия и отношения; нации и национальные отношения; социальные аспекты профессий и профессиональных различий; социальные проблемы, связанные с возрастными различиями (молодежные проблемы, проблема пенсионеров и т. д.); семья и семейные отношения; социальные проблемы, связанные со спецификой и отношениями полов; социологические аспекты деятельности различных общественных организаций; изучение коллективов малых групп в различных сферах деятельности.
Таким образом, в отличие от указанного ранее аспекта социологического анализа, при таком подходе выделяются не общественные институты, но социальные группы. Очевидно, что эти два аспекта исследования тесно связаны и взаимопроникают друг в друга.
3. Изучение общества в плане его региональной структуры. Поскольку общество существует в пространстве и социальные отношения развертываются в условиях больших или малых поселений, определенного состояния транспорта и т. д., возникает социальная проблема исследования социальных проблем, которые связаны с этим. Например, чтобы разумно построить город, надо представлять, какие системы отношений там возникнут. Этим должна заниматься социология города. Свои специфические социальные проблемы имеет и село. Социология города и социология села – это уже совсем другой социологический «срез» общества по сравнению с первыми двумя.
Конечно, в городе имеются и взаимоотношения социальных групп, и различные системы общественных институтов. Рассматривая региональную структуру, мы можем переходить от макросоциологических исследований, охватывающих масштабы общества, к микроисследованиям, а также идти от частного к общему.
Вряд ли целесообразно выделять исследование социальных процессов в особый аспект социологической науки. Каждый из перечисленных выше способов рассмотрения общества предполагает не только описание «статики» соответствующих явлений, но и анализ их «динамики», то есть функционирования и развития социальных систем, отношений между общественными группами, процессов индустриализации и урбанизации и т. д.
4. Наконец, специальным предметом социологических исследований является личность в ее связях с социальной средой. Социология исследует пути формирования личности как социальной личности, способы социального воздействия на личность, реакцию личности на воздействие среды, проблемы социальной детерминации, поведения и деятельности личности, в том числе так называемого «уклоняющегося» поведения (преступность). Конечно, социология рассматривает не просто индивидуальность, а типы личности. С разных сторон проблему личности изучают: социология труда, социология воспитания, криминология, теория массовых коммуникаций, исследования бюджета времени, общественного мнения.
Итак, мы выделили четыре аспекта социологических исследований, имеющих своим предметом:
– систему социальных институтов;
– общественные группы;
– формы человеческого общежития;
– социальную личность.
Мы могли бы назвать эти аспекты системными, структурными, экологическими и личностными. Каждый из них имеет свою специфику, хотя и включает в себя довольно разнородные направления исследования. Конечно, это деление в известной мере условно, ибо почти в каждом конкретном исследовании в действительности могут присутствовать все эти аспекты социологии. Но выделение этих аспектов позволяет внести известную систематичность в определение предмета конкретных социологических исследований. Естественно, что подобное членение сказывается и на систематизации эмпирического материала, а также влияет на характер методов, применяемых социологией.
Связь социологии с другими науками
К области социологического знания, о специфике которого мы говорили в начале статьи, относится не только собственно социология, но и ряд дисциплин, близких к ней, нередко смыкающихся с социологией или имеющих тенденцию превратиться в одну из ее отраслей. Это демография, криминология, этнография, социальная психология, социальная статистика и т. д. Все эти науки возникли на стыке социологии с другими науками – географией, юридической наукой, историей, психологией, математикой и т. д. – и несут на себе отпечаток особенности этих наук. Вместе с тем они очень близки к социологии, ибо они либо обслуживают социологию своими методами (социальная психология, социальная статистика), либо сами широко используют социологические методы для исследования таких специфических явлений, как движение населения, преступность и т. д. Общепризнана также близость социологии к такой науке, как этнография (этнология), исследующая преимущественно этнические, бытовые особенности различных народов. Нет нужды доказывать, что слабое развитие социологических исследований в прошлые годы привело к тому, что у нас очень плохо развивалась криминология и социальная статистика (у нас более развита экономическая статистика), что социальная психология вообще была в загоне и отрицалась как «буржуазная наука», что демографические исследования были очень незначительны, а этнография рассматривалась преимущественно как историческая дисциплина. В свою очередь, недостаток в развитии «ближних» дисциплин отрицательно сказывается на социологии.
Отсюда видно, насколько важно усилить внимание к этим наукам. Так, без исследования структуры и динамики населения и прогнозов в этой области невозможны многие виды планирования, особенно потребления продуктов питания, одежды, жилищ, школ и т. д. в масштабе страны и по отдельным зонам. Но демографические данные необходимы и для социологических исследований и обобщений, особенно при исследовании быта, семьи, соотношения производственной и непроизводственной сфер, а также исследований по социологии города и деревни.
Социология невозможна без социальной статистики, то есть прежде всего без организации общегосударственной статистики движения народонаселения, труда, культуры, доходов и запросов трудящихся и т. д. Отсутствие такой широко и научно поставленной, систематической, доступной для научной разработки социальной статистики снижает эффективность конкретных социологических исследований, плодит ненужную кустарщину.
Поскольку социология не может обойтись без социально-психологических методов, развитие теоретических основ социальной психологии и методов, позволяющих делать объективные выводы из изучения субъективной стороны социальных отношений, представляется настоятельно необходимым.
Важное значение для социологии имеет и развитие других близких к социологии дисциплин.
Кроме группы «социологических» дисциплин, социология тесно связана с другими общественными науками, которые, однако, находятся вне сферы социологического знания и по отношению к социологии являются смежными дисциплинами. К ним относятся такие общественные науки, как экономические, исторические, юридические, педагогические и т. д. Связи социологии с этими науками весьма многообразны. Прежде всего они все пользуются теоретическими выводами социологии и разрабатываемыми ею методами социальных исследований.
Уже вошла в обиход идея о том, что следует различать социологические и социальные исследования. Социальные исследования – это конкретные исследования современной общественной жизни, проводимые во всех науках с учетом потребностей, предмета и специфики этих наук. Социальные исследования, проводимые с учетом потребностей и особенностей социологии, будут исследованиями социологическими.
Разновидностями социальных исследований являются исследования экономические. Все другие общественные науки в той или иной степени нуждаются в социальных исследованиях и для этого используют отчасти и социологические методы, а также материал социологических исследований. С другой стороны, социология в своих выводах может опираться не только на собственно социологические, но и на социальные исследования, проводимые в других науках. Здесь открывается широкое поле для взаимного обогащения и взаимодействия общественных наук с социологией.
Можно указать еще на одну форму контакта между социологией и другими науками. Речь идет о так называемых комплексных социальных исследованиях. Этот тип исследований вызван к жизни потребностями практики. Ввиду сложности, многообразия общественной жизни, ввиду многообразия связей каждого явления, события с другими подход к ним с точки зрения какой-то одной науки всегда будет односторонним. Чтобы избежать этого и добиться возможной всесторонности в познании, бывает необходимо подойти к исследуемым явлениям под углом зрения различных наук. Например, экономическая наука может не учитывать влияния ряда психологических и внеэкономических факторов на развитие производства. Или социология в своих выводах иногда должна опираться на более детальный экономический анализ, чем тот, который может осуществить сама социология. В этом случае социология обращается за помощью к экономической науке и т. д. Во всех этих случаях возникает потребность в проведении не просто социологических или экономических, но и комплексных социальных исследований, в которых приняли бы участие представители различных областей общественного познания и даже люди, практически связанные с изучаемой областью.
Комплексные социальные исследования – это весьма гибкая и многообразная форма изучения общественной жизни. Комплексные исследования могут проводиться и под эгидой и в интересах одной из наук (социологии, экономической, педагогической и др. наук), и в чисто практических целях (планирования, управления).
При подготовке и в ходе этих исследований, а также при последующей обработке полученного материала между специалистами в различных областях общественного познания возникает тесный и непосредственный контакт, что само по себе имеет стимулирующее значение для науки.
Комплексные социальные исследования пока не получили широкого распространения в нашей стране, хотя метод этот весьма перспективен, как показывает опыт ленинградского Института комплексных социальных исследований. Очевидно, при планировании социологических исследований необходимо учесть потребности социологии в проведении комплексных исследований, а общая программа комплексных исследований по стране может быть составлена на основе учета потребностей важнейших общественных наук и практики коммунистического строительства.
Поскольку в связи с взаимоотношением общественных наук мы заговорили о типах исследований, следует остановиться еще на одном относящемся сюда вопросе.
Социологические исследования не могут сводиться к «микросоциологическим». Общество ждет от социологии решения крупных практических и теоретических проблем нашего развития. Но это не значит, что социология должна избегать исследований, имеющих непосредственно не теоретические, а чисто практические, прикладные цели. Длительный отрыв нашей социально-философской мысли от конкретных исследований породил представление о том, что задачей социологии вообще является разработка теоретических проблем и лишь через теорию социология может иметь выход в практику. Конечно, такой путь к практике имеет первостепенное значение, ибо никакое предвидение и прогнозирование невозможны без теоретических обобщений, но это не значит, что непосредственной целью социологических исследований не может быть решение какой-то чисто практической задачи. При этом, конечно, имеется в виду, что любое эмпирическое исследование предполагает определенную теоретическую и методическую основу. Особенность социологического исследования не в том, что оно обязательно должно иметь теоретические цели, а в том, что оно должно оставаться в рамках предмета социологии.
Основные направления социологических исследований
Между структурой социологии и направлениями социологических исследований имеется тесная связь. Направление исследований вытекает из структуры социологии, а развитие социологических исследований, выявление новых направлений этих исследований вызывают изменение в структуре науки.
Следует различать направления и проблематику исследований. Направления более стабильны, а проблематика связана с тем, какие вопросы, подлежащие изучению, становятся актуальными в данных условиях места и времени и определяются потребностями развития науки и практики. Поэтому мы разграничили вопросы о структуре науки и о направлениях и проблематике исследований.
Следует подчеркнуть, что развитие и углубление конкретных социологических исследований никоим образом не снимают необходимость дальнейшей разработки социально-философской теории марксизма (теории исторического материализма).
Сейчас наметились, на наш взгляд, три основные направления развития исторического материализма.
Во-первых, разработка философских проблем, которые могут решаться лишь на социологической основе, то есть в рамках исторического материализма. Сюда относятся кардинальные проблемы общей теории социального развития, проблема социальной сущности человека, вопрос о практике, ее видах и формах, социология познания в плане исследования общественного сознания, соотношение общественного бытия и общественного сознания, субъективного и объективного в истории, изучение характера социологических законов и т. д. Решение всех этих проблем имеет большое методологическое значение для развития конкретных социологических исследований.
Во-вторых, разработка методологических проблем частных общественных наук – истории, экономической науки, языкознания, политической и юридической науки и т. д. Это специальная задача, которая справедливо поставлена несколько лет назад и решение которой несколько продвинулось вперед. Но это продвижение лишь показало, какое огромное поле деятельности здесь открывается и какое огромное количество нерешенных проблем находилось у нас в замороженном состоянии. Следует также отметить, что в понятие «методологические проблемы общественных наук» входят не только социологические, но и общефилософские, логические и даже эстетические вопросы, возникающие из развития частных общественных наук. Поэтому методологические вопросы конкретных общественных наук лишь частично относятся к области социологии, и в решении этих вопросов исторический материализм выступает в тесном контакте с другими философскими и частными общественными науками. Но без исторического материализма решение этих вопросов на современном научном уровне также невозможно. Выделение методологических проблем общественных наук в самостоятельное направление исследования – это показатель той дифференциации, которая происходит внутри исторического материализма.
В-третьих, разработка философско-методологических проблем, связанных с конкретными социологическими и социальными исследованиями. Здесь особенное значение приобретает разработка подхода к обществу, к общественной формации как системе общественных явлений (социальному организму), исследование взаимоотношений структуры и функции применительно к общественной жизни, а также проблем, связанных с исследованием механизма действия общественных законов как в масштабах общества, так и в более узких, локальных рамках. Заслуживает внимания и разработка методологических проблем, связанных с методами анализа классов, малых групп, взаимосвязи личности с ее социальной средой.
Эти исследования должны опираться на широкий и проверенный фактический материал и, следовательно, прямо или косвенно быть связаны с эмпирическими исследованиями. Но важно подчеркнуть, что на этом уровне многие проблемы нельзя решать путем конкретных исследований, и потому здесь большую роль играет и будет играть логическое развитие теории на основе далеко идущего обобщения практики социального развития, данных конкретных общественных наук. Но вместе с тем мы должны искать пути введения в круг самых широких социологических обобщений данных конкретных эмпирических исследований социальной жизни.
I. Направления исследования социальных институтов.
Классификацию исследования социальных институтов можно провести по сферам общественной жизни. Задачей исследования здесь является изучение специфики данного общественного явления, его места и роли в общественной жизни, социальной функции, взаимодействия с другими общественными явлениями. Кроме того, каждый социальный институт может рассматриваться как специфический вид деятельности людей со своими особенными отношениями. В теоретическом плане исследование социальных институтов позволяет понять характер взаимодействующих сил, из которых складывается исторический процесс, тенденции развития различных социальных институтов. В практическом плане эти исследования дают возможность прогнозирования, планирования, управления, организации деятельности людей для достижения наибольшего эффекта в данной сфере общественной жизни.
Здесь можно выделить три основные сферы исследования:
а) социологические проблемы развития производства, соотношения производства и непроизводственной сферы материальной жизни (быта); социальные проблемы научно-технической революции в сфере производства и т. д.;
б) социологические проблемы управления, в том числе вопросы политической организации общества, социалистической демократии, тенденции политической жизни; социология права;
в) социологические проблемы, связанные с культурой, наукой, искусством, религией. Здесь особенно важное значение приобретает социология науки, исследующая взаимоотношение науки и общества, специфику отношений в науке, формы организации научных коллективов, роль ученых в обществе и т. д.
Исследования по социологическим проблемам религии имеют значение для разработки конкретных мер по уменьшению влияния религии в социалистическом обществе и ее постепенному преодолению.
Очевидно, что изучение каждого социального института социология ведет с учетом его взаимодействия с другими сферами, социальными институтами. Например, науку рассматривают не только как явление духовной жизни, но и как фактор социальной и экономической жизни. С другой стороны, производство изучается в его взаимосвязях с другими сферами общественной жизни, да и в самом производстве выделяются социальные и социально-психологические аспекты.
II. Направления исследования социальной структуры и ее изменений.
Здесь выделяются следующие основные направления исследования:
а) классовая структура общества и ее изменения, структура классов и ее изменения, меж– и внутриклассовые отношения, структура интеллигенции и ее изменение;
б) национальные отношения и их динамика;
в) профессиональное разделение труда, его роль и тенденции развития, социально-психологический аспект профессиональных различий;
г) семейные отношения, динамика семьи и семейных отношений; отношения между полами в обществе; женский вопрос, женщина на производстве и в быту;
д) социальные проблемы молодежи;
е) исследование коллективов трудящихся, малые группы. Это последнее направление отнесено сюда условно, так как малые группы встречаются всюду: и на производстве, и в науке, и в сфере управления и т. д. – везде, где исследуются виды человеческой деятельности. Но общие принципы исследования малых групп относятся, видимо, к направлению, связанному с изучением социальной структуры.
Город и деревня.
Город и деревня дают те локальные рамки, в которых может производиться исследование и социальной структуры, и духовной жизни, и производства, и быта, и т. д. Но исследование города имеет и свои специфические проблемы (типы городов, организация социальной жизни, форм общения, культурной жизни и т. д.). Также имеет свои специфические проблемы деревня. Изучение этих проблем, а также социальных аспектов взаимосвязи города и деревни является одним из направлений социологических исследований.
Общество и личность.
Это обширная область социологических исследований, включающая различные направления. Основные направления, по нашему мнению, следующие:
а) развитие личности в труде. Здесь исследуется взаимосвязь между содержанием труда и уровнем образования и культуры, проблема свободного времени и его использования для развития личности, изучение бюджетов времени вообще;
б) исследование эффективности средств массовой пропаганды (массовые коммуникации) – газет, радио, телевидения, устной пропаганды и т. д., выработка критериев эффективности идеологической работы, разработка методов пропаганды и т. д. Это направление в последнее время начало сильно развиваться в связи с потребностями идеологической работы партии;
в) изучение общественного мнения как реакции на те изменения, которые происходят или ожидаются в обществе.
Таковы основные направления социологических исследований. Мы говорили о социологических исследованиях лишь внутри нашей страны, то есть применительно к социалистическому обществу. Вопросов, связанных с исследованиями капитализма или международных отношений, мы не касались, так как это особая задача и требует особого обоснования.
Мы не выделяли особо исследования социальных процессов, так как подразумевалось, что любое направление исследований включает в себя изучение данного состояния и изменение этого состояния. Тенденция изменения прослеживается либо путем последовательных исследований по одной методике, либо путем прогнозирования на основе полученных данных.
Из перечисленных направлений исследования видно, что социологические исследования практически охватывают все общество в его современном состоянии, но всюду выделяется особый социологический аспект в исследованиях социальной действительности: изучается взаимодействие общественных явлений, законы этого взаимодействия, отношение между субъективным и объективным в обществе, факторы, детерминирующие поведение человека.
В рамках указанных направлений возможно проведение не только чисто социологических, но и комплексных социальных исследований там, где нужно в интересах социологии привлечь данные смежных наук. Развитие социологических исследований по этим основным направлениям охватит ряд областей, которые у нас раньше либо вообще не изучались, либо изучались отрывочно, несистематически, что отрицательно сказывалось и на развитии социологической теории, и на решении практических задач нашего развития.
Конец 1960-х гг.Урбанизация как социокультурный процесс[327]
Масштабы и сложность урбанизации современных обществ вызывают растущее внимание к этому процессу со стороны социальной географии, территориального планирования, демографии, социологии, культурологии. Становится очевидным, что анализ таких показателей урбанизации, как рост городской концентрации населения, производства и культуры, недостаточен для характеристики многообразия происходящих изменений и тем более для понимания их механизма. Широко применяемое понятие «городской образ жизни», несмотря на известную его расплывчатость, отчасти помогает охватить общей меркой явления «рассеянной» урбанизации (проникновение городского образа жизни за пределы городской черты), равно как и урбанизации «внутригородской» (развитие структуры соответствующего образа жизни в самой городской ситуации).
Однако и в этом случае за рамками исследования остаются проблемы механизма урбанизации, многообразия ее типов, ее места в общественном развитии и – что сейчас приобретает особую актуальность – ее перспектив в условиях различных социальных систем. Чтобы подойти к их решению, представляется целесообразным рассмотреть урбанизацию как целостный процесс, содержанием которого являются изменения культурного значения и социальных функций городской «концентрации населения, орудий производства, капитала, наслаждений, потребностей…»[328].
Собственная культура города, а в каком-то смысле и структура всего общества могут быть представлены как производные данного социокультурного процесса.
Вопрос об изменении функций города (или системы городов) в ходе урбанизации не нов для социологической и урбанологической литературы. Многие современные исследователи устанавливают наличие тесной связи между ростом и функциями города.
Противопоставляя конкретные формы современной урбанизации в принципиально различных общественных и культурных условиях социалистических, капиталистических, развивающихся стран и отдельных регионов, находящихся на разных ступенях развития, важно представлять в общем виде некоторые закономерности урбанизации как процесса всемирно-исторического масштаба. Это необходимо, в частности, и для того, чтобы иметь возможность от рассмотрения отдельных признаков перейти к анализу тех глубинных механизмов процесса урбанизации, которые порождают его специфические проблемы и противоречия.
В данной статье предпринята попытка наметить некоторые наиболее общие линии подхода к урбанизации как к социокультурному процессу; возможности конкретных приложений такого подхода по необходимости обсуждаются лишь в ограниченной мере.
1. Город как общественный институт
Место города в жизнедеятельности общества может рассматриваться в плане социальной организации и в плане культуры. В первом плане город предстает как концентрация социальных структур, групп, ролевых функций. Во втором – это средоточие культурных ценностей, образцов, определенных норм человеческой деятельности, реализация которых обеспечивает «связь времен», воспроизводство и развитие общественного целого.
Ключ к пониманию уникальности положения города в социокультурной «системе координат» дает генезис города[329]. Городской социокультурный узел оказывается не только методологически, но и исторически началом координат в общественном пространстве; лишь с появлением города реально происходит обособление соответствующих «осей» и способов социальной и культурной организации общества. Историческая дихотомизация названных плоскостей общественной деятельности обусловила формирование прогрессирующего ряда функциональных социальных институтов (государство, семья, религия и т. д.), которые играют роль «узлов» социокультурной сети, обеспечивая социальную реализацию определенных аспектов культурного потенциала общества. Город – тоже своего рода узел той же сети; его специфика – концентрация различных функциональных институтов и различных видов активности общества в пространстве человеческого общения. В отличие от возможной и в «догородских» формах общественной жизни концентрации однообразных функций здесь происходит концентрация разнообразия. В этом предпосылка колоссальной информационной емкости городского социокультурного узла. Городское или, шире, урбанизированное пространство общения – это система каналов взаимодействия, взаимовлияния людей и групп в рамках города на территории, центром которой он выступает.
Формируя пространство человеческого общения, город становится фокусом всего пространства общества. Именно с городом появилась пространственная организация в макромасштабах (и сами эти масштабы, разумеется). Характерный показатель такой организации – разделение социокультурных функций центра и периферии общества[330], а в связи с этим и поляризация определенных линий коммуникации в обществе, появление новой меры социальной дистанции, иерархии и т. д.
Другая сторона того же по существу процесса – формирование категории и мер социального времени. Догородские общины, воспроизводившие свою структуру в сфере изустной и зримо передаваемой традиции, не знали времени как чего-то внешнего по отношению к процессу собственной жизни. Поскольку город опредметил в специальных структурах формы своей жизнедеятельности, он создал и овеществленные, внешние меры социального времени в его микро– и макроритмах (то есть хронометрию и хронологию). Образование «искусственных» временных форм – едва ли не наиболее характерный показатель «искусственности» всей городской среды. Фазам природных (биокультурных) циклов, находящих свое выражение в циклах аграрного календаря и аграрных культур, город противопоставил специфически общественную дифференциацию временных отрезков и самих средств их выделения. В основе современных форм «социализации» времени лежат веками складывавшиеся категории временной культуры, которые характерны для европейского культурного ареала[331]. В них противополагается актуальное прошлому, современное – будущему, конструируются причинно-следственные цепи явлений исторического (макровременного) порядка и оцениваются сами затраты времени как ресурс в системе целенаправленного действия. Отсюда, в частности, та непрестанная напряженность временного ритма («расписания»), которая столь зримо – и нередко болезненно – ощущается в современной городской жизни[332].
Функциями города, таким образом, являются организация социального пространства общества и социализация его временных характеристик. Городская организация общества может поэтому рассматриваться как его морфология, а процесс урбанизации – как морфогенез общества[333].
С этим процессом связаны наиболее мощные толчки в развитии человеческой цивилизации – появление социальных институтов письменности («урбанистическая революция», по В.Г. Чайлду[334]), а в Новое время – промышленная революция со всем богатством ее социальных последствий и противоречий, находящих свое дальнейшее продолжение в эпоху нынешней научно-технической революции. Историческая задача соединения достижений научно-технической революции с социализмом решается в настоящее время в условиях интенсивного развития процесса урбанизации социалистического общества, который находит свое выражение, в частности, в качественных изменениях трудовых ресурсов, способов жизнедеятельности и запросов населения.
Урбанизация формирует и трансформирует пространственно-временную организацию человеческого общества, изменяя социальные функции и само культурное содержание ее городских «ядер». Эти изменения могут прослеживаться по трем принципиальным линиям: трансформация культурного содержания («текста») города, универсализация городских функций в обществе, эволюция социокультурной структуры города.
2. Культурный текст города и его трансформации
Революционная роль города в общественном развитии в конечном счете состояла в изменении способа хранения и передачи культурного наследия общества. В условиях города сформировались предметные средства культурной записи. По сравнению с «догородскими» (изустными, фольклорными) такой способ оказывался неизмеримо более емким, универсальным, динамичным. «Овеществление» культурного текста можно считать существенным моментом становления тех общественных форм «вещной» зависимости, при которых, по Марксу, «впервые образуется система всеобщего общественного обмена веществ, универсальных отношений, всесторонних потребностей и универсальных потенций»[335]. В конечном счете именно эти изменения обеспечивают возможность развития и социальных функций города, и его структуры со всеми характерными для нее противоречиями и проблемами.
Формами вещественной записи (культурного текста) выступают, во-первых, здания, сооружения, вся архитектоника городской территории как в ее пространственном, так и во временном аспекте. Во-вторых, это развивающиеся в городской культуре системы специфически знаковой природы, письменность в ее различных видах.
Таким образом, в городских условиях фольклорная традиция превращается в дополнение к институционализированным и так или иначе связанным с записью механизмам движения культуры. Несмотря на экспансию последних, изустный и фольклорный способы трансляции культуры сохраняются и сохраняют ряд монопольных функций в общей работе культуры, например в процессе первичной социализации личности или в поддержании «стиля жизни», необходимого духа коллективности и живого общения в рамках производственных или научных организаций.
Соотношение письменности и других форм записи достаточно сложно. История дает и примеры городской культуры, существовавшей без письменности в собственном смысле слова (древнее Перу). Такого рода примеры, на наш взгляд, еще раз указывают на значимость и консерватизм вещественной (монументальной) записи культурного текста.
С появлением письменности происходит переоценка культурного значения вещественных предметов культуры. В догородской (отчасти, видимо, и в раннегородской, архаической) культуре дом, очаг, храм, путь к ним, их взаимное расположение непосредственно значимы, прямо связаны с определенными формами культурного действия, прежде всего ритуального. Когда текст отделяется («отслаивается») от сооружения, последнее становится прежде всего функциональным (ср. замечания Ф. Шое и Р. Барта о судьбах семиотики города[336]). Возникают, правда, вторичные формы культурного освоения (ресемиотизации) вещи: на нее может просто накладываться текст (надпись) или – что более существенно – новое символическое значение. Утрачивая священное значение, сооружение приобретает символическое значение памятника и т. п. Нечто подобное происходит ныне, например, с городским центром или другими фокусами планировочной структуры города, не говоря уже о монументальных сооружениях.
Другая сторона этого процесса – развитие собственно письменности, которое прослеживается в переходах от изобразительного письма к алфавитному, от иероглифического алфавита к буквенному, а затем (в машинных языках) к формульному.
Прежние способы культурной записи не исчезают, но уступают свое ведущее место иным, подвергаясь переоценке, – благодаря этому они и оказываются способными сохраниться в культуре. Здесь действует отмеченный выше механизм взаимовлияния элементов различных культурных слоев.
Следующее важное направление трансформации текста городской культуры определяется изменением самой структуры значений, передаваемых записью. Примитивные формы культуры в принципе целостны: они фиксируют образцы социального поведения, не расчлененного на составные части. Обособление и овеществление культурной деятельности общества, связанные с его убранизацией, приводят к дифференциации культурного образца и спецификации отдельных его элементов. Ускоренное социальное развитие последних двух-трех столетий непосредственно связано с обособлением и выдвижением на первый план технологии и науки. Это находит свое выражение в дифференциации познавательных, нормативных и ценностных структур в современных способах культурной записи. Для прогрессирующей урбанизации характерны растущая секуляризация (то есть утрата священности значения) доминирующих ярусов культуры, выдвижение на первый план инструментальных, утилитарных ее потенций.
Общая направленность всех трансформаций культурного кода общества, присущих процессу урбанизации, представляется очевидной: развитие города как социокультурного института связано с формированием институционально-фиксированной, письменной, алфавитной культурной записи, с расслоением ее значений, с доминированием секуляризованных и инструментальных способов осмысления культурного наследия. Город концентрирует, связывает воедино все эти линии изменений, закрепляет своей структурой. Но параллельно существует другая тенденция, дополняющая первую и внешне противостоящая ей. Утратившие свое доминирующее значение «несовременные» формы культурной записи продолжают действовать в глубинах культурных напластований, находя определенные выходы на «поверхность» социокультурных структур.
С определенными способами записи культурных текстов соотносимы способы их «прочтения», которые находят свое воплощение в культурно-детерминируемых системах коммуникации. Это соответствие определяется тем, что всякая коммуникативная ситуация в обществе является либо ситуацией прочтения культурного текста, либо общением людей через культурный текст. Поэтому с развитием способов культурной записи связано и развитие коммуникативных систем общества. Появление письменной, в недавнее время – массовой коммуникации отмечает в этом процессе наиболее значимые рубежи. В этой сфере мы тоже встречаем явление смены «верхнего» уровня при расслоении нижележащих. Так, устная коммуникация, вытесненная в межличностную сферу, сохраняет свое место в современной культуре. Иного типа трансформация выносит на поверхность массовую коммуникацию: происходит расчленение коммуникативного потока на массовый (обращенный к бесструктурной аудитории) и специальный (специально подготовленная «профессиональная» аудитория); оба они принадлежат к одному, наиболее современному ярусу урбанизированной культуры. Аудитория массовой коммуникации универсальна, и ее распространение – один из показателей экспансии городской культуры. Город приобретает значение центра массовой коммуникации и связи последней с иными формами коммуникативных полей.
3. Универсализация функций города
Сферой урбанизации служит все общество, структура которого фокусируется вокруг сети городских центров. Как объем, так и характер функций, исполняемых городом в этой структуре, подвержены изменениям; вместе с тем изменяются и функциональные соотнесения центра и «периферии» в организации социокультурного пространства. В соответствии со сказанным ранее можно утверждать, что функциональный потенциал города в последнем счете зависит от его культурной «мощности».
Наиболее общая культурная функция города – она же и наиболее фундаментальная – воспроизводство данного типа общественной структуры (или, как принято говорить в культурной антропологии, «поддержание культурного образца»). Способы осуществления этой функции различны в городах, принадлежащих разным историческим типам.
Древнейшие известные нам городские центры фокусировали территориальную структуру общества либо вокруг некоторой точки пересечения ряда социальных функций (культурной, административной, экономической, представленных соответственно храмом, дворцом, рынком), либо вокруг одной из них (культовый центр, торговый центр и т. д.). Независимо от характера первоначального «толчка» развитие города неизбежно приводило к тому, что в нем (и вокруг него) концентрировались разные социокультурные функции, на первоначальное ядро как бы наслаивались разнородные пласты. В итоге архаический и средневековый город оказывался многофункциональным, хотя подлежащими социальной записи остаются отдельные узловые моменты культурного образца (например, ритуальные рамки социальной организации и задаваемый ими ритм деятельности). Остальные моменты действующего культурного механизма воспроизводятся без специальной культурной записи.
Развитие промышленного капитализма создало тип крайне «неуравновешенного» города, организующего общество вокруг экономических («адаптивных») функций. Индустриальный город сыграл важнейшую роль в разрушении традиционных общественных структур, в том числе и традиционного «равновесия» городского центра и «негородской» периферии, самого механизма их взаимодействия. С этим связана переоценка традиционных религиозных и нравственных форм, развитие сугубо инструментальных механизмов регуляции общества. Гипертрофия экономических функций не означает, что индустриальный город (если брать его в типологически чистом виде) утратил культурные функции, превратившись в простое продолжение фабрики или биржи: всякий город культурно значим, но в данном случае его специфически культурные функции (в том числе и культурные предпосылки, и условия односторонне индустриального развития) оказались в тени. Весь вопрос в том, какие культурные функции специально «отмечены» в определенном историческом типе города или как они соотносятся с остальными, не получившими такой отмеченности.
Капитализм выявил огромные возможности «индустриальной» урбанизации, но вместе с тем и ее внутреннюю ограниченность, ее кричащие противоречия, контрасты, конфликты.
В настоящее время индустриальный город уже не представляет собой «главную фигуру» урбанизации общества. Это демонстрируют современные тенденции урбанизации, пробивающие себе путь в период глобальной научно-технической революции. В разной степени и в различных формах они прослеживаются сегодня как в социалистических, так и в капиталистических странах.
В основе современных тенденций урбанизации – прогрессирующие изменения в структуре самого общественного производства, изменяющаяся роль науки, образования, управления, обслуживания, которые выступают в качестве полноправных и признанных сфер производства (так называемые третичная и четвертичная сферы). Параллельно происходит неустранимый – при всей своей противоречивости – процесс институционализации досуга и потребления. Говоря о «производстве людьми своей собственной жизни», Маркс различал в ней «производство людей», «производство вещей» и «производство самих форм общения». Развивающиеся сегодня тенденции показывают, что современное производство все в большей мере и все более непосредственно предстает как «производство способов и средств общения», то есть в широком смысле как воспроизводство человеческой культуры, моментом которого выступает собственно «производство вещей». Индустриальный город концентрировал людей, капиталы, орудия, потребности для умножения средств удовлетворения наличных потребностей. В современных условиях на первый план все явственнее выступает формирование и развитие самих потребностей, содержание которых, разумеется, связано с типом общества и культуры.
Таким образом, город, фокусировавший на ранних стадиях своего развития функции сохранения и интеграции общества, затем функции адаптативные (активное взаимодействие общества и среды в системе производства), ныне становится средоточием функции целеполагания, наиболее «активной» и наиболее сложной из всех. Следует подчеркнуть, что названные функции, будучи продуктом аналитического расчленения, никоим образом не исключают и не заменяют друг друга, изменяется лишь их сравнительная выраженность. В современных условиях «поддержание культурного образца» предполагает сохранение приоритета целеполагания, а это последнее служит необходимой предпосылкой самосохранения общества.
Отсюда и прогрессирующее изменение самого соотношения «центра» и «периферии» в фокусируемой городом общественной структуре. Ранний город, средневековый город «сосуществовали» со своей периферией, практически не изменяя ее собственную структуру. Индустриально-капиталистический город разрушил традиционно-сельские структуры, сосредоточив у себя производство культурных образцов для всего общества. Современный город шаг за шагом распространяет по «периферии» свой образец. Повсеместное распространение городского образа жизни, городской иерархии ценностей и т. д. становится реальностью; без всякого сомнения, оно является конкретной перспективой общемирового масштаба. Поскольку современные формы урбанизации при соответствующем развитии транспортных и коммуникативных систем не связаны только с концепцией огромных масс населения, производства, застройки и т. д., постольку получают развитие многообразные и всепроникающие «рассеянные» ее продукты.
Эти явления заново ставят вопрос о судьбах и функциях городских центров культурной структуры общества. Перспектива «глобальной» урбанизации переоценивает значение города, делая возможными все обычные виды «городской» деятельности вне какой бы то ни было городской черты (речь идет пока лишь о наметившейся перспективе такого рода). Имеются, однако, все основания полагать, что если все виды потребления продуктов городской культуры могут быть глобально рассеянными и становятся таковыми, то само производство культуры, которое нельзя смешивать с тиражированием культурных благ, необходимо требует высокой концентрации «сил, потребностей, наслаждений». В этом и состоит альфа и омега непреходящих функций города как центра социально-пространственной структуры общества.
4. Изменение социокультурной структуры города
Социокультурную систему города как института образует сеть общественных отношений, характеризующих положение и взаимодействие индивидов, групп, организаций в урбанической системе. Архитектурно-планировочная структура городской территории, а также демографическая структура городского населения могут рассматриваться как проекции социокультурной структуры города на соответствующие плоскости.
На уровне образа жизни, или, иначе, структуры социального поведения, урбанизация выражается в двух планах:
во-первых, в изменении социально-групповой структуры общества: прогрессирующий распад «сложной» семьи и локальных форм коллективности, выдвижение на первый план таких первичных групп, как нуклеарная семья, производственный коллектив и избирательная «товарищеская» группа, таких более сложных общностей, как профессиональные, культурные, социально-политические; эти типы отношений, разумеется, не носят локального характера и не ограничиваются рамками города, но они обретают самостоятельное значение именно в условиях городской цивилизации;
во-вторых, в изменении ролевой структуры общества: прежде всего дифференциация ролевых функций в сферах работы, быта и досуга при наложении на них сфер формального образования, воспитания детей, общения.
На уровне нормативно-ценностных механизмов происходит переход от непосредственных форм социального контроля к обобщенным и институционализированным (правовым, нравственным). Соответственно ориентации на поддержание заданных и конкретных образцов поведения уступают место ориентациям на достижение обобщенных, универсальных образцов.
На уровне институциональной структуры общества с урбанизацией связано закрепление прогрессирующей дифференциации и специализации социальных функций. Именно на этой основе, в частности, становится возможной типично «городская» концентрация населения, общения и деятельности. В то же время развиваются специализированные институты социализации, социальной интеграции и контроля: системы образования, воспитания, правопорядка, а на современном этапе также массовой коммуникации и др. Сегодня в роли особого социального института выступает и досуг. Генерируя социальные институты, урбанизация общества локализует их как в пространстве (здания, дороги, средства транспорта), так и во времени (разделение рабочего и внерабочего времени).
Наконец, на уровне структуры личности происходит усвоение «урбанистических» образцов и регуляторов нормативно-ценностной сферы (правосознания, формальной дисциплины и других обобщенных показателей социализации, ориентированной на достижение статуса, ценности работы, образования, общения как средств самоутверждения личности). Преодоление «родовой» (традиционно навязываемой) коллективности существования создает возможности для индивидуализации личности в сети ролевых отношений. Появляется избирательность коллективно-групповых связей, анонимность формальных показателей. (Такие признаки в западной социологии города нередко считаются решающими «метками» урбанизации.)
Неизбежным продуктом этих изменений оказывается возникновение ряда «критических точек» формирования личности и ее интегрирования в социальную и культурную системы общества. Отсюда и возможности кризиса личности, ее аномического (нарушающего принятые нормы) поведения, что находит свое выражение в динамике преступности. Неравномерность перехода от «традиционных» (догородских, непосредственно коллективных) к «городским» механизмам социализации, интеграции и контроля – существенный для всех форм урбанизации источник характерно «городских» форм аномии.
Урбанизация изменяет и природу социальной и культурной мобильности общества (в самом широком смысле слова – движение населения, благ, информации, ценностей и др.), в том числе и территориальной. Подвижность общественной структуры может быть представлена как изменение положения людей, благ, информации в некотором социокультурном пространстве. Его измерения определяются формами и направленностью общения, интенсивностью контактов, наличием барьеров между различными статусами. Город придал динамичность этому пространству уже тем, что он превратил социальные позиции (функции, статусы) из наследуемых в приобретаемые, создал возможности их изменения. Современные формы всеохватывающей урбанизации делают подвижными сами «ячейки» социокультурного пространства. Разрушается однозначное соответствие различных его измерений, например имущественного положения, образования типа потребительских запросов; многообразие и перемены ролевых функций становятся нормой городской жизни. При растущей специализации деятельности и соответствующих форм общения (профессиональных и т. п.) в условиях современной городской жизни формируется универсально значимая система массовой культурной коммуникации. Ее элементами служат широкая доступность некоторого уровня образования и потребления благ, распространение и смена образцов моды, вкуса и пр. Наличие такого «“общего” потолка» городской культуры порождает многие проблемы и противоречия современной урбанизации. В настоящее время в городском развитии стран капитализма фокусируются и, более того, генерируются наиболее характерные для этого общества социально-классовые, групповые и межличностные конфликты, приобретают свою социально значимую форму противоречия между производством и средой и т. д. Между тем в процессах урбанизации социалистического общества ярко отображаются масштабы и возможности планомерного воздействия государства на социально-экономические, демографические, культурные и экологические процессы.
5. Некоторые актуальные проблемы
Представляет серьезный теоретический и практический интерес вопрос о разнородных слоях урбанизации в СССР. Известно, что «городское» наследие старой России было не только бедным (в смысле невысокой доли городского населения, неразвитости транспортной сети, благоустройства и т. д.), но и отягощенным докапиталистическими пережитками – противостоянием азиатско-бюрократического города полукрепостнической деревне. На этот слой накладывались (и деформировались им) характерные для капитализма явления городского развития. При таких предпосылках бурные темпы социалистической реконструкции общества и социалистической индустриализации нашли свое отражение в неравномерности и разнообразности процессов урбанизации, в одновременном развитии явлений, как бы принадлежащих разным историческим фазам этих процессов, а также в перестановке самих фаз.
На протяжении длительного периода городское развитие страны находилось в непосредственной связи прежде всего с расширением индустриальной базы общества. Это обусловливало формирование городских структур, прямо зависящих от конкретных нужд производства, с доминированием материально-производственной сферы над городской жизнью. Сферы досуга, быта, потребления не могли получать достаточного внимания и ресурсов общества, не приобретали институционального оформления. Неизбежным следствием такого развития урбанизации стало накопление проблем в областях потребления, жилья, обслуживания, сосредоточение ресурсов на элементарных формах решения этих проблем (что отразилось, в частности, на характере массовой застройки и т. д.). Индустриальной урбанизации свойственно экстенсивное развитие самого города, то есть количественный его рост, в основном за счет притока сельского населения. Воздействие последнего сказывается не только на общекультурном и квалифицированном уровне рабочей силы города, но также на структуре самих потребностей и самом стиле жизни городского населения.
Сегодняшние потребности перехода к интенсивным формам развития всех сфер общественного производства все более требуют функциональной и структурной универсализации города, развития его специфично-культурного потенциала, развития сфер досуга и массового потребления (в том числе информационного, через системы массовой коммуникации). Последние превращаются в важнейшее средство формирования личности, ее ресурсов и способностей. Осуществление этой тенденции равнозначно переходу к иному, современному типу урбанизации советского общества.
Изменение типа урбанизации связано с перестройкой «центральных» функций города в общественной системе. Наследием прошлого и в значительной мере продуктом экстенсивного и одностороннего роста городов явилось накопление существенного культурного «перепада» между городом и «негородской» периферией (не только собственно сельской) и создание исключительности положения самих городов как форпостов общественного развития, сохранение разрыва между городским и «негородским» образом жизни. С этим связано и преимущественное сосредоточение городских функций в крупнейших городах. Отсюда односторонняя ориентация территориальной мобильности населения, нерациональное разрастание «полугородских» форм пригородов и другое.
Наметившийся – на основе перехода к новому типу урбанизации – путь решения этого узла проблем состоит в универсальном развитии и распространении современных форм городской жизни, преодолении социальных и культурных барьеров между центром и периферией урбанизации, развитии многосторонней подвижности населения. Такая универсализация городского развития общества, как отмечалось, предполагает возрастание роли развитого города как «культурогенного» ядра всей общественной системы. На этой фазе урбанизации город уже не может оцениваться преимущественно экстенсивными параметрами (численность и темпы роста городского населения). На первый план с неизбежностью выступают проблемы развития функций и структуры города, его роли в процессе урбанизации всего общества.
1974Почему дороги ведут в Рим Размышления о социокультурной модели – или, на старомодный лад, о «душе» – города
Что такое город и зачем он был нужен, до конца не выяснено… Большинство авторитетов в области экономики и социологии полагает организацию типа города немыслимой не только с экономической, но и с социологической и психологической точек зрения.
К. Саймак. ГородО смысле одной поговорки
Англичане говорят: «Бог создал деревню, а человек построил город». Эта простая фраза таит глубокий смысл. Город – нечто мирское и рукотворное, он имеет начало, а деревня – извечна, освящена высшим, неземным авторитетом. Притом ведь город здесь – это не тип застройки или заселения: сельские дома тоже строятся и заселяются людьми. Речь идет, по существу, о двух укладах жизни, двух способах существования человека в обществе. Их различия и взаимосвязи в разных формах прослеживаются на всем протяжении письменной истории человечества. Система городов выступила средством организации всех известных нам цивилизованных обществ.
Сегодня всех, конечно, занимает прежде всего не тот город, что был священным центром архаического мира, и не классический антипод традиционно недвижной деревни, а город современный, открытый миру и перекраивающий весь человеческий мир «по своему образу и подобию».
Это значит, между прочим, что традиционное противопоставление города деревне давно приобрело новый смысл, оба его полюса принадлежат прошлому. Мы не видим сейчас такого деревенского мира, который в тех или иных формах не был бы затронут процессами урбанизации, прежде всего в который не проникли бы городские типы организации жизни. Но мы вряд ли найдем и пример городской жизни, которая была бы полностью свободна от наследия, привычек и порядков жизни сельской, а также – что особенно важно – от попыток возрождения отдельных элементов этого наследия в каких-либо вторичных, например символических, формах.
Известно, что не только современная деревня (большая ее часть) мечтает о городских условиях труда и быта, но и современный город мечтает о деревенской непосредственности и устойчивости человеческих отношений, близости к природе и т. д. Но эти устремления реализуются в разных плоскостях и потому не сталкиваются друг с другом. Деревня может стать городом, «уйти в город» или уподобиться ему. Но город, обрастая зелеными пригородами, коттеджами и палисадниками (добавим сюда наши варианты дачи, «сада» и прочее), от этого деревней не станет. «Встречное движение» идет на разных уровнях – реальном и символическом.
Отсюда множество переходных, половинчатых, побочных форм, которые можно обнаружить на ощупь и в самом что ни на есть «настоящем», то есть признанном, городе.
Что строит человек
Почти двести лет назад царица Екатерина II повелела: «Город строить по утвержденному плану за подписанием руки императорского величества». Подлинную основу плановое начало в градостроительстве получило лишь в наше время. Проблема, однако, в том, что города часто строятся гораздо дольше, чем действуют планы, заказы и ассигнования. Если же – как это бывает в довольно редких случаях (вспомним город Бразилиа, разоривший казну огромной страны) – ход строительства опережает ход истории, возникает вопрос: зачем? Идеально спланированные кварталы и квартиры наполняются отюдь не идеальным содержанием человеческих отношений, интересов, нравов. (Более трети населения города Бразилиа живет сейчас в трущобах…) Точнее, тем реальным материалом, который соответствует типу и уровню развития общества. Оказывается, что по плану создается лишь бетонная скорлупа города, пусть и хорошо размеренная, а не та масса человеческих дел и стремлений, которая составляет реалию жизни города.
В свое время утописты конструировали желаемое общество как идеальный город – «Город Солнца» или что-нибудь в этом роде. Разумная планировка домов и улиц, конструирование одежды и обычаев представлялись залогом разумной организации всей жизни. Точнее, подогнанной по той человеческой мерке, которая казалась естественной рационалистическому воображению. Святая и наивная вера во всемогущество рациональной организации мира и человека, как известно, не сдвинула гору, но нередко служила источником вдохновения. В недавние времена появился целый ряд попыток, значительно более скромных и потому как будто более реалистических, например наладить рациональный быт в рамках рационально построенного дома или квартала. Но самые яркие архитектурные проекты и решения («дом Солнца» у Корбюзье – очевидна аналогия с «городом» Кампанеллы, – и какое изменение масштабов задачи!) по сути предоставляли лишь технические условия, чтобы удовлетворить готовые потребности «готового» человека.
Если отдельный дом, квартал или ансамбль сооружений («скорлупа») имеют вполне конкретного автора, применительно к городу приходится говорить об авторе в смысле аллегорическом. Здесь в роли автора выступает история – притом не только техническая или экономическая и политическая, но история культуры, наслаивающая в рамках одной городской территории вкусы, запросы и требования к организации жизни различных эпох и типов. Городской образ жизни (деятельность городского архитектора и вкусы городского населения тоже входят в это понятие) – в такой же мере продукт культуры, как и деревня.
Об умении читать между строк
Сейчас нередко говорят о «городском тексте», как и любом ином «тексте культуры». Но такое допущение – даже если это пока аллегория – обязывает искать ключ к тексту (грамматику и код), а также и фигуру читателя. Очевидный же камень преткновения в том, что зримая «скорлупа» города, как мы уже отмечали, сама по себе определенного текста не образует. О нем можно говорить лишь тогда, когда мы обнаруживаем некую систему значений наблюдаемых знаков. Как и где ее обнаружить?
Спросить автора – по причинам, о которых уже шла речь, – невозможно.
Остается спрашивать у «читателя».
Городской текст читают в принципе три персонажа: Исследователь, Турист и Горожанин. (Серьезно ли упоминать в этом ряду туриста – фигуру постороннюю и мимолетную? Если бы мы не обнаруживали тени в нашем собственном отношении к окружающему, а также и в рассуждениях современного архитектора, рассчитывающего на впечатления зрителя…) Для исследователя городской текст – это многослойное образование, которое он, подобно археологу, отделяющему друг от друга культурные пласты, стремится расчленить на составляющие, нанизав их на некую хронологическую ось. Для туриста (не обязательно легкомысленного) – это совокупность впечатлений, сопоставленных с полученными при посещении иных мест. Для горожанина – это рамки его собственной жизни, ее порядок и нормы, которые прежде всего требуется соблюдать, а не исследовать и сравнивать. По этой причине последнего персонажа мы можем считать главным читателем (разумеется, разделение персонажей у нас во многом условное: реальный горожанин в той или иной мере знает историю и любуется памятниками своего города).
Для него наслоения любых прошлых эпох предстают в своем осовремененном и утилитарном виде, то есть включенными в систему его повседневных забот. Когда бы ни были построены дома и мосты, они «работают» совершенно одинаково в сегодняшнем городе (если остаются технически пригодными). Священное для прошлых культур сооружение в глазах туриста оказывается интересным памятником в сравнении с другими подобными ему (подобными по интересности). Для горожанина же это – помеха уличному движению или ориентир для встречи. Напомним: чтобы выделить в «химически чистом» виде отдельные позиции, их приходится несколько утрировать.
Подобные метаморфозы происходят и с «бестелесными» элементами городской жизни – скажем, с исторически складывавшимися окаменелостями обычаев и стандартов «городского» поведения. В ритуальных формах городского этикета (это наше бесподобное «здрасьте – до свиданья») или городских праздников исследователь усматривает культурно-историческую глубину, горожанин же видит лишь привычный регулятор повседневного поведения.
Как измерить культурный текст города? Иногда считают в битах количество информации, хранящейся в библиотеках, кодексах, инструкциях, в головах отдельных людей, уличных знаках и т. д.
Информатика не умеет выделить культурно значимый текст из массы математически возможных, не может она измерить содержание текста, записанного языком изобразительных символов, или текстов живого общения людей. Это последнее обстоятельство имел в виду историк, поэт и критик городской цивилизации Льюис Мамфорд: «Культурная емкость города всего со ста тысячами жителей намного превышает емкость любого компьютера уже потому, что каждый человеческий организм записывает и хранит огромную массу опыта, который нельзя свести к количественным символам, программировать и передать иначе, как через прямой человеческий контакт». И все же главная проблема – в другом. Количественная мера берет информацию «россыпью», между тем как в культуре «работает» информация только организованная. И в связи с этим основная информационная роль города – не в том, чтобы копить тексты, а в том, чтобы задавать их структуру. Если же рассматривать в самом общем виде «городскую» рамку чтения культурного текста, то прежде всего она видна в той структуре пространства и времени, которую задает человеку город.
Машина времени
Невероятные устройства, о которых рассказывали нам Уэллс, Брэдбери, Стругацкие и прочие авторитеты в данной области, всего лишь передвигали человека по заданной шкале времени – вперед или назад. Реальная же «машина времени» города производит куда более сложную операцию: она как бы формирует человеческое время.
Первый, издали заметный признак существования особого «городского» времени – часы на башне, этот символ механической и принудительной меры времени, внешней по отношению к «естественному» ходу жизни. Это явный признак разрыва «городского» мира с естественным и привычным течением событий, характеризующим существование человека в догородских обществах. Там не требовалось никакой посторонней, механической (то есть идущей от небесной механики) меры времени. Социологи, описывающие городской образ жизни, говорят о «тирании часов», которые кажутся господствующими над поведением людей. Но часы лишь измеряют ритм человеческой деятельности. Часы нужны, когда нужно спешить, поспевать, догонять, не опаздывать, – короче говоря, соизмерять внутреннюю рамку человеческого («организменного») времени с некой внешней и обязательной временной структурой.
Очевидные и как будто всеобщие признаки ритма человеческого времени – чередование будней и праздников, работы и досуга, периодов социального созревания и зрелости и, наконец, как суммарный результат накопление необратимых изменений, составляющих основу поступательного движения самого «колеса» времени.
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что эти признаки и не просты и не вездесущи, а их значение подвержено изменениям.
С глубокой древности время человеческой жизни (и жизни рода, общины) делилось на будничное и праздничное (или ритуальное, поскольку праздник знаменовался обрядом), каждая из этих сфер имела свои пределы обязательного и дозволенного. В будни человек целиком отдан практическим заботам о пропитании, поддержании порядка и продолжении рода. Праздничное же время он проводил с утилитарной точки зрения непроизводительно и бесцельно, но это говорит лишь о недостаточности такой точки зрения. «Праздник» («карнавальное время», по М.М. Бахтину) важен, поскольку он выражает и закрепляет связь человека с ценностями и традициями общества (в мифологическом сознании это обычно отражается как связь человека с космическим порядком и ритмом). Время праздника как бы включает человека в социальную и культурную реальность, выходящую за рамки его будничных забот. Как показали социологи В.М. Долгий и А.Г. Левинсон, архаический город служил посредником, медиатором в такой связи времен и людей.
Об устойчивости «праздничного» деления времени, между прочим, свидетельствует народный календарь («это случилось на третий день масленицы», а не «такого-то числа»).
Современный город придает ритму времени иной смысл. Сейчас такой ритм задается прежде всего чередованием рабочего и свободного времени. Во время работы человек непосредственно включен в систему требований общественного производства и дисциплины организованного труда; на досуге он как будто предоставлен самому себе и может выбирать способ действия. На деле же и в этой сфере человек встроен в систему норм и ценностей своего общества, но уже через посредство общественного воспитания и систем массового воздействия. Поэтому в чередовании рабочего и свободного времени реализуется сложная связь индивидуальных и коллективных интересов, темпа человеческой жизни и темпа общественного производства. Деятельность человека в такой временной структуре – постоянное преодоление грани между временем «обязательным» и «необязательным», постоянный переход рубежа «не своего» времени.
Из этого вытекает, между прочим, и своеобразие положения города в масштабах исторического времени (макровремени). В древнейших культурах движение во времени просто не фиксируется, существующая система отношений воспринимается как извечная; мифологический мир здесь существует параллельно реальному во времени. Можно, вероятно, сказать, что такая временная структура закрыта и для прошлого, и для будущего. Такова и традиционная индийская культура, в которой не признаются необратимые во времени процессы. Средневековье дает пример структуры, открытой к прошлому, обращенной к нему и постоянно им оправдываемой. Человек здесь буквально шагу не может ступить, не отыскав для этого шага благословение или образец в священной древности. Настоящее выступает в таких культурах как исполнение заветов прошлого, причем священное (мифологическое) время – это предпрошлое, предпосылка и начало движения традиции. Будущее осознается не как продукт настоящего, а как результат всего «космического» (мифологического) прошлого. Так, в христианских концепциях (а также в некоторых утопических воззрениях) существует представление о «конечных вещах», то есть о наступлении такого времени, когда раз и навсегда найдут свое разрешение «вечные» проблемы мира и человека – страдания, зла, греха и прочие. В культуре же нынешнего города, которая составляет главное содержание современной культуры вообще, прошлое присутствует через его результаты. Поступки человека проверяются не ссылками на извечные образцы, а своей эффективностью, своей полезностью для удовлетворения человеческих потребностей. Действует одна система счисления времени – актуальная (под глыбами которой, правда, можно обнаружить более древние культурные пласты со своими структурами времени, в частности мифологической, но это особая тема, и сейчас она нас не занимает). В отличие от всех древних, время городской современной культуры открыто будущему, причем само это будущее – элемент сегодняшней практической деятельности человека. Самые грандиозные и долговременные проекты – технические, экономические, социальные – решают сегодняшние проблемы, используют сегодняшние ресурсы, они встроены в рамки «сегодняшнего» времени («текущего момента» – в этой этимологической неграмотности скрыт серьезный смысл!). Вот почему в городском мире важна одна грань освоения времени – та, которая проходит между «давно» и «теперь».
«Далеко – близко»…
Города занимают сегодня сравнительно малую часть населенной территории Земли (что-то около трех процентов), но именно они заставляют практически измерять всю планету (коммуникациями). Более того, именно город создал исторически и постоянно воспроизводит протяженность, направленность, структуру «человеческого» (культурного) пространства.
Догородские общины – точки, самодовлеющие единицы (собственно говоря, каждое поселение в этой ситуации – единственно, для него не существует ни других точек, ни расстояний между ними). Отсутствие разделения труда, регулярных связей, взаимной необходимости – вот очевидные социальные причины сохранения такой «атомарной» структуры общественного пространства. Эта структура была сломана с появлением городов, поэтому стало необходимым и разделение труда в обществе, и развитие связей на всей его площади. Город и городской мир – всегда протяженность и всегда структура. Его расстояния создает не сама по себе «географическая» длина (километраж) улиц, а постоянная необходимость мерить ее шагами. Дорога длинна или коротка для того, кто должен ее проделать, а не для сидящего на обочине. В старом селе от одного края до другого могло пролегать несколько верст, но это немного значит для людей, жизнь которых привязана к своему двору, ничем не отличающемуся от соседних и дальних.
Необходимость мерить, то есть преодолевать, городское пространство диктуется разнообразием и динамикой городской жизни. В нем развернуты в пространстве, а потому подлежат выбору различные возможности деятельности человека. Исторически рамки и предметы выбора существенно меняются, но они всегда заданы в городе. Само городское пространство – это не что иное, как пространство возможностей. Горожанин выбирает друзей, профессию, жену, способ использования свободного времени. С другой стороны, он сам служит объектом выбора: различные организации и коллективы тоже избирают (кадры, членов) по своим требованиям или «вкусам».
Городское пространство явно отличается от евклидова: кратчайшие расстояния в нем нельзя изобразить прямыми на карте. Уже уличная сеть плюс сеть маршрутов транспорта не только превращают пути человека в ломаные, но вынуждают измерять их протяженность временем и удобством сообщения. «Далеко» или «близко» в городе – это значит, насколько быстро и удобно можно данное расстояние преодолеть. Наиболее расхожая мера здесь, как известно, – остановки городского транспорта и пересадки. Но гораздо более существенный фактор «кривизны» городского пространства – это структура самих человеческих отношений. Как известно, для горожанина ближайший сосед часто оказывается более далеким и недоступным, чем товарищ и коллега, обитающий на другом краю города. График «прямых» социальных связей в городе (в социологии он именуется социограммой) не совпадает ни с какими линиями улиц и маршрутов; разрывы и препоны в этой сети задаются не стенами, а барьерами социального порядка – запретами, склонностями, наличием или отсутствием интересов и т. д. Это прямое следствие многообразия и избирательности городских связей. Принудительная близость этих и только этих людей в «точечном» деревенском мире (пример – соседство) здесь заменяется связями, рожденными многоступенчатым и многосторонним выбором.
Элементарной единицей этих связей можно считать контакт (между людьми, группами, организациями). Контакт – всегда соединение, предполагающее возможность разрыва и переключения. Сеть связей измеряется не длиной, а количеством и типом (например, подвижностью) контактов. Кстати, ведь «шум» города – это неизбежные или накладные издержки его бесчисленных контактов (от социальных до чисто технических).
Аналогия с контактной сетью подводит нас к чрезвычайно важному представлению о дискретности, прерывистости городского пространства.
По первоначальному смыслу слова город – нечто огороженное, некое замкнутое пространство, отделенное от среды, от «негорода». Притом огороженное не вещественными стенами (которые, в конце концов, выполняли в основном временные, оборонительные функции), а политическим, экономическим, культовым барьером организованности, противопоставившим город «хаосу» неогороженного, неорганизованного мира. И вот эти внешние стены как бы проросли внутрь, дав начало и образец бесконечному числу внутренних ограждений и перегородок, превративших всю структуру городского пространства в ячеистую или клеточную. В роли ячеек выступают не только разгороженные материальными стенами дома и квартиры, коридоры и дворы, но и разгороженные сугубо социальными барьерами сферы интересов людей и групп. Да и каменные стены в городе прочны не материалом, а тем, что они признаны как грань некоторой обособленности, отдельности (для англичанина дом – «крепость», огражденная юридическими стенами формальной неприкосновенности жилища и личности).
У Пушкина каменные (и символические) «грани» города – «немые стогны града» – обращены вовне, судьба его городского героя развертывается на широких улицах и площадях, где стены обращают его к большому миру. На другом полюсе сознания русской литературы, у Достоевского, герой неизменно подавлен потолком, стенами, дверями, коридорами, лестничными клетками, узкими переулками и т. д. (блестящий анализ этой стороны мира персонажей Достоевского дан В.Н. Топоровым). Вся эта система перегородок обращает сознание человека внутрь, к глубинам собственного Я. В обоих – крайних – случаях сама структура человеческого сознания так или иначе сопоставлена с пространством его городского мира.
В самом общем виде перегородки между многообразными ячейками городской структуры – это грани «освоения», отделяющие «свою» клеточку жизни от иного, не своего, внешнего. В «точечном» мире примитивной общности все – свои и всё – свое, для «иного» здесь просто нет места. В городской же протяженности всегда есть место (возможность) для своего и другого, для грани между ними и для ее постоянного преодоления. Такая грань «работает» в обществе именно потому и постольку, поскольку ее постоянно переходят, преодолевают.
В архаическом городе архитектурное, социальное и культурное пространство было явно стянуто вокруг единого центра – храма или центральной площади, соединявшей храм с рынком, а потом еще с ратушей. Отсюда берет начало поляризация направлений улиц и неравноценность городских территорий (в России кремль, посад, слобода – это иерархия рангов жилища и самого населения). Современные города, независимо от возраста их планировки, в социальном и культурном смысле полицентричны. В их пространстве действуют многообразные полюса притяжения, связанные с дифференциацией типов деятельности и интересов горожан. Старинный архитектонический центр становится часто символом истории или значения города, а не практическим средоточием его жизни.
…и «высоко – низко»
Когда-то Гоголь мечтал о сооружении в каждом городе «огромных, колоссальных башен», которые должны «неизмеримо возвышаться над головою зрителя». Сейчас строят телемачты и просто небоскребы, которые по своему вертикальному метражу далеко превосходят подобные проекты (и, кстати, знаменитую Вавилонскую башню, которая возвышалась всего на 90 метров). Но их высота – это, так сказать, высота «техническая», она сама по себе не несет каких-либо социальных и культурных нагрузок. Это не измерение социального пространства. Другое дело – высота какой-нибудь ритуальной башни древности.
Гоголевская башня – как и вдохновившие воображение писателя готические храмы – выше телемачт и небоскребов в том смысле, что они несут «двухэтажную» нагрузку. Для практического назначения (у Гоголя она проектировалась как полицейская вышка) эти сооружения должны были служить средством организации действий и чувств множества людей вокруг определенных ценностных систем, как можно сказать на современном языке. Прославленная легендами дерзновенность Вавилонской башни в том, что она должна была служить материальной связью земли с небом, то есть с высшим миром. Считалось, что такая связь возможна лишь в священнодействии (ритуале), и ее выражали бесчисленные храмы – высокие и низкие, даже подземные. Здесь явная аналогия соотношения будничного и праздничного. Дом как жилище будничен, в нем человек встроен в повседневное окружение (семья, хозяйство). Дом как святилище, как символ – это средство «праздничной» связи с миром «большого» общества, космоса, мифа. Подобную – с понятными поправками – нагрузку может нести и современное сооружение, и в этом тогда его «культурная» высота.
Культурное значение современного города выражается не столько в его «надписях» (к ним можно отнести и памятники, и украшения, и прочее), сколько в его функциях. Фабрика, университет, лаборатория – вот три примерных «этажа» таких функций (производство вещей, воспитание человека, развитие сил общества). По эффективности верхних ступеней этой лестницы мы судим сегодня о культурной роли города в обществе.
Можно обнаружить и другие ступени – подземные, скрытые от простого взгляда. Конечно, речь идет не о подвалах и тоннелях, а о глубине той культурной «почвы», на которой стоит город и которую он также образует. Это ступени связи современного городского мира с историей и традицией общества.
Мир через окошко
Стена с окном, этот неизменный мотив городской картины, годится и в качестве универсального аналитического элемента города. Во-первых, налицо стена, перегородка, рубеж, отделяющий «свое» от «не своего»; во-вторых, это рамка, угол, точка зрения; в-третьих, это возможность и условия преодоления рубежа. Пожалуй, можно сказать, что весь городской мир – это мир, видимый через «окошко»… Этот взгляд – объективного наблюдателя, а потом и фотографа – характерен для науки и практики современного человека.
Конечно, речь идет о стене и окошке не в кирпичном, бетонном, бревенчатом и т. д. исполнении. Материалом «перегородки» служат нормы (ограничения и ориентации) человеческих отношений. В общинном мировосприятии нет «рубежа освоения», ибо весь мир в нем мифологически очеловечен, а тип человека жестко и навсегда задан; человек просто не имеет права быть «иным» (в мифологии и фольклоре «иные» – это уже демоны, антиподы людей). В городском же мире в связи с разделением труда есть право на «инобытие». Весьма емкое выражение этого обстоятельства – проблема «постороннего». Помните «Посторонним в.» из знаменитого «Винни-Пуха»? «Посторонний» – это и есть «иной», находящийся за определенной чертой «своего».
«Грани освоения» в городском мире столь же множественны и многообразны, как те клеточные мембраны, с которыми мы их сравнивали. Комната и квартира, подъезд и дом, улица и работа, человек, семья, группа сверстников и коллектив бригады – каждая из этих «отдельностей» городской жизни обладает своими гранями и своими условиями их перехода. Грань освоения есть в то же время и грань «остранения», рубеж отношений к лежащему «по ту сторону» как другому. В театральной концепции Брехта очень важна идея «остранения»: зритель должен воспринимать происходящее на сцене как нечто отделенное от его собственной жизни, только тогда он может правильно воспринять игру – на должном уровне обобщения и символизации. В той или иной форме «остранение» действует во всех театральных стилях, в «театре» городского мира происходит нечто подобное.
Когда «перегородки» почему-либо становятся непроницаемыми в ситуации, где они должны сохранять свою проницаемость, мы говорим о болезненных нарушениях функций организма. Законную горечь вызывают сцены, когда прохожий отказывается стать помощником при несчастном случае или в борьбе с хулиганом; пресса и общество обязаны акцентировать такие ситуации. Но представим себе, что каждый встречный будет участливо расспрашивать вас о том, куда вы идете и как дети и т. д. – словом, как в добрых старых образцах деревенского поведения. Вы не только не уйдете далеко, но вряд ли сохраните добрые отношения с милыми встречными. Это слишком маловероятная ситуация, чтобы о ней писала массовая пресса, но вот о неоправданном и вредном вмешательстве в дела личности, семьи пресса вынуждена писать… Если «мембраны» разрушаются, страдает саморегуляция отдельных ячеек структуры, более того, может оказаться под угрозой сама ее организованность.
Поэтому «грани освоения» могут служить и меняться к добру или ко злу, но сами по себе они не добро и не зло, а просто необходимость сложной системы городского мира. Их «нормальная» функция – обеспечивать ту самостоятельность, индивидуальность и динамику элементов целого, без которой и само целое не может быть динамичным.
Одна из задач городского «окошка» в том, чтобы пропускать одни «лучи» (информационные потоки) и не пропускать другие, в результате чего поступающая информация приобретает определенную структуру. Мы не отождествляем «посторонний» (заокошечный) мир со своим, но мы всегда рассматриваем его через призму своей культуры и через прицел своих нужд. «Для чего мне гора, океан, космос?» – вопрошает современный человек, укладывающий мир в рационально-утилитарную систему своих привычек (недавно был назидательный фильм «Кому он нужен, этот Васька?»). А вот мальчик, впервые взявший в руки игрушечную лошадку, озабоченно спрашивает: «Куда в нее бензин наливают?» Лет пятьдесят назад дети интересовались тем, как автомобиль ест сено. У них еще не было городской «рамки» на глазах.
Конструктивно и фольклорно «окошко» подобно «выходу». Не только свет извне проходит через перегородку, но и сам человек, по крайней мере мысленно, способен ее преодолеть, стать в позицию «другого». На возможности такого перехода и основано право на инобытие, на сложность и динамизм структуры города.
Человек в городе и город в человеке
В город можно попасть случайно и надолго остаться в нем гостем. Статистика преступлений и нравственных срывов обычно особое внимание уделяет горожанам первого и второго поколений: значительная часть их с трудом «привыкает» к особенностям городской жизни, порой это бывает болезненно. Под «привыканием» в данном случае имеется в виду формирование характерных для городской жизни регуляторов поведения – в структуре человеческой личности. Сначала человек входит в город. Позже, значительно медленнее город «входит» в человека.
В учебниках социологии город и «городской человек» сопоставляются с селом и «сельским человеком». Правда, встретиться с последним становится все труднее. Реально сталкиваются с городскими условиями те нормы и установки людей, которые сами являются продуктами «полураспада» старого, некогда замкнутого в себе села.
Именно в этой ситуации создается и многократно воспроизводится проблема уже знакомой нам «грани освоения». На тяжелом изломе сельского сознания выросло в свое время противопоставление «свое – казенное». В этой – увы, не отжившей – формуле догородского, досовременного сознания все «не свое» выступает как чуждое, как «непризнанное иное».
Чтобы признать правомерность «других» в условиях городского многообразия, нужно ориентироваться не на отношения «своего» и «чужого», а на общезначимые нормы и правила. Это вполне очевидное положение не всегда просто осуществить.
Не столь уж редко в напряженной ситуации предпочитают обращаться за помощью к людям ближайшего окружения – семье, соседям, а не к закону как общей норме, обязательной для всех и специально охраняемой. Между тем именно город еще в древние времена провозгласил и до сих пор утверждает новый тип контроля за поведением людей: ответственность каждого перед обществом в целом, личная ответственность перед законом, перед которым все равны и который свободен от всех пристрастий.
И наконец – о направленности дорог
Кто не знает, что у римлян все дороги вели в Вечный город? Но многие ли задумывались над тем, почему этим дорогам приписывалось некое направление? Разве эти знаменитые столбовые пути не вели также и из Рима? Должно быть, изречение относится не к дорогам как техническим сооружениям, а к силовым линиям человеческих коммуникаций, которые обладают и направлениями. Притом это не обязательно направленность перемещения: римские, византийские и прочие провинциалы сбегались массами в города лишь в периоды разорительных социальных или стихийных бедствий. Дело в ориентации на город как политический, экономический центр общества, хранитель его культурного наследия. Периферия поставляет ресурсы, центр придает целому организованность, структуру, форму. Конечно, материал, способ и «баланс» такого обмена менялись с историческими эпохами.
Вместе с тем изменяется и характер той «перегородки», которая обособляет центр от среды или периферии общества. Некогда такую перегородку порой обозначали крепостные стены, но создавала ее разница в правах и возможностях, в стиле жизни. Стены падают, а разнородность экономических и культурных систем, механизмов регуляции человеческих отношений надолго сохраняются, хотя и формы, и значение ее подвержены переменам.
В наших, современных условиях сама односторонность жизненных ориентаций большой части населения («в город!») создает напор, в известной мере укрепляющий незримые «стены» городов, в то же время способствующий их разбуханию.
Мы уже отмечали, что городской человек – продукт длительного формирования: его «филогенез» занял несколько сот лет, а «онтогенез» требует двух-трех поколений. Но, однажды появившись на свет, этот персонаж обладает большой устойчивостью (человеческая личность, видимо, наиболее устойчивый из элементов культуры). Изменение условий обитания и деятельности его не разрушают. В пустыне и в океане, в джунглях и в космосе он остается самим собой, то есть тем же человеком городской цивилизации со всеми ее запросами и противоречиями.
Само противоречие между городскими и догородскими формами жизни становится сегодня и чем-то внутренним для города и городского человека. Для сельской жизни всегда были характерны личные отношения, непосредственное общение людей, связующая роль традиций и привычек (отсюда ведь и «привычное дело» – любимое присловье Ивана Африкановича из повести В. Белова). Эти образцы жизни не исчезают бесследно даже при высоком уровне урбанизации общества; меняются, однако, их способ существования и их роль. Шаг за шагом, покидая реальные современные деревни, они входят в городской мир на правах скрытой основы многих его отношений и противоречий – от личных до этнических, – а с другой стороны, на правах его «риторического оппонента», как образ неких утраченных иллюзий. В одном современном рассказе (В. Солоухина) возникает характерная ситуация: городской человек, профессор тоскует по деревенскому детству, по празднику с баяном и танцами, а реальная деревня равняется на город, в том числе на городские развлечения.
При всех трудностях и ухабах, при всем многообразии тупиков и перекрестков пути человеческой цивилизации по-прежнему ведут в Вечный город…
1976[Предисловие к републикации статьи в 1994 г.]
Эта статья, которую редакция «Знание – сила» решила предложить вниманию нового поколения читателей, была написана почти два десятка лет назад. Мне трудно судить о вкусах этого поколения – наверное, они изменились за эти годы, и что-то из старого текста утратило интерес, а некоторые рассуждения, возможно, стали менее понятными. Ведь современный читатель – и это прекрасно – отвык искать смысл написанного где-то между строк. Потому и приходится загонять текст в историческую рамку, то есть предварить его толкованием.
Сначала о том, что написано. Перечитывая статью, обнаруживаю в ней три уровня смысла, который мне когда-то хотелось туда вложить.
Во-первых, это основное содержание статьи – попытка рассказать о некоторых понятиях социокультурной теории города (или урбанологии), над которой мы с коллегами тогда размышляли. Многие шаги человечества со времени, когда была изобретена письменность, можно представить метками на оси урбанизации. Такими метками оказываются универсальные религии, права человека, наука, бизнес, образование и многое другое. Перипетии отечественной истории, в числе прочего, объяснимы тем, что Россия никогда не кончала школы городской цивилизации. Безудержное самовластье, безграничная покорность и беспощадный бунт – все это разные стороны одного и того же феномена «негородской» российской жизни, который пережил много превращений, но сохранился как некий предел страхов и устремлений.
Во-вторых, это уровень намеков и недоговорок, который в период написания статьи складывался даже помимо воли автора: друзья и критики находили в «междустрочном пространстве» именно то, что они хотели там найти. Перечитывая сейчас эту давнюю статью, не могу обнаружить никакой эзоповщины, никаких потаенных коварных замыслов. Замысел был простой и открытый: серьезно, «без дураков», без поклонов обязательным «классикам» и новейшим постановлениям изложить свой материал и некоторые суждения по его поводу. Но именно это показалось кому-то опасной крамолой, тем более что у автора уже была не вполне оправданная репутация крамольника (говорят, один социологический начальник тех лет написал даже по поводу этой статьи специальный донос начальнику идеологическому, но такие истории давно перестали быть интересными, потому я не называю имен).
Был и третий уровень смысла, на который намекает название статьи. Дороги вели в Вечный город и в древности, но в семидесятые годы нашего века Рим одно время был обязательным пересадочным пунктом на путях эмиграции из советского рая в мир западной городской цивилизации. Немало друзей и знакомых проходило по этой столбовой дороге с односторонним, как представлялось тогда, движением. Поэтому, размышляя о судьбах города и человека в городе, я имел в виду также и этот путь.
Теперь о том, что не было написано, но что непременно было бы в статье, появись она лет на пятнадцать поближе к дню сегодняшнему.
Семьдесят с лишним лет постоянным мотивом непрерывно звеневшей социальной мелодии (гимна, марша, лозунга, плаката, призыва) было строительство – нового мира, новой жизни, нового человека. Причем изображалось и мыслилось оно прежде по образцам градостроительным: кирпичи, блоки, проекты, прорабы, стройные громады сооружений. Эти аналогии имели свою логику и свою историю, которые уходили корнями в социально-технические утопии. «Безумцы», пытавшиеся навеять человечеству «сон золотой», в своих фантазиях обычно сооружали идеально правильные, аккуратно разлинованные и прозрачные города, предназначенные для столь же правильных и прозрачных людей. Давно известно, что «золотые сны» были мрачными кошмарами, которые имели лишь одну светлую сторону – их никто и нигде не мог и не собирался претворять в реальность. Лишь далеким наблюдателям кажется порой, что советская жизнь со своими «градостроительными» мелодиями означала попытку «сказку сделать былью», осуществить утопические проекты «солнечного» города и мира. На деле строили не столько города, сколько городки – заводские, военные, «ящики», лагеря, и не по идеальным меркам, а по наличным ресурсам и потребностям. И не «солнечные», а довольно-таки малоудобные.
Главное же в том, что человеческие отношения и сами человеческие типы никому не удавалось «строить» по чертежам и схемам, по благим пожеланиям (в существовании последних, правда, можно сомневаться). Мне показалось интересным использовать в статье пример красиво спроектированной бразильской столицы, которая обросла трущобными постройками; много позже случилось посмотреть своими глазами, как это выглядит. Интересовал же меня этот пример прежде всего как метафора, как символ того, что неизбежно происходит с проектами «планирования» и «строительства» в применении к сложным человеческим системам. Проектировали и строили, по сути дела, не человека, а послушного и восторженного робота. На деле же появился человек лукавый, умеющий уклониться от исполнения любых планов. Это особая тема, которую сейчас не стоит разматывать.
В недавние – хотя уже и далекие от сегодняшней жизни – времена горбачевской перестройки «градостроительная» терминология и идеология были в ходу: и планы, и прорабы, но «процессы пошли» не так, как задумывалось (если предположить существование чьих-то долгосрочных замыслов, а не только знаменитого русского расчета типа «эй, ухнем… сама пойдет»). Сегодня модно оплакивать очередные неудачи красивых замыслов («снов золотых») и объявлять их знаками гибели и разорения градов и весей наших. Но жизнь ведь не сводится к планам и замыслам, она сложней, хитрей, потому и выносливей.
В отличие от деревни, город всегда многоэтажен, по меньшей мере двухэтажен. В данном случае я имею в виду «этажи», которые разнятся своими культурными смыслами. Есть уровень объединяющих символов: храмы, дворцы, шпили (вспомните знаменитые московские «высотки» позднесталинской эпохи), в последние времена – реклама политическая и коммерческая. Все это, так сказать, «верхний» этаж, подверженный влиянию социальных и политических землетрясений. Есть уровень повседневности, обычной, «низовой» жизни. Связь между этажами никогда не бывает простой. Рушатся вывески, меняются лозунги, изменяется значение символических сооружений, памятников, музеи превращаются в храмы (и наоборот). Повседневная жизнь продолжается, приспосабливается к новым условиям, использует новые возможности для своего развития. Сегодняшний город, особенно крупный, демонстрирует эту картину «двухслойных» изменений с большой наглядностью.
Сентябрь 1994 годаК проблеме изменения социального пространства – времени в процессе урбанизации[337]
Современное научное знание усвоило представления об относительности пространственно-временных характеристик объекта и многомерности разного рода аналитических пространств. Конкретные особенности социального пространства – времени раскрываются всей системой общественных наук, в том числе и экономикой, особенно при рассмотрении вопросов размещения производительных сил и регионального развития. Однако одновременно с этим существует и противоположная тенденция к трактовке социального пространства в качестве простого дубликата физико-географического понятия территории.
Социальное пространство – время, которое формируется, в частности, хозяйственной деятельностью людей, многомерно, и по мере развития функций планирования и управления все явственнее обнаруживается необходимость учета не только экономических, но также социальных и культурных его параметров. Сейчас, например, достаточно широко принято, что невозможно сколько-нибудь серьезно анализировать проблемы трудовых ресурсов Средней Азии, не обращаясь к таким категориям, как «традиция», «культурный образец» и т. п. Но то, что относят к «национальной специфике» Средней Азии, служит в действительности лишь выражением более общей потребности в учете социокультурных индикаторов пространства – времени при разработке любых комплексов программ регионального развития, включая программы освоения новых районов.
Все это объясняет использование в данной статье специфических понятий, выработанных в рамках теоретического анализа социальных и культурных явлений. Эти понятия образуют необходимый методологический инструментарий при раскрытии влияния процесса урбанизации на региональное развитие вообще и на освоение новых территорий в особенности.
Процесс урбанизации общества воздействует на различные стороны его организации и культуры, функционирования социальных институтов, на деятельность, равно как и на структуры личности. В этом процессе глубоко трансформируются пространственно-временные характеристики общественной жизни. Собственно говоря, здесь происходит и само формирование значимого для общества специфически социального пространства – времени, обладающего определенной целостностью и структурой[338].
Эти изменения могут быть прослежены в двух планах:
а) на микроуровне (поведенческие) – как развитие социальных измерений пространства и времени (в качестве таковых выступают ритмы социальной деятельности);
б) на макроуровне (уровне социокультурной структуры) – как формирование самих пространственно-временных характеристик общества, то есть способов пространственно-временной записи его социальной и культурной структуры.
В процессе урбанизации различные формы миграционной подвижности общества предстают как элементы трансформации его пространственно-временной структуры. Анализ такой трансформации – прежде всего в ходе урбанизирующей миграции – имеет принципиальное значение как для исследования актуальных изменений, так и для разработки представлений о пространственно-временной структуре общества и возможностях ее трансформации.
Пространственно-временная структура и морфология общества
Очевидный признак наличия пространственно-временной организованности общества – «социализация» внешних (физических, астрономических, экономических) мер пространства и времени: расстояний («далеко – близко»), направлений («вверх – вниз»), ритмов (поколенческих, годовых, дневных) и т. п. Выделение, анализ, сопоставление таких показателей важно в плане сравнительного исследования обществ, регионов, периодов. Но исследование «социализированных» индикаторов пространства – времени не выводит за рамки феноменологии анализа внешних проявлений общества.
Поиски структур, обусловливающих определенное соотношение таких показателей, неизбежно приводит к иному уровню анализа, который может быть назван морфологическим. Социальное пространство на этом уровне выступает как набор возможностей действия, наряду с ним фигурирует культурное пространство как некоторый набор значений и ценностей. Социальное время выступает здесь как последовательность фаз (ритм) социальной деятельности, культурное время – как соотношение типов (слоев, пластов) значений этой деятельности.
Представляется возможным выделить два измерения социальной морфологии – протяженность и глубину. Определяющими элементами в этих измерениях служат соотношения центра и периферии, «верхнего» и «нижнего» слоев культурного текста.
Говоря о разграничении социального и культурного, следует отметить, что только в рамках условно-функционального представления общества эти категории выступают как симметричные, между тем как в реальной истории социальных форм и социального значения они принципиально асимметричны.
Дифференциация социальной организации как особого плана общественной реальности исторически связана с развитием города, в котором институционализируются пространственные и временные оси координат социокультурной системы. Теоретически же эта дифференциация фиксируется лишь социальным сознанием (в явной форме – социологической мыслью) нового времени.
Именно в этом плане становится возможным рассмотрение социальной морфологии как особого предмета исследования и особого уровня анализа социокультурной системы. Для этого уровня специфично аналитическое противопоставление социального и культурного, социального и личностного, системы и среды, центра и периферии, поверхностного и глубинного и т. д.
Но уже сам способ выделения морфологического уровня предполагает его заведомую неполноту, а точнее, соотнесенность с иным, функциональным уровнем. Это уровень действия социокультурного механизма общества как некоторой целостности, не допускающей рассечения на плоскости социального и культурного. Ему соответствует представление о том, что функция непременно находит какое-то выражение в «форме». Последнее может быть явным (специальным, институционализированным) и неявным, диффузным.
На феноменологическом уровне урбанизация описывается обычно с помощью показателей концентрации населения, миграции и т. д. Анализ города как определенной структуры расселения, общения, мобильности производится на уровне социальной морфологии (в этом плане может исследоваться как роль города в морфологии общества, так и внутренняя структура самого города). К этому же уровню принадлежит и анализ собственно культурной структуры города как «контейнера» информации. Напротив, когда ставятся проблемы значения города в организации социокультурного пространства общества, формировании и поддержании его динамической структуры (структуры потребностей, типа личности и т. п.), требуется изучение урбанизации на функциональном уровне. Здесь, естественно, возникает весьма сложный вопрос о полноте и способах выражения функции в форме и обратного воздействия формы (структуры) на функцию.
«Центропериферийные» структуры в социальной морфологии
Одним из наиболее универсальных измерений социальной морфологии можно считать структуры типа «центр – периферия». В соответствии со сказанным выше представляется целесообразным разграничить уровни постановки этой проблемы. На феноменологическом уровне проблема «центр – периферия» – это выявление центра городского расселения, путей сообщения и т. д. В социальной морфологии – это особые организационные структуры, обеспечивающие нужную интенсивность информационных и транспортных потоков, функционирование культуры и пр. Другими словами, морфологический центр – это система записи определенного культурного содержания средствами социальной организации. Однако основной проблемой является определение функционального центра общества (или, другими словами, центральных функций социокультурной системы). В самом общем виде функция центра состоит в воспроизводстве способа организации, специфичного для данной системы. Центр задает структуру («форму») системе в целом. (По терминологии Ш. Эйзенштадта, в «центрах общества» происходит «кристаллизация основных сфер социальной и культурной идентичности»[339].)
В системе «центр – периферия» определяемым является обычно первый член, периферия же аналитически задана как структура производная и только производная. В действительности, однако, эмпирическая «окраина» или «провинция» может выступать средоточием традиционных или даже новаторских ценностей-значений (в том и другом случае они маргинальны по отношению к господствующей системе). Но это означает, что через соответствующие социальные формы реализуются некие отживающие или новые, центральные функции. В более же общем случае провинциализм – это специфический тип центропериферийных отношений, в котором реализация центрального культурного образца заторможена (точнее, опосредуется некоторым барьером, преодоление которого требует снижения уровня реализации образца).
Центральные функции общества могут быть разложены на такие компоненты, как: а) инструментальная (ориентация действий на достижение определенной цели), б) нормативная (фиксирование системы ценностей-значений), в) символическая (поддержание механизмов, интегрирующих систему; по существу, это функция интеграции). Эти компоненты с точки зрения культуры отнюдь не равноценны: целедостижение в общем случае есть лишь реализация данных нормативных и интегративных установок, то есть по определению периферийная фракция. Но в определенных условиях (трансформация системы) она «мигрирует в центр».
Морфологическое выражение центральных функций неодинаково для различных типов социокультурных систем. В наиболее примитивной из них центральные функции не локализованы в каких-либо специфических элементах системы, поскольку отсутствует функциональная дифференциация институтов и ролей.
Развертывание такой модели в принципе может идти по двум направлениям. Первое из них приводит к иерархизации центральных функций и формированию некоторого ряда структур, опосредующих отношения между предельными позициями центра и периферии. При этом символические (интегративные) функции остаются исключительной прерогативой центра, а нормативные иерархизируются; инструментальная деятельность является достоянием периферии. Вырожденным случаем является иерархия, сведенная к одной ступени – когда центральная структура непосредственно соотнесена с периферией и задает последней весь объем ее (значимой) деятельности. Нормативные и символические функции в такой модели как бы стянуты к центру, а инструментальные организованы иерархически. Создается социальная дистанция между центральными и периферийными позициями, которая находит явное территориально-пространственное выражение; в частности, нормативно-символический центр имеет явное морфологическое (и феноменологическое) выражение – «престол», «столица» и пр.
Пространственная запись центральных функций необходима и возможна лишь для культур, обладающих «жесткой» структурой аскриптивных (то есть связанных с традиционно данными привилегиями) ролей и пространственных позиций. Культурный текст здесь записан «горизонтально» – как бы на самой поверхности общества, выражением чего и служит территориально закрепленное разделение функций центра и периферии, города и округи, социальной позиции и т. п.
Другая возможность развития социальной морфологии связана с возникновением специфических средств записи культурного текста.
В такой модели нормативные функции центра универсально значимы и доступны (иными словами, все «окраины» равноудалены от функционального центра). Инструментальные же функции иерархизированы, распределены по различным агентам социального действия (индивиды, группы, организации) вплоть до верхнего социетального уровня организованности общества. Функции центра связываются здесь с «вертикальным» строением культурного текста. Соответствующий текст культурной записи оказывается способным вместить в принципе неограниченный объем и любую структуру информации.
Проблема глубины социокультурного времени
В рассматривавшейся до сих пор модели пространственно-временной структуры общества на первом плане находилась социальная организация пространства, время же выступало преимущественно как мера социально значимого расстояния (дистанции) – как время достижения определенной позиции и т. п. Переходя к другому типу социокультурного анализа, мы должны взять в качестве детерминирующих временные соотношения (то есть, по существу, соотношения и взаимодействия культурных пластов). Здесь пространство выступает полем фиксации (через системы социальной организации) определенных категорий культурного времени.
Отметим, что речь не идет об историческом анализе общества в общепринятом смысле. Исторический процесс действует – и подлежит анализу – в социокультурной системе через свои социально значимые результаты. Последние же могут представлять собой либо некоторый единый пласт (отдельные периоды и фазы могут быть лишь теоретически реконструированы историком), либо реальное взаимодействие, параллельное сосуществование различных пластов.
По каким признакам выделяются пласты социокультурного времени? В принципе они отличаются как предметом (содержанием), так и способами фиксации культуры (нормативно-ценностным или инструментальным). Что касается способа фиксации (хранения, трансляции, реализации) культуры, то наиболее фундаментальной выступает при этом оппозиция устной и письменной культур.
Преобладание устной коммуникации характерно для так называемой «фольк-культуры» (Ф-культуры). Наиболее характерной ее особенностью является жесткость транслируемого текста (все исследователи первобытных культур отмечают тенденцию максимально точного и полного воспроизведения культурно значимых текстов). Какая-либо специализация (соответственно – многослойность) текста здесь возможна лишь при соответствующей специализации позиций его носителей. Эти черты фольк-культуры переоцениваются или трансформируются при переходе на положение одного из уровней более сложных структур.
Письменная культура (П-культура) выступает первоначально как противоположность, средство трансформации и дополнение фольк-культуры. Развитие письменности фиксируется в системах записи (специальных языках), безразличных по отношению к содержанию (предельный случай – формальные языки); следствием ее становится вертикальная дифференциация предмета (семантики) и модальных отношений субъекта к нему. Эти две линии иерархической дифференциации (в языке и по поводу него) создают многообразие уровней культуры – отсюда и возможность ее «самосознания» («высоты» культуры). В рамках этой дифференциации становится возможным и существование взаимодействующих культурных пластов.
Характеристическая особенность письменной культуры – это иллюзия относительно возможности универсальной и единственной письменной культуры («культуры грамотности»).
Письменная культура неизбежно с самого начала развивалась как высокодифференцированная – в «горизонтальном» и «вертикальном» направлениях, как набор множества специализированных знаний, тяготеющих к технизации, а тем самым – к выходу за пределы нормативно-ценностных структур.
Исторически П-культура смогла получить реализацию только на правах некоего «переходного устройства» и затем элемента иного, сложного, многоструктурного образования, которое принято называть малоудачным термином «массовая культура» (М-культура). Мы, разумеется, не касаемся в данном случае распространенных оценочных характеристик относящихся сюда явлений.
В сложном конгломерате массовой культуры сочетаются и находят свое место (функцию) разнородные элементы Ф-культуры, П-культуры, а также «маркирующего уровня» собственно М-культуры. Отводя наследию П-культуры инструментально-техническую роль, М-культура приобретает видимость «устной культуры второго порядка» (аудиовизуальной), воспроизводящей – при помощи определенных технических систем коммуникации – элементы Ф-культуры и ее функции.
Подводя некоторые итоги, можем сказать, что «глубина» культурного времени может измеряться лишь дистанцией от «верхнего» уровня до «нулевого» (в последней роли – своего рода «уровня моря» для социокультурных систем – выступает «одноэтажная» Ф-культура).
Всякая культурная диа– или полихрония находит свою реализацию в социальной морфологии, то есть в определенной организации социального пространства-времени. В частности, городские центры общества обеспечивают хранение письменной культуры в противоположность негородским формам организации, выступающим в качестве хранилищ Ф-культуры. Тем самым соотношение «центр – периферия» в культурном плане оказывается дубликатом соотношения «письменное – устное». Особенно резко выступает это последнее в ситуации, когда культурные слои генетически разнородны, то есть сформированы в различных социокультурных системах; так обстоит дело в процессах колонизации и т. п., в современных уже условиях – в процессе модернизации.
Важная черта модернизирующихся систем – возможность «пропустить» определенные стадии развития, заимствуя в готовом виде его созревшие на другом основании плоды. В интересующей нас схеме соотношения культурных пластов возможен, в частности, «пропуск» стадии П-культуры, который означает, что заимствование ее технических плодов не обусловлено усвоением дифференцированного отношения к тексту культурной записи. В такой ситуации структурное подобие аудиовизуальных культур фольк– и масс-уровней трансформируется в подобие содержательное. Характерное для процессов модернизации «стягивание» временных типов создает, следовательно, известные предпосылки для их смешения.
Пространственно-временная структура общества и миграция
В свете изложенных выше соображений различные типы миграционных процессов предстают как факторы трансформации и деформации социокультурного пространства – времени общества. Анализ же миграционных процессов становится важным средством изучения такого пространства – времени и возможностей его изменения.
Представляется правомерным выделить в интересующем нас плане три типа миграционных процессов:
а) территориально-пространственное (единовременное) перемещение всей социальной структуры (историческая аналогия – великие переселения народов); здесь в принципе никаких структурных трансформаций в самом миграционном процессе происходить не может, а фактором изменений выступают внешние (экологические и инокультурные) воздействия;
б) перемещение отдельных лиц и множеств людей из одной социокультурной среды в иную. Трансформационные процессы в этой ситуации означают, с одной стороны, социальную и культурную адаптацию в новой структуре, а с другой – симбиоз, взаимовлияние различных культурных (субкультурных) типов. Очевидно, что соотношение и значимость этих явлений могут быть существенно различны;
в) пионерская миграция (освоение), то есть трансформация, возникающая с постепенным перемещением людей, материальных средств и общественных структур на «необжитые», то есть культурно нейтральные территории. Социальное содержание процесса состоит в данном случае в реконструкции «нормальной» (или «полной») социокультурной системы на основе некоторой «свернутой» (миграционной, «спорообразной») модели. При этом географическое пространство (территория) приобретает специфические социальные качества; аналогичные преобразования могут быть приписаны временным характеристикам. Но это лишь видимость (точнее, эпифеномен): на деле социокультурное пространство реконструируется не из тайги или пустыни, но в тайге или пустыне из тех свернутых его форм, которые приносит с собой миграция.
Перечисленные три типа миграционных процессов строго различаются лишь в идеально-типической конструкции; в реальной истории они взаимодействуют и перекрывают друг друга (сегодня это относится главным образом к соотношению второго и третьего типов). Так, по мнению В.О. Ключевского, «вся история России есть история страны, которая колонизируется», а «периоды русской истории – главные моменты колонизации»[340].
Рассмотрим черты социокультурной трансформации, соответствующей процессу пионерского освоения. Общая схема трансформации предполагает два перехода: от «нормальной» (или «полной») пространственно-временной структуры к ее «миграционной» («свернутой») форме, а затем от последней к реконструированной (в символах: По-м-П1).
Некоторых пояснений требует здесь понятие «полной» структуры. В принципе оно соответствует тому набору характеристик социокультурной системы, которое обеспечивало бы ее самодостаточность и самовоспроизведение. Скажем, военизированные поселения или полевые партии не представляют в этом смысле нормальной структуры. Строго говоря, нормально полной может быть лишь структура социетального порядка (то есть охватывающая общество в целом или даже сообщества стран и всю человеческую цивилизацию). Способ конкретизации этого общего принципа задается характером социально-культурно и технически необходимых связей регенерируемой структуры с общественной системой в целом. Особенно важно отметить, что условие автономного воспроизводства означает необходимость формирования центральных структур различных уровней – целеполагающих и интегрирующих.
Эти ограничения следует иметь в виду при обсуждении возможностей заложить в реконструируемые структуры тот или иной набор социальных ожиданий.
Сама модель формирования новых районов в большой мере предопределяется способом «свертывания» исходной структуры (По) в миграционной «споре». Здесь представляется наиболее существенным отметить два варианта – рационально-индивидуалистический и гомогенно-групповой.
В первом случае исходное богатство структуры как бы фокусируется в одной точке – деятельном индивиде. Пространство социокультурных отношений здесь задано через глубинную структуру субъекта. Объем переносимого в новую структуру содержания очевидно зависит при этом от глубины структуры действующего субъекта. В противоположном случае (групповой вариант) переносится и заранее задается пространственная решетка социальных отношений (ролей, позиций). Отсюда проблема культурной глубины реконструируемой структуры.
Анализ ряда тенденций развития современных общественных форм, а также определенные соображения общетеоретического порядка позволяют рассматривать урбанизирующую миграцию как осевой процесс, с которым могут сопоставляться различные частные или побочные миграционные сдвиги. Подчеркнем, что речь идет не просто о миграции в городские поселения, но о всей системе процессов, ведущих к повышению уровня урбанизованности социокультурной системы. Так, тенденции субурбанизации и деконцентрации населения и производства лежат в русле этого осевого процесса, если – и поскольку – они означают повышение уровня урбанизации общества. Это относится и к процессам пионерского заселения, которые могут иметь разное значение – повышать или понижать общий потенциал урбанизации – в зависимости от того, как они связаны с экстенсивным расширением ресурсов или интенсивным развитием динамической структуры общества.
1976О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориального аппарата)
Важнейшая особенность социокультурной системы состоит в ее способности воспроизводить свою организацию (в широком смысле слова – структуру) во времени, то есть при постоянной смене своих человеческих и «вещественных» компонентов, в условиях бесконечного – и необходимого – разнообразия характеристик этих компонентов, включая сюда и переменные характеристики соответствующей среды. Такое самовоспроизводство может трактоваться как наиболее общий результат системы: «Если рассматривать буржуазное общество в его целом, то в качестве конечного результата общественного процесса производства всегда выступает само общество, то есть сам человек в его общественных отношениях… Сам непосредственный процесс производства выступает здесь только как момент»[341]. Инструментами модельного представления этого целого как репродуктивной системы (РС) выступают категории «памяти», «времени», механизма временной организации системы. Задача настоящей статьи и заключается в обсуждении данного категориального аппарата. При этом наиболее важным представляется рассмотрение интерпретации, использования и взаимоотношений названных категорий.
Временнaя организация системы предполагает существование особых механизмов фиксации, хранения, трансформации и реализации характеристик «неактуальных», прошлых состояний системы. (Этим временнaя организация отличается от простой «длительности» во времени, свойственной неживым системам.) В рамках интересующей нас модели РС такие функции могут быть обнаружены на двух предельных уровнях организации системы – социетальном и личностном. Лишь на этих уровнях имеется специализированный механизм «долговременной» памяти, обеспечивающий преемственность структуры во времени. (В истории социального знания такая структура обычно рассматривалась как альтернативно «стянутая» к одному из полюсов, чем и задавались соответственно методологические позиции социологизма и социального психологизма.) На первом из них функции памяти институционализированы в надорганизменных структурах культуры, на втором – материализованы в психофизиологических механизмах памяти. Сложное взаимовлияние этих полярных организационных уровней[342] приводит к тому, что наиболее устойчивым социокультурным институтом оказывается личность общественного человека. Поэтому модельное уподобление механизмов социальной и индивидуальной памяти правомерно лишь в эксплицитно ограниченных рамках.
Наличное состояние обладающей некоторым механизмом памяти – безотносительно к природе последнего – не может полностью определяться непосредственно предшествующим состоянием (то есть система не является «марковской»). Действие механизма памяти вводит более сложный тип детерминизма, в котором актуальное состояние зависит от некоторых моментов различных «прошлых» состояний, а также от их проекций в будущее. Это значит, что организованная во времени система должна иметь минимум две шкалы времени: для измерения временнoй последовательности состояний («длительности») и для временных структур, фиксируемых памятью.
Механизм функционирования и воспроизводства РС может быть представлен в модели, обладающей двумя типами программ: 1 – воспроизводства данного образца своей организации во времени и 2 – достижения определенного эффекта в условиях многообразия вариантов деятельности (в «пространстве выбора стратегии»). Такое различие имеет принципиальное значение, поскольку носит чисто аналитический характер.
1
Первый тип программ ориентирован на поддержание определенного типа образца, фиксирующего узловые точки социальной и личностной структуры. Его функция – элиминирование тех значений этих переменных, которые выходят за допустимые пределы (последние могут задаваться различным образом и с разной строгостью). В частности, соответствие социальных и личностных характеристик может означать лишь наличие более или менее строго определенной области возможных значений этих структур, то есть значений их «несоответствий». В основе механизма поддержания образца лежит фиксация некоторого эталона (обычно идеально-типического прошлого состояния), с которым сравниваются актуальные значения заданных переменных. В этом смысле программа ориентирована в «прошлое».
2
Программа выбора стратегии (оптимизации) организуется определенным критерием эффективности, значения которого могут обеспечивать либо достижение определенного уровня требуемого показателя, либо максимизацию его, либо, наконец, достижение максимального эффекта при минимальных затратах соответствующих ресурсов (первый из этих вариантов можно назвать «логическим», второй – «техническим», третий – «экономическим»). Оптимизационная программа должна предусматривать одновременно целый набор «пространственно» заданных средств (стратегий), реализация которых ведет к достижению некоторой цели (состояния, определяемого заданным критерием оптимальности). Программа такого типа ориентирована в направлении возможного, полностью не определенного будущего. Наконец, оптимизационная программа способна к совершенствованию, то есть к выбору все более эффективных стратегий («самообучающаяся система»).
В результате системного анализа биосистем некоторые авторы пришли к выводу о необходимости учитывать в моделях двуплановость организаций таких систем. В частности, принято различать два типа памяти – «постоянную» и «оперативную». По В.Л. Геодакяну, функции памяти первого типа состоят в сохранении «совершенства» организации; на различных уровнях биосистем они обеспечиваются ДНК, клеточным ядром, особями женского пола. Функциями оперативной памяти являются взаимодействия со средой, порождающие прогрессивные изменения; носители этих функций – белок, цитоплазма, особи мужского пола[343].
В социокультурных системах функции, которые, с некоторым приближением, можно считать аналогичными, реализуются в механизмах иной природы. В рамках рассматриваемой модели РС программу сохранения структуры во времени можно обозначить как программу культуры, а программу оптимизации – как программу опыта. В первом случае это долговременная, накопленная, обобщенная память, фиксирующая принципиальные рамки существования системы. Ее содержание составляют нормативно-ценностные стандарты, значения, оценки деятельности агентов РС. Во втором случае действует оперативная, «живая», то есть кратковременная и подвижная память; ее содержание – эффективные условия и средства реализации определенных целевых действий. (Критерии оптимизации, в конечном счете, принадлежат программе культуры и, соответственно, долговременной памяти.)
Обе программы по самому своему определению взаимообусловлены: нормативные значения «программы культуры» определяют целевые функции «программы опыта», оперативная подвижность стратегий (средств) обеспечивает сохранение стабильности целей и т. д. Более сложна проблема переходов от одного типа программы к другому. При наиболее общем аналитическом разграничении программ процесс их трансформации остается за рамками модели. Чтобы анализировать такие, например, процедуры, как «превращение» нормативных значений в инструментальные средства или, наоборот, средств в самоцель, требуется прежде всего представить интересующие нас типы программ в развернутом, расчлененном виде.
Для представления процессов такого рода (будем называть их «нормативными трансформациями») оказывается непригодной концепция «культурной программы» как нерасчлененно-целостного образования. Необходимо, например, найти адекватные формы модельного выражения «внутрикультурных» оппозиций центральных и периферийных структур, в том числе субкультурных и контркультурных, институциональных и личностных, динамичных и стабильных и т. п.
С точки зрения недостаточно строгого, но широко принятого в социологической и культурно-антропологической литературе определения культуры[344] выделенные нами типы программ оказываются сходными с представлениями нормативно-ценностного и инструментального уровней системы культуры. Теоретически (и исторически) может быть выделен еще один, «санкционирующий» уровень, эксплицитно представленный, например, в мифологическом сознании. Не рассматривая специфики культурных значений для каждого из выделенных таким образом уровней, правомерно подчеркнуть, что нормативно-ценностные структуры занимают центральное положение в модели культуры.
Широко известные концепции «двух культур», техницистской и гуманитарной[345], «суперкультуры» и «традиции»[346] и подобных им могут быть с достаточным приближением представлены с помощью исследуемого в этой статье категориального аппарата, поскольку речь, по сути дела, идет о соотношении «программы культуры» и «программы опыта». Для традиционного «гуманитарного» сознания характерна тенденция рассматривать сферу инструментального опыта через призму устойчивых («извечных») нормативно-ценностных категорий культуры. Для «техницистского» же подхода свойственна их инструменталистская переоценка и тенденция их сведения к «техническим» средствам решения социальных и культурных проблем. Традиция противопоставления этих подходов восходит, по-видимому, еще к Платону, различавшему «мудрость» и «ловкость» («технэ»)[347].
В рамках обсуждаемой концептуальной модели изменения в инструментальной сфере «опыта» и в нормативно-ценностном «ядре» культуры целесообразно рассматривать раздельно. Реконструкция или переоценка культурной парадигмы (системы культурных значений) не является непосредственным результатом изменений инструментально-технических структур (по аналогии с отсутствием наследования приобретенных признаков в биосистемах). В процессе деятельности РС «наследование» происходит в каждой программе автономно. Например, инструментализация определенных элементов «ядерной» (нормативно-ценностной) структуры не может быть прямым результатом развития «техники» (в самом широком смысле) – это продукт собственно «ядерных» процессов. Иными словами, дело не в росте техники, а в изменении места инструментальных программ в человеческой жизни.
Хотя особенности программ РС были охарактеризованы нами с точки зрения специфики соответствующих механизмов памяти, их, однако, не следует представлять в виде некоторых информационных емкостей, хранилищ («контейнеров») данных. Эффективная модель РС должна учитывать и такие атрибуты памяти, как избирательность (и в отношении фиксации, и в отношении выдачи соответствующей информации) и активность (нормативное значение информации). Уже само «хранение» информации в долговременной и оперативной памяти РС предполагает процессы ее преобразования (перегруппировки, переоценки) под воздействием взаимовлияния различных слоев и структур памяти, проекции актуального опыта и т. д.
Особая проблема – представление памяти РС на различных уровнях сознания. Перефразируя известный тезис Тейара де Шардена: «Животное знает, а человек знает, что он знает»[348], можно сказать, что человек как родовое существо «помнит, что он помнит» некоторую существенную часть своей культуры и своего опыта. Правда, помнит не все и не в одинаковой мере и форме. Предъявление человеку (обществу) его «собственной памяти» – важная функция человеческого сознания при всем многообразии его структур и уровней. Различные типы РС отличаются, в частности, масштабами и механизмами осуществления этой процедуры.
Не только РС, но и ее память, а также осознание этой памяти имеют временнyю организацию, протяженность во времени, приуроченность событий к определенным моментам и т. д., которые специально фиксируются. Этим и обусловлены значимость и многозначность категорий времени в моделях РС. (Нас интересуют в данном случае не философский анализ времени и не психологическое исследование его восприятия индивидом, а лишь возможности модельного представления временных характеристик, «работающих» в структуре РС.)
На основании историко-культурных исследований, относящихся к данной проблеме[349], можно допустить существование оппозиции «естественных» и «искусственных» (механических) мер времени. К первым относятся и временные характеристики жизненного цикла (поколения, периоды и т. п.), и так или иначе (биологически, психологически, социально) интериоризованные параметры внешних, космических ритмов (год, сезон, месяц, сутки). Своего рода «сверхъестественной» оппозицией «естественных» мер времени выступают временные параметры мифологических событий. В рамках РС с точки зрения принятого нами модельного представления можно выделить, например, «функциональные», «мифологические» и «технические» значения временных параметров. Шкала «функционального» времени охватывает меры жизнедеятельности социокультурных систем, коллективного и индивидуального социального действия. Масштаб времени здесь измеряется рамками сознательной памяти и внимания, в количественном выражении им соответствует диапазон от «поколенческих» ритмов[350] до ритма отдельного поведенческого акта. «Мифологическая» шкала является своего рода проекцией параметров функционального времени на плоскость соответствующего типа сознания. В нем получают право на существование запретные в «обычных» условиях временные структуры событий – сроки жизни, периоды и т. п. (ср. древнеиндийские ведические представления о «мегамерах» мировых циклов, превосходящих на много порядков не только «обыденные» параметры времени, но и любые астрономические масштабы хронологии, известные современной науке[351]). В «технических» шкалах времени соотносятся различные по периодичности специально сконструированные или специально рассматриваемые системы (механические, субатомные и т. п.). Размерности всех вышеперечисленных шкал могут, конечно, перекрываться, однако в основе функционального времени, видимо, могут лежать лишь меры, связанные с осознанным человеческим действием («мера человека» у греков). По отношению к ним и древнеиндийские «мегамеры», и аналитические «микромеры»[352] имеют лишь вспомогательное значение.
В основе любой шкалы времени лежит представление о некоторой ритмической структуре (циклическом процессе), которую можно считать элементарной «единицей» временной организованности. Она может трактоваться в исторически известных моделях мира и как предельная «единица», то есть относимая ко всему организованному «космосу» (в первичном значении этой категории). Всякая линейная последовательность состояний не только измеряется циклическими единицами, но и может рассматриваться как вырожденный случай цикла с бесконечным или с неопределенно большим периодом. В эмпирическом исследовании процессов различной природы обнаруживается сочетание циклических и векторных изменений (как бы «колесо», катящееся по «векторному» пути). В качестве примера можно привести производственные циклы в рамках экономического роста, биологические, психологические, социальные ритмы на фоне линейно ориентированных процессов энергетической и генетической энтропии. Следует учесть, что мировоззренческие и гносеологические дискуссии относительно соотношения циклизма и линейности в историософии и исторической методологии остаются за рамками настоящей работы. В данном случае рассматриваются лишь проблемы модельного представления некоторых аспектов временных структур.
Временнaя организация целенаправленного действия в виде операции обычно представляется как линейная последовательность состояний, обладающая определенной направленностью. Отсчет времени ведется от конечной точки, то есть модель организована финалистски. Ей симметрична известная в историческом знании модель каузально-детерминистского объяснения, в которой отсчет времени начинается с некоторого «первоначального» состояния, от «нуля» (модель имеет квазифиналистский характер). С функциями и престижем рационального целенаправленного действия (операции) в общественной жизни явно связан акцент на линейных моделях в историософии, характерный для нового времени. Экстраполяция модели рационально-целевого действия на макроисторические масштабы имеет место, например, в философских моделях секуляризованной теодицеи у Гегеля и в позитивистских концепциях.
Однако поскольку рациональное действие всегда предполагает реализацию определенной программы, никакая линейная модель не может быть достаточной для его описания. Для фиксации такой программы («памяти») необходимы другая шкала времени (другая «линия» временнoй последовательности) и некоторый механизм перехода к ней (то есть еще одна и притом иначе направленная «линия» движения во времени). Кроме того, линейная модель времени неадекватна и для представления каузального детерминизма. Так, например, историками констатируется принципиальная разновременность изменений в различных сферах общественной жизни (см., например, суждения Ф. Броделя о сочетании «быстрой» и «медленной» истории[353] – правда, последняя понимается автором лишь как история экономики).
Множественность временных шкал является непременным условием существования РС, воспроизводящей свою организованность во времени, а следовательно, в той или иной форме программирующей свои последующие состояния. (Конечно, применительно к соответствующей РС эмпирической реальности говорить о «программировании» можно лишь в самом общем и вероятностном смысле – как об определении возможного диапазона благоприятных условий или допустимых изменений.) Сказанное относится к идеализированной РС, то есть в данном случае не учитывается культурная и социальная гетерогенность системы. Введение в модель соответствующих характеристик означало бы дальнейшее «умножение» линий временнoй организации. Связь между гетерогенностью социальной структуры и множественностью «социальных времен» подробно рассматривалась Ж. Гурвичем[354]; здесь важно подчеркнуть, что «многолинейность» (и «многоцикличность») социального времени свойственна даже самой гомогенной модели социокультурной системы. Поскольку мы имеем дело с организованной во времени системой, ее «собственное время» – это система времен.
«Пространственные» представления о времени, в которых как бы сосуществуют рядом различные временные линии и шкалы, попали в сферу внимания исследователей архаичных общественных форм[355]. В свете вышеизложенного можно полагать, что пространственная модель системы времен характерна и для более развитых общественно-культурных структур (разумеется, речь идет о разных «пространствах времен»).
Следует подчеркнуть, что изложенные в статье соображения не относятся к физическому времени, необратимостью которого связаны материальные субстраты любых социальных, культурных, психологических процессов. Обсуждаемые временные характеристики можно отнести только к «фазовому» времени различных структур РС (соотнесение различных фаз циклических процессов) и к «субъективному», точнее «социально-культурному», времени. Речь идет о временных параметрах, воспринимаемых в общественном сознании и фиксируемых в культурных значениях. В таком и только таком контексте правомерно говорить о неоднородности, неоднозначности и разнонаправленности шкал и мер времени. Например, значимые для определенной культурной структуры или для социального субъекта события нельзя рассматривать на модели равномерной шкалы: для «социально-культурного» восприятия при равенстве соответствующих «внешних» (скажем, астрономических или др.) мер одни события оказываются ближе, другие – дальше, одни промежутки времени длиннее, другие – короче. В системе социокультурного времени события и интервалы оцениваются по их отношению к особым, «отмеченным» точкам, которые, если дать несколько расширительное толкование термину, употребленному К. Ясперсом, можно назвать «осевыми». В рамках историософских моделей такими свойствами симметричного упорядочения временных характеристик наделяются определенные «поворотные» эпохи или события[356]. В рационально-целевых же программах осевыми являются «конечные» точки. Более широкое значение имеет постоянно присутствующая в культуре «ось актуальности», которая задает временнyю организацию системы вокруг «современной» ситуации, на которую проецируются события значимого прошлого и возможного будущего. (По выражению Ясперса, события оцениваются по их отношению к тому, что имеет значение «здесь и теперь».)
Различные модели РС характеризуются свойственными им способами актуализации памяти, то есть «предъявления» определенным образом трансформированного прошлого настоящему, действующей социокультурной системе. Например, в наиболее архаичных структурах общества прошлое, фиксируемое в структуре определенных эпох – героической, мифологической и т. п. – или в образах непосредственных предков и представленное соответствующими персонажами, существует «рядом» с актуальной повседневностью[357]. Однако в данном случае вряд ли имеет место «тождественность времен», поскольку и в самых архаических культурных пластах в той или иной форме обозначен рубеж, отделяющий актуализированную память от актуальности. Скажем, призрак отца Гамлета, принадлежащий в своей архетипической основе именно к таким пластам, присутствует и в настоящем, но именно в качестве призрака.
В более сложных общественных структурах культурно отмеченные эпохи, события, персонажи прошлого «присутствуют» в современности в качестве нормативных символов (поучительных, вдохновляющих и т. п.). Можно представить ситуацию, когда такое символическое значение утрачено, и связь «времен» (поколений, эпох) сводится к сохранению и передаче практического опыта, например научно организованного и фиксируемого в соответствующих объективированных текстах. В такой гипотетической (видимо, не имеющей аналогии в реальных прообразах РС) ситуации происходит редуцирование «программы культуры» к «программе опыта» и соответствующая трансформация системы временных шкал.
Лишь представляя временнyю организацию РС как сложную, многоуровневую систему, можно отобразить в концептуальной модели ту структуру, которая создает возможность фиксировать определенные пройденные состояния как прошлые («привязанные» к соответствующим осям отсчета) и как актуально значимые. Такая структура позволяет обеспечить активное и многократное обращение к культурному содержанию прошлого, интерпретацию и переоценку этого содержания, а тем самым его постоянную актуализацию. Рамки такого процесса, по сути дела, определяют границы существования той временной структуры, которая может быть охарактеризована как историческая система.
1980Социальные рамки экономического действия
Стремление к расширению сферы целенаправленного и эффективного воздействия на общественные процессы и структуры, а также усложнение этих последних придают актуально-практический смысл анализу возможностей и границ такого воздействия. В этой связи приобретает принципиальное значение проблема самих определений «экономических» и «неэкономических» структур, факторов, регуляторов в общественной системе. Обиходные «институальные» разграничения в смысле разделения обязанностей между учреждениями и т. п. оказываются малопригодными в «пограничных» ситуациях, например при сопоставлении изменения роли экономических и неэкономических регуляторов, «доэкономических» и «постэкономических» общественных систем и т. д. При этом, как часто бывает, нечеткость внешних границ определяется нечеткостью границ «внутренних», то есть представлений о структуре соответствующего предмета исследования. Можно предположить, что анализ такой структуры должен осуществляться в рамках такой научной области, как экономическая социология, если понимать под ней применение методов социологического изучения общественных институтов к структурам, действиям и субъектам экономической сферы[358], причем сама эта сфера, конечно, еще требует своих определений.
Наиболее распространенная в литературе трактовка экономической сферы как концентрирующейся вокруг производства и распределения материальных благ и услуг[359] восходит к традициям классической политэкономии (а точнее, к выработанному в ее русле предмету исследования). Ускоряющаяся дифференциация общественного производства, в частности растущая роль сфер обслуживания и «нематериального» производства, создает проблемы, которые с трудом могут быть эффективно рассмотрены в русле такого предмета. Развитие средств экономического учета и (по крайней мере предполагаемого) регулирования неизбежно приводит к тому, что все области общественной жизни в той или иной мере выступают в качестве или в аспекте «экономических» (культура, досуг, образование и т. д.). Тем самым экономика как будто выступает уже не как отдельная эмпирически данная область человеческой деятельности, а как способ связи, способ рассмотрения, парадигма самой этой деятельности. Здесь важно сделать существенную оговорку историко-методологического порядка: тенденция к «экономическому» пониманию всех общественных отношений и действий была изначально присуща той же классической политэкономической традиции (а иногда находит отзвуки в современной социологической литературе), ее неэффективность продемонстрирована как теоретически, так и практически. (В частности, самой сложностью, «полиструктурностью» экономической сферы, многообразием попадающих в нее типов человеческих действий – операциональных и традиционных, управленческих и исследовательских и пр.) Определение экономической парадигмы необходимо должно предполагать и определение ее границ, то есть социальных и культурных рамок ее действия.
В принципе возможны два пути поисков такого определения – через «внешние» и «внутренние» границы экономической сферы (или, скажем, экономической «стороны» – оба термина пока оставим интуитивно определенными) общественной жизни; подтверждением эффективности избранного направления должна, очевидно, оказаться сходимость путей, то есть пригодность характеристики структуры для описания внешней границы системы (и наоборот).
Уже упоминавшиеся определения экономической сферы через материальное производство, точнее через его продукт или процесс, относятся к первому типу. Представив производство как взаимодействие между человеком (обществом) и природой, как адаптивный процесс или как процесс преобразования природного материала в социально значимые блага и т. д., действительно можно получить концепцию экономической сферы как адаптивной. Но это вовсе не будет «очевидным» описанием некоторой реальности, а лишь специальным конструктом, опирающимся на молчаливые, чаще всего неосознаваемые допущения. Как отмечал Маркс, труд является процессом «между человеком и природой» лишь в своих «простых и абстрактных моментах»[360]. А выделение именно этих моментов – продукт определенного развития теоретической мысли. Иначе говоря, мы здесь опять сталкиваемся не с «объективно данным» предметом, а с предметом научного знания, в данном случае – той же классической политэкономической традиции, корнями уходящей к физиократам с их противополаганием «природы» и «общества». Что же касается реально, практически действующих производственных процессов, то их компонентами выступают всегда так или иначе преобразованные (притом не только в технологическом, но и в социальном смысле, то есть оцененные и т. д.) природные ресурсы, продукты и структуры социальных действий и отношений. Оппозиция «природа – общество» является одним из способов теоретического представления определенных аспектов, притом весьма важным как исторически, так и методологически, однако к представлениям о структуре экономической сферы он не приводит.
Внутреннюю границу интересующей нас сферы можно задать, указав характеризующий ее элемент, тип связи, структуры. В этом направлении идут поиски универсальной «клеточки» экономических отношений[361], универсальной операции (например, обмена[362]), стимула (экономический интерес) и т. п. В зависимости от плана и задач исследования может быть важным выделение разнородных структурообразующих элементов. При анализе проблемы в рамках экономической социологии представляется возможным поставить категории экономического интереса, обмена, полезности и др. в связь с экономическим действием.
В экономических науках к этому понятию ближе всего подходят те дисциплины, которые имеют дело с представлениями экономического субъекта, организации, принятия решений, то есть те, которые часто объединяются под рубрикой «микроэкономики»[363]. (Очевидно, что приставка «микро» здесь обозначает не масштаб или значение, а ориентацию на структуру действия любого масштаба.) Здесь мы встречаем различные варианты определения экономического знания как знания об эффективном использовании ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей и т. д.[364] Практическая ориентация подобных характеристик понятна, и именно благодаря ей в микроэкономике, теории оптимизации или принятия решений структура экономического действия упоминается, но не раскрывается. Исходные позиции для представления такой структуры может дать разрабатывавшаяся в социологической традиции Вебера – Парсонса концепция рационального действия[365].
Экономическое действие предстает в такой традиции как обладающее тремя признаками: рациональностью, целенаправленностью, эффективностью. Признаками всякого рационального действия являются его осознаваемая (то есть представленная на особом «табло сознания») структурная расчлененность, причем основными линиями дифференциации могут быть либо связи цели и средств, либо связи нормы и исполнения. В первом случае мы имеем дело с целерациональным действием, во втором – с ценностно-рациональным, если пользоваться терминологией Вебера. В экономическом же действии целевая ориентация сочетается с принципом наименьших затрат, то есть с эффективностью или оптимизацией. Таким образом задается набор последовательно связанных логически характеристик действия, которые составляют в сумме универсально значимую абстрактную схему или идеальный тип экономического действия, с помощью которого могут рассматриваться различные уже исторически конкретные варианты. При этом идеальный тип благодаря обобщенности своих признаков может иметь значение и за пределами привычной экономической сферы; с другой стороны, далеко не всякие действия, относящиеся к этой сфере, удовлетворяют требованиям такой схемы. Иначе говоря, при помощи теоретически конструируемого идеального типа экономического действия задается столь же идеально-типическая сфера экономической деятельности.
Следует отметить, что для Вебера, как и для его отдаленных предшественников – Канта и рационалистов Просвещения, – рациональность была не только исследовательским приемом, парадигмой исследования, но и содержательной, объясняющей, идеологически значимой концепцией. «Закон возрастающей рациональности» играет в системе социального действия роль, «аналогичную энтропии в физических системах»[366]. Вместе с тем как раз социологическое применение категории рациональности позволило увидеть принципиальную ограниченность рационального, в том числе экономического, действия. Если для века Разума рациональность человека была «естественной», а значит универсальной его характеристикой, то теперь эта характеристика стала исторической, то есть обусловленной как во времени, так и в «пространстве» (структуре) социального действия.
Во-первых, рациональность действия оказалась не «элементарно» простой, а сложной, включающей соотношения различных уровней и типов рациональности (связанных с различием способов дифференциации и проецирования действия на «табло сознания», различием критериев оценки эффективности экономического действия, временных рамок его оптимизации и др.).
Во-вторых, оказалось, что, в отличие от физической энтропии, рациональность социального действия может не только возрастать, но – в некотором смысле – и «убывать». Так, пользуясь предложенным Вебером различием формальной (расчетной) и содержательной (целенаправленной) рациональности, можно показать реальность двусторонних переходов между этими типами: и превращения формального расчета в целенаправленный, и формализации элементов целерационального (в том числе экономического) действия. Более того, эти переходы оказались взаимообусловленными, по крайней мере при известной степени сложности системы социального действия. Параллельно с совершенствованием средств (техники в широком смысле слова) целенаправленного действия происходит гипостазирование чисто формальных «учетных» типов рационализации.
Попытаемся теперь придать определенный содержательный смысл понятию «ограниченности рациональности» действия. (Заметим, что распространенная – часто в качестве некоего жупела – словесная формула «иррациональности» принципиально бессодержательна и является лишь своего рода теневым отражением идеи универсальной рациональности.)
Рациональное действие в социальной системе возможно лишь при наличии определенных нормативно-ценностных предпосылок (ориентиров, стандартов, санкций) – «нормативного поля действия» – и определенного субъекта действия, для которого нормативно заданные регуляторы стали стимулами активности. Для экономического действия в качестве такого поля выступила в новое время нормативно-ценностная система, санкционировавшая предприимчивость и деловитость как средства реализации индивидуальных экономических интересов. Формирование такой нормативной системы Вебер связал с влиянием «протестантской этики»[367], показав, что поле экономического действия – феномен сугубо исторический и нуждавшийся для своего закрепления в наивысшей, религиозной санкции. Адекватным для нее субъектом действия явился идеальный тип «экономического человека» (homo oeconomicus) – расчетливого оптимизатора собственных интересов. Именно по его модели, по сути дела, были скроены все «сюртуки» классической политэкономии, столь часто фигурирующие не только у Смита, но и у Маркса; иначе говоря, действия экономического человека в «силовых линиях» экономического поля составили специфический для этой науки предмет.
Внешняя («географическая») экспансия системы рационально-экономического действия, приводящая к модернизации и включению в системы глобальных отношений так называемого «третьего мира», выявила принципиальную, во всяком случае долговременную, возможность своеобразного симбиоза разнопорядковых структур социальной деятельности – современных и традиционных, «доэкономических» (то есть не ориентированных на экономическое действие в указанном его смысле). Этим лишний (возможно, решающий) раз продемонстрировано, что нормативно-ценностное поле рационально-экономического действия составляет лишь определенный слой (точнее, «срез», так как речь идет о теоретическом конструкте) общественной жизни. В известном смысле можно говорить о параллельном названному процессе внутренней («психологической») экспансии рационализации поведения субъекта (субъектов разного порядка) рационального и экономического действия, причем он аналогичным образом демонстрирует свои границы. Они определяются как структурами массового сознания (неорганизованного), так и сложностью организованных структур управления и т. п. Г. Саймон показал неизбежность ослабления критериев рациональности в управлении сложными системами[368].
Сказанное выше относится к экономическому действию лишь поскольку оно является одним из вариантов действия социального. Для выявления специфических рамок экономического действия обратимся к соотношению двух аналитически представленных его связей: «вертикальных» и «горизонтальных».
«Вертикальные» (или иерархические) связи в социальной системе можно представить как множество связей между элементами, характеризующихся односторонней (нетранзитивной) зависимостью; условно их можно обозначить как управляющие связи «сверху вниз». «Верхний» элемент, то есть фактор, задающий ограничения многообразию состояний «нижнего», может быть конкретным («персонифицированным» в субъекте действия, в том числе коллективном или организованном) и обобщенным, «безличным» (нормативные структуры), причем обобщенность может иметь специфическое значение (социальные нормы) или универсальное, предельно абстрактное (ценности). Разумеется, в любой реальной социальной системе действуют управляющие связи и «сверху», и «снизу», но, поскольку система организована, эти направления в ней не равнозначны и механизм их действия существенно различен (например, специфическое управляющее воздействие с одной стороны и неспецифическое, диффузное влияние «поддержки» с другой стороны). Что же касается случаев взаимной трансформации функций управляющих и управляемых элементов, то они, очевидно, не нарушают принципа односторонности функциональной схемы.
Применительно к экономической сфере (традиционно трактуемой) управляющие иерархические связи могут быть представлены в модели «организация – ресурсы»: управляющая (информационно богатая, организованная) система мобилизует ресурсы информационно более бедной, но «энергетически» богатой структуры. К такому типу, как легко видеть, относятся не только различные формы институционализированного управления экономическими процессами, но также и все многообразие форм неэквивалентного обмена, монополистических преференций и т. п. Отдельно взятое экономическое действие может носить «организующий» характер в названном смысле, однако никакое множество таких действий не способно сформировать собственно экономическую систему.
Чтобы представить последнюю, нужно – как и показала классическая политэкономия, а отчасти и соответствующая ей реальность товарного хозяйства – задать множество «горизонтально» связанных субъектов, то есть связанных только транзитивными отношениями, в которых элементы выступают в качестве эквивалентных. Взаимосвязи и взаимозависимости между элементами «горизонтального» ряда полностью (то есть эквивалентно) обратимы, что и составляет их специфический признак. Примерами служит разделение труда и обмен благами между независимыми субъектами экономического действия. Конечно же, полностью эквивалентный обмен – идеально-типическая категория, которая может считаться лишь приближением к «классической» ситуации; в реальности любой акт обмена содержит, вероятно, определенную «долю» неэквивалентности, поскольку на него так или иначе влияют системы иерархических связей (монополии, власти и пр.).
Мерилом и гарантом эквивалентности отношений может служить лишь «третий», посредующий элемент всякого акта обмена, обладающий универсальностью. Исторически роль такого универсального посредника исполняли деньги (без ущерба для содержания можно перевернуть сделанное утверждение: только тот материал, который годился для функции универсального посредника, и мог приобрести значение денег, которые гарантируют эквивалентность обмена именно потому, что сами служат эквивалентом).
Известно, правда, что в социологической и близкой к ней литературе неоднократно делались попытки обнаружить иные структуры, способные исполнять функции универсальных посредников в системах социального действия. Так, Парсонс допускал возможность поставить в один ряд с деньгами власть и влияние[369]. Леви-Строс рассматривал в качестве универсальных средств обращения в примитивном обществе «блага», «коммуникации» и «женщин» (в системах брачных отношений)[370]. Подобные попытки прямо или косвенно исходят из «обменной» концепции общественных отношений, восходящей к Бентаму и Миллю, а в последние годы представляемой прежде всего Хомансом[371]. И старые, и современные ее сторонники допускают возможность конструировать концепцию общества по классической «экономической» модели, а концепцию человеческого поведения – по модели «экономического человека»[372].
Принципиальной ошибкой концепций такого рода является смешение различных типов социальных связей и действий – тех, которые выше были обозначены как «вертикальные» и «горизонтальные». Дело в том, что «вертикальные» связи не носят характера обменов, а действующие в них посредующие структуры имеют иную социально-культурную природу, чем средства обмена.
Всякое социальное действие, всякое отношение между элементами социальной структуры явно или неявно опосредовано определенными знаковыми образованиями, которые выполняют функцию соотнесения данного действия с нормативно-ценностными стандартами. Это относится и к знакам меновой стоимости, и к знакам влияния или престижа. (Кстати, извечный – после Канта – спор о значении «реальных» и «воображаемых» талеров[373] не может быть разрешен при помощи философских категорий материального и идеального, без обращения к категории нормативной санкции: листок бумаги, которому придает какие-либо функции индивидуальное воображение, ничего не стоит, но если определенные функции получают нормативную санкцию в данной культуре, он становится мерой и эквивалентом блага.)
Однако знаки власти, престижа, доверия и т. п. (иначе говоря, знаки «вертикальных», «иерархических» отношений) не действуют как эквиваленты соответствующих структур, не служат мерой сравнения элементов действия, они – лишь символы соответствующих отношений. А где нет «меры», не может быть и «обмена» (нас в данном случае не интересует историческая последовательность негаций). Взаимозависимость элементов социального действия в «вертикальных» структурах не означает ни эквивалентности, ни обмена. «Власть» или «престиж» в таких структурах взаимообусловлены «поддержкой», «доверием» и т. п., но отнюдь не «обмениваются» на них. Другое дело, что в определенных ситуациях право (скорее привилегия) на управляющее воздействие может переходить от одного субъекта к другому в порядке обмена. («…Но можно рукопись продать»: это относится к разного рода индульгенциям, лицензиям и пр.; аналогичная ситуация отражена в праисторическом примере с обменом первородства на похлебку.)
Нельзя считать обменным и любые иные (не только управляющие) коммуникативные процессы в обществе, так как в них на самом деле происходит распространение информации, а не переход ее от одного «владельца» к другому. (Опять-таки совершенно иные принципы действуют в ситуации передачи «привилегии» на определенную информацию.) Обмен же всегда представляет собой игру с нулевой суммой. Нельзя поэтому признать достаточно строгими и суждения Леви-Строса относительно «циркуляции коммуникаций».
Из сказанного следует вывод о том, что экономические (эквивалентные, обменные) отношения противопоставлены – разумеется, в чисто аналитическом плане – социальным (неэквивалентным, символически опосредованным). Здесь, однако, необходимо уточнение. Экономические действия рассматриваются как определенный тип социальных действий, соответственно, экономические отношения – как тип социальных отношений. Когда сравниваются «социальное» и «экономическое», речь идет, по существу, о сопоставлении «полной» структуры социального действия (и отношения) с одной из его особых, «вырожденных форм». Как уже отмечалось, сама «горизонтальная» система социальных связей является теоретическим конструктом, соответствующим некоторой предельной ситуации. Схематически она может быть представлена примерно так. «Полная» структура действия включает в себя элементы, опосредованные определенными знаковыми структурами, которые дают нормативную санкцию данному действию, как бы включая его в сеть культуры (другие аспекты структуры действия нас в данном случае не интересуют). В «предельной» ситуации эквивалентности элементов действия (точнее, конечно, в ситуации, где эти последние под определенным углом зрения могут рассматриваться как эквивалентные) символический посредник выступает в качестве меры, средства функционального отождествления элементов, а значит, сам является таким элементом. Культурная санкция здесь присутствует как бы на втором плане, «за сценой» действия.
В структуре генерализованной («деперсонализованной») вертикальной связи символический посредник обеспечивает приобщение субъекта действия к системе культуры (примеры «культурного» действия – обучение, оценивание, реализация норм). «Вырожденной» ситуацией здесь оказывается превращение самого посредника в границу действия, которое тем самым приобретает черты специфически символического (игра, ритуал).
Затронутые выше особенности структуры и рамок экономического действия могут рассматриваться не только как характеристики определенной аналитической модели, но и как ступени или продукты исторических процессов дифференциации и интеграции социально-экономических систем. Но это особая задача исследования.
1980Проблемы экономической антропологии у К. Маркса
Как писал К. Маркс, исходным пунктом его анализа «является не человек, а данный общественно-экономический период»[374], – и этим обозначалась та принципиальная позиция, которая определилась у него после окончательного разрыва с антропологизмом фейербаховского типа, то есть после 1845 г. С тех пор в его работах общественная жизнь предстает как «естественно-исторический процесс», человек – прежде всего как «мир человека, государство, общество» (т. 1, с. 414), а отдельные социальные типы – капиталист, земельный собственник – как «олицетворение экономических категорий» (т. 23, с. 10; т. 25, с. 385). В экономической системе Маркса позиция и деятельность экономических субъектов представлены через их суммарный результат, в «снятом» виде. Здесь не рассматриваются отдельные действия или деятели, и именно потому, что принимаются как нечто заданное, как своего рода постоянные величины (по крайней мере в конкретных социальных условиях).
Это не просто один из возможных методологических способов исследования социально-экономического процесса, он в известном смысле соответствует той исторической ситуации, в которой проблематизированы объективные обстоятельства человеческой деятельности («…сделать обстоятельства человечными»). Здесь и было необходимым сконцентрировать внимание на «мире человека», то есть на системе общественных отношений.
В тех же исторических условиях, когда проблемой становится сам человек (то есть когда утрачивают черты «заданности» его потребности, интересы, возможности, рамки деятельности), эксплицирование человеческих, антропологических предпосылок социально-экономических систем и процессов приобретает принципиальное значение. В связи с этим понятно и внимание к выявлению «антропологических» компонентов (скрытых или подразумеваемых) в классических теориях таких систем.
В дисциплинарном плане экономическая антропология, по-видимому, должна занять позицию на грани экономики, социологии (относя к ней и социальную психологию) и культурологии (культурной антропологии), поскольку в этих областях знания рассматривается человек в его экономических функциях и отношениях. Сюда можно отнести довольно широкий круг проблем положения человека в системах экономической деятельности (труд, организация, потребление, распределение, мотивация, профессиональный и потребительский выбор, обмен, партнерство, конфликт, инструментальные и символические ценности и др.). Определяющей здесь в конечном счете оказывается проблема эффективности социального действия. В плане историческом экономическая антропология должна заняться типологией субъектов экономической деятельности, способов их действия, соответствующими моделями – то есть прежде всего «экономическим человеком» (homo oeconomicus) и сопряженными с ним концептами человека «рационального», «традиционного», «играющего», «всестороннего» и др. Интересна проблема «статусной» метаморфозы подобных конструкций – превращения, скажем, рациональной модели в некий идеологический или мифологический фантом или, наоборот, редукции какой-нибудь мифологемы утопического сознания до положения позитивно-ограниченной рабочей модели.
Разумеется, в данной работе проблематика экономической антропологии затрагивается лишь в постановочном плане и в той мере, в какой она инициирована в системе социально-экономических воззрений Маркса.
* * *
Основная антропологическая концепция классической политэкономии – идея «экономического человека» – у Маркса по имени не названа. Но она не названа и у Адама Смита, и, по-видимому, не только потому, что еще не был придуман соответствующий термин. Термин и не был нужен, так как Смиту «экономический человек» казался еще естественным, то есть просто человеком «без прилагательного»: «Большинство людей предполагает и желает улучшить свое положение посредством увеличения своего имущества <…> а самый надежный способ увеличить свое состояние – это сбережение и накопление…»[375]. Много позже, в изменившихся условиях (к характеристике их изменений мы еще обратимся) чуть ли не натуралистический персонаж классических экономистов изображается как некое сказочное чудовище: «Экономический человек – это личность, которая всегда стремится максимизировать свой долларовый доход или минимизировать свои затраты… Экономический человек, как предполагается, занят холодным расчетом. Он обладает полной информацией о рынке и всегда делает правильный ход… У него нет эмоций вообще, это самая бессердечная и отвратительная личность. К счастью, мы не встречаем экономического человека в реальной жизни»[376]. Отметим, что в основе переоценки концепта лежит метаморфоза его статуса: реалистический образ превращается в фиктивную, идеально-типическую (в смысле Макса Вебера) конструкцию. Основные ее черты таковы:
1. Рациональность. Экономический человек стремится максимально ясно представить себе собственные действия, как бы вынося их на «табло сознания». («Быть рациональным означает буквально превратиться в исследователя по отношению к своему собственному действию»[377].) Этим он принципиально отличается от всякого субъекта, который руководствуется привычкой или аффектом, иначе говоря, иррационально относится к собственному действию.
2. Целенаправленность. Деятельность экономического человека предстает как последовательное использование средств (программа, выражаясь современным языком) для достижения цели; его потребностью является реализация интересов, отнесенных в перспективу по стреле времени, причем эти интересы постоянно воспроизводятся в расширенном масштабе. Характерный для него способ ориентации в социально-экономическом континууме – постоянное аналитическое расчленение последнего по «инструментальной» оси: «средства (инструменты) – цель»; отсюда же и преобладание инструментального (или технологического) отношения к реальности, то есть стремления использовать любые ее элементы – будь то природные силы или социальные отношения, действия и интересы других людей – как инструменты для реализации собственных целей. С этим связана и практически-инструментальная ориентация знания, нормативных регуляторов поведения и т. д. Все это противопоставляет «экономического человека» образцам «традиционного» поведения, ориентирующегося на воспроизведение прошлых стандартов, а также нормативно-ценностного поведения (регуляторами которого выступают апелляции типа «жить достойно», «поступать как все» и т. п.).
3. Эффективность. Стремление к наибольшей выгоде при наименьших затратах, оптимизация рационального целенаправленного действия. Именно такое суммирование перечисленных черт делает поведение «экономического человека» собственно экономическим. Это предполагает постоянное использование определенных (локальных) критериев оптимальности, соответствующих средств соизмерения затрат и результатов и т. д. При этом существует тенденция подчинять оптимизирующему расчету все сферы человеческой деятельности, расширив беспредельную область действия денежных оценок или найдя какие-то эквиваленты для них.
4. Индивидуализм. Субъектом действия и ответственности считается отдельно взятый индивид. Такая методологическая (а также и этическая) установка противостоит всякому выдвижению на первый план группы, сообщества, института, в том числе государственного. При этом неизменно делается допущение о «разумности» эгоизма «экономического человека»: он попросту вынужден быть разумным, то есть считаться с интересами других, а тем самым и общества, поскольку иначе он не может реализовать и собственные интересы… «Человек постоянно нуждается в помощи своих ближних, но тщетно было бы ожидать ее лишь от их расположения. Он скорее достигнет своей цели, если обратится к их эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать для него то, что он требует от них»[378]. «Преследуя свои собственные интересы, он часто более действительным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это»[379]. Нелишне вспомнить, что создатель модели экономического эгоиста А. Смит наследовал и продолжал традицию шотландских моралистов, начал с «Теории нравственных чувств»; в качестве морального философа он неизменно взывал к сочувствию и взаимопомощи между людьми. Но в качестве экономического теоретика он нуждался в модели расчетливого разумного эгоиста.
И наследники, и критики классической политической экономии (и авторы альтернативных моделей) на Западе, как правило, продолжают пользоваться моделью «экономического человека»[380], что говорит лишь о том, что любая модель экономического поведения предполагает модель (или, менее строго, образ, «имидж») соответствующего действующего лица. В то же время предметом принципиальной дискуссии остается проблема методологического статуса этого концепта, иными словами, вопрос о степени реальности соответствующего образа. В приведенном выше популярном определении современного американского учебника «экономический человек» представлен как предмет этической оценки («бессердечный»), что некорректно по отношению к идеально-типическому конструкту. Часто можно встретить утверждение о том, что «экономический человек» слишком рационален в своем поведении. В связи с этим находится, например, концепция «ограниченной рациональности», предложенная в свое время Г. Саймоном[381]. С другой стороны, К. Боулдинг полагает, что время этого конструкта прошло, поскольку «экономическая» ориентация деятельности все более заменяется «социальной» («социальным евангелием», как он выражается[382]). М. Мосс же еще недавно утверждал, что даже в западном мире человек не полностью превратился в «экономическое животное»: «Homo oeconomicus не позади нас, но впереди, подобно моральному человеку, домашнему человеку, научному человеку и разумному человеку…»[383].
Преобладающие в настоящее время макроэкономические подходы в экономике как будто позволяют избавиться от модели человека вообще. Э. Жамс писал, что макроэкономическая теория «позволяет избежать фиктивности принципа изучения homo oeconomicus, то есть она не основывается более на легко вводящей в заблуждение психологии отдельного индивидуума или отдельной фирмы. Не придавая большого значения индивидуальным побуждениям, она исходит главным образом из учета совокупности движущих сил…»[384]. К этой позиции можно отнести приведенное выше замечание: она обоснованна – в данном аспекте – постольку, поскольку в «совокупных движущих силах» можно допустить некую, пусть неназванную, константу человеческих потенций, ориентаций, мотиваций. Если же почему-либо она становится проблематичной, если, скажем, утрачивается относительно устойчивая связь между затратами на рабочую силу и отдачей, макроэкономическая позиция оказывается здесь уязвимой, приходится искать пути дезагрегирования факторов производства, обращаться к мотивационному анализу и т. д.
Вряд ли случайно, что попытки спасти идею «экономического человека» принадлежат сегодня скорее социологии, чем экономической теории: бихевиористская социология ищет однозначную модель человека. О том, какой ценой конструируется такая модель, можно судить по версии, предложенной Дж. К. Хомансом – одним из известнейших теоретиков социологического бихевиоризма. Бедой «старого» экономического человека, по его мнению, была ограниченность круга его ценностей. «Но новый экономический человек не столь ограничен. Он может иметь любые ценности, от альтруизма до гедонизма, и хотя он не расточает все свои ресурсы в погоне за этими ценностями, его поведение все еще не является экономическим. Действительно, если он научился получать вознаграждение за то, что он не управился со своими ресурсами, если он ценит отсутствие всякой заботы о завтрашнем дне и соответственно поступает, его поведение все еще экономично. Поистине, экономический человек – это обычный человек»[385]. Как видим, стремясь как будто спасти классическую модель, Хоманс лишает ее всякой определенности, то есть попросту всякого содержания. Ведь для классического экономического человека его ценности были тесно связаны с механизмом их реализации – рационального целенаправленного действия. «Всеядность» предлагаемого Хомансом «нового экономического человека» объяснима его предельной методологической изолированностью: в поле зрения его концепции элементарных форм поведения попадают лишь отдельные изолированные поведенческие акты, все же ориентации, мотивационные структуры и прочее, поскольку они выходят за рамки отдельного поведенческого акта, охватываются общей скобкой – предельно широкой и потому лишенной конкретного содержания. Именно такой прием и позволяет отнести любые ориентации человека к «экономическим» (как, пожалуй, и к каким угодно).
На основании беглого обзора различных взглядов на «экономического человека» можно заключить, по-видимому, что этот персонаж не имеет шансов на сохранение своего статуса в экономической антропологии. К причинам этого нам еще придется вернуться.
* * *
В отношении Маркса к антропологическим моделям классической политэкономии прослеживаются две принципиальные линии: во-первых, отстаивание их исторического, более того, специфически-исторического характера, во-вторых, выявление противоречий и опять-таки исторически преходящего характера капиталистического разделения труда и соответствующего ему типа «частичного» человека.
«Пророкам XVIII века, на плечах которого еще всецело стоят Смит и Рикардо, этот индивид XVIII века – продукт, с одной стороны, разложения феодальных общественных форм, а с другой – развития новых производительных сил, начавшегося с XVI века, – представляется идеалом, существование которого относится к прошлому; он представляется им не результатом истории, а ее исходным пунктом, ибо именно он признается у них индивидом, соответствующим природе, согласно их представлению о человеческой природе, признается не чем-то возникающим в ходе истории, а чем-то данным самой природой. Эта иллюзия была до сих пор свойственна каждой новой эпохе» (т. 46, ч. 1, с. 17–18). Особенностью этого «человека XVIII века», по словам Маркса, было освобождение «от природных связей и т. д., которые в прежние исторические эпохи делали его принадлежностью определенного организованного человеческого конгломерата» (там же, с. 17). «Лишь в XVIII веке, в “гражданском обществе”, различные формы общественной связи выступают по отношению к отдельной личности как всего лишь средство для ее частных целей, как внешняя необходимость. Однако эпоха, порождающая эту точку зрения – точку зрения обособленного одиночки, – есть как раз эпоха наиболее развитых (с этой точки зрения всеобщих) отношений» (там же, с. 18).
Таким образом, «точка зрения обособленного одиночки» (действовавшего не только в экономической, но и в политической, философской, моральной и других сферах) выступает продуктом уникального исторического перелома XVI–XVIII вв. Если первоначально он терминологически обозначается как переход от «природной зависимости» к «гражданскому обществу», то в дальнейшем разрабатываются более развернутые понятийные средства, при помощи которых строятся представления о переходе от «традиционных» общественных организмов, опирающихся на личную зависимость, к «современным», опирающимся на дифференцированную систему социальных институтов и тем самым придающим человеческим отношениям «овеществленный» характер. (В более специальной социологической терминологии этому соответствуют, в принципе, категории «общинного» и «общественного».)
Характерная, как отмечал в вышеприведенном тексте Маркс, для переходных эпох иллюзия «естественные» (традиционные) системы отношений и свойственные им человеческие типы и позиции представляла как противоестественные, провозглашая «естественным» то, что как будто радикально отрицало все эти типы и отношения. Под видом возврата к «первоначальным», «истинным» и т. п. принципам предпринимались попытки конструировать новые системы морали, права, поведения, в том числе экономического. Новый человеческий мир – и, соответственно, новый человек, homo novus – представал в этом сознании как сконструированный, «построенный». Образцом же для такого конструирования выступали определенные модели человеческих отношений (норм, ориентаций) и самого человека. В дальнейшем стало ясно, что никакой мир новых отношений – по крайней мере если иметь в виду устоявшиеся и устойчивые формы – не конструируется по каким бы то ни было моделям, а складывается под влиянием объективных обстоятельств и противоречивых влияний. Реально «построенными» конструктами были и всегда бывают лишь сами модели, в том числе антропологические. Именно их появление на арене общественного сознания и культуры знаменовало принципиальное изменение самих «правил» исторического движения с переходом к новой эпохе.
Правда – и это тоже достаточно наглядно показано позднейшим развитием, – такое изменение «правил игры» касалось лишь некоторых плоскостей социокультурного механизма. В определенной его «глубинке» продолжают действовать и воспроизводятся ориентации и регуляторы «традиционного типа», что составляет основу противостояния и метаморфоз «конструктов» и «природных» («почвенных») форм человеческой деятельности.
Непременная черта конструктов «классического» сознания, коренящегося в XVIII в. (его философии, морали, эстетики, экономических воззрений), – их предельная рациональность. Значение этой ориентации прослежено Максом Вебером, отметившим, что «в конце концов создателями капитализма были рациональное постоянное предприятие, рациональная бухгалтерия, рациональная техника, рациональное право; но даже и не они одни: мы должны отнести сюда рациональный образ мысли, рационализирование образа жизни, рациональную хозяйственную этику»[386]. Рациональный образ мысли предполагал и сугубо рациональное воображение. Антропологические конструкты классицизма сейчас можно отнести к классу простейших рациональных автоматов.
При всем том – и это, пожалуй, самая важная и самая удивительная черта всего «классического» сознания – господствовало представление о предельной близости таких моделей к реальности, возникшей в результате самого развития последней: казалось, исторический перелом как бы вынес на поверхность, обнажил, освободил от наслоений фундаментальные элементы и скрытые пружины всей человеческой деятельности. Представлением о том, что реальность вполне (или почти вполне) соответствует их рациональным моделям, жила вся классическая философия, классическая эстетика, классическая политэкономия – пожалуй, даже и классическое естествознание. По словам Маркса, такая «простейшая абстракция политической экономии», как труд вообще, становится «практически истинной» в самых развитых формах буржуазного общества (см.: т. 46, ч. 1, с. 41). Классичность научной мысли поэтому выступает чем-то вроде синонима ее глубины, отличающей ее от пошлой поверхности и вульгарности. «Рикардо слишком классичен, чтобы впадать в пошлость…» – отмечал Маркс (т. 46, ч. 1, с. 311).
В ряду образцов рационального поведения, возведенных на пьедестал классическим сознанием, находится и «экономический человек». Первоначально, как мы уже видели, эта модель представляется вполне реалистической, почти совпадающей с оригиналом (неважно, раскрытым или же сконструированным). Для того чтобы оценить дальнейшую судьбу антропологической модели классической политэкономии, следует принять во внимание ту особую, внерациональную «нагрузку», которую несли все разновидности рациональных конструктов классицизма; они выступали в качестве ценностных ориентиров – своего рода идеологических фантомов, призраков, покоривших Европу в начале Нового времени. Причем речь идет о фантомах, призванных исполнять весьма ответственные функции структурирования общественного сознания своего времени (роль фундаментальных мифологем), то есть определения некоторого центра, вокруг которого сосредоточивался целый комплекс ценностей, стремлений, иллюзий данной эпохи. С некоторой долей упрощения можно допустить, что для XVII в. такую роль играла идея Разума, для XVIII в. – идея Человека, для XIX в. – идея Прогресса и т. п.
Историческая и культурная значимость подобного рода явлений выражается, между прочим, в том, что в их судьбе наблюдается одна и та же характерная метаморфоза: сыграв свою «мифологическую» роль, они не исчезают бесследно, но сохраняют некое частичное, позитивное, операциональное значение в каких-то конкретных сферах социальной жизни. Это происходило с перечисленными идеями «с большой буквы» и целым рядом подобных или производных: справедливости, равенства и т. д. Другая линия эволюции приводит к иной «разгрузке» фантомных комплексов, когда за ними сохраняются чисто фикциональные, методологические функции (все сказанное относится, конечно, не к масштабу, а только к типу значения). Именно это произошло с «экономическим человеком». В «постклассическую» эпоху, когда развеялись иллюзии простоты и рациональности человека и человеческого мира, «прозрачные» модели могут быть лишь частичными, вариантными, заведомо относительными моделями, и притом в ряду моделей иного типа (нормативных, ситуационных, глубинных и пр.).
* * *
Как известно, для А. Смита разделение труда и тем самым существование человека как «частичного» субъекта деятельности представлялись необходимым началом всякой социальности[387]. Следуя методологической традиции английского эмпиризма (Д. Юма прежде всего), он «выводит» эмпирически необходимость общественного человека из наличного факта разделения труда. Отсюда вытекала и точка зрения Смита о непреходящем характере разделения труда – и человека, – которое поддается лишь усовершенствованию. Историческое измерение общества для него сводилось лишь к противопоставлению примитивной бедности «одинокого охотника» (доисторического) цивилизации с ее разделением труда и прогрессом техники. Критикуя такую точку зрения, Маркс многократно возвращается к тезису о том, что «человек по самой своей природе есть животное, если и не политическое, как думал Аристотель, то во всяком случае общественное» (т. 23, с. 338). Причем первоначально эта «общественность» выглядит как «стадность», далее как подчинение человека семейно-родовым связям – «ограниченному конгломерату» (т. 46, ч. 1, с. 18, 486); лишь историческое развитие в условиях всеобщего товарного производства создает предпосылки для «универсального развития» индивидов и «всеобщих связей» между людьми (см.: т. 46, ч. 1, с. 104, 105). По мысли Маркса, в буржуазном обществе «более высокое развитие индивидуальности покупается только ценой такого исторического процесса, в ходе которого индивиды приносятся в жертву» (т. 26, ч. 2, с. 123), поскольку общественные связи между людьми действуют в отчужденной от них вещной форме (т. 46, ч. 1, с. 105). Подлинная универсальность развития индивидов достигается лишь тогда, когда «общественные отношения <…> будучи их собственными коллективными отношениями, также и подчинены их собственному коллективному контролю…» (там же).
Как видим, здесь отвергаются и точка зрения, рассматривающая характерные для капитализма вещные связи между людьми как естественные и непреходящие, и романтическая критика таких связей с позиций якобы существовавшей в прошлом «полноты» человека: «Так же как смешно тосковать по этой первоначальной полноте индивида, так же смешно верить в необходимость остановиться на нынешней полной опустошенности» (там же, с. 105).
Маркс полагал, что подняться «выше» противоположности буржуазного взгляда и его романтической критики(там же, с. 105–106) можно, лишь рассматривая реальные исторические предпосылки возникновения «универсальной индивидуальности». Как правило, такое рассмотрение облечено у него в логико-диалектическую форму, представляющую выход за пределы «овеществленных» отношений результатом самого их высокого развития (см.: там же, с. 104). Понятие универсально развитого человека имеет очевидные историко-философские истоки, прежде всего в традиции, ведущей от возрожденческой идеи всесторонней личности, «Homo Universalis», к идеалу «целостного человека», совпадающего с «миром человека» в классической немецкой философии. Стремясь «материализовать» эту концепцию, Маркс искал в известной ему социально-экономической реальности конкретные признаки действительной и потенциальной универсализации человека как субъекта общественной жизни (психологическую сторону проблемы мы в данном случае не рассматриваем). Такой признак он усматривал в появлении принципиально нового типа работника – промышленного рабочего, который свободен не только от внешней зависимости и сословных рамок, но, в отличие от ремесленника, и от связи с определенным типом труда: «Быть носителем труда как такового – то есть труда как потребительной стоимости для капитала – вот в чем состоит экономический характер рабочего…» (т. 46, ч. 1, с. 248). «Безразличие к определенному виду труда соответствует такой форме общества, при которой индивиды с легкостью переходят от одного вида труда к другому и при которой данный определенный вид труда является для них случайным и потому безразличным» (там же, с. 41). Абстрактная категория «труд вообще» становится поэтому реальной «в самой современной из существующих форм буржуазного общества – в Соединенных Штатах» (там же).
Здесь мы вновь сталкиваемся с тем классическим по своей ясности выражением классического экономического сознания, о котором уже шла речь: история совпадает с абстракцией (то есть предельно абстрактной моделью). Причем можно достаточно конкретно указать временные рамки такого совпадения: это первоначальный период развития машинного производства, уже сломавший узкие рамки ремесленной специализации и прикрепления работника к определенной сфере производства или отрасли и еще не сформировавший рамок узкопрофессиональной специализации. На первых порах машинное разделение труда упростило функции работника и сделало ненужной длительную процедуру обучения, которая обычно свойственна ремеслу. В констатации этого обстоятельства совпадают позиции А. Смита, полагавшего, что для овладения даже самыми сложными из известных ему специальностей достаточно нескольких недель или дней[388], и Маркса в его анализе упрощения труда и снижения качества рабочей силы при становлении машинного производства (см.: т. 23, с. 386, 406 и др.). К этому периоду относятся и выводы Дж. Ст. Милля (на которого, в частности, ссылается Маркс) (см.: там же, с. 382) о том, что машины не облегчают чьего-либо труда, положения о неизбежности удлинения рабочего дня, интенсификации труда и т. д. Последующие фазы технологического, экономического и социального развития способа производства, становление которого было прослежено Марксом, обнаружило, в числе других, тенденцию к растущей профессионализации и специализации работников, требующей все более длительного общего и профессионального образования.
Можно сказать, что если рассматривать труд рабочего в технологическом плане, то есть как элемент данной технологической системы производства, то представление о его «бессодержательности» следовало бы отнести к пройденным фазам промышленного развития, скажем, так, как принадлежат начальным фазам развития соответствующих сфер труд (и роль) «инженера вообще» или «механизатора». Но ограничиваться только таким подходом к труду и человеку в труде было бы неправомерно. Ведь, по мнению Маркса, рабочий «вообще» противостоит капиталу не технологически, а экономически. Экономическая однородность рабочих развивалась вне прямой зависимости от растущей профессионализации, но конкретные формы их организации на определенных стадиях неизбежно принимают профессиональный характер.
Другое существенное различие, которое мы находим у Маркса, касается двух типов разделения труда – внутри общества и внутри предприятия. В первом случае происходит, по его словам, «отталкивание друг от друга различных отраслей общественного труда и превращение их в свободные, друг от друга независимые и лишь внутренней необходимостью <…> соединенные в совокупность и единство» (т. 46, ч. 2, с. 450); во втором – «сознательное расчленение и сознательное комбинирование расчлененных элементов» (там же). Как замечает Маркс, эти два типа разделения труда соответствовали бы друг другу «скорее в египетской, чем в современной системе» (там же).
Учет реального многообразия форм и типов дифференциации и интеграции человеческих функций в развитии общества позволяет оценить такие вполне современные тенденции, как сочетание высокой профессионализации («технологической») с возможностями межотраслевой мобильности, заранее заданного определения функций работника в системе отдельного предприятия со свободным выбором между предприятиями и т. д. Конечно, такие и подобные им тенденции не только реализуют, но и трансформируют «классические» воззрения на возможности универсализации человеческой деятельности.
Это относится и к развитию еще одной, весьма важной методологически и практически линии структурной дифференциации такой деятельности, которая связана с разделением рабочего и свободного времени. Рассматривая рабочее время «субъективно <…> в форме деятельности» (т. 46, ч. 1, с. 114), Маркс считает правомерным сопоставлять его с «пространством» свободного времени (см.: т. 26, ч. 3, с. 264). Один тип деятельности (рабочей) выступает, таким образом, как длительность, последовательность операций, расположенных во времени, другой тип деятельности (свободной) – как множество вариантов, как пространство выбора. Так строятся принципиальные «координаты» анализа соотношения двух типов человеческой активности (промежуточные и переходные формы в расчет, очевидно, не принимаются), конкретное же содержание его определяется исторически, а точнее, характером капиталистической организации общественного производства; «Капитал помимо своей воли выступает как орудие создания условий для общественного свободного времени…» (т. 46, ч. 2, с. 21).
Здесь Маркс, как обычно, полемизирует с наиболее ценимым из классических экономических мыслителей – А. Смитом. Последний писал, что для труда рабочий «должен пожертвовать <…> долей своего досуга, своей свободы и спокойствия»[389], как будто «досуг» и «свобода» существуют извечно как некая естественная принадлежность человека. Как сейчас хорошо известно, в традиционных обществах не существует никакой дихотомии «рабочего» и «свободного» действия (соответственно, времени) – там действуют иные разграничения, задающие оппозиции ритуального – светского, праздничного – будничного и т. п. Классическое рационалистическое сознание – конечно, не задумываясь специально над этим – переносит традиционные оппозиции на почву иной реальности и в результате не столько демифологизирует их, сколько создает новую, рационализированную мифологему «свободного времени», противостоящего «принудительному времени» труда и к тому же его восполняющего[390].
Этой схеме Маркс противопоставляет два соображения. Во-первых, это уже приведенный тезис о том, что само свободное время – как и свободный труд, свободный рабочий (по сути дела, «свободный» здесь имеет одинаковый смысл) – не только похищаются, но и создаются капиталом, то есть развитием капитализма. Во-вторых, по поводу суждений Смита о «жертве» Маркс замечает: «“Да будешь ты трудиться в поте лица своего!” – таково проклятие Иеговы, обрушенное им на Адама. И Адам Смит рассматривает труд именно как проклятие. “Покой” выступает у него как адекватное состояние, тождественное “свободе” и “счастью”. То обстоятельство, что индивид <…” испытывает также потребность в нормальной порции труда и в прекращении покоя, – по-видимому, совершенно чуждо пониманию Смита…» (т. 46, ч. 2, с. 10). Но противопоставление «проклятого труда» и «счастья досуга» достаточно правильно отражает самоощущение работника как «раба капитала» (там же, с. 110).
По мнению Маркса, в будущем обществе свободное время должно служить «самоосуществлению» человека, всестороннему развитию его индивидуальности (см.: т. 26, ч. 3, с. 264–266), но к той же цели должен быть направлен и свободный коллективный труд; тем самым устранялась бы принципиальная противоположность между ними. Однако, как мы уже видели, в буржуазной реальности такая противоположность существует только в самоощущении рабочего и в конструктах классического научного сознания. Реальным содержанием человеческой деятельности в свободное время является воспроизводство (и простое, и расширенное, то есть развитие) того, что Маркс называл «сущностными силами человека» и что он сам раскрыл как «совокупность общественных отношений». «Предметом» воспроизводства здесь оказывается сам человек в его общественных связях, в том числе и «внутренних», то есть интернализованных в структуре его личности. Практически свободное время оказывается, таким образом, временем (деятельностью) «конечного» потребления материальных и культурных благ человеком, результатом чего и является его воспроизводство как общественной личности, индивидуализированной и стандартизированной, нагруженной интересами своего времени и в определенной мере вступающей в противоречия с ними и т. д.
Здесь, однако, требуется одно существенное уточнение. Для эпохи классического развития (становления) капитализма и классического научного сознания строгое разделение функции «рабочей» и «свободной» деятельности почти верно, то есть почти совпадает с рациональной дихотомической моделью: в рамках первой создаются материальные компоненты социально-экономической системы, в рамках второй – человеческие.
Как и в иных случаях, последующее, «постклассическое» развитие общества во всех формах привело к усложнению и своего рода иррационализации этой картины. Значительные и, видимо, растущие функции воссоздания общественного человека несут теперь социальная организация самого производства, системы формального образования, массовой коммуникации. Более ясными и, должно быть, более важными стали социализирующие функции ранних фаз человеческого онтогенеза. Все это приводит к тому, что «пространство» свободного времени превращается в поле влияния не только различных социальных институтов, что было и в предыдущие эпохи, но и специально существующих для этого социальных организаций, преследующих цели формирования определенных интересов и потребностей социализированного человека. Иными словами, свободное время выступает не только как общественно необходимое, но и как общественно принудительное по отношению к отдельно взятому индивиду. Правда, поскольку сохраняется пространство выбора деятельности, это принуждение носит косвенный, «статистический» характер. А свободное время может быть и полем борьбы против него (в аномальных условиях принудительности конечного потребления благ, например в ситуации универсального их рационирования, положение меняется и способы «производства людей», выражаясь словами Маркса, по своей организованности не отличаются от способов «производства вещей»).
По-видимому, можно считать, что чем больший удельный вес в современных цивилизациях (в смысле затрат энергии, интересов, времени) занимают различные формы человеческой деятельности, которые в статистическом учете и социографическом описании принято относить к досугу (что и составляет реальное содержание «цивилизации досуга»), тем больше их общественная значимость и общественная принудительность. Выражаясь несколько фигурально, можно распознать три основные силы, которые ведут «конкурентную» борьбу за влияние на этом поле: во-первых, это сфера социально-трудовых отношений (включая сюда разного рода приложения, продолжения и проявления в виде профессионального образования, общественных организаций, транспортных перемещений), во-вторых, это сфера массовых коммуникаций (включая сюда действие рекламы, пропаганды и т. д.), в-третьих, сфера «традиционных» по своему происхождению и изменяющихся в современных условиях семейно-бытовых связей (обязанностей, обычаев). Вряд ли можно усмотреть на этом поле какие-то специальные зоны неприкосновенности индивидуальности человека, специфичности его вкусов и неповторимости его творчества, то есть его свободы в том смысле, которым вдохновлялась классическая философская антропология. Свободная деятельность человека существует и может существовать во всех сферах его жизни и времени, на пересечении влияний разных социокультурных сил, в борьбе с ними и за их рамками, или, как выражался Маркс, «по ту сторону» царства необходимости (см.: т. 25, ч. 2, с. 387).
* * *
Концепция человека, присущая экономическим воззрениям Маркса, носит конкретно-исторический характер, она в высшей степени полемична, поскольку связана с общим «выяснением отношений» с предшествовавшей социально-экономической мыслью. Методологические принципы понимания места человека в социально-экономических процессах, использованные им, составили целую эпоху в самосознании общества. Обращение к ним и сегодня важно для понимания современных тенденций и форм экономической деятельности человека.
1983Номо oeconomicus, или Судьба одного призрака
Жил-был Призрак…
Знакомиться с призраками не так просто, поэтому предпримем сначала обходное движение – через классический литературный пример:
«Павел Петрович взмахнул руками.
– Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать принсипов, правил! В силу чего же вы действуете?
… – Мы действуем в силу того, что признаем полезным, – промолвил Базаров» («Отцы и дети», глава Х).
Здесь перед нами очень четкое и очень принципиальное противопоставление двух типов человеческой деятельности и, соответственно, двух человеческих типов. Один из них на первое место ставит соблюдение «принципов, правил» (социальных ценностей и норм, как сказал бы социолог). Это «нормативная» ориентация деятельности. Другой тип действия обращен прежде всего не к правилу, а к результату, которого надо достичь («польза»). Такое действие называют целенаправленным, или утилитарным.
Мы сейчас хорошо знаем исторический смысл противостоящих «правила» и «пользы» в эпоху Тургенева. В среде «новых людей» обращение к таким категориям человеческого действия, как польза, интерес, расчет, было тесно связано со стремлением вырваться из-под гнета обветшавших «принсипов». Притом «польза» здесь неизменно казалась общей, а интерес – народным, ибо расчет предполагался настолько разумным, что вел к полному совпадению блага человека и человечества. Беспокойные лучи света, пронзившие «темное царство», неизбежно возбуждали ослепительные иллюзии.
Между тем источник (вернее, пожалуй, индуктор) беспокойства в иных пределах к этому времени был уже хорошо известен и рассмотрен с разных сторон и обладал своим именем. Собственно, имена эти менялись с возрастом подобно тому, как это происходит у отдельного человека: на смену уменьшительной форме имени приходит официальное, сопровождаемое отчеством и фамилией, указанием на социальные роли и престижные титулы. Если представить метаморфозы имени нашего героя в сокращенном виде, они выглядят так: на возрожденческой заре Нового времени это был «просто» Человек, в век Просвещения – Рациональный человек, в промышленном же столетии он получил имя Экономического человека, под каковым и был занесен в святцы европейской истории. (Имя это, кстати, как говорят, придумал английский логик и экономист Джон Стюарт Милль.)
Социально-экономическая основа этих метаморфоз достаточно известна. Высокая фантазия конца христианского Средневековья выносила идеал «нового», универсального и свободного человека. Но когда этот человек действительно родился – после промышленного переворота и утверждения буржуазного строя, – он оказался универсальным лишь в смысле своей деловитости, что же касается его устремлений, то они оказались универсально-узкими.
Как сказано в «Коммунистическом манифесте», достигнув господства, буржуазия «не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного “чистогана”. В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности». «Голый расчет», «эгоистический интерес» – это и есть черты Экономического человека. Он буржуазен с головы до пят, ибо воплощает не только качества сравнительно небольшой социальной группы, но и дух, противоречия и иллюзии целой эпохи.
Этой фигуре в свое время много досталось от сторонников и противников: ее превозносили и поносили, призывали освобождать от пут и ограничивать, порицали за узость и за универсальность. Сейчас ее скорее бранят: «Экономический человек – это личность, которая всегда стремится максимизировать свой долларовый доход или минимизировать свои долларовые затраты… Предполагается, что экономический человек занят холодным расчетом. Он обладает полной информацией о рынке и всегда делает верный шаг. Экономический человек не имеет страстей и никогда не допускает, чтобы его эмоции вмешивались в его дело… Это самая бессердечная и отвратительная личность. К счастью, мы не встречаем экономического человека в реальной жизни…» (из американского пособия по «экономике потребления»). Легко заметить, что в этом пассаже наш герой изображен весьма примитивным эгоистом. Первооткрыватели (или родители) возлагали на него более серьезные надежды.
Адам Смит: «Естественное стремление каждого человека улучшить свое положение, если ему обеспечена возможность свободно и беспрепятственно проявить себя, представляет собой столь могущественное начало, что одно оно способно без всякого содействия со стороны довести общество до богатства и процветания» («Исследование о причинах богатства народов»). Отметим самую интересную черту этого рассуждения: считается, что стремление каждого к собственному благу ведет к благу для всех. Но если так, достаточно одной страсти – к увеличению собственного богатства, – чтобы привести в движение весь механизм общества, главной фигурой которого является Экономический человек.
А поэтому – независимо от социальных симпатий первооткрывателей – он быстро приобрел значение универсальной модели, по которой кроили свои воззрения о «подлинном» (и «будущем») человеческом обществе и трубадуры, и противники буржуазного эгоизма. Именно по такой мерке скроены утопии, где было обещано идеально подогнать все общественное устройство к нуждам человека. Холодная фантазия их авторов переносила черты Экономического человека на социальную конструкцию, спроектированную так, чтобы растворить без остатка проблемы и противоречия жизни людей. Кстати, пожалуй, лишь в этом виде наш персонаж мог приблизиться к своей материализации: за пределами утопической схемы, в мире реальных людей он оставался призраком.
Правда, зримым, действующим и умопостижимым – не чета тем оккультным фантомам, что порой подымаются в сознании общества до уровня моды.
Перебрав реальные характеристики сотен и тысяч изобретателей и приобретателей, мыслителей и конкистадоров, мы не нашли бы никого, кто опирался бы на один холодный расчет. Этими людьми двигали – кроме того и сверх того – вера и долг, привычки и страсти.
Экономический человек не обладал плотью и кровью конкретного индивида, но зато воплощал дух целой эпохи, двигал поступками и иллюзиями людей. Он существовал, следовательно, не только в сознании открывших или определивших его людей. Появившись на свет в сочинениях известных мыслителей, Экономический человек стал – не всегда желанным или осознанным – властителем дум нескольких поколений. Этой способностью подчинять себе сознание целой эпохи и определяется реальность нашего Призрака (как и сонма других незримых участников человеческих дел). На него равнялись, с ним боролись, о нем мечтали – притом тысячи и миллионы. Лишь традиционные мифологические персонажи, пожалуй, могли бы сравниться с нашим героем по силе общественного воздействия. И опять-таки в мифологическом мире приходится искать аналогии тем процессам, которые привели к выходу на сцену, возвеличению и упадку Экономического человека.
Свидетельство о сотворении
Греческая богиня мудрости Афина, как говорили, родилась из расколотой головы Зевса. Идол рациональности, наш Экономический человек появился на свет в результате распада традиционного сознания, которое на протяжении целого ряда эпох достаточно надежно связывало мир человеческих действий.
Такие понятия, как «традиционное сознание», «традиционный мир», «традиционный человек», могут относиться к разным временам и культурам, вовсе не означая их смешения. Человеческая жизнь в условиях архаики и античности, восточных деспотий и европейского феодализма имела одну характерную особенность: равнение на образцы прошлого, как бы на свой собственный вчерашний день. Хранение и передача из поколения в поколение заданного раз и навсегда – как считалось – образца были традицией, главным содержанием культуры таких обществ. Традиционные общества обращаются к прошлому и стремятся его воспроизводить. Здесь далекие, часто – «священные» – предки определяют программу деятельности потомков, и человеку остается лишь следовать ей. В каноническом искусстве Востока и доренессансной Европы сюжеты, композиция, символика цвета задавались художнику традицией, а талант определял способ реализации канона. Но так, по сути, строилась вся жизнь традиционного общества, герой которого – всегда исполнитель, и потому он свободен от бремени самого тяжелого, нравственного выбора, от ответственности, от риска. В этой ситуации проста связь прошлого с настоящим, индивидуальной и социальной перспективы – их однозначно задает прошлый образец.
Крушение этой однозначности составило трагедию Принца датского: «Порвалась связь времен…» Человек получил возможность (более того, оказался вынужденным) выбирать линию поведения и отвечать за свой выбор. Вместо конкретного заданного образца главным ориентиром его жизни стал идеал, отнесенный в будущее, которое нужно создать своими руками. Чтобы не сбиться с пути, человек отныне вынужден смотреть вперед – и сам прокладывать этот путь. Прошлый образец не исчезает от этого, но теряет свою однозначность: это не директива, а набор возможностей. Тень Гамлетова отца («он человек был в полном смысле слова») присутствует в делах и мыслях принца, побуждает его к действию. Но принимать решение, делать выбор он должен сам.
Юный – не столько годами, сколько эпохой – принц, как известно, стремился выбирать способ действия, прибегая к критериям нравственным («что благородней…») и абсолютным («какие сны приснятся в смертном сне»). Когда, спустя два-три столетия, новый человек повзрослел, приобрел респектабельные черты и титул Экономического, он стал обращаться к более очевидным ориентирам (польза, расчет).
Традиционный человек с головы до ног опутан сетью запретов и указаний – столь же конкретных, сколь и категорических. Их плотная сеть для него составляет почву и воздух, питательную среду и наследственную программу поведения. Когда сеть порвалась, когда отделился «воздух» от «почвы», произошел акт творения Рационального человека. Как бы твердо ни стоял он на сложившейся веками традиционной почве, его взгляд и руки, его мысль и действие устремлены вверх, к новой, искусственно сконструированной системе ориентиров. Здесь разделены, а порой и противопоставлены категории почвы и конструкции, наследственного и благоприобретаемого. (Отзвуки дискуссий о «почве», которую вели в России герои и современники Достоевского, слышны до сих пор.)
Все это – не картина и не история. Соотнесение двух типов человека, традиционного и рационального, – схема, модель (или, как сейчас говорят, парадигма), которая давно и неплохо работает в исследовании общества. Порознь эти человеческие типы встречаются столь же редко, как предмет и его тень или отдельные полюса магнита. Все дело в их соотношении, в способе доминирования.
Вся мудрость мира дорационального, традиционно-неподвижного, смотрящегося в зеркало прошлого, воплощена в изречении Конфуция: «Благородный муж думает о долге, мелкий человек – о выгоде». Долг перед прошлым у него бесконечен, но выше стремлений к собственному выигрышу («выгода» ведь не обязательно в смысле прибыли). В мире Экономического человека этот тезис перевернут: забота о выгоде – главная пружина человеческой жизни, а исполнение долга и нормативных требований общества становится средством для реализации этой цели.
Секрет влияния нашего Призрака выглядит простым: он действовал рационально. Это понятие давно стало настолько привычным, что о его содержании редко думают.
Анатомия действия
Первоэлемент могущества Рационального человека – в его способности превратить все на свете, включая собственные действия, намерения и оценки, в предмет внешнего наблюдения и трезвого анализа.
Между тем его антипод – Традиционный человек – не отделял себя от своей деятельности и общественной среды, смотрел на них изнутри. Он плыл по течению жизни, тогда как Рациональному человеку пришлось «делать жизнь» самому. С этим связаны некоторые существенные особенности его мышления. Вообще говоря, Рациональный человек вовсе не был «умнее» или богаче знаниями, чем его предшественник. Он иначе относился к уму и знанию (отсюда и невозможность соизмерения): ведь плывущему в потоке традиции нет нужды в «многознании» – ему важно держаться «правильного», то есть привычного течения. А Рациональному человеку, который провозгласил, что полагается лишь на собственный ум, который само знание представил как некое множество сведений, правил, деталей работы своего сознания, – ему пришлось и оценивать знание какими-то количественными мepaми, и накоплять его во все большем и большем количестве.
Традиционный человек имел дело прежде всего с идеями универсальными и абсолютными: с моделями мира, бога, судьбы; в конечном счете их функция состояла в том, чтобы приспособить человека к миру. У Рационального же человека знание всегда специализированно, направленно, конкретно – в этом смысле мы и говорим о его практичности. Эти качества (современного) знания превращают его в могущественное средство реконструкции человеческого мира. Знаменитый лозунг Просвещения «природа не храм, а мастерская» выражал отношение Рационального человека к миру как предмету действия, как «делу» человека. Наш персонаж в высшей степени был деловым человеком. «Человек есть то, что он делает», – говорит Гегель, и это относится к Рациональному человеку.
Символом его веры часто считают знаменитые поучения Бенджамина Франклина, одного из духовных отцов американского государства и общества:
«Помни, что время – деньги; тот, кто мог бы ежедневно зарабатывать по десять шиллингов и тем не менее полдня гуляет или лентяйничает дома, должен <…> учесть, что он истратил или, вернее, выбросил сверх того еще пять шиллингов <…>/ Помни, что деньги по природе своей плодоносны и способны порождать новые деньги <…>. Кто изводит одну монету в пять шиллингов, тот убивает все, что она могла бы произвести: целые колонны фунтов стерлингов <…>. Кто ежедневно тратит часть своего времени стоимостью в один грош – пусть это будет всего несколько минут, – тот теряет в общей сумме дней возможность использовать 100 фунтов стерлингов в течение года». Это – принципы «экономической этики» молодого капитализма, воплощение того духа, который двигал Экономическим человеком в пору его наибольшей популярности и престижа.
Наш расчетливый и деловитый персонаж имел мало общего с грандиозно-фантастическим образом освобожденного ума, который воспели великие мыслители Ренессанса и который, в их представлении, должен был обеспечить человеку полноту и цельность жизни. Практический ум нашего героя не принес миру ни цельности, ни покоя, предложив вместо них бесконечную погоню за новым знанием, новым успехом и новыми целями.
Смысл действия Традиционного человека – в соблюдении нормы и повторении прошлого образца, смысл действия Рационального человека – в достижении собственной цели. Речь идет не просто о целенаправленности отдельных поступков; достижение цели превращается у нашего героя в стержень всей жизни. Стремясь к цели, мы всегда имеем дело со средствами, то есть явлениями, предметами, поступками, которые самостоятельного значения не имеют. В погоне за манящим призраком каждый взятый рубеж, каждая достигнутая цель оказываются лишь средством для достижения следующей, для умножения числа и разнообразия самих целей человеческого действия.
Весь мир Рационального человека – это бесконечно сложная система средств, это – «технический мир». Ведь техника в самом общем смысле этого слова – это и есть система средств, не только материальных, но и организационных (организация людей и действий), для достижения некоторой цели. Машинная техника – частный случай, звено этой системы, конечно, все более важное. На смену «органическому» миру Традиционного человека пришел «технический мир», мир средств.
Но тут разверзается бездна, и Рациональный человек оказывается стоящим на самом краю ее. Если все – средства, то это относится и к институтам, нормам и ценностям, к самому человеку. Не скроется ли за лесом средств само «дерево» целей? Где гарантия того, что данные средства ведут к достижению искомой цели, а не деформируют ее? Простых ответов на такие вопросы не бывает. Самый рациональный из теоретиков Рационального человека Иммануил Кант сформулировал универсальное требование (категорический императив) – ни при каких обстоятельствах человека нельзя рассматривать как средство. Но в мире средств реализовать этот мудрый запрет невозможно.
Правда, Рациональному человеку по самой его конструкции не полагалось сомнений и переживаний такого порядка: он умел лишь рассчитывать свои поступки, ориентируя их на достижение собственной цели. И сверх того – добиваться наибольшей эффективности этих процедур. Это значит – тратить как можно меньше средств (усилий, денег, знаний) для достижения как можно больших результатов. Таков основной принцип всякого экономического действия. И вот здесь-то Рациональный человек становится Экономическим. «Экономическое» его качество в данном случае означает выбор оптимальной стратегии, которая обеспечивала бы наиболее эффективное использование ресурсов. Оно не обязательно ограничено сферой производства, хозяйства и не обязательно измеряется в деньгах: Рациональный человек может вести себя «экономически» в любом деле, при решении любой жизненной проблемы – моральной и политической, административной. (Между тем Традиционный человек вел хозяйство «по старинке», то есть равняясь на старые образцы и не заботясь о максимальной отдаче. Легко заметить, что такой способ действия чисто теоретически можно считать прошлым…)
Итак, три составные части действия Рационального человека на его пути к превращению в человека Экономического: рациональность, инструментальность, эффективность.
Много ли человеку надо?
«Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше», – гласит старая поговорка (которая, правда, не учитывает, что и у рыб бывают разные склонности). Для Экономического человека искать «лучшего» столь же естественно, как реальному человеку, скажем, дышать. Критерий же был прост: «лучшее» – это более полное удовлетворение «потребностей человека». Их список был составлен европейской мыслью как раз в период появления на свет нового и требовательного человека. В него включали средства к жизни, свободу действия, безопасность, собственность, подчас добавляли такие черты, как признание, самовыражение. Общепризнанного перечня, а тем более классификации и меры потребностей ни в декларациях, ни в учебниках нет, но долгое время общепризнанным было представление об их «естественности». В этом сказывалась влиятельная в свое время философия естественного человека, которая прославила имя Жан-Жака Руссо. Согласно этому учению, способности и потребности человека наилучшим образом «заданы» самой природой, надо лишь высвободить их из-под гнета насилия и суеверия.
Идея естественных потребностей вдохновляла великих социальных утопистов, конструировавших общественное устройство по мерке Рационального человека. На нее ссылались архитекторы, искавшие совершенных конструкций городского мира («Сфера деятельности архитектора – знание потребностей человека…» – писал прославленный Корбюзье). Однако использовать практически представление о человеческих потребностях удавалось, как правило, лишь в весьма «специальных» областях – гигиена питания, жилища, рабочего места и т. п.; короче говоря, там, где исходной точкой были нужды самого организма. За их пределами проблема потребностей выглядит не столь простой. Получается как будто парадокс: когда стало возможным практически учесть потребности человека (в архитектуре, в планировании и т. д.), надежного их списка не оказалось.
Экономический человек, по замечанию современного американского экономиста, был хорош уже тем, что знал, что ему нужно. Но эта его уверенность мало помогает тому, кто сегодня должен учитывать действующие потребности реальных людей. Мерка Экономического человека перестает «работать».
Потребности реальных людей оказались подверженными многообразным и «рациональным» превращениям. Под рубрику потребностей стали попадать вещи и явления, которые никак нельзя было считать «естественными». Пока роскошь и праздность считались уделом элиты, было легко требовать разделения «искусственных» и «естественных» потребностей – аки козлищ от овечек, согласно известному образцу. В век массового производства и массового же потребления (включая сюда и «недопотребление») ситуация явно изменилась: не то чтобы насыщенными оказались те потребности, которые считались «естественными», этого часто нет, но сама марка «естественности» основательно полиняла. Стал очевидным простой и древний – как само общество – факт: живя в человеческом мире, человек нуждается не только в «хлебе насущном». Можно выразиться и более резко: он нуждается прежде всего в хлебе насущном (то есть в удовлетворении биологических, досоциальных потребностей) только в крайне бесчеловечных условиях истощения и вырождения. И сколь бы часто ни становились исторически реальными такие условия во времена войн и прочих насилий, их нельзя считать нормальными, а значит, нельзя из наблюдений над такими ситуациями выводить представления о рамках «нормальных» потребностей человека…
Один из самых болезненных парадоксов современного мира – огромный, склонный к увеличению разрыв между странами не только в размерах достигнутого потребления благ, но и в характере самих запросов.
Организм нуждается в калориях, человек – в тех видах пищи и тех способах питания, которые приняты его обществом, его культурой. Чтобы жить в обществе, человек должен получать признание со стороны общества, занять определенное положение в нем, утвердить себя как личность. И для человека общественного именно эти потребности первичны.
Вот одно из частных, но ярких проявлений такого принципа: современная роль моды в потреблении и потребностях. Практически все потребление сегодняшнего человека (не только «вещное», но и «духовное», точнее, культурное) так или иначе отмечено знаком моды, то есть самой «искусственной», самой символической из всего набора человеческих потребностей. Нравится нам это или нет, но без модной «упаковки» или «приправы» вкусы, потребности и даже сами ценности людей попросту не работают.
Маркс писал, что порождение новых потребностей – это «первое историческое дело» человека. Когда стало очевидным, что это историческое дело является постоянным, воспроизводится во все более расширенном масштабе вновь и вновь, стала очевидной и первая крупная неудача Экономического человека.
Безработица Робинзона
Знаменитый Робинзон – этот подлинный портрет Экономического человека! – мог похвастаться тем, что буквально исполнял формулу «все мое ношу с собой». Он носил в себе весь мир нужных ему интересов, норм и ценностей; достаточно было ему счастливо выплыть на какой-нибудь неведомый остров, чтобы развернулась вся его жизненная программа – упорный труд, покорение природы и цивилизация дикарей. Участия других людей ему не требовалось. Но действовать по такому образцу уже давно никому не удается. И вовсе не потому, что не осталось необжитых островов и белых пятен на картах.
Развитие социальных институтов и разделения труда приводит к тому, что в формировании жизненной программы человека огромную, невиданную роль играют действия общественных институтов, системы воспитания и средств массового воздействия. Выражаясь фигурально, современный потомок Робинзона, оказавшись на необитаемом острове, станет искать указатель дорог, руководство по сооружению шалашей и, пожалуй, журнал мод… Ему нужны инструкция, стимул и пример других, чтобы действовать самому.
Сложной стала и ситуация с современными Пятницами. Экономическому человеку в свое время удалось проникнуть во все без исключения уголки мира и в какой-то мере подчинить индустриально-европейским стандартам регионы с различным культурным прошлым. Подчинить, но не преобразовать целиком. Трудная история «развивающихся» (или «модернизирующихся») обществ постоянно показывает сегодня, насколько сложно связан их верхний культурный слой – заимствованные плоды технического прогресса и дипломатические фасады – с более глубокими слоями культуры иного типа. На одном уровне – поле рациональной и целенаправленной деятельности Экономического человека, а под ним – пласты «исконных» культурных форм с их ориентациями на традицию и Традиционного человека. В переплетении таких слоев – исток многих трудностей всего процесса модернизации, которым сейчас охвачена большая часть населения нашей планеты.
Но это не все. Нечто подобное многослойности культуры социологи и психологи обнаруживают сейчас в структуре самой личности. Под поверхностью рационального и делового человека исследования обнаруживают ориентацию на комфорт и покой, стремление без лишнего риска и ответственного выбора сохранять свой статус и внутренний мир. В социологической литературе обсуждается, что представляет собой этот странный феномен – этот Пятница, живущий в Робинзоне, или, в более близкой нам терминологии, этот Обломов, сохранившийся в Штольце, – пережиток прошлого, некое новообразование наших дней или вечный парадокс человеческого существования?
Чтобы отчасти разобраться в этом споре, надо напомнить, что Экономический человек – не более как призрак с человеческим лицом, который самостоятельно существовать никогда не мог. Если же он действовал на умы и дела людей, то не в одиночку, а в некоем соотношении со своим антиподом, призраком Традиционного человека.
Новый фантом – Постэкономический человек?
Призраки социального мира отличаются от персонажей мифов и суеверий, между прочим, тем, что их нельзя вызвать или прогнать при помощи символических манипуляций – заклинаний, проклятий. Будучи бесплотным, Экономический человек не реагирует на самые свирепые удары критики и не подлежит прямому суду фактов (ему не страшны суждения типа «так не бывает»).
Он уходит в тень, лишь будучи забытым: когда перестают пользоваться его мерой для оценки человеческих действий и стремлений.
В последнее время западные социологи собрали целые тома свидетельств, как будто говорящих об исчезновении нашего призрака.
Утверждают, например, что «экономическая этика» с ее ценностями упорства, риска и успеха теряет силу, уступая место ценностям покоя и пассивного развлечения.
Недавно в США вышло исследование «Люди против работы» – о распространении в американском обществе, в основном среди молодежи, безразличного отношения к трудовой и деловой карьере. Значительная часть нового поколения ценит сегодняшний досуг, комфорт, развлечения больше, чем будущие блага. Прилично оплачиваемое место большинству кажется более привлекательным, чем рискованная карьера предпринимателя, даже если она обещает неограниченные прибыли.
Сравнительно новый дух «цивилизации досуга», как назвал ее французский социолог Ж. Дюмазедье, быстро обнаруживается и в странах, не так давно приобщившихся к плодам технического и экономического прогресса. В Японии в 1965 г. 68 % опрошенных предпочитало увеличение зарплаты сокращению рабочего времени, а уже в 1968 г. – только 28 %. Среди японцев 40–49 лет ценность работы признавало более 80 %, а среди людей 16–29 лет – менее 40 %.
Ссылаясь на подобные факты, некоторые теоретики, например Д. Белл, готовы чуть ли не похоронить Экономического человека, провозгласив рождение новой фигуры – человека Постэкономического (сейчас любят говорить о постиндустриальном, посткапиталистическом, постхристианском и даже постцивилизованном обществе или обществах). Он ценит досуг, а не работу, сохранение статуса, а не достижение новых благ, покой, а не деятельность и т. д. Странным образом сочетаются в апологиях этого персонажа темы экологического кризиса, якобы навязывающего человечеству ценность простого биологического выживания, и поздние влияния восточной мудрости, где отказ от желания ценится выше, чем его удовлетворение. Например, в последнее время в западной культуре (и ее внутреннем оппоненте – так называемой молодежной контркультуре, представляемой хиппи и другими) быстро распространилось увлечение парадоксами философии дзен-буддизма.
Традиционный человек смотрел назад, на образцы прошлого. Экономический человек обратил взоры вперед, к рукотворимому будущему.
О Постэкономическом человеке, следуя тому же стилю, можно сказать, что он смотрит по сторонам. Он оглядывается вокруг, стремясь утвердить себя тем, что поступает и думает «как все». Возможно, поэтому он постоянно нуждается в каких-то искусственных возбудителях и стимулах «со стороны» – здесь в одном ряду выстраиваются символы юношеских бунтов и потребительских утех, мудрости «Востока» и безумия «Запада».
Но за всем этим трудно рассмотреть какую-то новую модель человека; скорее всего, перед нами лишь «антимодель», набор отрицательных характеристик, соотнесенных с тем же Экономическим человеком.
Он сделал свое дело в истории общества и общественного сознания. Но пока вертятся колеса нашей рациональной и технической цивилизации, его рабочее место никуда не исчезнет. Более того, современный престиж и современная роль технических систем в обществе ведет к постоянному возрождению «технических» иллюзий – попыток сводить социальные и экономические проблемы к технически разрешимым. Ведь полмира еще стоит на пороге индустриального переворота, и его призраки относятся там скорее к будущему, чем к прошлому.
Уходит со сцены не сам по себе Экономический человек, а миф о его универсальности и всемогуществе. Вместе с ним уходит и представление о некой модели «подлинного» человека, по которой можно или нужно кроить весь бесконечно многообразный человеческий мир.
1977Культурный контекст экономического действия
Экономическое действие как специфический идеальный тип социального поведения характеризуют предельная рациональность, целенаправленность, оптимизация; необходимое условие его реализации составляет качественная определенность (квантификация) действия, благодаря которой становятся возможными соизмерение и эквивалентный обмен результатов действия[391]. С экономической, «внутренней» точки зрения такое действие беспредпосылочно, то есть «естественно» по отношению к человеческой природе или социальной системе[392]. Это значит, что его нормативно-ценностные параметры остаются вне поля внимания. Между тем для социологического анализа – предполагая последний достаточно зрелым методологически – рассмотрение таких предпосылок (рамок, контекста) представляет специфическую и постоянную проблему. Экспликация социально-культурного контекста такой предельной формы социального поведения, как экономическая, позволяет представить социальное содержание различных типов человеческих действий и общественных структур, значение эквивалентно-обменных отношений и соответствующих мотиваций[393].
Уместно отметить, что подобный анализ может приобретать актуальность и вне методологических координат, например в связи с исследованием тенденций «экономизации» и «деэкономизации» социальных отношений, мотиваций, интересов. Здесь еще раз выясняется, что проблематизация «очевидности» является не только научно-методологической процедурой, но и, так сказать, процедурой исторической, которая способна задавать весьма демонстративные разрезы и разломы общественных структур.
Собственно, именно с такой исторической декомпозицией связано и само превращение культуры в специальный предмет исследовательского интереса. Такое превращение происходило в основном во второй половине прошлого века. Предпосылками формирования культурологии были переоценки линейно-исторических («историцистских», в попперовской терминологии) и натуралистских концепций социального детерминизма, выявление многообразия типов рационального поведения, уникальной роли неповторимых культурных импульсов в выходе «экономического человека» на авансцену европейской истории и т. д. Эти ситуации находят свое современное – да и необозримо-перспективное – продолжение в круге проблем и противоречий модернизационных процессов (к ним, в частности, относятся и проблемы распространения культурных образцов). С исторически вынужденным признанием множественности пространственно-временных координат социальной реальности[394] связано и допущение возможности аналитического выделения культурных (нормативно-ценностных и символических) параметров как своего рода исходных ориентиров, как бы «неба неподвижных звезд» по отношению к социальным действиям и структурам.
Определенную роль в этом процессе сыграло и развитие исследований в области культурной антропологии, хотя предметом этой этнографической дисциплины обычно являлся нерасчлененный социокультурный комплекс традиционных общественных структур.
Сравнительно недавнее превращение культурологической проблематики и соответствующей терминологии в существенный элемент научно-престижных ориентаций способствовало сохранению в нашей специальной литературе некоторых архаичных трактовок методологического статуса культуры. В некоторых из них последняя представлена в виде своего рода резидуальной (остаточной) категории, обозначающей весь «нерастворимый» в ходе собственно социологического исследования остаток социальной деятельности – нормативно-ценностные посылки, интересы, потребности, традиции и пр. как чисто внешние рамки соответствующих действий.
В других случаях культурные параметры приобретают значение автономной надсоциальной регулятивной системы общества, которая уподобляется генетической системе не только функционально, но чуть ли не структурно, так что культура предстает в качестве некой сверхсоциальной системы[395].
Если первая из названных трактовок может оправдываться самой ограниченностью исследовательской задачи и соответствующего инструментария, то вторую следует считать теоретически неадекватной. По сути дела, перенесение на культурные характеристики деятельности признаков организованной системы – невольный продукт реификации (овеществления) аналитических инструментов исследования. Ни эмпирические, ни методологические соображения не позволяют приписать онтологический статус реальной, то есть функционирующей, «работающей» системы чему-либо иному, кроме организмов и организаций («организованностей») различного порядка, обладающих определенными механизмами функциональной связи, реальными носителями таких связей и т. д. Культуру же методологически правильнее было бы представлять не как функционально организованный механизм, а как систему значений, приобретающих действенность и смысл (организованность) только в процессе их использования. В этом плане культура аналогична языку. То представление о культуре, которое специфично для социологического (социокультурного) анализа, предполагает упорядоченность ее компонентов как синтагматику и парадигматику определенных значений, указывающих потенциальные рамки и контексты социальной деятельности. Культура в такой трактовке – одна из аналитически выделяемых проекций общества («подсистема» культуры, в терминологии Т. Парсонса), которая «живет» только в социальных действиях и структурах различного порядка.
Из этих соображений чисто теоретического типа следует, что семантический потенциал («поле») определенной культуры в принципе должен быть существенно большим, чем его функционирующая часть. Он включает не только явные, но и латентные, не только функционально полезные, но и дисфункциональные структуры, а также структуры, различающиеся временными параметрами своего действия, и т. д. Это можно объяснить тем, что потенциальный арсенал культурных значений и структур формируется исторически, временные параметры таких структур по определению несводимы к рамкам социально организованных систем. В самой же культурной подсистеме собственные нормативные регуляторы отсутствуют. Отсюда неизбежность противоречивого многообразия культурных структур, способных оказывать воздействие на социально организованные системы деятельности. Отсюда также и неизбежность активного выбора действующим субъектом (индивидуальным или организованным) культурных ориентиров собственного поведения из набора потенциальных альтернатив.
Допущение такого выбора влечет за собой переоценку таких столь широко распространенных концептов, как «культурные императивы», «потребности» и пр., имеющих прямое отношение к экономическому действию. Сейчас уже как будто не требует доказательств тезис о том, что критерии ориентации экономического действия (потребности) носят не природный, а социальный и культурный характер, и даже те из них, которые связаны с удовлетворением физиологических нужд организма, опосредованы культурными формами. Сам по себе этот тезис еще не позволяет избавиться от натуралистского рассмотрения потребностей как жестко заданных внешних рамок социального действия, необходимых предпосылок функционирования соответствующих организованных систем. Но принимая во внимание представленные выше соображения о неприменимости к культурным феноменам признаков функциональности и об избыточности культурного поля, следовало бы, видимо, характеризовать культурно заданные ориентиры действия как «сверхнеобходимые», точнее, не связанные критериями функциональной необходимости. Отсюда следует, что экономическое действие нужно рассматривать в контексте интересов, запросов, стремлений соответствующих агентов действия. В «сверхнеобходимом» разнообразии культурно значимых ориентаций и мотиваций действий можно усматривать реальный смысл активности культуры.
Для представления структуры культурного поля экономического действия обратимся к категориям: 1) уровня структуры, 2) глубины структуры, 3) предметности структуры.
К проблематике уровня культуры можно отнести интерпретацию широко используемого расчленения инструментальной, нормативной и символической ее структур. Каждая из них соотносится с определенным уровнем организации действия: инструментальная – с единичным агентом (субъектом) социального действия, нормативная – с социальной организацией действия, символическая – с системой культурных значений, не связанных непосредственно рамками функционально-организованных систем. Определенным уровням культурных структур соответствуют свои временные параметры. Для первых двух из перечисленных уровней это, очевидно, время социального действия и время функционального цикла организованной системы. Сложнее определять рамки и меры «культурного» времени; ограничимся предположением о том, что последние носят сверхфункциональный, исторический характер. Конечно, такие соотнесения в значительной мере условны, практически любой тип социального действия связан с переходами между различными уровнями культурных структур.
Наиболее очевидной представляется связь экономического действия с инструментальным уровнем культурных значений, а именно с расчленением деятельности по оси «средства – цель» и закреплением соответствующих ориентаций (целенаправленность, инструментальность) на личностном, групповом и институциональном уровнях социальной организации. Только в инструментальном контексте такие компоненты культуры, как орудия, продукты, знаки, да и сами интересы, выступают средствами достижения определенных целей (реализация целевых функций). Вне его те же феномены могут оказаться компонентами действий иного типа, например ритуальных, символических (престижное потребление), а само приобретение определенных благ – элементом традиционных, принудительных и пр. отношений неэкономического порядка. (Здесь и далее используются те характеристики экономического действия как такового, которые названы в начале статьи.) Формирование личностных и групповых предпосылок «инструментализации» общественных структур (то есть формирование «экономического человека» и «экономических групп» как идеализированных исторических категорий) – первая и наиболее изученная глава в истории экономического действия. Отсутствие или «сжатость» такого исторического раздела, как известно, обусловливает многие особенности современных процессов модернизации и «экономизации» различных социальных систем.
Инструментальная ориентация действия получила свое организационное закрепление в виде системы социально признанных механизмов оценки и регулирования соответствующих видов деятельности. Если ограничиться культурными аспектами социальной организации инструментального действия, то к ним следует отнести правовые, нравственные, традиционализируемые формы признания прерогатив такого действия, его носителей и механизмов (в частности, эквивалентно-обменных). Наиболее известный исторический пример в этом плане – социальное и моральное санкционирование кредитно-денежных регуляторов в период формирования европейского капитализма. При всей своей видимой приземленности этот процесс был связан с глубоким разложением всех уровней существовавших культурных структур. Известно, сколь велико значение этого разлома (исторической декомпозиции) в становлении категорий и рамок (в частности, иллюзий) социально-экономического знания.
Наиболее сложной представляется роль символических уровней культурных структур в инструментализации действия. Однако кажущееся очевидным представление об удаленности символических форм от практического, а тем более экономического действия неизбежно вводит в заблуждение. Сам механизм действия символических структур в любой области не является «наглядным», очевидным: такие механизмы всегда действуют за «сценой» социального действия, предъявляя его участникам соответствующие сверхзадачи и сверхсанкции.
Для пояснения этого соображения придется определить некоторые черты категории символа и символически ориентированного действия – в той мере, в какой они могут использоваться в социокультурном исследовании. В интересующем нас плане символ представляет собой специфический знак, а именно знак перехода к иерархически иной сфере деятельности, иной системе отсчета (как бы отсылку к «правилам игры» другого порядка). В генетическом разрезе символ – обозначение перехода от светского к священному порядку, от посюстороннего к потустороннему и т. п. В моноцентрических ритуально-мифологических комплексах характерная символика приобретает черты уникальности («главный символ» в соответствии с главной мифологемой). Социокультурное исследование должно учитывать многообразие потенциальных для определенного культурного поля и реально существующих в обществе символических переходов и структур. Все они так или иначе связаны с обращением к системе культурных значений иерархически иного порядка (например, более высокого), к языку более высокой степени обобщения (метаязыку).
Можно показать, что любой акт социального общения и социального обмена – если брать такие действия в их полных, развернутых формах – является символически опосредованным. Часто используемая в эмпирических исследованиях схема коммуникативных процессов фиксирует лишь их прагматическую, «социотехническую» проекцию (скажем, воздействие коммутатора на реципиента), не принимая во внимание механизмы работы языка коммуникации. (Здесь точнее было бы говорить о множественности языков; в простейшем случае в коммуникативном процессе действуют язык интенций коммуникатора, язык экспектаций реципиента и обобщенный язык канала коммуникации.) Коммуникативные языки, как показано, в частности, в работах Ю.М. Лотмана, по меньшей мере двухслойны: один слой составляет «лингвистический» язык, второй – нормативный язык (система правил и нормативных оценок) культуры. В качестве языков культуры выступают как утилитарно-ориентированные «открытые», то есть обязательные для всех, знаковые системы (например, этические), так и замкнутые – в некотором смысле «игровые» – структуры (например, эстетические). В последнем случае объект общения принадлежит особой, игровой структуре, отделенной от внешнего («неигрового») мира символическим переходом[396].
Развернутая схема социальной коммуникации дает, по-видимому, принципиальный образец социального обмена. Пояснить это положение удобнее всего на структуре экономического действия в его сопоставлении с полными формами социального действия. Сопоставим экономический обмен с коммуникативным актом: в обеих ситуациях налицо участники (агенты действия), средства, «язык» (система правил) и процедура обмена. Принципиальная разница в том, что экономический обмен носит «вещественный» характер, поскольку его предмет физически или юридически переходит из рук в руки[397], если этот предмет носит характер знания, «ноу-хау» и т. п., то экономическому обмену подлежит исключительное право, привилегия, лицензия на использование данной информации, в то время как коммуникативный обмен означает распространение некоторой информации (знаний, оценок) среди более широкого круга ее носителей. Далее, экономический обмен является эквивалентным, то есть требует приравнивания обмениваемых предметов или услуг при помощи универсального средства обмена. Такое средство (деньги) – не просто знак, но экономический эквивалент товара, поэтому обмен Т-Д-Т происходит в одной плоскости, как будто не требуя никаких символических переходов. Коммуникативный же обмен (его, по-видимому, можно определять как информационный) по своей природе не допускает общей меры и эквивалентности. Этого положения не может изменить изобретение каких-либо способов измерения информационных потоков в рамках теории информации. Символические посредники в коммуникативном обмене обозначают содержание соответствующих сообщений, но не служат их эквивалентами.
Следует оговориться, что такое противопоставление двух типов обмена заведомо упрощает их реальные соотношения. Экономический обмен, как и любой социальный процесс, происходит в поле культурных значений, в котором культурно определенными и социально санкционированными являются и позиции агентов действия, и сами средства его измерения. Денежный знак выступает в качестве экономического эквивалента постольку, поскольку он социально санкционирован в качестве такового. Иначе говоря, здесь требуется особый символический знак признания эквивалентной меры. Следовательно, символический переход в неявном виде происходит и в процессе эквивалентного экономического обмена. Это и позволяет рассматривать экономическое действие как предельный, вырожденный тип социального действия, а не нечто ему противоположное.
Обратимся теперь к иным, более развернутым формам социального обмена, которые не носят экономического характера. Легко усмотреть прямую связь между коммуникативными обменами и такими процессами, как «обмен приветствиями», «обмен подарками» и т. п. Это сугубо символические процедуры, содержанием которых является демонстрация (распространение) некоторых общественных ценностей типа доверия, признания и пр., которые могут носить и негативные значения. Это относится к обмену послами (и даже «обмену территориями») в рамках дипломатических процедур, поскольку действительное значение здесь также имеет символическая сторона процесса. Аналогична и природа таких рассматриваемых в социологии процедур, как обмен «поддержки» на «вознаграждение» или «услуги» на «доверие». Так как соотносятся разнопорядковые действия, то средством (посредником) соотнесения выступает не эквивалент, а символический переход. Более того, нередко за внешностью экономически эквивалентного обмена типа «отличие – поощрение» скрывается характерная символическая процедура. По всей видимости, именно коммуникативные, символические обмены прежде всего присущи процессам социального взаимодействия, эквивалентный же обмен представляет предельную, вырожденную форму социального обмена. Это означает, в частности, что эгалитаристские структуры в различных сферах социальной жизни уместно рассматривать не как отношение взаимоэквивалентного обмена, а как возможность соотнесения разнопорядковых действий на некоторой особой культурной плоскости, в системе генерализованных значений.
Отмеченная ограниченность рамок экономических обменов в обществе означает и ограниченность «экономических» моделей общественных структур, то есть моделей поведения «экономического человека» в «экономической среде», даже для того относительно короткого исторически отрезка, когда такие модели демонстративно господствуют в социально-научном сознании.
Остановимся теперь вкратце на такой культурной характеристике экономического действия, как его глубина во времени. О ней недостаточно судить лишь по длительности отдельного акта. Всякое социальное действие в определенном смысле как бы дисконтировано во времени. Частично этот феномен подлежит непосредственному экономическому учету, поскольку речь идет о периоде ожидания, доверия, расчета в кредитно-денежных, страховых, плановых отношениях. Социальное действие может рассматриваться в параметрах циклического времени, поскольку речь идет о функционировании (воспроизводстве) данной социальной или экономической системы, и в «открытой» временной перспективе, если во внимание принимается экономический и социальный рост, то есть вложение средств и сил в последующие циклы и поколения. В последней ситуации на сцену выступают специфически культурные временные параметры, так как ни внешние, ни внутренние циклические показатели не являются адекватными. Таковыми могут быть, например, соотношения «современного», «прошлого» и «архаичного» (то есть как бы бесконечно удаленного) периодов.
Конкретно-хронологические рамки таких периодов исторически различны, что нас в данном случае не интересует. Важно то, что принципиальное разграничение названных периодов задается сугубо семантически, культурным содержанием соответствующих оценок. Скажем, категория «современности» определяет обычные рамки социальной организации и возможности циклического функционирования действия (воспроизводство социально-экономической системы). Соотношение «прошлого» и «современного» задается прогрессистскими или романтическими (в зависимости от направления отсчета) оценками социальных изменений. Символическое (за невозможностью иного) соотнесение каждого из эмпирически данных периодов (прошлого и настоящего) с архаическим фоном определяет некоторую абсолютизированную меру отсчета, а на деле – символический механизм сверхсанкционирования определенных оценок и ожиданий.
До недавнего времени преимущественные интересы культурологии сосредоточивались на анализе исторических структур культуры, на дисконтировании параметров культурного времени в историческое прошлое. Это соответствовало общим ориентациям культурного сознания, причем утопическое сознание не составляло исключения (его ориентиром всегда оставалось некое условно-прошлое состояние). Современные перспективистские тенденции общественного и научного мышления обусловливают поиски перспективных координат культурных ориентаций, выносящих точки отсчета и оценки за пределы современности. Такие поиски заслуживают специального социокультурного анализа.
В заключение несколько замечаний о проблематике «предметности» культуры и связанных с ней методологических коллизиях. В аналитических концепциях культуры (культурной подсистемы общества) компонентами последней выступают не сами по себе предметы или действия, но значения таковых. Носителями культурных значений оказываются самые разнообразные, практически любые структуры и процессы, имеющие место в социальной реальности. Положение не изменяется вследствие универсальной тенденции дифференциации социальных функций, приводящей к институционализации некоторых видов «культурогенной» деятельности и механизмов ее санкционирования. Отсюда вытекает, что «археологическое» по происхождению противопоставление «вещественной» и «духовной» культуры для социологического исследования культуры утрачивает смысл и его живучесть можно объяснить лишь неразвитостью необходимых методологических инструментов исследования. Одним из возможных способов теоретического расчленения такого предмета, как культура, может быть использованное выше соотношение инструментальной, нормативной и символической структур; для конкретных исследовательских целей они должны быть детально дифференцированы.
Другая сложность связана с тем, что в экономических дисциплинах, в народно-хозяйственном учете принято относить к культуре – по принятой аналогии с другими отраслями общественного производства – производство и потребление определенных предметов и услуг (искусства, воспитания и пр.). Такая позиция неизбежно заимствуется социологическим исследованием на ранних, методологически несамостоятельных стадиях его развития. В результате некоторые виды культурного обслуживания, в основном массового и институционализированного, рассматриваются в терминологии «производства культуры», «культурной деятельности» и т. п. На более зрелых этапах развития социологического анализа культуры возникает проблема разработки адекватных методологических средств изучения собственно культурных структур и процессов. В некоторых областях здесь имеются обнадеживающие результаты, например в теоретической социологии литературы[398].
1984Игровые структуры в системах социального действия
Современное внимание к игровым формам деятельности в рамках культурологии, истории, социологии, психологии объясняется, с одной стороны, растущим пониманием роли таких форм в общественной жизни, а с другой стороны, развитием представлений о принципиальной сложности самого социального действия. Традиционные для социологии и психологии «элементаристские» модели действия, ориентированные на анализ простейших его единиц, неизбежно оставляют вне поля зрения сложные структуры человеческой деятельности (либо представляют их в качестве аномальных, маргинальных феноменов, отрицательно определяемых как мнимые, иррациональные и т. п.). Системно-методологические установки, как кажется, позволяют и в данном случае ввести в качестве особого предмета теоретического исследования заведомо сложное, расчлененное, разноплановое образование, обозначаемое в дальнейшем как игровая структура. При таком подходе элементарные формы действия (например, рациональность, целеполагание) предстают в качестве аналитически выделяемых компонентов или «срезов» того или иного сложного действия, в частности игрового.
Игровая структура – это идеально-типическая категория, служащая для описания абстрактной игры как социокультурного типа действия, безотносительно к отдельным видам игры, их обособленности и признанности. С помощью такой категории представляется возможным выделять игровые аспекты разнородных действий.
Поиски определения
Для характеристики игровой структуры в интересующем нас плане представляется необходимым и достаточным выделить два взаимосвязанных момента: во-первых, наличие замкнутой структуры действия; во-вторых, его обособленность по отношению к социально-культурной среде. Первый определяет игру в плане социального действия, второй – в плане его культурного значения. Многообразие признаков игрового действия, отмечаемых в различных исследованиях, в принципе может быть сведено к этим двум.
Замкнутость или закрытость структуры игрового действия означает, что его нормативные рамки и целевые ориентации (как внешние, так и внутренние, психологические), соответствующие мотивы и интересы ничем, кроме самой игры, не определяются. Разумеется, здесь нужно различать рамки отдельного игрового акта (например, соревнования или зрелища) и рамки игровой культуры, в которой фиксируются соответствующие нормативно-ценностные механизмы и критерии. Игровое действие всегда так или иначе институционализировано в определенных системах культурных значений, причем последние могут носить как универсальный, так и локальный характер (неофициальный, субкультурный, контркультурный и т. д.). Степень институциональной заданности, запрограммированности игрового действия существенно выше, чем, например, в «практических» (инструментальных) формах поведения. Замкнутость игрового действия позволяет трактовать его как «исполнение» некоторого текста (роли), причем степени свободы такого действия сводятся к независимости от внешнего (неигрового) принуждения, в частности в отношении выбора варианта и трактовки текста. Как известно, непреложность системы игровых правил, обязанностей, долгов не санкционируется никакими нормативными системами или авторитетами, кроме принадлежащих самой игровой сфере (культуре).
Романтическое представление об игре как деятельности спонтанной, как некоего аналога «игры» стихийных сил (Шиллер, в особенности XV письмо об эстетическом воспитании[399]) – эстетическая конструкция, которую нельзя принимать даже за идеализированное описание игровых действий. Что же касается произвольных реакций, движений, замыкаемых (приводящих к удовлетворению, облегчению и пр.) на психофизиологическом уровне, то они к социальным игровым действиям не относятся (да и спонтанными являются только по отношению к внеорганизменным детерминантам). Детская игра начинается с правил, то есть с самоорганизованности действия[400], как и любая недетская игра вплоть до экономической[401].
Негативным определением той же особенности игрового действия – замкнутости – является его неутилитарность. Игровое действие как таковое (игровая структура) лишено какой-либо внешней полезности, ориентации на внешнюю цель или подчинения внешней (по отношению к своей культурной сфере) норме. В этом смысле игра принципиально непродуктивна и тем отлична от функциональных или инструментальных форм социальной деятельности. Конечно, любые реальные игры, любые эмпирические реализации игровых структур многими нитями связаны с решением некоторых практических задач – с экономическими, педагогическими, карьерными, престижными интересами и т. д.; рамки социальной и культурной обособленности игры здесь неизбежно оказываются размытыми, релятивизированными.
За последние десятилетия получили бурное развитие (в основном теоретическое) «прикладные игры» – экспериментальные, деловые, учебные, военные и пр., они заведомо конструируются для исследовательских или практических, то есть неигровых, целей[402]. Но такие конструкции или программы по существу не являются играми в интересующем нас социокультурном смысле этого слова: это логические или математические модели некоторых элементов игровых структур.
Если обратиться к столь важной для психологии и педагогики детской игре, то о ее непосредственной полезности можно, по-видимому, говорить только применительно к процессу онтогенеза и развертывания соответствующих ему биологических и социальных программ. Подражательность по отношению к конкретным формам или наглядным образцам «взрослого» поведения – социально-бытового или инструментального – далеко еще не означает приобщения к трудовым навыкам или социальным нормам. Практическое обучение ребенка происходит параллельно с игрой, иногда – с ее помощью (хотя некоторые культуры как будто вообще обходятся без детских игр). Сама же по себе игра «в лошадку» с помощью палочки столь же мало обучает практике верховой езды, как игра «в дочки-матери» – выполнению родительских обязанностей и т. п. Реальное освоение соответствующих правил и навыков происходит лет через 10–15 после увлечения имитирующими их играми, то есть спустя целые «эпохи» первичной социализации. Напрашивается вывод, что детская игра, при всех своих специфических чертах, непосредственно не более функциональна, чем игра недетская: игровая структура замкнута в себе и регулируется нормами соответствующей игровой культуры; лишь в макромасштабе соотнесения с иными формами деятельности и иными периодами развития правомерно говорить о различных типах функций и дисфункций определенных игровых форм.
Наблюдения над играми животных иногда приводили исследователей к представлению о том, что игра старше других форм культуры[403]. Скорее всего, игры «братьев меньших» позволяют строить предположения о докультурных, инстинктивных или генетических предпосылках развития игровых структур. В таких играх различимы несколько основных вариантов, каждый из которых как будто имитирует определенный тип реального поведения – охоту, секс, соперничество[404], причем игровое действие отличается от неигрового лишь своей незавершенностью, то есть докультурные игры принципиально неконструктивны. В то же время им нельзя приписать подражательности, а также какого-либо непосредственно прикладного значения. Можно предположить, что подобие игровых и реальных структур поведения здесь объясняется «пробным», неполным развертыванием соответствующих генетических программ – при отсутствии внутренних и внешних предпосылок для их полной, «настоящей» реализации[405].
Очевидно, что конструктивность («искусственность») человеческой игры, многообразие ее вариантов и их изменения – феномен культуры. Остается открытым вопрос о генетических или квазигенетических предпосылках фундаментальных (архетипических) форм игровых структур; он выходит за рамки настоящей статьи.
Но обращение к зоопсихологии игры помогает объяснить или хотя бы пояснить еще одно негативное определение игровой структуры. Какие бы параллели ни существовали между игровыми и неигровыми действиями, нет необходимости трактовать их как результат намеренного подражения, а также приписывать им значение модели («заместителя») неигровой ситуации или, скажем, символа последней. Игровая структура может выступать в качестве модели лишь в исследовательской, то есть неигровой, задаче. Игра же как таковая не является моделью какого-то внешнего по отношению к ней явления, иначе говоря, не «работает» как такая модель. Ни подобие, ни генетическая близость структур в самой игре не имеют значения. Шахматист играет в шахматы, а не моделирует тем структуру международного конфликта, так же как футболист играет в футбол, а не воспроизводит ритуальную игру с мячом или сакрализованную в ней тайну плодородия и т. п. И если «играют мальчики в войну», то это значит, что они заняты определенной детской ролевой игрой, подчиняются ее правилам и пр. (и генетически такая игра восходит к литературным или телевизионным, то есть тоже игровым, описаниям). В своих пределах игра всегда самодостаточна, выход же за эти пределы прекращает игру.
Отсюда следует, в частности, что не вполне адекватны распространенные в литературе, особенно психологической, трактовки игры как действия в «мнимой», «иллюзорной» реальности, дающего «мнимое» решение проблем, и т. п.[406] Игра никаким образом – в том числе и иллюзорным – не решает каких бы то ни было проблем внешнего по отношению к ней мира: она создает и решает лишь свои собственные, специфические игровые проблемы, не «замещает» внешнюю реальность, а конструирует свою, игровую реальность, обособленную от первой.
Самодостаточность игровых структур не позволяет считать их символами какой-то иной реальности. Генетически такие структуры, вероятно, близки ритуальным или происходят из них, точнее, образуются в результате распада ритуально-мифологического комплекса[407]. Но ритуальное действие – как и соответствующие ему мифологические нарративные формы – не является замкнутым, самодостаточным. Оно символизирует некую связь, переход между двумя порядками бытия – светским и священным, трансцендентным. Поэтому игровая структура, включенная в ритуальный комплекс, – не игра, а часть ритуала. И наоборот, ритуал, лишившийся своих «вертикальных» функций, сводится к игре (если налицо замкнутая структура действия) или к церемониалу (если замкнутая структура отсутствует и порядок действий детерминирован извне, например инструкцией). Так ритуальное шествие может трансформироваться в игровое (карнавальное) или церемониальное (парадное).
Если рассматривать игровую структуру как своего рода текст, то следует отметить, что это текст сугубо для «внутреннего пользования»: все ролевые и смысловые трансформации происходят внутри игровой реальности, на рубежах, разделяющих ее структурные компоненты[408], а не на рубеже игра/неигра.
Обратимся ко второй специфической черте игровой структуры – наличию и специальной фиксации культурно значимого барьера, некоторой семиотической рамки, отгораживающей игру от иных значений мира человеческой деятельности. Этот барьер определяет разнозначность (разнознаковость) действий, разграничиваемых им. Создающийся благодаря этому перепад значений между неигровым и игровым, как известно, в утилитаристской традиции оценивается как снижение («всего лишь игра»), а в романтической – как возвышение («свободная деятельность»). Непременной предпосылкой романтизированного возвышения игры является определенная эстетическая абстракция, с помощью которой из понятия игры заранее исключаются низменные развлечения и материальные интересы[409]. Преодоление романтических иллюзий в методологии социального знания и социальных ожиданиях привело к постановке вопроса о необходимости учета и анализа всего многообразия уровней человеческих интересов и способов их удовлетворения, вместе с тем – и различных типов игровых структур, реализации которых могут быть высокими и низкими, изысканными и пошлыми, радостными и горестными, благородными и жестокими и т. д.
В этой связи возникает задача поисков методологических средств для рассмотрения культурной рамки игровых структур. Здесь обнаруживаются три пары семантических оппозиций: серьезное – несерьезное, естественное – искусственное, необходимое – свободное. Ни одна из них не специфична и не достаточна для характеристики игровой структуры, они содержательны лишь взятые вместе, то есть игровое действие отмечено как несерьезное, искусственное, свободное в противоположность серьезному, естественному, необходимому миру неигровой реальности. В основе таких оппозиций лежит прежде всего противопоставление продуктивных и непродуктивных типов деятельности, о котором уже шла речь. Далее, здесь констатируется различие способов конституирования действия («искусственность» или традиционная заданность игровых норм воспринимаются с утилитаристских позиций как условность по отношению к практически-серьезной реальности). И наконец, отмеченным оказывается освобождение игровой структуры от внешнего регулирования.
Таким образом, культурный барьер игровой структуры – это проекция замкнутой структуры игры на плоскость культурных значений. Семантический переход через такой барьер служит как бы оператором трансформации игровых структур в неигровые и обратно[410]. Существенно, что он не только наличествует, но и специально выделяется, «подчеркивается» в любой игровой деятельности: самый увлеченный, самый «серьезный» игрок не только играет, но и знает, что он играет. Причем «осознание» игрового барьера обнаруживается уже в детской игре (поглощенный игрой ребенок твердо знает, что палочка – не лошадь, а песок в игрушечной кастрюльке – не еда), да и в докультурных игровых структурах тоже.
Принципиальное, формообразующее значение в соотношении игрового и неигрового действия имеют не моменты сходства, а рубежи разграничения между ними. При этом культурно отмеченной всегда является одна сторона барьера – игровая. Если в плане социального действия замкнутая игровая структура противополагается всему многообразию «открытых», не полностью упорядоченных событий, то в плане культурных смыслов специально отмеченным элементом семантических оппозиций служит игра. Выражаясь фигурально, на игре всегда должно быть как-то «надписано», что эта игра, в то время как остальная реальность своей надписи не содержит и в ней не нуждается[411].
Конечно, «надпись» предполагает какого-то «читающего» или по крайней мере «замечающего» ее, то есть игровая структура всегда должна быть демонстративной как для игроков, так и для наблюдателей. Ситуации, когда наблюдатель является также и участником игры или даже единственным ее участником, не составляют исключения из этого правила: демонстрировать можно и самому себе, к тому же такая автодемонстрация генетически происходит от «показа-длядругих»[412]. Экзотеричность игровых структур, их «тайность» для непосвященных[413] не меняют дела (надпись типа «посторонним вход воспрещен» весьма демонстративна!).
Уровни включенности
По-видимому, следует отличать демонстративность от «зрительности», которая свойствена лишь некоторой части игр. «Наблюдатель» – посторонний по отношению к игре (в частности, им может быть исследователь), зритель включен в игровую структуру как соучастник. Наблюдатель может довольствоваться чтением «надписи», зритель же читает (а точнее, проигрывает) «текст» игры. Зрительское соучастие детерминирует одну из существенных сторон социальной структуры игры.
В игровой деятельности прослеживаются такие уровни организации, как: 1) операциональный (собственно правила игры, ее нормативный сценарий, стратегия и тактика); 2) поведенческий (динамика состояний напряжения и разрядки, азарта и рассудочности, увеличений и отвлечений; мобилизация различных компонентов физического и психического потенциала личности и т. д.); 3) социологический (ролевая структура игрового действия, процессы ее институционализации, в том числе профессионализации, формы партнерства, соперничества, преемственности и т. д.). В данном случае рассматривается только последний из перечисленных уровней. Именно к нему относится тот довольно обширный комплекс отношений, который может называться «зрительской игрой» (воспользуемся этим малоудачным термином за отсутствием лучшего).
В зрительской игре участники делятся на игроков («актеров», в качестве которых могут выступать люди, марионетки, литературные персонажи и т. д.) и соучастников («зрителей», к которым относятся и слушатели, читатели, болельщики и вообще любые «сопереживающие» участники соответствующего игрового действия)[414].
Зрительская игра не продолжает актерскую, а развивается по своим собственным правилам, она обладает своей конфигурацией ролей, психических состояний и ориентаций. Для нее характерны процессы индивидуальной и групповой идентификации, замещения, динамика напряжения – снятия и пр. Воздействие зрительской игры на актерскую активно не только в смысле стимулирования, эмоционального фона и т. п.: зрительские отношения могут и конституировать саму «первичную» игру (это особенно очевидно применительно к «безличным», целиком или частично, играм: корриде, скачкам, петушиным боям; более того, зрительское соучастие может придавать значение игрового зрелища случайным или стихийным событиям).
Представляется уместным различение «непосредственной» зрительской игры и «опосредованной» (вторичной), в которой предметом соучаствующего переживания (проигрывания) служит не сама актерская игра, а сообщение о ней. Такая игра создается с помощью массовой коммуникации, способной раздвинуть круг играющих почти до масштабов всего общества[415]. Система массовой коммуникации превращает свою аудиторию в «сопереживающих» участников событий (действительных или выдуманных), в которых она не может принимать реального и квалифицированного участия; с другой стороны, она превращает в зрелище (в предмет зрительской игры) едва ли не любое событие социального или стихийного порядка (так же как и фантастического). Современная массовая коммуникация эксплицирует и превращает в универсально доступные те типы публично-зрелищных структур, которые зарождались и играли активную социальную роль еще в классической древности.
Отнесение целого ряда процессов индивидуального и группового восприятия определенных семиотических структур (текстов) к зрительской игре не означает, разумеется, что они приравнены друг к другу: существует не только громадное разнообразие игровых текстов (структур «актерской игры»), но и различия в способах, уровнях, глубине прочтения таких текстов («зрительской игры»). Так, можно выделить следующие уровни зрительского «проигрывания» текста: ценностно-ролевая идентификация («свои – чужие»), сюжетная идентификация («интрига»), дифференцированное восприятие текста (как «целого»). Очевидно, что различные типы игровых структур по-разному воспринимаются (проигрываются) зрителями в соответствии с уровнями групповой и индивидуальной культуры.
Типы игровых действий
Известные в литературе типологии игровых действий строятся на различных основаниях – с учетом структурных уровней, социальных рамок, стратегий, механизмов действия и др. Наиболее общей и, видимо, практически значимой осью здесь выглядит противопоставление «целевой» и «ролевой» игр[416].
К первому типу относятся все игровые структуры деятельности, которые ориентированы на достижение некоторого конечного состояния, успеха, победы над соперником или обстоятельствами. Преследуемая цель может носить и чисто внутренний, психологический характер (экстаз, разрядка, катарсис как желаемый результат). Целевые игровые структуры могут быть физическими и логическими, рациональными и чисто азартными, индивидуальными или коллективно организованными в различных формах и масштабах. Практически всегда имеет место то или иное сочетание подобных форм.
Ко второму типу принадлежат игры, в которых происходит исполнение и трансформация ролей, использование масок различной природы, реализация некоторого заранее заданного текста. Здесь содержанием игрового действия является исполнение предписанной ролевой функции и участие в соответствующей конфигурации ролей.
Если целевые игры подобны целенаправленному социальному действию, то ролевые игры – исполнению социальных ролей; в обоих случаях игровые структуры отличаются замкнутостью и культурно значимым барьером обособления от неигровой деятельности. К тому же предписания ролевого текста в игре существенно более жестки, чем в ролевом поведении в обществе, – это вытекает из замкнутости игрового текста.
Каждому из этих типов игровых структур можно поставить в соответствие доминирующий тип институционализации игрового поведения. В первом случае это спорт, во втором – театр; в рамках этих институтов, реальное влияние которых на современное общество далеко выходит за пределы соответствующих учреждений, закрепляются образцы и нормативные санкции игровых форм деятельности.
Что же касается тех игровых форм, которые направлены на создание особого, экстраординарного психического состояния участников (ритмических или, в терминологии Р. Кайюа, «головокружительных»), то их как будто можно было бы считать условием преодоления «обычной» ситуации, психологическим средством перехода через игровой барьер. Это средство может превратиться в самоцель в определенных типах игр[417] или выступать в качестве компонента игровой программы (притом, по-видимому, это универсальный компонент любой такой программы).
Нагляднее всего этот психологический компонент в ролевой игре. Отметим в ней две составляющие – «сцену» и «текст». Под «сценой» будем иметь в виду замкнутое социокультурное пространство игровой деятельности, отгороженное культурным барьером от остальной реальности, под «текстом» – ряд предписаний, ограничений и критериев оценки ролевого поведения в игровой структуре. Первая из них – это как бы «вход» в игровую структуру, игровая трансформация деятельности («перенастройка», по Э. Гоффману); психологическая сторона такой трансформации («плата за вход») – экстатическое состояние, возникающее в кружении, опьянении («дионисийство»), и т. п. Вторая составляющая – внутренний план игры. Маска, костюм, декорация, манера поведения и речи служат элементами «сцены», поскольку они фиксируют обособление игрового поведения; они же выступают и элементами игрового «текста», поскольку несут (если несут) конкретные ролевые функции. То же можно отнести и к экстатическим предпосылкам и элементам игры.
Проведенное выше различие ведет к очевидному выводу: выход на «сцену», ролевая трансформация – непременное условие реализации любого игрового текста, в том числе и «целевого». В этом смысле ролевая игра оказывается не одним из типов, а универсальным условием, своего рода всеобщим знаменателем всякой игры[418].
Это значит, что названные выше два доминирующих («осевых») типа институционализации игрового поведения – спорт и театр – принципиально неравноправны: всякое организованное спортивное действо – это прежде всего реализация определенной ролевой игровой структуры («выход» на сцену, то есть в социокультурное пространство игры), а потом уже – реализация конкретного плана целевой, соревновательной игры[419]. Видимо, лишь по такой двухступенчатой схеме происходит формирование и закрепление целевых образцов поведения, оказывающих воздействие на самые различные сферы человеческой деятельности. Отсюда и особое место драматического действия и его производных как наиболее развернутой, типологически и исторически первичной (после распада ритуального комплекса) ролевой структуры игрового действия. Здесь находит свое наиболее показательное воплощение та организация социокультурного пространства (пространства – времени), которая характеризует всякое игровое действие.
Пространство и время в игровой структуре непременно замкнуты и отгорожены от неигровых форм пространственно-временной организации общества. Время игры ритмично и телеологично (отсчет от будущего, целевого состояния). Оно противостоит как «дурной» бесконечности исторического потока с его бесчисленными вариантами «дерева последствий», так и разнопорядковости (иерархичности) мифологического времени. Поскольку игровое действие замкнуто в одной плоскости, все его проблемы решаются «здесь и теперь». При этом и пространство, и время игры строятся по модулю человека, то есть ограничены «изнутри» масштабами непосредственного человеческого действия. Отсюда универсальная значимость классических требований единства места и времени (сохраняющих фактически свое значение при всех постклассических трансформациях театральной поэтики). Отсюда же, можно полагать, и универсальная значимость «драматических» образцов в структуризации «открытого» пространства человеческой жизни.
Игровая структура действия как замкнутая культурно обособленная форма – категория идеально-типическая; никакой из видов признанного и институционализированного игрового поведения ей полностью не соответствует. В то же время нельзя обнаружить такую форму или сферу человеческой деятельности, которая не испытывала бы влияния игровых структур и которая не могла бы – в определенных своих узлах – при соответствующих условиях трансформироваться в игровую. Культурно замкнутое пространство игрового действия не только существует параллельно или на «полях» обычной, «открытой» пространственной структуры общества; оно может появляться (или проявляться) в любой точке такой структуры, более того, служить средством ее организации.
Внешними, бросающимися в глаза признаками «игровой» структуризации деятельности могут служить, скажем, языковые и поведенческие клише, несущие определенную семантическую нагрузку. Таковы используемые в обиходе, литературе и политике метафоры типа «козыри», «финишная прямая», «под маской» и т. п. Метафорическое уподобление отдельных элементов разнопорядковых сфер, конечно, не сближает сами эти сферы, но означает уподобление некоторых моментов отношения к ним. Более содержательны (семантически нагружены) поведенческие клише, заимствующие из игровых структур не терминологию или тактику, а принцип замкнутости действия[420]. Структура игрового действия, вынесенная за пределы (идеально-типической) игры «как таковой», превращается в своего рода рамку, накладываемую на некоторый «поток» событий с явной или неявной целью его упорядочить, то есть представить в виде какой-то регулярности, рациональности, целостности[421]. Игровая структура в качестве рамки может быть сопоставлена с концептом «предвосхищающей схемы» в когнитивной психологии, где такая схема считается средством подготовки индивида к принятию информации определенного вида[422]. Однако задача – и соответственно структура – игровой рамки более сложна, поскольку она организует не познание, но целый комплекс поведения.
Наиболее общие признаки игровой рамки – представление цепи деятельности как конечной и рациональной (даже в модели чисто случайной, азартной игры можно усмотреть рациональность методологии «черного ящика»), упорядоченная и обозримая связь действия и эффекта (достигаемые цели достижимы, возникающие проблемы разрешимы, жертвы вознаграждены и т. д.), наконец, как уже отмечалось, – «человеческие» масштабы всех подобных процедур. Само применение подобных рамок означает непременное – явное или неявное – обособление определенных сторон реальности («культурный барьер»), формирование замкнутого социокультурного пространства – времени («хронотопа», пользуясь выражением М.М. Бахтина) игрового действия[423].
Трансформацию направленного вовне («продуктивного» в широком смысле) действия в самоцельное и самодостаточное, игровое можно обозначить, пользуясь терминологией, введенной в обращение Й. Хойзингой, Г. Гессе, Р. Кайюа – как «лудизацию» действия. Противоположную процедуру, превращающую игровую структуру в средство достижения каких-то экономических, престижных и прочих целей, в механизм для производства определенных результатов (показателей, очков и т. п.), в предмет исполнения некоторой обязательной нормы назовем «функционализацией» игрового действия. На всех этапах и во всех сферах общественной жизни, на всех ее уровнях, от личностного до социетального, можно обнаружить оба типа трансформаций. За ними стоят различные социальные и психологические механизмы. Скажем, профессионализация социальной активности неизбежно приводит к лудизации определенных ее звеньев[424]. Напротив, профессионализация игровых структур, связанная с развитием их формальной организованности, приводит к функционализации, превращению таких структур в элемент организационного механизма и т. п. Разумеется, в различных ситуациях значение таких процессов различно. В целом же чередование и взаимодействие обоих типов трансформации составляют один из моментов формативного и энергетического ритма социальной деятельности.
Замкнутые структуры вне игровых рамок
«Вездесущность» игровых структур объясняется тем, что «замкнутые» фигуры действия – одно из универсальных средств упорядочения, структуризации событийного потока человеческого существования (а лишь будучи упорядоченным, оно выступает как «жизнь», то есть как предмет целостного осмысления, ориентирования, проигрывания)[425]. Ведь игровое упорядочение («замыкание») социальной деятельности не только формирует ее структуру в соответствии с человеческими масштабами и желаниями (как индивидуальными, так и социально организованными на любых уровнях), но и позволяет постоянно реализовать эти желания, получая соответствующее мотивационное подкрепление (игра может рассматриваться как очевидный пример «внутренне мотивированного действия»[426]. Поэтому лудизация определенных моментов жизнедеятельности человека – одно из средств воспроизводства ресурсов мотивационной энергии, без которого нереализуема длительность человеческого существования.
Чередование замкнутых и открытых, игровых и неигровых структур действия фиксируется не только хронологически (как временнaя последовательность), но и топологически, в «программирующем механизме» личности и культуры (как соотношения и трансформации определенных слоев или уровней действия).
Такое чередование можно усмотреть, например (если не прежде всего), в соотношении «детских» и «взрослых» игровых структур (или, шире, «детскости» и «взрослой» жизни). Давно известно, что для социокультурного анализа сложных структур человеческой деятельности недостаточно рассматривать лишь традиционно-«педагогическую» линию, то есть взросление (обычно ею ограничивается профессиональный подход детской психологии к игровым структурам[427]); здесь имеют значение различные линии взаимных влияний и переходов, в том числе воздействие «детских» структур поведения на «взрослые»[428]. Дети играют во взрослых и становятся взрослыми, взрослые не становятся детьми, но играют «в детей» (настоящая, увлеченная и увлекающая игра с детьми – это отчасти и игра в детей, то есть игровая трансформация ролей) и «в детство» (использование тех поведенческих, оценочных и других структур, которые характерны для детского мироотношения; сюда относятся не только примитивно-целостная ролевая идентификация, экспрессивно-эмоциональная непосредственность и т. д., но также и наивная безответственность, аутизм, жестокость)[429]. Такого рода игровые трансформации возможны потому, что в самой культуре «взрослого» общества, в структуре зрелой, как будто полностью социализированной личности сохраняется также слой (уровень) «детских» поведенческих форм, на которые в известных условиях переключается («перенастраивается», в терминологии Э. Гоффмана) действие. По-видимому, современные тенденции дифференциации молодежных субкультур способствуют такому переключению, но не создают его.
Другой пример чередования игровых и неигровых форм – оппозиция социокультурных структур работы – досуга. Если попытаться из конгломерата разнородных типов деятельности, условно относимых к сфере досуга, «вычесть» непосредственные продолжения работы и традиционно-бытовых обязанностей (учеба, семья, родственные отношения и т. п.), то в «остатке» можно обнаружить игровые структуры действия, организованные двумя осями координат: это ролевой травестизм и массово-зрительская игра. В поведенческих структурах массового отдыха, туризма, любительского творчества и тому подобных занятий происходит исполнение взрослыми «детских» (или «молодежных») ролей, цивилизованными горожанами – «дикарских», дилетантами – профессионально-творческих, формально организованными группами – гемайншафтных и т. д. По всем характеристикам (перенастройка, замкнутость, культурный барьер) такие структуры являются игровыми. Что же касается «зрительской игры», формируемой системами массовой коммуникации, то о ней уже говорилось ранее.
В рассматриваемой паре структурных оппозиций нетрудно обнаружить «игровые» и противоположные им трансформации деятельности на обоих полюсах. Игровые трансформации определенных моментов производительного труда (состязательность, самоцельность, интерес, создающие внутренние мотивации и замкнутые структуры действия), воспитания, рекламы, военной жизни, социальных конфликтов и др. достаточно хорошо известны. Они охватывают также социальные типы (и «сверхтипы», метатипические фигуры) личности. Так, «экономический» человек (Homo oeconomicus) вовсе не является полярной противоположностью «человека играющего» (Homo Ludens), и не потому, что реальные прообразы активного субъекта экономической деятельности никогда не были чужды «игровых» интересов и увлечений[430]. Сам идеальный тип «экономического человека» – это тип азартного игрока, ставящего на карту все, поскольку он действует в замкнутой поведенческой структуре, отделенной барьером от прочей социальной (моральной и пр.) реальности. Но аналогичные игровые черты несут и другие метатипические фигуры – и упоминавшийся Ф. Знанецким Homo politicus, и сверхсоциализированный Homo sociologicus Р. Дарендорфа.
С другой стороны, на противоположном полюсе действуют достаточно сильные факторы делудизации досуга – в связи с профессионализацией соответствующих ролей, появлением формально организованной «индустрии досуга» и проникновением ее стандартов на личностные и межличностные уровни поведения. Результатом является известная тенденция превращения досуга в сферу индустриально организованного массового потребления благ и услуг (и соответственно массового производства определенных показателей трудового, психического, физического потенциала общества)[431].
Сложное и особо значимое поле игровых трансформаций задается соотношением «искусство – предмет» (и такими его аспектами или производными, как «искусство – зритель», «творец – произведение», «зритель – предмет» и т. д.). Искусство как социальный институт – не игра, а продуктивная «открытая» сфера деятельности, поскольку оно решает задачи познавательные, социально-воспитательные, этические и др.[432] Как и в иных сферах социальной жизни, здесь возникают и определенные структуры замкнутого игрового действия (самоценность и самооценка произведения, внутригрупповых отношений в художнической среде). Главное же и специфическое в том, что искусство формирует особый мир человеческих интересов и ценностей, организуемый своими правилами («законами красоты»), что этот «искусственный» мир дает человеку и человечеству рамки восприятия и воздействия (а это замкнутые, игровые рамки), применимые к любым сферам человеческих отношений, истории, природе, технике, поведению на разных его уровнях. В этом плане искусство выступает как единственная в своем роде «мастерская» игровых структур человеческой деятельности.
Есть основания полагать, что наиболее действенный архетип замкнутой игровой структуры, способной служить средством игрового упорядочения человеческой жизни, исторически был задан и воспроизводится вновь драматическим «действом» (понимаемым широко, как вся совокупность признанных и непризнанных театральных форм). Это средство можно обозначить термином «драматизация», отнеся сюда все структуры отношения к реальности как законченному, упорядоченному действию, организованному по образу и подобию театрального мира, где противостояние героев и судьбы, трансформации характеров и масок, оппозиции актеров и хора, выступают в качестве осмысленного целого. Утверждая, что это целое лишь отображает соответствующую упорядоченность реального мира, античные и классические теоретики[433] фактически смотрели на этот мир через уже заданную (в культуре) рамку такого упорядочивания. Другие формы искусства (нарративные, изобразительные, ритмические) если не происходят из драматического[434], то используют и обособляют его аспекты (изображения актеров, поз, театрального пространства в классическом и классицистском изобразительном искусстве). Характерная черта драматической игровой структуры (в отличие от нарративных – мифологических, потом литературных) состоит в ее диалогичности, полифоничности, противоборстве (агоне) сторон[435]. Можно предположить, что различные типы и эпохи развития социокультурных структур в неодинаковой степени поддаются драматизации или нарративизации: примитивные и «монологические» структуры тяготеют к монологическому мифологически-литературному игровому упорядочению.
Исторические формы игровой драматизации многообразны и изменчивы. Известно, что греческие мыслители смотрели на человеческую жизнь как игру богов с миром марионеток[436]. В более поздних мифологических системах отношения творца и творения нередко описываются в игровых терминах (поскольку предельная ситуация таких отношений по определению замкнута, иные термины здесь просто неработоспособны). Новоевропейскому мироотношению свойственны – видимо, с шекспировских времен – такие «драматизированные» (или, пожалуй, «драматизирующие») игровые структуры, которые не нуждаются в «вертикальном» измерении для упорядочения своих ролевых конфигураций[437]. Именно такой способ структурирования оказывался в дальнейшем доминирующим в организации присущего данной культуре восприятия мира и собственной деятельности (в том числе и собственного воображения, например в утопических конструкциях жизни). Он проявлялся в театрализации дворянского мира в России XVIII в.[438], в трагическом сознании Запада[439], в распространении масс-коммуникативных образцов ролевой игры в американском обществе[440] и т. д. Когда драматизированное мироотношение становится, как это нередко бывает, предметом драматического произведения (ср. человеческое существование как «репетиция оркестра» у Ф. Феллини), налицо своего рода «вторичная драматизация», которая также может выступать в качестве еще одной игровой рамки.
Изложенная попытка наметить некоторые линии возможного рассмотрения игровых структур социального действия как идеально-типической категории, а также некоторых типов реализации таких структур может, по-видимому, вести к определенным предположениям относительно методологии исследования сложных (комплексных) форм человеческой деятельности.
Во-первых, выделение идеально-типической категории игровой структуры делает методологически возможным переход от рассмотрения элементарно-однозначных актов действия к сложным, неоднородным его структурам как функционально «элементарным». К таким комплексным структурам, включающим действия разных уровней рациональности, аффективности, способных к трансформации и переосмыслению, относятся также инструментальные и символические типы действия.
Во-вторых, это позволяет превратить в предмет анализа не только маргинальные, но и осевые, парадигматические значения игровых структур деятельности. Предпосылку этому составляет рассмотрение игровых структур и игровых трансформаций действия вне формальных рамок «признанного» игрового пространства.
И, наконец, в-третьих (что, видимо, представляет интерес в общеметодологическом плане системного анализа социальной деятельности), возникают основания для некоторых допущений относительно структуры и динамики, в частности хронологической и топологической ритмики, различных форм поведения.
Конечно, такие допущения требуют дальнейшей разработки и обсуждения.
1984Советский человек и его воспроизводство
Сталинские альтернативы
…Почему «сталинские», а не «Сталина»? Этот вопрос кажется столь важным, что следует начать с него. В одном случае речь идет о стиле, методе (может быть, даже своего рода «философии», хотя этим термином не хотелось бы разбрасываться). В другом – о конкретном человеке, великом тиране, злодее и т. д. Конечно, можно рассматривать и человека через его стиль, и стиль через его создателя или носителя. Выражаясь несколько фигурально, перед нами две парадигмы: одна – «Каков поп, таков и приход», другая – «Было бы болото, а черти найдутся». Но они не равномощны, ситуация с «болотом» – первичнее, изначальнее, что ли.
Дело не в том, что сделал или чего не сделал этот человек, а в том, как это стало возможно (было возможным или остается возможным?). Такая постановка вопроса слишком широка, почти в духе универсальных постановок Кантовых проблем. В данном случае для анализа достаточно лишь некой толики подобного подхода.
Он был груб, необразован, недальновиден, абсолютно лишен нравственных критериев и сомнений. Об этом написано много и, вероятно, будет написано еще больше. Сегодня, когда последние истлевшие остатки священной пелены спали с глаз, кажется совершенно очевидной примитивность его аргументов, полемических приемов, языка. И молодые, и средние поколения уже не помнят, даже не могут себе представить, как эта примитивность казалась мудрой простотой – не всем, разумеется, но достаточно большому числу (достаточному, чтобы составить некую «критическую массу» среди тех, кто вершил делами в стране).
И – победил, одержал верх в «своей» среде. Подчинил себе, унизил, заставил каяться и отрекаться от самих себя изощренных догматиков, фанатиков революционной идеи, отчаянно смелых борцов подполья и Гражданской. Притом ведь еще задолго до всеобщего террора, без прямого насилия и даже без прямых угроз.
Как справедливо отмечал И. Клямкин, во внутрипартийной борьбе за «ленинское наследство» Сталин неизменно выступал от имени «большинства» (не населения, конечно, и не «партийной массы», о которой иногда говорят, но правившей иерархии). Он пришел к власти не как герой на белом коне, а как малозаметный «аппаратный» игрок (именно поэтому потом, в годы всевластия, он так усердно пририсовывал «белого коня» к своей биографии).
Чтобы объяснить истоки этой все еще удивительной победы, нет нужды обращаться к тайным глубинам психологии, или тайным силам «аппарата» (соперниками были такие же в принципе «аппаратчики»), или еще к чему-то социально-мистическому. Может быть, достаточно было бы рассмотреть поближе все ту же пресловутую сталинскую «простоту». Не в ней ли таилась истинная сила? Ведь он переиграл своих оппонентов не какой-то особенной хитростью, а именно простотой, примитивностью, грубостью. Он рубил гордиевы узлы, не пытаясь их развязывать. Он выдавал схваченную рукой синицу за журавля в небе. Он резал кур, ничуть не заботясь о золотых яйцах. Так было в селе, на транспорте, в индустрии и военном деле, в дипломатии и науках – плоды этого всепобеждавшего метода мы пожинаем и сегодня, потому что «стиль» переживает «стилиста».
Не один он знал, что невежество и грубость могут быть реальной силой. «Я убедил их тем, что предельно упростил все вопросы» – это сказал не он, а Гитлер, его главный контрагент времен постыдных «пактов». Но эти слова достаточно точно выражают способ всех властителей, которые господствовали над массами, опираясь на сами эти массы, точнее, на определенные уровни массового сознания.
И все же – почему соблазн «простоты» оказался (или оказывается) столь действенным и столь долгоживущим?
В определенном смысле, при определенном уровне запросов «синица» в руке всегда привлекательнее «журавля» в небе. Скажем, реальное благосостояние может быть привлекательнее надежд на всеобщее счастье. Реальность могущественного военно-индустриального общества действеннее мечтаний о равенстве и братстве, мировое влияние весомее утопий мировой революции. Все это как будто до банальности верно, но все же не совсем и даже не в главном. Сам упомянутый уровень запросов нуждается в объяснении. «Синицы в руках» на самом деле не было: уровень жизни в стране лишь в 60-е гг. приблизился к излюбленной нашей статистикой отметке 1913-го. Могущество государственной машины в испытаниях войны оказалось не слишком надежным. А уж неэффективность индустриальной системы, аграрной системы, административной системы сегодня и пояснять не требуется.
По-видимому, дело в другом.
Во-первых, Сталин предложил свои «простые» варианты политического строительства тогда, когда исчерпали себя и оказались в тупике все «сложные» – назовем их, скажем, революционно-романтическими. Других же вариантов в середине 20-х гг. ни у кого не было; шумные споры о «режиме» или о «возможности победы в одной стране» преимущественно прикрывали борьбу за власть (а отчасти – тот же дрейф к «реализму»). Сталин смог переиграть, опозорить, а потом и просто уничтожить всю «старую» партверхушку потому, что она уже проиграла спор с историей и лишилась своего лидерского потенциала.
Во-вторых, «простота» сталинских альтернатив оказалась близка определенным структурам традиционного, архетипического массового сознания. «Оказалась» не случайно, хотя дьявольская изобретательность будущего великого вождя в данном случае состояла лишь в том, что он ничего не изобретал. Привычное ведь всегда кажется простым. Расставаясь с революционными фантазиями элиты, Сталин практически – возможно, не сразу или не полностью осознавая это – стремился искать опору в чувствах и помыслах низших струй революционного потока. Здесь он находил тоску по железному порядку, сильной власти, готовность к расправе с «врагами» и бесконечное презрение к интеллигентским мечтаниям, культуре, праву и т. д.
Исследователи фольклора давно обнаружили, что «сказочному» сознанию всех народов мира присущ набор однотипных структурных единиц, например «герой», «враг», «вредитель», «перевоплощение», «измена». В искусственно создававшейся сталинской мифологии легко обнаружить весь набор фольклорных стереотипов, причем не потому, что она так уж искусно конструировалась, а прежде всего потому, что налицо имелся готовый «естественный» план такой конструкции, как бы готовая канва для соответствующего «узора».
Таков, например, сам архетип (или мифологема) «великого вождя», забота которого «с нами всюду и всегда» (из популярной детской песни). Апелляция к заботе и мудрости вождя не только «проще» и «реалистичней» поисков истины в анналах марксистской классики, она потому и кажется «простой», что архетипична. Сталин, как известно, правил страной с помощью громадного, неэффективного и неизбежно коррумпирующегося аппарата чиновников, строго иерархически организованного, с соответствующим распределением власти и привилегий. Но в точном соответствии с мифологическими канонами конструировался – и не без определенного успеха – облик непосредственной связи «вождя» и «народа» (этому, кстати, способствовало и периодическое принесение в жертву функционеров разного ранга). В той или иной мере образ «вождя народа» воспроизводится в идеологии и самом менталитете всякого популизма – этого объемистого букета социальных ожиданий, оценок и политических настроений, которые и в прошлом, и в нынешнем веке (преимущественно все же в политически слаборазвитых регионах и странах) связывают лидера и массы «поверх барьеров» госаппарата… и всяких демократических институтов вместе с ним.
В арсенале мифологического сознания – образ «врага». Он не имеет ничего общего с «нормальным» (для другого типа и уровня развития общественного сознания) понятием идейного или политического оппонента, зато у него много общего с традиционным стереотипом «врага рода человеческого», «изверга», в политическом лексиконе квазиреволюционной мифологии – «врага народа» (понятие, впервые опробованное, по-видимому, во времена Великой французской революции). В этом лексиконе нет полутонов и тем более нет «обычного» состояния мысли и действия, вне полярных оппозиций типа «священное – проклятое». Всякий, кто сделал или мог сделать «шаг влево – шаг вправо», естественным образом (для такого типа сознания естественным) попадал в разряд «врагов». Если такая судьба постигала вчерашних лидеров и соратников, то это нельзя объяснить только изощренно-циничным коварством Сталина: действовали «правила игры», а точнее, каноны мифологического сознания. Согласно тем же канонам, в разряд «врагов» неизбежно попадали «изменники» (апостаты, отступники, отщепенцы и прочие «ревизионисты»). И только в эпоху сумерек этого сознания размываются священные границы «абсолютных» крайностей и половинчатые категории (тех же «отщепенцев») получают самостоятельное существование – это уже относится к недалекому прошлому.
Реальные или мнимые носители «вражеского» клейма могли меняться, неизменным оставался сам «образ врага» как средоточие всех возможных и в основном невозможных злодеяний и происков, как не могла подвергаться изменениям или сомнению абсолютная противоположность козней «врагов» и благодеяний «героя». Вскоре после начала войны появился и облик «народа-врага» – сначала для обозначения противника (считалось, что классовое обличение фашизма в первые недели войны оказалось не эффективным), а уж затем и для чисто «внутреннего» потребления, причем число «народов-врагов» непрерывно росло (на эвфемистическом языке политической мифологии это, как известно, именовалось «обострением классовой борьбы»). Те же архетипы активно работали в ходе грязных кампаний против «космополитов», «заговора врачей» и т. п.
«Народ требует, народ не поймет иного» – этой присказкой неизменно прикрывались (иногда – стыдливо, чаще просто бессовестно) соучастники нескончаемых расправ над всякого рода «чуждыми». Это был не только метод поддержания ситуации «осажденной крепости» и соответствующего ей «крепостного» состояния сознания. Это был еще и способ отбора, просеивания и продвижения своих «кадров» по принципам угодливости, цинизма, некомпетентности. Пестуя «образ врага», конструировали столь же символический «образ народа», а главное – создавали и охраняли ту реальную пирамиду власти, которая выступала от имени и по поручению народа…
Помните, как черт говорит Карамазову: «Я часть твоя, твоя самая худшая…» Примерно так соотносилось это с народом, уже не символическим, а исторически реальным, пережившим войну и запутавшимся в кровавых лабиринтах постреволюционной страны. То, что предложил ему Сталин, – все эти «простые» и «естественные» альтернативы – не означало выхода, это было в своем роде скольжение по наклонной плоскости, к тупику, к трясине. Колоссальные затраты и растраты человеческой энергии и крови поколений, обилие грандиозных проектов и еще более грандиозных обещаний создавали иллюзии конструктивности происходящего. Когда развеялся туман всех этих фальшивых обещаний и искренних заблуждений, стало ясно, что речь шла о строительстве Великого Тупика…
Некоторые современные критики Сталина и его эпохи утверждают, что было совершено коварное и гнусное насилие над историей, контрреволюционный переворот и т. п. Мне кажется полезным предложить для рассмотрения несколько иную трактовку событий и лиц. Он не нарушил, но исполнил – довел до логического абсурда «естественный» ход событий, не будучи способным ни подняться над ними, ни действительно «повернуть» их течение. Ни к чему другому метод и мировоззрение циничного реализма привести не могли.
Рассмотрим поближе, как справлялся Сталин (или сталинизм, который, как мы уже отмечали, может существовать и без Сталина) с различными ситуациями исторического порядка. Результаты деятельности чаще всего принято рассматривать через призму решения неких задач. При этом молчаливо предполагается, что сами задачи уже существуют и требуется лишь правильно и с наименьшими возможными потерями их решить. Но ведь люди сами себе не только ищут решения, но и ставят «задачи» в меру своего понимания среды и самих себя. Возможности анализа будут больше, если говорить не просто о задачах, а о проблемных ситуациях.
Остановимся на трех таких, возможно, наиболее существенных ситуациях, с которыми сталинизм пытался справиться – теоретически (в смысле осознания) и практически: завершение революции, модернизация общества, самоопределение в мире.
Всякая революция, если рассматривать ее социологически, как тип социального перелома, радикальной трансформации общественных структур, имеет свое начало и свое завершение. Определенные требования, выдвинутые в ходе революции – если, конечно, они реальны, – могут ставиться и решаться вновь разными методами на протяжении десятков или сотен лет. Европейская, и в частности французская, история дает тому предостаточно примеров. Но это уже будут другие ситуации, другие методы и другие действующие лица, да и сама сцена действия может быть совершенно иной. В некотором подобии военным ситуациям, где важно вовремя остановиться в продвижении, чтобы закрепить возможный успех, необходимо трезво оценить уровень реальных притязаний и в ситуациях социальных переворотов. Неизбежные в ходе «бури и натиска» иллюзии должны уступать место трезвой оценке результатов, возможностей, собственных сил и стремлений.
Революционное насилие, как и революционные иллюзии, разлагает само себя, если длится слишком долго (это «слишком» трудно определить заранее; вряд ли здесь возможен срок, превосходящий возможности действия одного поколения, одной когорты). От романтики революционных взрывов с большим или меньшим трудом приходится везде и всюду переходить к будничной прозе «мирного» политического и экономического развития. Если же гражданская война не сменяется гражданским миром, а превращается в перманентное состояние общества, происходит неизбежное разложение всех его структурных элементов, в том числе и вчерашних революционных сил.
Все эти проблемы возникли уже в самом начале 20-х гг., и именно они были главными во всех политических спорах десятилетия. Согласно «доктрине» (или, может быть, наличному на тот период ее толкованию), революция обязана была продолжаться до полной и всемирной победы своих идеалов; сама мысль о необходимости поставить точку в революционном процессе представлялась пораженческой, «термидорианской». Абсолютистское толкование «доктрины» подкреплялось предельным накалом страстей в ходе мучительно-кровавого перевоплощения «империалистической» войны в гражданскую.
В этой ситуации переход к внутреннему миру казался нарушением «естественного» хода вещей, требовал теоретической и практической смелости. Он был провозглашен и начат вместе с нэпом, но никогда не был ни додуман, ни довысказан, ни доведен до конца. Сталинское руководство тем более не было способно это сделать.
Как это ни парадоксально звучит, но именно Сталин и сталинизм немало поработали над ликвидацией всяческого революционного экстремизма – разумеется, при помощи единственно доступного им орудия, топора. По мере того как устранялись иллюзии и горячие головы фанатиков и доктринеров революционной романтики («мирового пожара», «нового искусства» и пр.), сама революционная идея сменялась куда более реалистической и привычной идеей державной. Причем речь шла о государственности, построенной по образу и подобию – вплоть до чиновничьей иерархии – предреволюционной самодержавной империи. Но «революционная» символика и словесность сохранялись не просто для красного словца: классовыми, интернационалистскими и т. п. лозунгами прикрывался великодержавный (и «великовождистский») произвол. Утратившая революционность государственная машина оставалась аппаратом прямого, вплоть до террористического, насилия. Террор же всегда – орудие слабости, тем более когда он используется для самооправдания. Перестав быть революционным, общество осталось террористическим, деспотическим, лишенным нормальных экономических, социальных и политических структур. И главной особенностью такого постреволюционного общества стала нескончаемая, самоубийственная и саморазлагающаяся гражданская война с самим собой. Звеньями той же цепи были непрерывная «охота на ведьм» и попытки облачить в революционно-освободительные одежды топорную политику державного шовинизма и экспансии.
Как ни странно, все еще живуче представление о том, что сталинизм грешил «левизной» и «догматизмом». Можно как-то понять, если это взгляд издали, например исходящий от радикального нетерпения латинского образца. Но «вблизи» – то давно видно, что, скажем, расправа с крестьянством и деревней была продиктована вовсе не доктринерскими соображениями, а «просто» стремлением быстро и дешево получить хлеб… Революционная фразеология столь же «просто» прикрывала государственный терроризм, превратившийся в некую норму, образ жизни государства и общества. И происходило это не из-за личных пороков Сталина и его окружения, а прежде всего потому, что пирамида власти, построенная на внеэкономическом и внеюридическом подчинении массы «аппарату» и через него – всемогущей «верхушке», узкой клике, не связанной никакими правовыми и нравственными нормами, просто не могла быть никакой иной. Она нуждалась в произволе («указаниях», «телефонном праве») и устрашении, потому что у нее отсутствовали какие-либо иные механизмы самосохранения и контроля над обществом.
Революционизированное 1917 г. общество, и в прошлом не имевшее соответствующих традиций, не обрело стабильности, не стало правовым, демократическим, закоснело в оковах автократической квазиреволюционной диктатуры. По-видимому, это самый важный и самый тяжелый итог господства сталинизма. На почве этой самой тяжелой из всех «незавершенностей», которыми страдает наше общество, расцвела впоследствии и вся иерархия коррумпирующейся бюрократии.
Каинова печать этой пирамиды, свойственных ей методов оценки ситуации, характерных для нее средств «простых» решений – на всех без исключения делах и событиях нашей истории этих трудных десятилетий.
Наиболее острая проблемная ситуация России с XVIII в. до сего дня – модернизация общества, иными словами, процесс формирования общественных, экономических и технологических структур, характерных для современных цивилизованных обществ. Принципиальные задачи модернизации общества за все это время не только не были решены, но и не были адекватно поставлены. Первый из великих неудачников российской модернизации, Петр I, увидел в ней только одну проблему: создание военно-государственного могущества. При всей его крайней сумбурности петровский государственный эксперимент задал своего рода классическую парадигму «российского» типа модернизации. Суть ее в том, чтобы получить скорейший выигрыш в одной области (военной), перекрасив фасады (государственные реформы) и сохранив, даже усилив экономические и социальные основы традиционалистского, не способного к развитию общества (крепостничество, деспотизм). Выигрыш неизбежно оказывался временным, фасады обваливались (коррупция), а реформы дрейфовали в сторону лихорадочного возведения потемкинских деревень.
И вот эта парадигма повторилась в иной ситуации, двести лет спустя, когда была предпринята попытка заимствовать некую толику «верхушек» европейской промышленной цивилизации (электрификация, металлургия, автотракторотанкопром…), привив ее на ростки не вполне, может быть, определенного поначалу политического древа российско-революционного происхождения. Первоначальная неясность связана была с иллюзиями относительно «коммунарской» природы этого древа и опять же с иллюзиями относительно возможностей самой этой природы. Когда утренние сны и туманы рассеялись – тогда, собственно, и вышел на историческую арену сталинизм, – стало ясно, что речь идет об очередной попытке традиционалистской модернизации; замысел состоял в том, чтобы взять некие плоды чуждой цивилизации, не задумываясь, на каком социально-экономическом «дубе» произрастают такие «желуди». Как известно, с «прививками» и «пересадками» в социальных экспериментах нам везло не больше, чем потом в аграрных экспериментах лысенковского образца.
Но когда модернизацию общества свели к индустриализации экономики, а последнюю – к насаждению гигантов тяжелой промышленности (да еще, как теперь мы хорошо осознаем, оснащенных привозным оборудованием), стало ясно, что и самая последняя из «упрощенных» таким образом задач ни надежного, ни современного решения не может получить. Довольно долго, уже в «послесталинском сталинизме», вопреки всякой очевидности, вопреки мировому и собственному опыту, пытались поддерживать в обществе иллюзию относительно того, что советская система якобы способна обеспечивать хотя бы техническое развитие, хотя бы пресловутый «вал» промышленного роста чисто неэкономическими методами – административным планированием, принуждением, устрашением, а также циничной эксплуатацией остаточного молодежного энтузиазма. Вплоть до недавнего времени циничные расчеты на военно-промышленный рост «любой ценой» в некоторой мере подкреплялись наивными иллюзиями относительно того, что рано или поздно, через одно-два поколения, форсированная индустриализация в должном соответствии с канонами исторического материализма приведет к развитию более современных социально-экономических и политических структур.
Сама постановка вопроса была принципиально ошибочной, и история не только показала нам эту ошибку, но и жестоко покарала за нее. Оказалось (вернее, в тысячный раз подтвердилось), что нельзя, никому и нигде не удается сконструировать прогрессирующую общественную систему «любой ценой» и в «любых» условиях. В конечном счете социальная «цена» (затраты, потери, не только экономические) всегда полностью сказывается на результатах. Пиррова победа равносильна поражению. На внеэкономическом принуждении не может стоять и развиваться современная индустрия. Не может прочно стоять на ногах город, разоривший деревню.
Сталинская индустриализация, индустриализация (к тому же частичная, «тяжелая») как самоцель, требовавшая неимоверных жертв и страданий, – все эти «великие стройки», сооружаемые на базе дешевого и принудительного труда по необоснованным проектам, – заведомо не могла создать эффективной экономики, эти стройки заведомо были антиэкономичны, антиэкологичны, можно даже сказать, антисоциальны.
Сталин любил повторять, что под его руководством страна стала «металлической». Страну действительно заставили добывать больше всех руды и выплавлять больше всех в мире стали – однако нехватка металла от этого только возросла. Деревню действительно заставили – опустошив предварительно ее человеческие ресурсы – пересесть «с сохи на трактор». Экономические и аграрные результаты такой пересадки сейчас известны всем: самый большой тракторный парк, самое низкое качество его использования, самые большие закупки хлеба за рубежом. Никакая – даже если бы она была достаточно качественной – технология не может работать эффективно вне эффективной экономики.
Черчилль когда-то, оценивая заслуги советского диктатора, писал, что тот застал Россию с сохой, а оставил ее с атомной бомбой (кстати, излюбленная сегодняшними сталинистами фраза). К утверждениям такого рода мы можем и обязаны подходить вполне серьезно: уж теперь-то мы знаем, во что обошлось обществу создание военно-промышленного комплекса, сравнимого с американским. Возможность «прорыва» к бомбе за счет консервирования отсталости всего остального, ценой разорения хозяйства уже давно продемонстрировал Китай (а сегодня и некоторые еще менее процветающие страны из «третьего эшелона»), так что предмета для исключительной гордости здесь не имеется.
Стоило бы подчеркнуть: дело даже не в «прорыве» к бомбе или индустрии, не всегда и не во всем следует винить национализацию или кооперирование. Вопрос в том, в рамках какой социально-экономической и хозяйственной системы это происходит, при каком соотношении сфер, стимулов, интересов и т. д. Многие страны показывают, что кооперация в городе и селе бывает эффективной, что и национализированная промышленность может успешно развиваться в согласии с другими формами хозяйства, да и пресловутые военно-промышленные комплексы – при всех опасностях милитаризации – способны стимулировать прогресс других отраслей и обеспечивать занятость, а не только высасывать соки народного хозяйства и всего общества.
Практически ничего этого у нас не было. Можно и нужно, наверное, было покупать технологии, и любое руководство страны или экономики наверняка делало бы что-либо в этом духе. Но вот привить их к неэкономической системе хозяйства, к неподходящему «древу» никому и нигде не удавалось и не удалось бы.
Нет и не может быть – а потому таких примеров не имеется – успешно развивающейся и плодоносящей индустриальной системы вне экономического механизма, который дает стимулы движения, вне рынка, который соотносит спрос и предложение, производство и потребление, вне денежной системы, дающей универсальную меру экономической деятельности, наконец, вне мировых экономических связей. Более того, без всего этого, без современных экономических институтов не бывает, как сегодня стало очевидным, ни реального планирования, ни действенной социальной политики, ни эффективных гарантий интересов и прав работников.
Сталинский вариант индустриализации, если рассматривать его в целом (трудно судить, да и не так уж важно, пытались ли сами организаторы и исполнители грандиозных директив это делать), представлял собой серию попыток «варварскими», доэкономическими средствами обеспечить развитие тех отраслей, которые считались решающими. Иначе говоря, традиционалистскую индустриализацию, не столь уж отличную от абортивной крепостнической «индустриализации» петровских времен. Получилась попытка закрепить «варварство» с помощью индустриальных средств, которая на протяжении нескольких десятилетий даже казалась довольно успешной.
В многообразии стимулов, которые действовали в «строительстве» Великого Тупика, можно выделить послушание и страх, этику элементарного выживания и – во всяком случае, для некоторой части новых общественных сил – вдохновение, рожденное ожиданием завтрашнего социального чуда, тот самый коллективный энтузиазм, который доселе умиляет трезвых историков. Возможно, когда-нибудь удастся ретроспективный социальный анализ, который позволит разделить компоненты и взвесить относительные доли разных факторов. Сейчас отметим одну общую для всех этих движущих сил черту: это традиционалистские, досовременные, доэкономические двигатели человеческого действия. Когда-то немецкий социолог Макс Вебер показал, что на заре Нового времени религиозный энтузиазм – протестантская этика – выступил в роли пускового механизма капиталистической системы, которая в дальнейшем привела в действие собственные стимулы труда. В нашем развитии чего-либо подобного не произошло. Когда неэкономические стимулы дешевого труда, иллюзий и страха исчерпали себя, на смену им не пришел механизм самодвижения, пришли апатия и незаинтересованность в результатах труда. И это тоже было неизбежным результатом «варварского», сталинского подхлестывания модернизации.
Кстати, сейчас довольно убедительно показано, что давняя пропагандистская легенда о сверхвысоких темпах, которые якобы дала индустриализация, – всего лишь легенда. Реальные темпы роста экономики были значительно ниже, чем считалось согласно «лукавым цифрам» официальных отчетов. Если бы развитие происходило в тех рамках, которые сложились во второй половине 20-х гг., удалось бы достичь значительно более крупных показателей. Можно вспомнить еще и расчеты американского экономиста К. Кларка, опубликованные в 1940 г. У него получилось, что народное хозяйство России более ста лет, если исключить конвульсии военных перерывов, движется вполне плавно с одной и той же скоростью…
Но дело все же не в темпах развития, какими бы они ни были, – дело в качестве этого развития, в социальном наполнении темпов роста. Здесь сталинизм проиграл, а точнее, проиграли мы, – от того скольжения по наклонной плоскости, которое воплощал сталинизм.
История отчаянных усилий России «выйти в свет» длинна и исполнена взаимных разочарований. Вспоминать же ее приходится, потому что самые запутанные узлы истории имеют свойство повторяться в череде исторических трагедий и фарсов («свойство» это не случайно, так как именно сложные узлы составляют основу всей сети истории).
Разве нет какой-то предзаданной, дьявольской зависимости друг от друга спесивого всемирно-масштабного мессианизма и агрессивной убогой миробоязни? Каждый раз, когда не удавалось принести окрестным «бусурманским» народам (на штыках, разумеется) спасительное ярмо собственного образца, Россия пряталась за стены «православной» обособленности, проклиная всяческих иностранцев и инородцев, уходила в бесконечные пустоты своей географии и культуры – и оставалась страной «не от мира сего». И разве не видим мы в судьбах новой, пореволюционной России действие той же закономерности, того же исторического архетипа?
Если не искать логику великих мировых исторических катаклизмов, а ограничиться просто непосредственно наблюдаемой «логикой вещей», то мы увидим такие же колебания между глобальным миссионерством и глобальной замкнутостью. Начинали с ожиданий всемирного освободительного вихря, который должен был захватить и заброшенную в дальний угол цивилизации великую страну. Все западники и все марксисты за ними долго ждали зарниц «света с Запада», но так и не дождались их. Мировой пожар как будто сильно запаздывал – а теперь мы знаем, что для него просто не было горючего материала, он и не мог состояться; и тогда, видимо, в отчаянные головы пришла отчаянная мысль: раздуть желанный пожар своими силами. Эта мысль бросала конные армии на Варшаву в 20-м: маятник качнулся в сторону миссионерского спасения мира. Но опять не оправдались надежды, никто не ждал освободителей, а до навязывания спасения было далеко – сил не хватало.
В такой кризисной ситуации происходила борьба за ленинское наследство. Сделать еще одну попытку перевернуть мир вооруженной рукой уже никто не решался предлагать. Вариант «нормального», как мы сказали бы сегодня, сосуществования проводить не решались или не умели (само слово тогда, правда, произносилось). В результате остался некий простейший, «средний» вариант – без мира и войны, но зато на перманентном осадном положении «окруженной крепости». Сталин как будто его не выдумал, этот вариант уже реально существовал в период триумвирата (1923–1925 гг.), он лишь торжественно окрестил его «социализмом в одной стране» и представил как некий идеал. Между тем ведь до конца 30-х гг. не было видно никаких сил, способных эту крепость осаждать. Близлежащие государства не имели для этого ни сил, ни желаний, а бесконечные истории с «происками» и «агентами», если даже они не были стопроцентными изобретениями, раздувались многократно – на потребу поддержания того же осадного положения.
А оно оказалось очень удобным, хотя бы потому, что облегчало Сталину «простыми», столь излюбленными или единственно известными ему методами справляться со страной. В частности, это был способ преодоления той фрустрации, которая возникла в правящей элите после крушения надежд на «свет с Запада» (и надежд принести его на «Восток»). Внутрипсихологическая сторона ситуации «осажденной крепости» – перепуганно-озлобленное «крепостное» (во всех смыслах этого термина) сознание, готовое видеть вокруг себя бесчисленные полчища «врагов», готовое объяснять их кознями любые собственные неудачи и просчеты, а главное, готовое довериться «твердой руке». И еще изоляционистский комплекс, который, кратко говоря, сводится к ряду противопоставлений вроде «свое – чужое». Свое всегда хорошо, чужое плохо или по крайней мере подозрительно; иностранец, чуждый, инакомыслящий – заведомый враг; «связь с иностранцами» – преступление; «преклонение перед иностранной техникой» – неписаная, но действовавшая статья кодекса, путевка в ГУЛАГ.
Имел ли этот истерический изоляционизм какое-либо отношение к реальным или хотя бы воображаемым интересам круговой обороны «крепости»? Если судить об эпохе не по ее иллюзиям и предрассудкам (того и другого хватало), то совершенно ясно, что это был продукт для чисто внутреннего пользования, для удобства властвования и разделения. Исторический маятник продолжал, правда, колебаться: освободительный (но уже с явным великодержавным привкусом) мессианизм конца войны, дойдя до предела возможного расширения зоны своего влияния, уступает место испуганно-злобному изоляционизму.
Трижды за время сталинского правления была упущена возможность открыть и нормализовать отношения с окружающим миром: в 20-х, 30-х и 40-х гг.
Исключительно удобную ситуацию второй половины 20-х решились и сумели использовать только по самой примитивной (и самой традиционно-архетипической!) схеме: вывезти побольше хлеба («цена голода» позже, в 1932-м) и импортировать побольше оборудования, благо последнее подешевело в годы мирового экономического кризиса. Но все это на фоне ликвидации обратимости рубля, закрытия границ и разрыва связей, в частности концессионных. «Крепость» и крепостничество устояли.
В середине 30-х – возможность действенного антифашистского фронта и межгосударственной коалиции, вполне реальное, действительное предотвращение войны, мирное подавление фашистской угрозы, нормальное сотрудничество с остальной Европой. Для этого требовалась определенная трезвость мысли, умение преодолеть проклятый узел мессианизма-изоляционизма, похоронить идею «осажденной крепости». И снова такая альтернатива оказалась слишком сложна для сталинского руководства. После некоторых колебаний (линия Литвинова, последний конгресс несчастного Коминтерна) государственный корабль снова вернулся на курс изоляции, подкрепляемой бесконечной «охотой на ведьм» в стране и вокруг нее. Появились, правда, и существенно новые (по большому историческому счету – существенно старые!) моменты: знамя державного патриотизма над пресловутой «крепостью» и примитивная тактика территориальной экспансии под сенью «пакта». Тактика и политика «близких» выигрышей (цена их оказалась неизмеримо большой, и она еще не выплачена), без дальних расчетов и, разумеется, без нравственных границ – словом, квинтэссенция сталинского стиля и мировоззрения.
Третий шанс – послевоенный союзнический мир. Пожалуй, более слабый, поскольку слишком большую роль в мировой игре получили силы и спесь победителей. Но был бы разум, была бы доброта и сила воли, и можно было бы реализовать надежды на единство в мирном сотрудничестве – восстановлении Европы, использовании ядерной энергии, подготовке деколонизации. Пришлось бы поступиться той же ситуацией «осажденной крепости», а именно этого, судя по всему, Сталин боялся больше всего. Он выбрал снова вариант для себя простой и привычный: изоляция, милитаризация, ксенофобия. Плюс, разумеется, освоение «трофейных» регионов – что тоже оказалось трудным, дорогостоящим, а в конечном счете и неосуществимым даже по критериям внешнего спокойствия.
«Шел в комнату, попал в другую». Шли вперед, оказались позади. Прокладывали путь, построили тупик. Если, подводя итоги, оглянуться на пройденный трудный путь, можно представить, что из всех возможных вариантов на каждом повороте сталинизм выбирал самый худший, самый примитивный, самый неэффективный. Как нужно было постараться, чтобы разорить материальные и человеческие ресурсы богатейшей страны, поставить сильную державу на грань военной катастрофы, фундаментально подорвать хозяйство и жизнь деревни! Это не было плодом замысла, заговора, плана. Просто выбирался самый простой и топорный вариант, и неисчислимые силы уходили на неудачные попытки его реализовать.
Так представляются сегодня предложенные или закрепленные Сталиным альтернативы нашей истории. Долгое время их влияние было связано с традиционностью, колоссальной и мертвящей инерцией стиля. Чтобы выйти из Великого Тупика, требуются усилия не традиционные и решения не простые.
19891953–1964: Почему тогда не получилось[441]
Говорят, прошлое учит только тому, что ничему не учит. Следует добавить лишь: тех, кто не хочет или не умеет учиться. К концу периода, о котором мы ведем речь, было кем-то пущено в оборот определение: «великое десятилетие». Великим оно, к сожалению, не стало, хотя – как знать? – может, и могло бы стать, окажись люди, которые сами творят свою историю, мудрее, дальновиднее, смелее. Но сейчас оно для нас – едва ли не самое поучительное десятилетие послеоктябрьской истории. Слишком многое поставлено сегодня на карту, чтобы пренебречь его уроками.
Октябрьский поворот
14 октября 1964 г. первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета министров СССР Н.С. Хрущев, находившийся на отдыхе в Пицунде, был вызван на неожиданно созванный Пленум ЦК и смещен, как было официально заявлено, «в связи с ухудшением состояния здоровья» и, как было вскоре уточнено, – за «волюнтаризм» и «субъективизм». И того и другого в его деятельности было немало. Но этой малосодержательной формулой была зашифрована сама суть попыток десталинизации нашего общества. В 1964 г. консервативные силы взяли реванш за свое поражение в 1957 г., хотя к тому времени произошла почти полная «смена караула».
В 1957 г. волна общественного обновления еще шла, хотя и неровно, на подъем. Хрущеву достало тогда смелости, чтобы обратиться к ЦК через голову «сместившего» его Президиума, и доверия, чтобы необходимую поддержку получить. В 1964 г. он не смог апеллировать к партии и народу в защиту своего курса – и не только потому, что не готов был к столь непривычному нарушению «правил игры», а его противники действовали, не в пример прошлому, искусно. Сам курс на реформы, крайне непоследовательный, утратил и динамизм, и былую притягательную силу, а его лидер – престиж. Ведь ни один его шаг не был сделан достаточно твердо, ни одно начинание не было доведено до конца. Монополия на инициативу и истину, которую руководство упорно старалось удержать в своих руках, мешала пробуждению сознания общества и самоорганизации его живых сил. Буквально за каждым шагом вперед включались механизмы торможения, запретов на творчество, сомнение, поиск. Более всего реформы губило то, как именно они проводились и какие ограниченные – по сравнению со вспыхнувшими надеждами – результаты давали.
Исходный пункт – кризис
Осознанию реальности часто мешают мифы. Один из них, выживший и работающий против сегодняшней перестройки, – реформы 50 – 60-х гг. дестабилизировали не столь уж скверный порядок: «при Сталине цены снижали» и т. д. Второй – при социализме, и особенно в СССР, не может быть кризисов. На деле ситуация начала 1953 г. – апогей самовластного безумия Сталина на фоне нарастающего кризиса всей системы сталинизма. Кризиса тем более опасного, что оглушенное фанфарами общество не могло даже отдать себе отчет в серьезности положения.
Через восемь лет после войны, когда в побежденных странах уже обозначилось «экономическое чудо», а наша пропаганда твердила о небывалых хозяйственных успехах и еще более грандиозных планах «покорения природы», в городах нередко выстраивались многочасовые очереди за продуктами, в деревне же, почти как в военное лихолетье, выгребались только что не последние «три мешка сорной пшеницы».
На мировой арене все еще очень остро – и не только дипломатически! – продолжалось выяснение отношений (и притязаний) по поводу итогов войны. Был упущен лишь теперь восстанавливаемый шанс нормально войти в мировое сообщество; народ, выдержавший самую страшную войну в своей истории, спешно изолировали от внешнего мира, вводили идеологический карантин. Международные политические кризисы следовали один за другим, а официальная доктрина утверждала, что, начнись мировая война, погибнет один только капитализм. С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Вышинский, используя ту же стилистику, что и на московских процессах 30-х гг., обличал «поджигателей войны», а в общественном мнении Запада все новые позиции завоевывали сторонники «жесткого курса», убывал моральный потенциал нашей победы в антифашистской войне.
Мировая научная мысль подводила к НТР, а авантюристы и идеологические опричники, преуспевшие в борьбе с «буржуазной лженаукой» и «низкопоклонством», совершали свои небескорыстные набеги на генетику, физиологию, теоретическую физику, не говоря уж об общественных науках. Следовавшие одна за другой кампании «охоты на ведьм» – аналог маккартизма – разлагали общественную мораль. Перестановки наверху, которые стареющий вождь провел на XIX съезде, и «дело врачей» были зловещими предвестниками того, что подготовка новой волны массового террора вступила в решающую фазу. Публикации последнего времени чуть приподняли завесу над критической ситуацией июня 1953 г., когда члены высшего руководства, отбросив взаимные подозрения, преградили путь к власти Берии. Но даже самая смелая фантазия едва ли сможет ответить на вопрос, что было бы с нами всеми, партией и страной, проживи еще несколько месяцев Сталин. Людям, которые взошли на трибуну Мавзолея в день похорон Сталина, досталось нелегкое наследство.
Годы надежд и разочарований
В последовавшие за тем годы произошли сдвиги, оставившие неизгладимый след в жизни общества. Наметились повороты – к мирному сосуществованию, чуть большей терпимости по отношению к другим социалистическим силам. Стали осуществляться необходимые шаги по повышению жизненного уровня народа: снижения цен после 1955 г. прекратились, но зато росли заработки, пенсии перестали быть символическими, жилья было построено вдвое больше, чем за все годы советской власти до того… Резкое, хотя и далеко не последовательное, разоблачение беззаконий и террора сталинского времени начало менять духовный климат в стране, вытеснять и безгласный страх, и слепую веру.
Хроники многих государств рассказывают, как часто новая правящая «команда» начинает со снятия избыточных напряжений в стране и вокруг нее – с понятной целью укрепления своих позиций. Так поступало поначалу и руководство образца 1953 г. Выпуск «пара» может лишь предшествовать реформе либо подменять ее. Между тем уже тогда общество нуждалось не в исправлении отдельных «ошибок» прошлого периода, а в коренной перестройке.
Почему же со временем оборвались, не получили развития многие начинания первого послесталинского десятилетия? Чтобы ответить на этот основной вопрос, необходимо разобраться в трех других: как осуществлялись реформы? Кто их проводил? Как понимало и принимало их общество?
Реформы могут проводиться по-разному. Слишком быстро – и тогда они могут породить социальный хаос. Слишком медленно – и тогда они рискуют уйти в песок. Найти верный темп неимоверно трудно, и наивно думать, что сначала в кабинетах может быть разработан, а затем на практике реализован некий безукоризненный план безболезненных преобразований. Элементы импровизации, решений, принятых под давлением обстоятельств, метод проб и ошибок неизбежны во всяком серьезном общественном процессе. Но самый ненадежный, провальный вариант проведения реформы описывается известной формулой: «иди – стоп – назад». В этом случае цели, даже если они осознаны, постоянно ускользают, как мираж, механизмы остаются недостроенными и работают вхолостую, общественная поддержка реформаторов слабеет, а ряды их противников консолидируются.
Между тем в истории нашей страны нелегко найти другой период, настолько внутренне противоречивый, наполненный приливно-отливными волнами, смягчением запретов – и незамедлительными откатами в политике, идеологии, экономике. В большинстве случаев реформаторские начинания были непосредственной реакцией на ту или иную критическую ситуацию, а порой побочным результатом внутренней борьбы и компромиссов в руководстве. Вспомним хотя бы, как шли мы к ХХ съезду.
Уже через месяц после смерти Сталина совершается событие беспрецедентное – реабилитация врачей-«отравителей». Печать, усиленно готовившая гала-процесс, решительно меняет тон. В апреле же в Грузии возвращается на руководящую работу ряд работников, ранее осужденных по так называемому «мингрельскому делу».
Довольно скоро, весной 1953 г., исчезают ссылки на Сталина. На страницах печати появляются термины «культ личности» и «коллективное руководство». Примета времени: один высокопоставленный автор доказывает, что все классики – Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин (именно в таком наборе) – боролись с культом.
Вторая половина года открывается сообщением о разоблачении Берии, а завершается судом и расстрелом «врага партии и народа» и шести его ближайших сотрудников. Важнейшее событие, однако, истолковывается в привычных терминах («агент международного империализма», «наймит зарубежных империалистических сил») и увенчивается закрытым процессом (материалы которого не опубликованы до сих пор).
1954 г.: в литературе и публицистике появляется ряд «оттепельных» произведений. Немедленно наносится контрудар по «Новому миру», опубликовавшему статьи В. Померанцева, Ф. Абрамова, М. Щеглова, в которых был дан честный анализ послевоенного литературного процесса. С поста его редактора в первый раз уходит А. Твардовский. На этом фоне довольно бесцветно проходит собранный после 20-летнего перерыва II съезд писателей. Разворачивается кампания против молодежного нонконформизма. С «подачи» тогдашнего руководителя комсомола Шелепина «стилягам» на улицах режут брюки, как при Петре I стригли бороды. Но в 1954 г. начинаются, а в 1955 г. приобретают довольно заметный масштаб политические реабилитации жертв сталинского террора; выжившие возвращаются из лагерей. Весной 1955 г. разоблачения вторгаются в сферу внешней политики: Н.С. Хрущев произносит сенсационную формулу извинения перед И. Тито на белградском аэродроме (впрочем, вина за прошлое возлагается в основном все на того же Берию).
1956 г. открывается ХХ съездом. Произнесенный в ночь на 25 февраля драматический доклад Хрущева на закрытом заседании съезда оглашается в марте практически повсеместно (хотя не опубликован до сих пор), но первые попытки начать серьезный публичный разговор о причинах и природе деформаций пресекаются – внутри страны окриком и репрессиями (уже в апреле – мае), в международном коммунистическом движении (в ответ на выступления П. Тольятти и др.) – решительной отповедью. Завершается год событиями в Польше, Венгрии и первыми после Сталина, хотя и не очень многочисленными, политическими арестами в нашей стране[442]. Вскоре после этого была разгромлена редакция журнала «Вопросы истории», посягнувшего на некоторые мифы в нашей историографии.
Для стартовых лет «оттепели», особенно в сложный период борьбы за ХХ съезд, эти рывки легко объяснимы. Но в таком же режиме на всех главных направлениях шла наша первая перестройка и в последующие годы. Назревшие экономические и социальные преобразования подменялись беспорядочными административными реорганизациями, так быстро сменявшими друг друга, что их не всегда легко было заметить – не то что оценить, – и непрерывными кадровыми перестановками.
Во власти идеологических стереотипов
Импульсивные порывы и отдельные прозрения не могли вывести за рамки старых стереотипов политического и социального мышления. К ним относились, например, представления о «врожденном» совершенстве социалистического общества, которое нуждается лишь в очищении от извращений и наслоений, в возвращении к «истокам». Или о неизменной монолитности этого общества. О невозможности иных моделей социализма, кроме утвердившейся в нашей стране. О безусловном приоритете планирования перед товарно-денежными отношениями и формулируемых государством общественных интересов – перед личными. Из всего этого выводились заключения, что социализм в силу одной своей природы может и догнать, и перегнать самые развитые капиталистические страны в каком угодно отношении. На это в 1961 г. были определены сроки – 10–20 лет.
При Сталине его мнения и указания считались главным критерием истинности любых идеологических постулатов, даже мерой оценки классических марксистских работ. Когда этот авторитет пал, быстро разраставшаяся идеологическая бюрократия во главе с таким мастером придворных интриг, как М.А. Суслов, приложила огромные усилия для сохранения сложившихся стереотипов под слегка подновленными вывесками. Постулаты переименовывались с такой же легкостью, как премии, дворцы, города. Издавалось множество пухлых коллективных трудов по истории, экономике, философии и т. д., лишенных какой-либо свежей мысли и служивших лишь увековечению тех же стереотипов. Жупел ревизионизма – этот непременный атрибут всех «проработок» после 1956 г. – активно использовался для того, чтобы представить опасной любую новую мысль и практически сделать руководство заложником идеологической мафии.
Критика культа, но не режима…
Осуждение преступлений Сталина (тональность которого не была неизменной; в начале 1957 г. Хрущев даже произнес слова: «Нашего Сталина мы никому не отдадим») балансировалось полным отказом от анализа политического режима и идеологии сталинизма. Более того, малейшая попытка поднять вопрос о социальных истоках этого явления сурово преследовалась. Отчасти это можно было объяснить нежеланием Н.С. Хрущева, А.И. Микояна и их коллег признать собственную вину как соучастников организации репрессий, отчасти – опасением перед неконтролируемыми массовыми эксцессами. Но сверх того сказалось неумение к такому анализу подойти. В наборе политических стереотипов просто не было подходящих средств для этого.
Малоудачный эвфемизм «культ личности», избранный в качестве ключевого слова для характеристики политического режима и идеологической системы сталинизма, надолго вошел в политический лексикон. Он позволял свести проблему к преклонению перед личностью «вождя» и к злоупотреблениям с его стороны. На следующем витке развития это помогло обесценить и такую критику, сохраняя внешнюю лояльность решениям ХХ и XXII съездов.
В результате даже механизм беззаконных репрессий не был разоблачен до конца, реабилитация жертв произвола осталась неполной. Писатель К. Икрамов вспоминал впоследствии, как он получил документ о посмертной реабилитации отца[443] вместе с указанием никому об этом не рассказывать. Между тем для оздоровления общественной атмосферы и преодоления небезобидных мифов нам очень нужен был в то время свой вариант Нюрнбергского процесса – не столько, чтобы покарать стареющих палачей и организаторов террора (некоторые из них были осуждены на закрытых процессах), сколько для того, чтобы создать основу для духовного прозрения, морального очищения. Мы до сих пор не знаем не только масштабов террора, но и масштабов реабилитации конца 50-х гг.
Люди, проводившие преобразования, боялись преобразований и их последствий, боялись того, что только и могло дать гарантию их необратимости, – активизации и демократизации общества. Отсюда их непреодолимое убеждение, что вся правда – лишь для допущенных к ней согласно «табели о рангах», что информация должна распределяться по уровням чиновной иерархии, что огромные ее пласты должны быть надежно укрыты от большинства сограждан, которые могут ее «неверно понять». С трудом признав, что на Западе и в Японии разворачивается научно-техническая революция, они не смогли уяснить, какую роль играет в ней информационный компонент. Информация оставалась таким же «дефицитом», как продукты питания повышенного качества и импортный ширпотреб, доставляемые в закрытые распределители. Это имело двоякие последствия. Мучительно трудно шел процесс возрождения гражданского правосознания и общественного мнения, без чего серьезная демократизация немыслима, а информационный вакуум заполняли слухи и мифы. Но и сами «верхи», безуспешно боровшиеся с «приписками», лишали себя возможности реально оценить нарастание кризисных явлений и во многом должны были полагаться на агентурные, то есть заведомо искаженные, данные, парадную информацию с мест, подогнанную статистику.
…И культ успеха
Атмосферу десятилетия наполняли главным образом бесчисленные торжественные обещания (вплоть до построения коммунизма «при жизни нынешнего поколения») и рапорты об их исполнении. Считали, видимо, что таким путем вернее всего можно поддерживать бодрость духа в обществе, надежно ограничить зону сомнений и критики.
Хрущевское руководство не только пыталось, как заметил потом Черчилль, перепрыгнуть пропасть в два прыжка, но каждый «прыжок» считало последним, немедленно разворачивая подготовку к праздничным торжествам. Наивные ожидания быстрейшего разрешения всех проблем порождали «заказные» прогнозы сверхоптимистического порядка, наподобие тех, которые отразились в старой редакции партийной программы. Однако в двух областях – экономике и внешней политике – видимость благополучия было поддерживать особенно трудно. Неконтролируемые процессы в них заявляли о себе громче всего.
Вместо экономических методов
В экономике предстояло решить две задачи: включиться в соревнование с Западом, где уже широко осваивались достижения НТР, и повысить жизненный уровень народа. Первые шаги внушали некоторые надежды. Но довольно скоро обнаружились пробуксовки и сбои. На обращение с экономикой немалый отпечаток наложили и идеологический подход, и боязнь утратить привычные рычаги управления.
Установка на увеличение производства товаров массового потребления, широко заявленная в 1953 г., была вскоре же сокрушена переориентацией капиталовложений и воскрешением догмата о преимущественном росте первого подразделения. Наметившийся было курс на разумные преобразования в сельском хозяйстве был довольно быстро скомкан. Провозглашенный в 1955 г. «новый порядок планирования» для колхозов так и не был осуществлен. Индивидуальная инициатива считалась подозрительной, личные подсобные хозяйства и даже садовые участки то поддерживали (правда, временно), то осуждали и ограничивали. Тем больший кредит получила вера – то в аграрные чудеса, которые вновь и вновь обещал Т. Лысенко, то в тиражирование «рязанского почина», состоявшего в том, что область в 1958 г. втрое перевыполнила план поставок масла и мяса государству. (Когда спустя два или три года стало ясно, что это было достигнуто ценой уничтожения всего поголовья и скупки продуктов в магазинах соседних городов, организатор аферы секретарь обкома Ларионов покончил с собой.)
Вообще же вера в то, что в сложных хозяйственных ситуациях существует будто бы одно главное звено, позволяющее вытащить цепь, находила воплощение то в освоении целины, то в продвижении кукурузы к Полярному кругу, то в химизации сельского хозяйства. Цепь, естественно, рвалась, и тогда главным объявлялось другое звено. Бесконечные и бессистемные реорганизации управленческих учреждений (министерств, совнархозов, Госплана, различных комитетов и комиссий, вплоть до пресловутого раздвоения партаппарата на промышленный и сельский) дискредитировали саму идею реформ. Введение совнархозов было подано как возврат к экономической организации, существовавшей при Ленине. На деле это был всего лишь переход с отраслевого к территориальному принципу построения все той же административно-командной системы, выбиравшей уже последние резервы экстенсивного экономического роста.
В начале 60-х гг. некоторые экономисты предложили действительно радикальные преобразования хозяйственного механизма. Но в самостоятельности предприятий, в развитии товарно-денежного хозяйства усматривалось зловредное жало все того же ревизионизма…
Попытки наладить экономику силовыми приемами мстили за себя. Было обещано за три-четыре года создать потребительское изобилие, чуть позднее – отменить налоги с населения и сделать бесплатными услуги. На деле вновь обострились продовольственные трудности, пришлось в 1962 г. существенно повысить (как тогда надеялись – временно) цены на мясо и молочные продукты, а позже приступить к импорту зерна.
Новые реальности и «образ врага»
Не меньшими перепадами отличался внешнеполитический курс. Уже в 1953–1954 гг. в него были внесены важные коррективы. На ХХ съезде элементы реалистического видения мировых процессов – отклонение тезиса о неизбежности мировой войны, новое отношение к социал-демократам и т. д. – были включены в официальные документы. Были сделаны шаги к урегулированию на взаимной основе ряда наиболее взрывоопасных конфликтов, а в грозные дни карибского кризиса 1962 г. Н.С. Хрущев и Д. Кеннеди нашли в себе мужество преодолеть соблазны авантюризма и сделать шаг в сторону от пропасти. Но многие наши внешнеполитические акции носили непродуманный, вызывающий характер. Грубое изречение Хрущева: «Мы вас закопаем!»[444] – хотя и было воспринято его партнерами с излишним буквализмом, в концентрированном виде выразило главный догмат старого политического мышления: наивную уверенность в близком торжестве коммунизма во всем мире.
Непоследовательность и нередкие крутые повороты во внешней политике подыгрывали агрессивным силам на Западе, осложняли международную обстановку и отвлекали ресурсы. Но они имели и крайне неблагоприятный внутренний эффект, продлевая жизнь психологии осажденной крепости и позволяя изображать, когда это требовалось, практически любую серьезную попытку откровенного разговора как происки врагов. Особо чувствительно воспринималось то, что происходило в Восточной Европе. Каждое обострение здесь вело к ужесточению политической и идеологической ситуации внутри страны. События 1956 г. в Венгрии вызвали психологический шок в руководстве, заставили его срочно корректировать курс, заявленный на ХХ съезде. Любая попытка вывести публичную критику за пределы, четко обозначенные свыше, воскрешала в памяти Хрущева и его окружения ненавистный фантом «клуба Петефи» – кружка венгерских левых интеллигентов, обсуждавших актуальные проблемы своей страны. Принятая в 1958 г. программа Союза коммунистов Югославии стала поводом для новой яростной кампании против югославских коммунистов, обвиненных в тяжких грехах «ревизионизма». Политические обвинения были подкреплены мерами экономического давления.
Один из трагических парадоксов нашего развития: реформаторы, проводившие ХХ съезд, осудив сталинский тезис об обострении классовой борьбы, тут же восстановили его в чуть смягченном виде постоянного будто бы «обострения идеологической борьбы» и широко использовали дубинку «идеологической диверсии» – подновленный вариант средневекового представления о «порче», которую дьявол может насылать как на отдельного человека, так и на целые народы… «Образ врага» – всегда лишь перевернутый образ собственного страха, так же как спесивое бахвальство («наши больные – самые здоровые в мире») – проекция собственного комплекса неполноценности.
Итак, продвижение вперед во всех сферах было скованным, непоследовательным, прерывистым. Оно предотвращало наиболее опасные кризисные обострения и «расшивало» самые узкие места, но не смогло сформировать инерцию внутреннего саморазвития.
Бесконечные перепады духовной и политической жизни вносили изрядную неуверенность и скепсис в ряды сторонников реформы и оставляли ее противникам надежду, что ход событий может быть повернут вспять одними лишь кадровыми перестановками в руководстве.
Верхний эшелон
В высокоцентрализованном социальном организме, где преобладающая часть решений принимается в верхнем эшелоне власти, многое, слишком многое зависит от того, как формируется этот эшелон, каким образом изменяются ориентации входящих в него лиц.
Феномен «коллективного», а затем хрущевского руководства еще ждет своего исследователя. Но один из важнейших уроков той поры заключается в том, что судьбы страны и народа – под угрозой, если они в столь высокой степени зависят от раскладки сил в верхнем эшелоне. Сама же эта раскладка неустойчива и изменчива, пока не работают демократические механизмы законности, выборности, гласности, ответственности. Было бы несправедливо забывать, что первоначальные импульсы перемен шли сверху и в данных условиях могли прийти только оттуда. Можно было бы отнестись спокойно и к тому, что разоблачению Сталина на ХХ съезде рукоплескали люди, возносившие его на XIX съезде. Но ведь и в последующий период одни и те же лица сначала проводили, а потом сворачивали реформу, критику культа, реабилитацию невинных жертв.
Н.С. Хрущев опирался на формальную, уставную поддержку партийно-государственной иерархии, приученной следовать за лидером, определенное время пользовался популярностью в стране, особенно среди молодежи, интеллигенции, ветеранов партии. В отличие от своего предшественника, он не прибегал к массовым репрессиям. Буйная энергия, инициативность, умение чувствовать многие болевые точки не раз давали ему преимущества перед оппонентами в руководстве.
Он, несомненно, во многом вдохновлялся благими намерениями. Его постепенно созревавшая ненависть к Сталину, как некогда и страх перед ним, была, видимо, искренней. Но при всем том он был сыном своего удивительного, страшного и лицемерного времени, нес в себе и его громогласно заявленные идеалы, и весь заряд его двоемыслия.
Время показало, что ресурсы той поддержки, на которую мог опереться Хрущев, исчерпаемы. Торжественные обещания не были выполнены. Инициативы перестали быть привлекательными. Соблазнительные картины якобы недалекого светлого будущего никак не могли заменить реального движения вперед. Бесконечные и неэффективные аппаратные перетряски восстановили значительную часть номенклатуры против своего лидера. Эти люди, в отличие от участников неудачной попытки переворота 1957 г. Молотова, Маленкова, Кагановича и других, своим выдвижением были обязаны исключительно или преимущественно Хрущеву. Разоблачения «культа» в чем-то им даже импонировали, поскольку укрепляли ощущение личной безопасности. Но теперь им этого было мало. Никакая, даже самая резкая критика бывшего главы иерархии не могла породить в их среде такое сопротивление, как непрерывные кадровые перетряски, постоянно нависавшая угроза их привилегиям и тому, что они понимали под стабильностью режима.
Из печати мы знаем лишь, как отметили эти люди в апреле 1964 г. 70-летие «нашего дорогого Никиты Сергеевича». Когда будут открыты архивы, выяснится, вероятно, как они тормозили начинания Хрущева, затем стали сговариваться за его спиной, а затем поставили перед свершившимся фактом октябрьский Пленум того же года.
В том, что события развернулись таким образом, была и беда, и вина Хрущева. Беда – ибо, даже обладая после 1957 г. известной свободой выбора своих соратников, он мог делать этот выбор лишь из сравнительно узкого круга людей, прошедших соответствующий отбор в сталинский период, в совершенстве овладевших искусством политической мимикрии и имевших преимущественно консервативные ориентации. Многолетняя кровавая сталинская жатва не прошла бесследно. «Понижение морального и умственного уровня партии по сравнению со средним уровнем – моральным и умственным – страны», – отмечал в своем дневнике 1941 г. В.И. Вернадский. Эта ситуация применительно к высшему эшелону была запрограммирована на многие годы вперед. Если даже в наши дни некоторые современные историки имеют, мягко говоря, бестактность высказывать сомнения в подлинности известного предсмертного письма Н.И. Бухарина, то как могло оно быть услышано тем «будущим поколением руководителей партии», которое окружало Хрущева?
Но Хрущев и сам подготовил свое падение, ибо многочисленные перетряски, которые осуществлялись по его инициативе, не касались главного – недемократического характера выдвижения кадров, вовлечения масс в политику. Поразительный парадокс: на «антисталинском» XXII съезде был принят новый Устав, который практически исключил выборность в руководящие органы партии. Придуманы были, правда, суррогаты демократической жизни: квота обновления руководящих органов и правила ротации для их членов. Сами по себе они никак не могли преодолеть окостеневшую систему политического администрирования. Позже управлявшая каста с легкостью отбросила и эти слабые попытки ограничить ее устойчивость и власть.
Главный урок
Одно из самых расхожих представлений: народ, только-только начавший выходить из политического забытья, не был готов к переменам. Это правда, но не вся правда, ибо нельзя пройти школу подготовки к демократии вне самого демократического процесса, как нельзя научиться плаванию, не входя в воду.
Главная слабость не вполне определившегося и быстро окостеневшего политического режима в первое послесталинское десятилетие – не просто отсутствие эффективных демократических механизмов, а неспособность даже двигаться в этом направлении. Подорвав устои сталинского деспотизма, актив нового руководства и силы его поддержки даже не приступили к серьезной демократизации партии и общества. В рамках старых шаблонов было принято считать, что социалистическое общество «по природе» предельно демократично; в контексте постоянной «аварийной» напряженности реальное вовлечение масс в процессы политических решений, а тем более открытое сопоставление разных мнений, свобода мысли и слова казались опасными. Отсутствие массовых репрессий еще далеко не тождественно демократизму. Практически отсутствовала и такая элементарная составляющая демократической жизни, как гласность, свобода слова и информации. Частые «встречи с народом», многолюдные совещания, парадные пленумы и съезды не заменяли работающих демократических механизмов. Во всех таких встречах Хрущев слышал лишь поддакивание себе, видел лишь «единодушное одобрение». Диалог отсутствовал, не было ни умения, ни желания слушать иные мысли. А мнимое единомыслие вновь и вновь оборачивалось универсальным безмыслием.
Надежды молодежи, восторженно приветствовавшей весну 56-го, не воплотились в формы активного социального творчества. Попытки заткнуть экономические прорехи обращением к молодежному энтузиазму (целина, великие стройки) со временем стали обесценивать высокие слова и лозунги.
Цепляясь за отжившие стереотипы, не желая расставаться с принципом своей монополии на истину, хрущевское руководство не сумело мобилизовать надежные силы поддержки и в интеллигентных слоях общества: от обществоведов ожидали угодничества, а не рекомендаций, а художников, писателей, академиков непрестанно поучали с административных высот; неугодные мысли и непонятные художественные формы объявлялись государственно опасными.
За провал реформы особую ответственность несет интеллигенция. Конечно, сталинизм насильственно разорвал «связь времен», преемственность гражданских и культурных традиций российской интеллигенции, частое чередование «оттепелей» и «заморозков» в последующий период не способствовало их восстановлению. Но привычка подчиняться первому, хотя теперь уже и не такому страшному окрику вошла в кровь; она «срабатывала», когда была развернута травля Б. Пастернака в 1958 г., когда под лозунгами борьбы с «абстракционизмом» в 1962–1963 гг. «вся королевская рать» от литературы и искусства ринулась на защиту своих привилегий, когда в Ленинграде за «тунеядство» был осужден поэт И. Бродский. Не на высоте оказался и корпус консультантов – научная «обслуга», призванная вырабатывать концепции перемен, но зачастую лишь потрафлявшая вкусам и предрассудкам «начальства».
Общество в целом остро нуждалось в реформах – и не знало, как их вести дальше, было потрясено разоблачениями, но не умело их осмыслить, да и лидер, произносящий бесконечные речи и все чаще увлекавшийся несуразными проектами, со временем стал проигрывать в массовом сознании в сопоставлении с небожителем…
Кто может сказать, насколько жестко был предопределен неуспех реформ 50 – 60-х гг. и последовавший за ним продолжительный период «застоя»? В истории бывало не раз: за реформой, не доведенной до конца, не оправдавшей надежды одних и вселившей страх в других, следует контрреформа.
И все-таки… Главным результатом бурного и противоречивого десятилетия, без сомнения, была невозможность, немыслимость возврата к сталинизму, по крайней мере в его подлинных, «полных» формах.
Но и это не полный итог. Ведь именно в те годы были брошены в землю семена нового социального и политического мышления. Подвергнуты своеобразной «выбраковке» старые методы, при помощи которых рассчитывали решить новые проблемы. Развеяно немало иллюзий. Начали формироваться новое знание и новые нормы социального поведения. В общественную жизнь вошло поколение, не знавшее тотального страха, способное учиться понимать собственное общество и перестраивать его.
Через два десятилетия эти семена дали всходы.
1988Погружение в трясину. Акт первый: 1964–1968[445]
Пришли иные времена
При сопоставлении «первого послесталинского» десятилетия с последующими периодами в глаза бросается различие: бурные приливы и отливы и вроде бы остановившееся время. Но различие глубже. В 50-е гг. общая картина выглядела так: политически незрелое и инертное, только начавшее пробуждаться после кровавого террора общество и власть, непрерывно экспериментирующая, ищущая – хотя и неумело, непоследовательно – выходы из глухих тупиков сталинизма. После октября 1964 г. все поменялось. Представления властей о должном и допустимом становились все более консервативными, а их поведение – охранительным. Общество же созревало и прозревало, начинало искать выход на поприще социальной и политической активности: без этого были бы невозможны март 1985 г. и перестройка.
В октябре 1964 г. изображения Н. Хрущева были повсеместно заменены портретами Л. Брежнева и А. Косыгина, разделивших между собой его посты. Это была главная и, по существу, единственная перестановка в верхнем эшелоне власти. Чуть позже ушел А. Микоян. Но в общем состав центральных партийных органов изменился очень мало. Смена политического курса при минимальных кадровых перемещениях в верхних эшелонах власти – такова отличительная черта октябрьского переворота 1964 г. Из этого, видимо, можно заключить, что поддержка в верхах линии, заявленной на ХХ и XXII съездах партии, в последние годы постепенно ослабевала и держалась преимущественно на Хрущеве, его личном влиянии и авторитете постов, которые он занимал. Ушел Хрущев – ушла политика, проводившаяся при показном единодушии. Не существовало демократических механизмов, способных предотвращать аппаратные перевороты.
Сталинизм дал руководителям партгосаппарата огромную власть над согражданами и завидные привилегии, и решения ХХ съезда вернули ощущение личной безопасности. Теперь, консолидировавшись как социальный слой со сравнительно устоявшимся составом и установленными им самим способами пополнения (анкетно-аппаратный отбор, выдаваемый за «ленинские принципы подбора кадров»), они чувствовали себя гораздо увереннее.
Осенью 1964 г. решился – не временно, как тогда многие думали, а на два десятка лет – главный вопрос о власти. Она перешла в руки устойчивого блока, включившего вчерашних умеренных сторонников Хрущева, ставших «либеральными» консерваторами, все более коррумпировавшихся чиновников в центре и на местах, прагматических карьеристов и их научную и идеологическую обслугу. К силам поддержки этого блока можно отнести политически активных неосталинистов, которые, конечно, не желали возрождения массового террора, но требовали «выборочных» репрессий и не уставали выражать тоску по «порядку».
Впрочем, блок этот сложился не сразу, да и политический курс его некоторое время оставался неясным: видимо, одолевшие Хрущева вчерашние его сподвижники не вполне ясно представляли себе, как следует распорядиться властью. Во всяком случае, некоторые из первых шагов новой власти подавали надежду не одной только бюрократии. Была реабилитирована генетика и покончено наконец с дутым авторитетом Т. Лысенко: специальная комиссия установила, что «достижения» патронируемого им подмосковного опытного хозяйства – элементарное жульничество. Удалось спасти русское правописание от нависшей над ним «реформы» – мы не пишем сегодня «заец», «молодеж» и «отци». В разгар подписки на газеты и журналы на следующий год были сняты раздражавшие людей лимиты.
От попытки реформ к экономике застоя
Было ликвидировано действительно нелепое удвоение партгосаппарата, поделенного ранее на «промышленные» и «сельскохозяйственные» органы. В повестку дня выдвинулась и более глубокая реформа, которая назревала в течение ряда лет: дискуссия о ней со страниц специальных изданий еще в 1962 г. перешла в массовую печать.
Пленум ЦК в марте 1965 г. попытался исправить положение в сельском хозяйстве. На нем прозвучала справедливая критика волевого давления на колхозы и совхозы, завышенных поставок, перекошенной системы цен. Реформаторы, однако, не хотели принимать во внимание того, что изменение ценовых пропорций в пользу сельского хозяйства при сохранении прежнего механизма ценообразования даст лишь временное облегчение, что призывы «покончить с практикой командования и администрирования» бессмысленны до тех пор, пока это видят в отдельных искривлениях и перегибах, а не в самой командно-административной системе.
Сентябрьский Пленум 1965 г., обсуждавший реформу в промышленности, пошел дальше. Была поставлена задача превращения фиктивного хозрасчета в реальный. Был сделан шаг (впрочем, довольно робкий) к самостоятельности предприятий: признавалось, что положение, при котором руководящие хозяйственные органы имеют только права, а предприятия – только обязанности, ненормально.
Укоренилось мнение, что в то время неплохо задуманное дело загубила бюрократия. Это не вся правда. Крушение реформы во многом было заложено в ней самой – в ее непоследовательности и ограниченности. В подновленных структурах управления, планирования и стимулирования было мало такого, на что могли бы опереться ее сторонники, и еще важнее – практически ничего, что не могло быть взято назад.
«Анализ показывает, что известные трудности в развитии нашей экономики носят временный характер, и они должны быть в короткий срок преодолены», – было сказано на сентябрьском Пленуме. Но даже когда в Сибири забил фонтан нефтедолларов, его растратили так же малоэффективно, как и другие природные ресурсы. Экономическое отставание от развитых капиталистических государств стало приобретать качественный характер.
Партия и интеллигенция
Под таким названием в феврале 1965 г. в «Правде» появилась статья ее вновь назначенного главного редактора А. Румянцева[446]. Решительно осуждались и сталинский, и хрущевский подход к интеллигенции. Автор высказывался за свободное выражение и столкновение мнений, признание различных школ и направлений в науке, литературе и искусстве. Однако уже в сентябре последовали аресты писателей А. Синявского и Ю. Даниэля, опубликовавших под псевдонимами свои произведения за границей.
Суду над А. Синявским и Ю. Даниэлем предшествовала газетная кампания, в которой обвиняемых (но еще не осужденных) писателей именовали изменниками, высказывания героев произведений приписывали авторам, а сатиру (довольно невинную по сегодняшним представлениям) подводили под статьи уголовного кодекса. Появились отклики читателей, незнакомых с произведениями, но выражавших презрение к их авторам. Суд приговорил Синявского к семи, Даниэля – к пяти годам в колонии строгого режима. Зал встретил приговор аплодисментами. Прокатились и другие политические аресты и суды.
«Можно не соглашаться с тем, что написали эти люди, можно заявить им об этом, можно заставить их уплатить штраф за нарушение существующего закона, запрещающего бесконтрольный вывоз их произведений… – читаем у Л. Арагона. – Но лишать их свободы за содержание романа или сказки – значит создать прецедент, который принесет интересам социализма больше вреда, чем могли бы принести произведения Синявского и Даниэля».
Съезд реванша
XXIII съезд КПСС собрался через 10 лет после ХХ. Хотя в докладах и некоторых выступлениях еще вспоминали ХХ и XXII съезды, теперь уже довольно отчетливо вырисовалось, от какого наследства отказываются новые руководители и что из него возрождают. Огромное внимание уделялось ритуальным моментам. Отныне идеологической работе предстояло двигаться короткими перебежками: от юбилея к юбилею.
Съезд оформил то, чего недоставало силам, которые осуществили октябрьский переворот 1964 г., – стабильность власти, гарантированность привилегий (разумеется, при конформном поведении). Из устава партии были удалены пункты о квотах обновления партийных органов и предельных сроках пребывания на выборных постах. После постоянных реорганизаций, смещений и назначений времен Хрущева владыки местного и союзного масштаба могли вздохнуть спокойно. Д. Кунаев вполне искренно произносил с трибуны: «Нынешний стиль руководства партии вселяет в нас чувство уверенности».
Одной из заметных тем XXIII съезда стали вопросы литературы. «Ремесленники от искусства… – сказал Л. Брежнев, – избирают своей специальностью очернение нашего строя, клевету на наш героический народ». Озлобление против свободной мысли и свободного слова, против органов печати, вырывавшихся из-под контроля бюрократии, решимость покончить с разоблачениями сталинского периода и восстановить нарушенную субординацию – все, что так долго копилось в кабинетах и коридорах, теперь провозглашалось с трибуны съезда. Руководители обкомов и ведомств обличали «Новый мир» и «Юность» как «носителей безыдейной и мелкобуржуазной распущенности», которые «под предлогом борьбы с последствиями культа личности», «под видом поборников исторической правды и достоверности» «кокетничают перед зеркалом истории», «охаивают», «типизируют единичные факты», «выискивают в политической жизни страны какие-то элементы так называемого “сталинизма”»…
На XXIII съезде партийная и государственная бюрократия брала реванш за годы неуверенности, неустойчивости, унизительной слабости. Она ничего не забыла и кое-чему научилась. Она передвигала верных людей из резервов в верхний эшелон власти (в состав ЦК вошли Г. Романов, Н. Тихонов, С. Трапезников, кандидатами стали К. Черненко и В. Щелоков). Она старательно вычеркивала на два десятилетия тот альтернативный вариант развития, который открылся было перед страной в 50-е годы.
Сопротивление
Идеологическая и политическая атмосфера, установившаяся в апогее «застоя», воцарилась не сразу. После того как впервые после долгого перерыва на праздновании 20-летия Победы Л. Брежнев упомянул имя Сталина, поползли слухи о предстоящем пересмотре партийных решений в отношении Сталина и сталинизма. В ответ 25 выдающихся деятелей науки и культуры, в их числе академики Л. Арцимович, П. Капица, А. Сахаров, И. Тамм, писатели В. Некрасов, К. Паустовский, К. Чуковский, направили руководителям страны письмо-предостережение (недавно оно было опубликовано в «Огоньке»[447]). Письмо разошлось в списках, получило широкое распространение и дало толчок «репетиционной кампании». Люди известные, увенчанные орденами и премиями, менее известные и совсем неизвестные стали обращаться к политическому руководству с призывами и просьбами. Сотни тысяч людей, составляя и подписывая письма, высказываясь за или против тех или иных действий или намерений властей, претендовали на участие в политической жизни страны.
Мощнее стала волна «самиздата». Воспоминания, исторические исследования, перепечатки из изданий, запрятанных в спецхраны, – все, что не успело проскочить в печать во времена чуть ослабленной цензуры, шло в «самиздат». «Реквием» А. Ахматовой, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, «Дискуссия в биологической науке» Жореса Медведева, «Перед судом истории» Роя Медведева и многое другое читалось, обсуждалось, формировало общественное сознание.
В мае 1967 г. состоялся очередной съезд писателей. Накануне съезда прозвучали обвинения Союза писателей в том, что тот пренебрегает своим долгом, не защищая подвергшихся репрессиям литераторов, не выступая против тех, кто мешает публикации. Цензуру начали было обходить с флангов: «самиздат» пополнялся ввезенным из-за границы «тамиздатом», в домах, на улицах звучали записанные на магнитофонную ленту песни Б. Окуджавы, А. Галича, Ю. Кима, В. Высоцкого и других «бардов».
Если в свете сегодняшней гласности сравнить все то, что писали, обсуждали и напевали в начальные годы «застоя», с тем, что сейчас печатают газеты и журналы, – по смелости, резкости, дальновидности «самиздат», конечно же, уступит. Но без «тогда» вряд ли было бы «теперь».
Способы устрашения
Началось становление независимого общественного мнения, вбиравшего многообразие позиций, взглядов, настроений. Примириться с этим власти не могли. Быть может, главное из изобретений эпохи «застоя» – создание высокоэффективного, не в пример экономике, механизма дифференцированных адресных репрессий. Чтобы восстановить «единомыслие», вовсе не требовалось обращаться к массовому террору.
Для начала протестующих «отщепенцев» стали проучать средствами «общественного воздействия», изгоняя из партии, с работы, отлучая от науки, литературы, зарплаты, а впоследствии – от «дыма отечества». И делали это главным образом руками коллег по перу и науке, вчерашних друзей-товарищей.
Однако в обществе, вдохнувшем «глоток свободы», нашлись люди, которых было трудно запугать «неприятностями» по службе, купить привилегиями, загранкомандировками, бог весть чем еще. Для таких была разработана шкала иных кар. Уголовный кодекс в 1966 г. пополнился статьей (190 прим), согласно которой предусматривалось лишение свободы за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» – до 3 лет; за те же деяния, которые квалифицировались как «агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти», грозило наказание до 7 лет (статья 70). Хотя карательные органы, находившиеся вне сферы публичного обсуждения, не прибегали к массовым репрессиям, им вполне доставало сил и «прав», чтобы расширительно толковать законы и творить произвол.
Так называемому диссидентскому движению (сейчас газеты отнесли бы его к числу неформальных) были свойственны и сильные и слабые стороны, порой в нем сказывались чьи-то амбиции. Но несомненно, что впервые в истории последних десятилетий сложилась и выдержала испытания линия общественного протеста. Трудно подсчитать, скольких талантливых и твердых духом людей лишилось общество, поскольку эти люди не получили возможность конструктивно работать ради общественного обновления. Настойчивые усилия по разложению, подавлению, а позже и изгнанию из пределов страны людей, «виновных» лишь в том, что они стремились отстаивать законность, право на гласность и творчество, не только привели к деформациям в духовной и культурной жизни, но и имели своим следствием неоправданное раздувание сугубо идеологических функций государственных служб, прежде всего – ведомства безопасности.
У нас были и герои, и праведники. Но очень уж одиноко звучал их голос. Обвиняя Брежнева и Суслова, не следует забывать, сколь многим протест против двоедушия, призыв «жить не по лжи» казался беспочвенным максимализмом. Осенью 1969 г. торжественно и единодушно изгнали из Союза писателей А. Солженицына, а потом и тех, кто пытался его защищать. А. Сахарова до поры оберегали прошлые заслуги перед государством, ордена и звания. Его возраставшая политическая активность вызвала переполох в стане ревнителей «идеологической дисциплины». Но его обращения падали в пустоту. Машина «единодушного» осуждения (как и одобрения) действовала все более безотказно.
Да, счет прямым жертвам шел на десятки и сотни, не на миллионы – как при Сталине. Но неправый суд бьет не только по осужденным. От несправедливости, хотя бы в отношении одного-единственного человека (учиненной, конечно же, «во имя общества»), страдает все общество, даже если оно не осознает этого. «Мученики догмата, вы тоже жертвы века», – писал Пастернак. А мученики страха? А верноподданные «единодушия»? А те, кто поднимал руку просто, чтоб не выделяться? Кто делал вид, что «это» его не касается? Кто сберегал себя для «более важного» дела? И кто в бессильном отчаянии сжимал кулаки? Верно было сказано: «Народ, который сегодня без чести, завтра будет без хлеба».
Под юбилейный шум
Прилагательное «ленинский» стало безудержно использоваться по отношению к текстам и акциям начальственных лиц. Конечно, попытка создать иллюзию непосредственной преемственности власти и авторитета («от Ильича до Ильича») имела не больше шансов на успех, чем превознесение литературных или полководческих талантов бесцветного лидера. Но все более утверждавшиеся правила игры были таковы, что требовался не столько какой-то реальный успех, сколько рапорт об успехе.
«Юбилейная» эпоха ориентировала на воспоминания о героических свершениях прошлого. Отсюда идея превращения истории нашего общества в священную историю (здесь пригодился сталинский образец – и как метод, и как материал). История имела право на существование только как история великих побед безупречных героев. Не успели мы в конце 50-х годов трезво взглянуть на какие-то периоды собственной истории – например, Гражданскую и Отечественную войны, коллективизацию, 1937 год, – как все попытки объективного научного исследования велено было зачеркнуть и забыть. Обозначилось стремление под видом объективности реставрировать сталинский ореол. Речь шла о том, чтобы вставить правление верховного вождя в «священный» ряд – разумеется, с необходимыми оговорками относительно отдельных просчетов и отступлений.
Конец 60-х гг. отмечен рядом идеологических набегов. Разгромили Институт социологии. Экономистов стали прорабатывать за увлечение рынком, литераторов, художников, режиссеров – за «очернительство» и «антипатриотизм». Кстати, именно тогда заставили примолкнуть первые экологические движения, например борьбу за чистоту Байкала. Нестандартным подходам в науке вновь вменялось в вину отступничество от «незыблемых основ». Идеологических жрецов во главе с М. Сусловым отличала патологическая ненависть ко всему «неположенному» и «чуждому».
Мы излагаем события так, как они видятся из сегодняшнего дня. Но в середине 60-х годов многое еще казалось – а может быть, и было? – непредрешенным. Еще жил и сопротивлялся «Новый мир» Твардовского. Еще не было разбито, разогнано, деморализовано «поколение 56-го года, дети ХХ съезда». Еще не воцарились коррупция и безразличие.
Политическое развитие страны направлялось людьми, которые прошли соответствующий отбор. Но и сами эти люди проходили школу той политики, которую они проводили.
«Победителей» – судят
В 1968–1969 гг. закончился «переходный» период, победила концепция, которую на Западе нарекли «доктриной Брежнева». Под лозунгом «высоких интересов» социализма она утверждала правомерность диктата и монополии на истину. В новой обстановке оказалось возможным покончить с журналом Твардовского «Новый мир», впоследствии расправиться с академиком А. Сахаровым, переписать многие страницы истории Отечественной войны, заключать людей с «отклоняющимся социальным поведением» в спецпсихлечебницы… Голоса протеста звучали все слабее.
«Победители», добившиеся таких вот «успехов», не властны были, однако, приостановить вползание страны в глубокий социальный кризис: нарастало экономическое отставание, падал международный престиж страны, социальная и нравственная коррозия затронула не только верхи.
Однако не все молчали. Прямо или косвенно, публично или для узкого круга, а то и просто «в стол» – говорили, писали, печатали, передавали. Не была затоптана настоящая литература: пробиваясь через рогатки, она вела честный разговор с читателем, противостояла духовному разложению. Прорывались на сцены и экраны талантливые спектакли, кинофильмы мирового класса. Созревали граждански мыслящие силы и в аппарате – партийном и государственном. Подрастало новое поколение молодежи…
1988Шестьдесят восьмой, переломный
Иногда говорят, что високосные годы вмещают больше событий, чем годы обыкновенные. К 1968-му это, в самом деле, относится. Трудно назвать в последующие два десятилетия другой год, столь насыщенный событиями, притом имеющими далекие и серьезные последствия.
Наследство «шестидесятых»
Этим годом для страны фактически закончились беспокойные «шестидесятые» и начался отсчет «застойных», как когда-то говорили, «семидесятых». (Социально-политическая хронология не совпадает с календарной: рамки условных 60-х охватывают период 1953–1968 гг., а 70-х – примерно 1969–1985 гг.) События 60-х у нас определялись попытками придать стране более современный вид, ничего не меняя по существу в общественном строе и в государстве.
Ключевой момент эпохи – осуждение Сталина, сделанное так, чтобы сохранить в неприкосновенности существующий режим. Отсюда – «оттепель» и цензура, шумная критика «культа личности» (была ведь такая фальшивая формула!), но не правящей партии, ХХ съезд и жесточайшее подавление венгерского восстания 1956 г., бесконечные перестановки в кадрах, но никакого намека на экономические и тем более политические реформы. Не было массовых расправ, но затравили Бориса Пастернака, запретили трогать Лысенко, поносили «формалистов», чуть было не разогнали Академию наук. Все эти метания связывались с взбалмошным нравом и стилем руководства Хрущева, поэтому выглядели неустойчивыми, зыбкими, часто казалось, что «все» может завтра же либо развалиться, либо вернуться к ситуации всеобщего террора. Позже стало ясно, что и попытки перемен, и их ограниченность имели более серьезные основы, чем характер Никиты Хрущева: правящий слой уже не мог жить по-старому, но не имел альтернатив.
Поэтому изменились времена и произошли необратимые перемены. Какими бы идеологическими выкрутасами ни пытались приуменьшить значение таких акций, как ликвидация лагерей и массовая реабилитация жертв, последствия были серьезными. Ушла атмосфера всеобщего страха и доносительства (хотя и устрашители, и доносители остались). Кроме того, исчез простейший источник дешевой рабочей силы – основа всех великих строек. (Иссяк и другой – бесплатная работа в колхозах.)
Эпоха 60-х стала подходить к своему концу с октябрьского партийного переворота 1964 г., когда властвующая элита избавилась от своего неугомонного и непредсказуемого лидера. Сразу появились опасения, что взят курс «полный назад», что произошел сталинский или военный переворот (о военной опоре власти стали говорить с 1965-го, когда юбилей Победы был очень пышно отмечен). Новые власти, которые долго казались случайными, временными, что давало пищу анекдотам о «временном правительстве», заявляли, что будут продолжать прогрессивную линию, но только без «субъективизма» Хрущева. Поначалу было непонятным лицо нового режима (тогда Брежнева называли «бровеносец в потемках»). Потом стало ясно, что лица-то и не было вовсе: самый длительный и стабильный в нашем ХХ в. режим оставался удивительно безликим. Их действия определялись не личными прихотями, а природой режима.
Придя к власти, Брежнев и компания постарались всех успокоить: правящий аппарат уверили, что его не будут перетряхивать, интеллигенцию – что ее будут уважать (отказались от планов разгона Академии наук, от реформы правописания, от поддержки Т. Лысенко), международных партнеров – что будут проводить миролюбивую политику (вскоре ей придумали и словечко – «разрядка»). Первым испытанием надежности таких обещаний стало дело Синявского – Даниэля. Их судили с большим пропагандистским шумом в феврале 1966-го, как раз в день десятилетия доклада «О культе личности…» на ХХ съезде; ничем больше эта годовщина не была отмечена. Тем самым власть показала, что она могла быть более или менее терпимой только до известного предела: ни малейшего покушения на интересы режима. Причем, конечно, монопольное право определять эти самые интересы сохраняло начальство.
1968: две линии событий
Две связанные между собой линии событий определили напряженность 1968 года. С одной стороны, череда протестов и репрессивных действий, которая началась с процесса Даниэля – Синявского и продолжалась все 70-е годы. Сначала были довольно осторожные протесты против приговора, потом репрессии против протестовавших, протесты против репрессий и новые репрессии против протестующих и т. д. Главной формой протеста с 1967-го стали коллективные письма, адресованные «наверх», но распространяемые через каналы радио «Свобода», Би-би-си и прочие. Это приводило власти в ярость. Решено было ударить посильнее, и с осени 1967-го развернулась неожиданно жестокая кампания преследования «подписантов»: десятки и сотни людей из академической, писательской среды исключали из партии, выгоняли с работы, лишали возможности выезжать за рубеж, заставляли унизительно каяться и прочее. Одни замолчали, другие, оставшись без работы и перспективы, уехали из страны (через пару лет, когда это стало возможным), третьи – их было совсем немного – стали работать на «самиздат». Появилась тоненькая струйка полуподпольной бесцензурной политической публицистики, и она уже не прерывалась до конца 70-х.
Впрочем, здесь требуется одно пояснение. Круг людей, непосредственно занимавшихся, как писали в приговорах, «изготовлением и распространением материалов, наносящих ущерб» и т. д., был действительно узок – десятки и сотни людей. Но читали их все, то есть все просвещенные и интересующиеся общественными делами, прежде всего в крупных городах. Тут счет шел уже, наверное, на десятки и сотни тысяч читавших, передававших, интересовавшихся, симпатизировавших. И, кстати, читали без разбора, без разделения на направления и не придираясь к достоинствам текстов всё, попадавшее в сферу самиздата. Интересным и ценным казалось все, что обходило запреты. Жесткие линии несовместимости между «демократами», «патриотами», «марксистами», самостоятельными мыслителями и другими стали видны позже.
Начало 1968-го – пик «подписантской» активности. По подсчетам Андрея Амальрика, коллективные и индивидуальные письма к весне 1968-го подписали 738 человек, затем поток посланий «начальству и миру» иссяк. Такая форма протеста утратила не только массовость, но и смысл. Ведь когда поднялась волна протестующих коллективных писем, это не требовало личной отваги: казалось, что «еще можно», а спустя считанные недели оказалось, что «уже нельзя», – время изменило цвет, власти перепугались и ожесточились. Кто решался подписывать «письма» после того, решался на поступок и знал, чем это грозит. Рубежом был 1968 год.
Непосредственные результаты всей волны протестов и разоблачений (потом это назвали правозащитным движением) были довольно скромными: в некоторых случаях произвол по отношению к отдельным людям удавалось умерить. Сейчас, издали, кажется важным результат косвенный: как будто появилась некая новая для нашей жизни солидарная общность людей, объединенная стремлениями к демократизации общества.
Но с самого начала эта общность делилась на активистов и зрителей («читателей»), и именно это разделение имело самые серьезные и трагические последствия, влияние которых мы переживаем сейчас. Как оказалось, все наши демократические мечтания, настроения, а позже и начинания строились на жестком разделении «деятелей» и «зрителей», которое исключало активное массовое участие в социальных действиях. Публика восхищалась или ужасалась, а некоторые участники действа только на это и рассчитывали. Отсюда и привычка ловить малейшее дуновение ветерка с дальней или близкой стороны, мечтать и надеяться на то, что «кто-то» проломит стену безвыходности.
Отступление 1
Что сегодня помнят? В июле 1998 г. ВЦИОМ задал своим респондентам (1600 человек по общероссийской выборке) вопрос: кого называли диссидентом? Подсказок не предлагалось, люди давали определения своими словами. В результате получились такие группы ответов (в процентах от числа опрошенных):
Самая любопытная цифра здесь – последняя: три четверти населения после застоя, гласности и т. д. просто не знают, кто такие диссиденты. Причем оказывается, что самые молодые – они и есть самые незнающие (только 18 % дают содержательные ответы). Больше всех помнят те, кому от 25 до 55 лет (29–30 %), а из высокообразованных – даже больше половины (53 %). «Врагами, изменниками» именуют диссидентов одинаково редко (по 3 %) и сторонники коммунистов, и демократы.
Одна небезынтересная деталь: из 1600 опрошенных только 1 (один!) человек назвал диссидентов демократами. Так девальвирован последний термин за последние годы наших политических разборок…
Зато вопрос о роли диссидентов довольно четко разделяет нынешних политических соперников. Из общего числа опрошенных считают, что диссиденты играли в развитии нашего общества:
Чаще других позитивно оценивают роль диссидентов люди высокообразованные (соотношение оценок 45: 13), жители больших городов (35: 9), реже в малых городах (18: 13) и селах (18: 15). Политические предпочтения приводят к контрастным мнениям: у симпатизирующих коммунистам они осуждающие (15: 24), у тех, кто считает себя демократами, патриотами, центристами, сторонниками партии власти, одобрение решительно преобладает (например, у демократов в соотношении 41: 11). Средние оценки, приведенные выше, как водится, стерты, но и в них преобладает позитив.
Ветер из Праги
Со «зрительским» характером наших демократических устремлений связана была вторая линия событий и переживаний нашего 1968-го – так называемая Пражская весна. (Разумеется, я имею в виду «нашу» сторону чехословацкой драмы, то есть то, как ее воспринимали в советской либерально настроенной среде; это важно и, как мне кажется, поучительно.)
Сейчас легко посмеиваться над надеждами лета 1968-го: какое могло быть «человеческое лицо» у партийной диктатуры советского образца? Ростки свободы были слабыми и заранее обреченными на вытаптывание, что и случилось. Все это верно и даже банально, поскольку «задним умом» все крепки. Но чтобы понимать значение событий, нужно пережить их в тех рамках места и времени, в которых они происходили. Только тогда становится понятным смысл надежд, разочарований, жертв. И конечно, уроки на будущее.
Поэтому и важно знать, что означал тогда ветер свободы из Праги.
Для нас, то есть для широкого, в основном «зрительского» круга осторожно-свободомыслящих конца 60-х, каждая встреча, каждая «кухонная» дискуссия – других не было – начиналась с выяснения последних новостей «оттуда». Имена лидеров и властителей дум пражского движения не сходили с уст: Дубчек, Смрковский, Кригель, Пеликан, Гольдштюккер… Наверное, не все знали, не все понимали, что-то приукрашивали, желаемое принимали за реальность, явно преувеличивали массовую поддержку и сплоченность движения.
Но мы видели в начинаниях или в декларациях этих людей то, что мечтали увидеть у себя, – тот самый росток свободы. Прежде всего свободы слова и некоторой открытости общественной жизни: ведь официально, законом отменили цензуру как явление, позорное для государства. Появилось примерно то, что через двадцать лет у нас назвали гласностью. Для конца 60-х это, если использовать известную формулу, было великолепно и звучало гордо.
Как известно, даже самые радикальные из пражских реформаторов и не шли дальше, никто не покушался на государственную собственность, на руководящую роль партии и тому подобные священные основы социализма советского типа. Более того, ведь видимым инициатором перемен выступала сама правящая партия (точнее, часть обновленной в январе партийной верхушки во главе с первым секретарем). Перемены прежде всего касались состояния умов и, понятно, затрагивали прежде всего мыслящий слой.
В этом Пражская весна 1968-го как будто радикально отличалась от давней будапештской осени 1956-го и еще далекого польского лета 1980-го. (Существует такое околонаучное поверье о двенадцатилетних циклах однотипных исторических событий, в данном случае социально-политических потрясений: 1956–1968 – 1980–1992, последняя дата с некоторыми поправками уже относится к нашей собственной жизни…) Но как раз сдержанность, умеренность чехословацкого движения казалась чрезвычайно заманчивой и возможной для подражания в наших тогдашних советских условиях.
Умеренность, даже «компартийность» чехословацкого движения, казалось, создавала некоторую защищенность от прямой интервенции со стороны «старшего брата». И надежду, которую сейчас хочется обозвать жалкой и наивной: если «им» (то есть нашим властям) придется стерпеть что-то вроде «красной демократии» в Праге, то легче станет дышать и у нас. А кроме того, и даже, пожалуй, главное в том, что собственные наши надежды долго питались образом «второго пришествия» либерального реформатора, как бы нового и дополненного издания Хрущева. Других источников инициативы перемен на наших горизонтах просто не видно было. (Спустя два десятка лет мы действительно ощутили «первотолчок сверху», но исходящий не столько от прозрения, сколько от разложения правящей верхушки.)
В то лето А.Д. Сахаров впервые выступил как общественный деятель, опубликовав (на Западе и в самиздате, конечно) «Размышления о мире, прогрессе и духовной свободе». Одна из позиций – поддержать чехословацкие реформы.
Лен Карпинский написал тогда прекрасную статью-манифест «Парижская коммуна ХХ века», где пражские реформаторы сравнивались с повстанцами 1871-го. (За это его потом исключали из партии.)
«Танковый социализм»: против кого? То, что казалось привлекательным либерально настроенным интеллигентам, с самого начала вызывало страх и ярость всей правящей верхушки. Даже мысль о том, что «лучший в мире строй» нуждается в реформах, приводила в ужас. (Двадцать лет спустя часть высшей номенклатуры искала в осторожных реформах средство спасения строя, что и было признаком ее «идеологического» разложения, но в 1968-м этого еще не было видно.) Все средства нажима, запугивания, весь арсенал идеологических проклятий уже с начала, а особенно с весны, после отмены цензуры и вынужденной отставки президента Новотного, были брошены против «отступников». И признак прямой военной интервенции – по образцу Берлина-53 и Будапешта-56 – возник сразу же после январского пленума (когда руководство КПЧ оказалось в руках А. Дубчека и его сторонников). Правда, за последующие месяцы уговоров и устрашений призрак несколько поблек, временами даже казалось, что Москве придется стерпеть пражские перемены и «все обойдется». Не обошлось.
Для любой системы идеологии и власти, которая претендует на абсолютную монополию, самым страшным врагом был не «посторонний», а еретик, уклонист, отступник, то есть «свой», сделавший полшага в сторону, потому что он может увлечь за собой других и подорвать нерушимость «монолита» власти или вероучения. Так считали церковные и партийные инквизиторы в давние и недавние времена. По такой логике самый осторожный, притом истово верующий отступник от обязательного канона должен считаться самым страшным преступником, врагом, извергом (в бесподобной терминологии сталинского «Краткого курса») и т. д.
А с «врагами» церемониться – спорить, убеждать, доказывать – не полагалось, за проклятием должна была следовать и крайняя мера. Поэтому первым, последним и решающим аргументом во всех спорах об истинной вере или истинном социализме выступала сила. В августе 1968-го использовались разные формы насилия – прямого и косвенного. Танки нужны были, чтобы предупредить массовые протесты и прикрыть акции групп захвата и последовавшие «чистки». Не сразу, но за полтора-два года беспокойную страну, а точнее, ее политическую элиту заставили склонить голову перед «ломом», против которого приема не было.
Правда, «нормализация» коснулась политической поверхности как чехословацкого общества, так и его отношений со «старшим братом». За последующие двадцать лет созрело новое поколение и вышла на сцену новая политическая элита, свободные от иллюзий социализма и готовые для «бархатного» разрыва с ним. Чему мы можем, отмечу это сегодня, только завидовать.
Отступление 2
Что помнят сегодня? В том же исследовании за июль 1998 г. респондентов попросили указать, какая из точек зрения на ввод советских войск в Чехословакию в ночь на 21 августа «того» года им ближе. Результаты получились такими (в процентах от числа опрошенных):
Итак, более половины наших соотечественников просто не знают, что тогда произошло. Больше всего «незнаек» среди молодежи (79 %), меньше всего среди тех, кому 40–55 лет (50 %), две трети (65 %) москвичей не знают, не помнят.
Если перегруппировать оценки, получим, что как-то оправдывают интервенцию 23 %, решительно осуждают 21 %, неясна оценка у 8 %, половина отказывается от оценок. У молодежи преобладает осуждение (6: 17), у старших (55 лет и старше) – оправдание (33: 18), высокообразованные чаще осуждают (26: 32), малообразованные чаще оправдывают (22: 13), жители больших городов и москвичи скорее осуждают вторжение (21: 27), а в селах скорее оправдывают (25: 18). Партийные пристрастия делают оценки событий противоположными: среди сочувствующих коммунистам значительно преобладает оправдание интервенции (36: 12), среди демократов – решительное осуждение (13: 37).
Коротка и смутна наша историческая память…
Что делал остальной мир
Множество событий самого разного типа происходило на всех континентах в этот беспокойный год. Студенческая «революция» бушевала в университетах Европы и Америки, в моду вошли «левые» лозунги и «левые» толкования марксизма. В Польше власти разогнали молодежную демонстрацию и занялись чисткой смутьянов «некоренного» (то есть еврейского) происхождения. Китай корчился в погромах «великой культурной революции». США увязали все глубже в кровавой трясине вьетнамской войны. На этот год приходятся убийства Мартина Л. Кинга и Роберта Кеннеди.
Волновались и переживали чехословацкие события и советскую реакцию немногие, в основном те западные левые, кто еще надеялся на обновление советского социализма.
Против танков, конечно, дипломатично протестовали, но довольно сдержанно. Запад почти устроили официальные (пожалуй, в тот раз вполне искренние) заверения советских властей в том, что происходит чисто внутренняя разборка среди «своих». У нас долго потом отрицали существование «доктрины Брежнева», по которой СССР имел право наводить свои порядки во всем «лагере», но Запад фактически ее признавал. Мир был поделен, военные соревнования времен разрядки лишь подкрепляли секретные протоколы Ялты (1945-го), где этот раздел был задан.
Труднее стало дышать. Правящая советская элита определилась в своих интересах: на последующие пятнадцать лет все намеки на обновление и реформы отменялись. Либералы утратили свое влияние в партийных коридорах, но уже вымерли «ортодоксы», те и другие уступили места карьеристам. На них нечего было надеяться, но и большого страха они не внушали.
Сильнее всего события 1968-го ударили по либеральным иллюзиям, этой вечной и основной пище духовной нашей интеллигентной публики.
Если вспомнить, какие чувства вызвало вторжение танковых дивизий великого Союза в «братскую» страну, то главным был мучительный стыд.
Во-первых, стыдно было за наши власти, которые дошли до такого позора. («Наши», потому что других не было даже в воображении, а еще потому, что никакое критическое отмежевание не снимает ответственности за тех, кого терпят и кого поэтому заслуживают.)
Во-вторых, стыдно было за свою беспомощность. Восемь человек вышли в том августе на Красную площадь с протестом против вторжения. Остальные – вчерашние подписанты и будущие демократы – возмущенно молчали, опасаясь репрессий и понимая, что ничего не могут изменить. Как у Юлия Кима: «На тыщу академиков и член-корреспондентов, на весь на образованный ученый миллион нашлась лишь эта горсточка…» (Второй раз в моей жизни подобное чувство пришлось испытать еще один раз, много позже – в декабре 1994-го[448].)
Герцен писал когда-то: «В Европе был прогресс, а нас за это били». Жить, работать, думать после перелома 1968-го становилось у нас все труднее. Самые характерные анекдоты эпохи кончались сентенцией типа: «Не гони волну, всем хуже будет». До худшего – до всеобщего страха и всеобщей охоты на ведьм – дело не дошло.
1998Секрет нестабильности самой стабильной эпохи[449]
Сегодня пресловутая «эпоха застоя» может показаться чуть ли не образцом благоденствия и устойчивости во всех областях жизни – экономической, политической, социальной, да и международного положения страны тоже. Да, были там и зоны напряженности, конфликты, использовались и репрессивные меры, но все где-то на периферии общественного бытия, в отдельных местах. По отношению к отдельным людям, на пограничных рубежах «нашей» мировой системы и т. п. На важных собраниях звучат и рассуждения о том, что «застой» все же лучше кризиса и распада…
В печати, в основном в текущей публицистике, подвергнуты суровому обличению недальновидные и коррумпированные лидеры эпохи – причем при активной поддержке общественного мнения. Есть основания позитивно оценивать деятельность Хрущева, имеются и поклонники Сталина, разворачиваются непростые споры о роли лидеров первых революционных лет – Ленина, Троцкого, Бухарина и др. Но в оценке Брежнева, Суслова и других лиц этого круга-времени царит удивительное единодушие. И действия определенных людей, и сам подбор этих людей на вершине общественной пирамиды, и возможности, которыми они располагали, и природа массового терпения (трудно отрицать, что оно существовало) – все еще нуждается в обстоятельном анализе. Без него необъяснима «связь времен» нашей истории, и вовсе не потому, что «застой» – самый долгий ее этап. Он оказался итоговым, а потому ключевым для понимания предшествовавших периодов, прикрывавшихся звонкими словами о великих успехах, грандиозных преобразованиях и еще более величественных целях.
Именно эта эпоха – закономерное наследие дискредитированного массового насилия, неудачных попыток реформы, деморализации, разочарования, усталости, прикрывавшихся высокими словами. Это то застойное болото, куда впадают многие бурные и мутные потоки нашей послеоктябрьской истории. Здесь кульминация и итог неэкономического хозяйствования, недемократического управления и идеологического двоемыслия.
Но время это не только высвечивает всю нашу историю. Оно и поныне с нами и в нас. Здесь окончательно сформировался экономический, социальный и психологический механизм, который мешает обществу – и, видимо, долго еще будет мешать – выбраться из трясины. Древние говорили, что в одну и ту же реку нельзя вступить дважды, поскольку она течет. Но в трясину застоя, еще не выбравшись из нее до конца, можно скатиться вновь: общеизвестно, что всякое сползание вниз и для человека, и для общества куда легче, чем подъем.
Во все предшествующие времена советской истории (война, естественно, не в счет) провозглашались лозунги и реально действовали стимулы общественных преобразований. Утратив в начале 20-х гг. революционный дух, общество и власть сохраняли революционные претензии: неисчислимые жертвы приносились во имя достижения начертанных свыше ориентиров, высшим законом общественной жизни оставалось постоянное насилие над большинством со стороны правящей иерархии, которая провозгласила себя носителем конечной истины и выразителем подлинных интересов народа и самой истории. Общество оставалось принципиально нестабильным, несбалансированным по всем параметрам – вплоть до экономических пропорций и соотношений производства и потребления. Правда, в пору определенного «первоперестроечного» отрезвления преобразовательный пыл несколько ослаб и сводился к торжественным декларациям о построении коммунизма при «нынешнем поколении советских людей» или «победе в мировом соревновании» (в хрущевском недипломатическом просторечии это звучало как «мы вас похороним!»). Сомнительно, что сам автор этих лозунгов верил в их реальность, практически никто их не принимал всерьез – это был обычный для советской жизни идеологический камуфляж. Действительный смысл преобразовательских начинаний Хрущева во второй половине его «царствования» сводился к нескончаемым административно-управленческим перетряскам.
Пришедшая им на смену «брежневская» эпоха была первой и единственной, которая провозгласила своей целью собственное самосохранение. Ключевым словом, словесным символом эпохи стала «стабилизация» (сам термин вошел в политический оборот после вторжения в Чехословакию в августе 1968 г., но он несомненно имел и «обратную силу»). Правда, оставалась как будто в силе партийная программа 1961 г. с ее фантастическими обещаниями, продолжались «стройки века», время от времени предпринимались и попытки при удобном случае расширить зону влияния «мировой системы» в сторону африканских пустынь и афганских ущелий. И, конечно же, продолжались необратимые и дестабилизирующие процессы в самом обществе и его экономике – истощение сырьевых и прочих ресурсов, разрушение деревни и пр.
И все же принцип стабилизации, баланса, самосохранения неверно было бы считать просто очередным пропагандистским лозунгом, он реально действовал и определял характер общества и его властей. Даже невосполнимая растрата сил и средств требовалась для поддержания хоть какого-то баланса (при отсутствии фактов реального прогресса). Неэффективные в принципе попытки территориальной экспансии, равно как и бессмысленно-опасные «ракетные игры» (например, с РСМД), исполняли функции поддержания ситуации угрозы по отношению к «противной» стороне; а сама же эта ситуация, которая для страны оборачивалась высоким уровнем милитаризации экономики и заодно с ней внешней политики, пропаганды и т. д., поддерживала мировой престиж мировой державы, поскольку никакими иными силами (экономического или технического прогресса) этого добиться было невозможно.
Сложились и как будто приобрели надежность социально-политические механизмы «балансировки» различных областей жизни. Например, таким механизмом можно считать сочетание умеренных требований к культуре и качеству труда с умеренными же ожиданиями в отношении его вознаграждения (афористически это звучало как «мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят»). Никто не требовал больше абсолютного послушания и единомыслия, достаточно было соблюдения неких «рамок» допустимого. Избирательные политические репрессии, характерные для эпохи, ориентировались не на тотальное выжигание «крамолы», а скорее на поддержание таких условных рамок. Основой внешней политики оставалось соблюдение «ялтинских» сфер влияния. Как известно, за несколько часов до начала карательной экспедиции в Чехословакии американский президент Л. Джонсон был специально предупрежден, что речь идет о наведении порядка среди «своих», при незыблемости раздела пресловутых сфер. По сути дела, на поддержании этого раздела строилась политика, получившая позже название разрядки, или «детанта».
В любой сфере и на любом уровне попытки сохранить статус-кво зиждились на некоем практически нащупанном балансе интересов. Казалось – и громогласно провозглашалось, – что сложилось достаточно прочное равновесие сил и интересов, которое «всех устраивает». На деле же вся эта система многоярусных уравновешиваний никогда не обладала стабильностью. Вся связка «балансов» была не ультрастабильной, а, напротив, крайне хрупкой.
Баланс сил «наверху»
В 50-е гг. общая картина выглядела так: существовали политически незрелое и инертное, только начавшее пробуждаться после кровавого террора общество и власть, непрерывно экспериментирующая во всех сферах социальной жизни, ищущая – хотя и неумело, непоследовательно – выходы из глухих тупиков сталинизма. После октября 1964 г. роли поменялись. Представления властей о должном и допустимом становились все более консервативными, а их поведение – охранительным. Общество же созревало и прозревало, открывало себя и мир, выдвигало постепенно кристаллизовавшиеся идейные течения, начинало искать выход на поприще социальной и политической активности. Без этого были бы невозможны март 1985 г. и перестройка.
Эпоху застойной деградации общества открывает этап, когда многое еще оставалось невыявленным, когда в чем-то еще продолжала действовать инерция предшествующего периода, а сама политическая и идеологическая контрреформа на первых порах могла расцениваться как взвешенная реакция на раздражавшие многих эксцессы «волюнтаризма» и «субъективизма». В этой изначальной нераспознаваемости, вообще говоря, серьезная опасность и поучительный урок многих политических поворотов.
В октябре 1964 г. изображения Н. Хрущева были повсеместно сняты, малоизвестные ранее Л. Брежнев и А. Косыгин разделили между собой его посты. Это была главная и, по существу, единственная перестановка в верхнем эшелоне власти. Чуть позже ушел А. Микоян, и на видных местах стали появляться три портрета – Брежнева, Косыгина, Подгорного. Триумвират, впрочем, был фиктивным: серия интриг на верхушке правящей пирамиды вела ко все более полному сосредоточению власти в руках Брежнева и тех немногих, кто правил с ним и принимал решения вместо него (например, Суслова, позже – Устинова). Но в общем состав центральных партийных органов изменился очень мало. Когда на XXII съезде, полтора года спустя, пришла пора обновления ЦК, избранного еще в 1961 г., из 195 его членов лишь 26 человек не входили прежде в руководящие органы партии, а выбыли (в том числе по причине смерти) всего 35 его прежних членов.
Смена политического курса при минимальных кадровых перемещениях в верхних эшелонах власти – такова отличительная черта октябрьского переворота 1964 г. Из этого, видимо, можно заключить, что и ранее поддержка линии, заявленной на XX и XXII съездах партии, в верхах постепенно ослабевала и в последние годы держалась преимущественно на Хрущеве, на его личном влиянии и авторитете постов, которые он занимал (напомним, что в последние годы правления Хрущева реформаторские импульсы его политики в значительной мере исчерпали себя). Ушел Хрущев – ушла и политика, проводимая при показном единодушии.
Смещение Хрущева созрело как сговор узкой группы лиц, обеспечивших себе поддержку руководителей партийного аппарата, армии и госбезопасности. Относительная независимость лидера от его ближайшего окружения не обеспечивала его безопасности, скорее даже способствовала сплочению недовольных соратников. Легкость, с которой был осуществлен этот поворот, объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, смену лидера не надо было выносить на суд не только народа, но и партии. Каждое решение руководства со времен Сталина считалось «единственно правильным». И хотя в официальное объяснение причин, по которым был смещен вчера еще «наш дорогой Никита Сергеевич», никто не поверил, способ смещения никого не удивил. Мы останавливаемся в данном случае только на принципиальных моментах падения Хрущева. Конкретные детали заговора сейчас представлены (конечно, по-разному) в мемуарах и статьях многих свидетелей и участников тех событий – А. Аджубея, С. Хрущева, Ф. Бурлацкого, П. Родионова, В. Воронова и др. Партия и страна не знали публичного обсуждения ключевых вопросов общественной жизни, всякие разговоры о разногласиях среди высших иерархов могли расцениваться лишь как посягательство на единство партии, если не вражеская вылазка.
Во-вторых, новые лидеры, а не Хрущев были подлинными выразителями коренных интересов обширного социального слоя, состоявшего из партийных и государственных чиновников, хозяйственных руководителей, генералитета, кормившегося около науки истеблишмента и т. д., прошедших политический, культурный и нравственный отбор в годы террора и продвинувшихся по ступеням иерархической пирамиды в последующий период.
Сталинизм дал им огромную, непререкаемую власть над согражданами и завидные привилегии, а наследие XX съезда вернуло ощущение личной безопасности. Теперь, консолидировавшись как социальный слой со сравнительно устоявшимся составом и установленными им самим способами пополнения (анкетно-аппаратный отбор, выдаваемый за «ленинские принципы подбора кадров»), они претендовали на большее: защищенность и от углубления демократических процессов, и от «субъективистских» решений, при которых «волюнтарист», оказавшийся в центре системы, мог принимать произвольные решения: кому отправляться «на ярмарку», а кому – «с ярмарки».
Осенью 1964 г. решился – не временно, как тогда многие думали, а на два десятка лет – главный вопрос: о власти. Она перешла в руки самого устойчивого в нашей истории блока, включившего вчерашних умеренных сторонников Хрущева, ставших «либеральными» консерваторами, все более коррумпировавшихся аппаратчиков в центре и на местах, прагматических карьеристов, их научную и идеологическую обслугу. К силам поддержки этого блока можно отнести и политически активных неосталинистов (большинство которых, конечно, не желали возрождения массового террора, но требовали «выборочных» репрессий и не уставали выражать тоску по «порядку»), и начавшие прорезаться националистически-консервативные («чернопочвенные») течения.
Впрочем, блок этот консолидировался не сразу, да и политический курс некоторое время оставался неясным: видимо, одолевшие Хрущева вчерашние его сподвижники сами были ошеломлены победой и еще не вполне представляли, как следует распорядиться своей добычей. Во всяком случае, некоторые из первых шагов новой власти подавали надежду не только бюрократии. Была реабилитирована генетика и покончено, наконец, с дутым авторитетом Т. Лысенко.
От угрозы разгона была спасена Академия наук (не угодившая начальству отказом избрать в свой состав одного из бездарнейших ставленников Т. Лысенко). Отказались и от сумасбродного проекта слияния творческих союзов в единую организацию под государственным руководством. Признавая необходимость научно-технической революции, которая как-то прошла мимо нас, стали говорить о научном управлении обществом, об уважении к науке и научной интеллигенции и т. д. (дальше торжественных заявлений, как правило, не шли…). Было спасено от нависшей над ним реформы русское правописание (политической перемене мы обязаны тем, что не пишем сегодня «заец», «молодеж» и «отци»).
Если рассматривать все подробные моменты рациональных измышлений (к ним, конечно, относятся и ликвидация партийного «двоевластия», и упорядочение отношений с ООН и пр.), то можно предположить, что в начальный, переходный период послехрущевского руководства – примерно до 1968 г. – еще как будто имелись какие-то предпосылки для соединения разумных сил общества на более или менее реальной основе углубления и упрочения сдвигов «эпохи XX съезда».
Эти возможности не были, а возможно, и не могли быть реализованы. Три принципиально важных события: неудача экономической реформы, противопоставление власти демократически настроенной интеллигенции, наконец, подавление вооруженной силой реформаторского движения в Чехословакии – определили выбор «лица» эпохи.
Ее признаки достаточно четко обозначились уже на первом после падения Хрущева партийном съезде (1966 г., XXII съезд). На нем силы, которые осуществляли октябрьский переворот 1964 г., получили, как мы уже говорили, то, чего им все более недоставало, – стабильность власти, гарантированность карьеры и привилегий (разумеется, при конформном поведении). Из устава были удалены пункты о квотах обновления партийных органов и предельных сроках пребывания на выборных постах. После чехарды с реорганизациями, смещениями и назначениями владыки местного и союзного масштаба наконец-то могли вздохнуть спокойно, и Д. Кунаев вполне искренне произносил с трибуны: «Нынешний стиль руководства партии вселяет в нас чувство уверенности, умножает наши силы». Именно на XXII съезде партийная и государственная бюрократия взяла реванш за годы неуверенности, неустойчивости, унизительной слабости. Она ничего не забыла и кое-чему научилась. Она признала новых лидеров за своих. Она передвигала верных людей из резерва в верхний эшелон: в составе ЦК появились Н. Байбаков, А. Епишев, М. Зимянин, Г. Романов, Н. Тихонов, С. Трапезников, кандидатами в члены ЦК стали К. Черненко и Н. Щелоков, а в числе членов Центральной ревизионной комиссии появился А. Одылов (Адылов). Она утвердилась в том, что послабления интеллигенции, печати недопустимы. Она старательно вычеркивала тот вариант развития, который приоткрылся было перед страной в 50-е гг.
Экономическая реформа: причины провала
Через год после смещения Н. Хрущева, после косыгинского доклада на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС, была провозглашена и начата экономическая реформа. Основным содержанием ее было:
– расширение самостоятельности предприятий;
– усиление прямых договорных связей между предприятиями по поставкам продукции;
– установление экономически обоснованных цен;
– материальное стимулирование коллективов предприятий в зависимости от результатов их работы.
(Не правда ли, все знакомые уже нынешним поколениям задачи?).
Ну и, наконец, ориентация не на выполнение плана по номенклатуре, как раньше, а оценка деятельности предприятий такими «капиталистическими» показателями, как рентабельность и прибыль (трудно сейчас себе представить, какое это было «потрясение основ», сколько копий ломалось и сломалось при доказательстве своей правоты сторонниками и противниками этих «буржуазных» нововведений). Впервые тогда заявили себя «рыночники», однако, в отличие от времен нынешних, считалось, что рынок будет развиваться при ведущей роли плана. В 1967 г. проведена была реформа цен. Новые цены, как считали обосновывающие их введение экономисты, должны были полностью и единообразно отражать общественные издержки производства.
Несмотря на будоражащую западную «упаковку», «все, как у людей» не получалось и получиться не могло: система показателей лишь по названию напоминала западные аналоги. Величина их должна была не определяться сложными рыночными отношениями современного западного хозяйства, а рассчитываться по непонятным ценам, и, самое главное, у творцов реформы еще не развеялась иллюзия совместимости достаточно жесткой плановой системы Госплана или другого органа, определяющего потребности (правда, «по науке», с помощью ЭВМ и экономико-математических методов) и способы их удовлетворения, и рынка. Рынок должен был сложиться весьма странный, ибо даже в проекте реформы оставалась нерушимой кредитно-финансовая система, созданная в начале 30-х гг. и адекватная натуральному, командно-административному управлению, и, следовательно, важнейшее условие рыночного хозяйства – деньги как всеобщий эквивалент – в обновленном хозяйстве не возникало.
Нерушимым остался и принцип исключительно государственно-бюрократической «ничьей» собственности. То, на чем держится современный реальный рынок – свобода перемещения, права человека, социальные механизмы защиты и организации работников и т. д., – даже не упоминалось (да и не было понимания того, что буйная экономическая расточительность не вырастет на песке, а потребует хорошо удобренной социальной почвы).
Многострадальное сельское хозяйство, замученное бесконечными укрупнениями, новыми видами управления, экспериментами с техникой и т. д., так и осталось даже по проекту реформы под жестким контролем (всякие попытки «выбиться из ряда» вроде худенковской жестко пресекались).
Наконец, реформа тихо была сведена на нет начальственными распоряжениями, а всякое употребление слов «рынок» или «конкуренция» стало почти криминальным. Жупел «рыночного социализма», ассоциировавшегося с задавленным танками чешским вариантом развития и, конечно, несовместимого с социализмом «реальным» оказался очень удобным для пресечения всяких реформаторских попыток.
Интеллигенция и власть – между кнутом и пряником
Если традиционной линией по отношению к интеллигенции всегда была политика «кнута и пряника», то новое руководство страны эту вечную формулу как бы перевернуло, провозгласив политику «пряника и кнута». В роли пряника выступали торжественные заверения, о которых сказано выше. Время от времени в печати появлялись материалы, призванные, по-видимому, успокоить публику, встревоженную с самого «октябрьского» переворота 1964 г. опасностью возврата к мрачным временам сталинизма. Такую роль играли, например, две большие статьи, опубликованные в 1965 г. в «Правде» ее тогдашним главным редактором А.М. Румянцевым.
Что же касается «кнута», то она была обозначена довольно быстро и со всей отчетливостью. Целый ряд карательных действий, предпринятых высшими и идеологическими инстанциями в отношении виднейших деятелей науки, литературы и искусства в 1966–1969 гг., предостерегал: ученую и прочую интеллигенцию будут лелеять на казенный счет или по крайней мере терпеть только до тех пор, пока она будет знать отведенное ей место в обществе (заниматься своим делом у машин, приборов и пр.) и не вмешиваться в государственные дела. (Этот испытанный принцип подкупа, запугивания и морального развращения интеллигенции превосходно описан Г.Х. Поповым.) Тех, кто решался нарушить предложенную сделку, а тем самым и все «нерушимое единство» руководства и народа, клеймили, унижали, изгоняли. Ярлык «врага народа» отработал свое и уже не употреблялся. Был изобретен другой, более соответствовавший эпохе и ставший даже ее эмблемой, – ярлык отщепенца. «Врагов» уводили по ночам, и занимались этим люди специального ведомства. «Отщепенцев» проклинали при свете дня, притом – что особо важно – силами собственных трудовых, научных, учебных и прочих коллективов. В интересах самосохранения, а точнее сохранения собственных благ, привилегий и милостей начальства, соседи, друзья и коллеги устно и печатно, на публичных собраниях и в «открытых» верноподданнических письмах клеймили тех, кто решился на инакомыслие, и отмежевывались, отрекались, отказывались… Говоря словами поэта, бывали хуже времена, но не было подлей…
Первый повод для «выяснения отношений» между властью и интеллигенцией оказался как будто случайным: речь идет о так называемом «деле Синявского – Даниэля» и том, что за ним последовало. Осенью 1965 г. были арестованы два писателя, которые опубликовали за рубежом под псевдонимами несколько произведений резко критической направленности. (Сегодняшний советский читатель уже знаком с ними по массовым изданиям и может судить сам, насколько отличались литературно-политические порядки середины 60-х от нормальных.) Шумная кампания травли, поднятая вокруг мнимых «злодеяний» двух писателей, происходила при активном участии писательского начальства, академических властей и прочих официальных лидеров казенного интеллектуализма, спасавших собственные мундиры и пытавшихся сохранить тишину и порядок во вверенных им вотчинах.
На XXIII съезде партии «сам» Л. Брежнев клеймил «ремесленников от искусства <…>, которые избирают своей специальностью очернение нашего строя, клевету на наш героический народ». «Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а “руководствуясь революционным правосознанием” (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! (Аплодисменты.) А тут, видите ли, еще рассуждают о “суровости” приговора», – говорил с трибуны съезда М. Шолохов, незадолго перед тем увенчанный Нобелевской премией.
На первый взгляд могло показаться, что реакция власть имущих была неадекватной, но счет предъявлялся не только осужденным писателям. Озлобление против свободной мысли и свободного слова, решимость покончить с разоблачениями сталинского периода и восстановить нарушенную субординацию – все, что так долго копилось в кабинетах и коридорах, – теперь провозглашалось с трибуны съезда секретарями обкомов и руководителями идеологических ведомств.
И. Бодюл, В. Конотоп, М. Соломенцев, Н. Егорычев, А. Епишев, С. Павлов и другие обличали «Новый мир» и «Юность», «носителей бездарности и мелкобуржуазной распущенности», которые «под флагом свободы творчества <…> под предлогом борьбы с последствиями культа личности <…> под видом поборников исторической правды и достоверности <…> кокетничают перед зеркалом истории», «охаивают», «чернят», «типизируют единичные факты», «тенденциозно искажают», «выискивают в политической жизни страны какие-то элементы так называемого “сталинизма”». «Не выйдет, господа!» – восклицали ораторы, и зал отвечал аплодисментами.
Позорный суд над Даниэлем и Синявским положил начало сложному цепному процессу. А. Гинзбург и Ю. Галансков опубликовали (в «самиздате» и за рубежом) материалы этого процесса и поплатились за это свободой. Тогда появился целый ряд коллективных писем в их защиту – их подписали сотни людей (в основном из среды научной и гуманитарной интеллигенции) по всей стране. Первоначально вся эта кампания развивалась довольно спокойно и без помех. Но весной 1968 г., взбудораженные и напуганные развитием положения в Чехословакии, высшие власти – при полном содействии тогдашнего руководства Академии наук – решили нанести удар и тем остановить процесс. «Подписантов» обвинили в подрыве авторитета государства, стали пачками исключать из партии (впрочем, некоторых раскаявшихся оставляли с выговорами), снимали с работы. Многим позже пришлось покинуть страну. С рассказа об этой позорной истории началась «Хроника прав человека», самое известное «самиздатское» периодическое издание (тот год, по случайному совпадению, ООН объявила годом прав человека). Так было положено начало так называемому «диссидентскому» (демократическому) движению в стране и регулярной «самиздатской» периодике. Издания появлялись и прекращались из-за беспрерывных преследований, процессы «отщепенцев» следовали один за другим.
С самого начала обнаружилось существование нескольких потоков самиздата и «диссидентского» движения.
Наиболее влиятельным был, по всей видимости, тот, который непосредственно продолжал движение «подписантов». Его направление выражалось в заявлениях А.Д. Сахарова, деятельности Инициативного комитета защиты прав человека, Хельсинкской группы и др. Здесь отстаивались идеи демократических прав человека, высказывались, притом обычно довольно сдержанно, надежды на демократизацию советского общества.
С требованиями защиты прав человека выступали и группы, видевшие свою задачу в том, чтобы объяснить обществу и руководству страны необходимость вернуться к подлинным, ленинским планам создания социализма. Фактически они стремились продолжить традицию внутренней критики социализма, ведущую начало с оппозиций 20-х и начала 30-х гг., продолжавшуюся «младобольшевистскими» выступлениями в годы хрущевской «оттепели».
В 70-е гг. получили распространение взгляды и концепции, которые принято – не вполне точно – именовать неославянофильскими или неопочвенными. Не вполне точно, потому что славянофильство времен Аксакова или почвенничество у Достоевского было связано с просветительскими устремлениями и далеко не во всем противопоставляло себя Западу и миру (знаменитая идея «двух родин» Достоевского). В наших же условиях под лозунгами «почвы» выступили сторонники изолированности и исключительности России и русского. Яркая и справедливая критика принудительного «раскрестьянивания» и уничтожения национальной культуры, плач по земле и деревне все чаще переходили в проповедь враждебности ко всему непривычному и инонациональному. Верхушку этого довольно влиятельного течения составляла часть «деревенской литературы», получившей признание и популярность именно в «застойные» времена; более политизированные и откровенно ксенофобские лозунги в тогдашнюю печать почти не выходили и публиковались в нескольких самиздатовских журналах и сборниках.
Кроме перечисленных, имелись и другие идейные течения, находившие выражение в «самиздате» – религиозно-философские, национально-религиозные, национально-возрожденческие, связанные с идеями эмиграционных движений и др.
Надо отметить, что все это вовсе не была строго «нелегальная» литература: часть изданий выходила с именами и адресами редакторов, другая, будучи анонимной, не была столь засекреченной, чтобы полностью избежать бдительного ока «компетентных» органов.
По всей видимости, придерживаясь линии на эффективность выборочных, адресных репрессий, оные органы до поры как будто терпели ряд самодеятельных изданий, время от времени оказывали нажим на их организаторов, ограничивали распространение, стимулировали подозрительность среди правозащитников, использовали «включенную» агентуру и т. д. Взаимные споры и подозрения в доносительстве нанесли немалый ущерб всем течениям самостоятельной общественной мысли.
Избавиться от страха
Быть может, главное из собственных изобретений эпохи «застоя» – создание высокоэффективного, не в пример экономике, механизма дифференцированных, адресных репрессий. Чтобы восстановить видимость «единомыслия», вовсе не потребовалось обращаться к массовому террору.
Для начала решено было протестующих «отщепенцев» проучить средствами «общественного воздействия». И начали учить, изгоняя из партии, с работы, отлучая от науки, литературы, зарплаты, а впоследствии – и от дыма отечества. И делали это все главным образом руками коллег по перу и науке, вчерашних друзей-товарищей, под гул «одобряющей» толпы, в испуганном молчании, а то и вовлекая в игру кающихся грешников. А после того, как ухнули «дубинушкой», все как бы само пошло, процесс за процессом, проклинание за покаянием или наоборот, так что власти «придерживающие» могли порой даже выступать в роли милостивых спасителей от линчевания. Сказалось духовное наследие сталинизма, который не только уничтожал, но и растлевал людей духовно, прививал панический страх перед самостоятельной мыслью и несанкционированным действием, особенно коллективным.
Мы говорим об инерции страха, который как будто сохранял свое действие на людей годы и десятилетия после того, как рухнула система тотального устрашения. Но сам этот феномен требует своего объяснения, тем более что приходили в жизнь новые и уже как будто заранее запуганные поколения. Это значит, что продолжали действовать механизмы общества, воспроизводившие устрашение и готовность подчиниться ему. Психологи, историки и другие знатоки человеческих душ до сих пор не выяснили до конца чудовищный ряд духовных капитуляций «эпохи 1937-го», когда сильные люди каялись и оговаривали других. Сегодня мы довольно хорошо представляем, что тогда ломало людей. А потом, в «почти либеральные» брежневские времена?
По крайней мере, три фактора здесь продолжали (и – продолжают?) действовать.
Сохранена практически в целости система всеобщего, близкого к крепостному порабощения человека государством. Возможности квалифицированной работы по специальности, продвижения по службе, право на жилье и прочие даруемые свыше блага, а уж тем более привилегии международных контактов и выездов – все это звенья цепи, приковывающей человека к государственной колеснице. До тех пор, пока реализация всех этих – вполне обычных, записанных в Конституции – прав зависит от милости начальства, от характеристик, рекомендаций и пр., до тех пор, пока все эти блага и милости могут оборваться «компроматом», доносом, сомнением сверху, со стороны коллег или «доброжелателей», – сохраняется и воспроизводится страх.
Пока коллектив, цех, лаборатория спасают себя – свое привилегированное положение, поскольку во всеобщей системе привилегий всякое положение является привилегированным, – отторгая и клеймя всякого носителя бациллы инакомыслия, пока существует вся эта средневековая система круговой поруки и коллективного заложничества, – сохраняется и воспроизводится страх.
И, наконец, хотя далеко не в последнюю очередь, существует сам человек как социальный тип личности, как продукт социального отбора и направленного воспитания на протяжении многих десятилетий. Человек, который не столько хочет чего-либо добиться, сколько боится потерять то, что есть, преступить, выбиться из ряда, встретить осуждающий взгляд. В социальной генетике, в отличие от биологической, приобретенные признаки наследуются!
Человек, выросший свободным, уверенным в своем человеческом праве – не говоря уже о правах социальных и гражданских, – может идти один против всех, когда он считает, что он прав. Но это очень трудно сделать тому, кто жив лишь милостью начальства и социальной среды, а типичный продукт времени был и остается именно таким. Отсюда – многократные коллективные предательства, не столь частые, но все же постоянно повторяющиеся акты показных раскаяний «отступников». Они не всегда были просто лицемерными: немало людей пугались собственной смелости, видя перед собой глухую стену равнодушия, слыша со стороны друзей и близких перепуганный шепот «зря высовываетесь… всех подводите…».
Однако в обществе, вдохнувшем «глоток свободы», нашлись люди, которых уже трудно было запугать репрессиями по службе, купить карьерой, привилегиями, загранкомандировками и бог весть чем еще. Для них была разработана детально градуированная шкала более и менее суровых мер. Лишение свободы предусматривалось за «распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» – до 3 лет на основе статьи (1901-й), пополнившей Уголовный кодекс в 1966 г. (практически за «самиздат»), и до 7 лет на основе статьи, перешедшей из кодекса сталинских времен, за те же деяния, квалифицируемые как «агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти» (ст. 70). Граница между сферой действия той и другой статьи была более чем условна и при заведомой предрешенности приговоров, выносимых «независимым» судом, открывала дополнительные возможности управлять поведением обвиняемого, некоторых принуждать к публичному покаянию и т. д.
Непризнанному движению протеста, так называемому диссидентскому или демократическому (сейчас газеты отнесли бы его к числу демократических и неформальных), были свойственны и сильные, и слабые стороны, порой, вероятно, в нем сказывались амбиции отдельных участников и прямые результаты внешнего давления разного рода. Но несомненно, что впервые в истории последних десятилетий сложилась и выдержала многие испытания линия общественного протеста. Когда-нибудь придется подсчитывать, скольких талантливых и твердых духом людей лишилось общество, поскольку они не получили возможности для конструктивной работы общественного обновления.
Настойчивые усилия по разложению, подавлению, а позже и изгнанию из пределов страны людей, «виновных» лишь в том, что они стремились отстаивать права на гласность и творчество, не только привели к деформациям в духовной и культурной жизни, но и имели своим следствием неоправданное и беспрецедентное раздувание сугубо идеологических функций государственных служб, прежде всего – ведомства безопасности. Возникла ситуация, когда непосредственно на КГБ была возложена миссия верховной политической цензуры, распространившаяся от политических публикаций до театральных постановок: обычно «цыкания» партначальников было уже недостаточно.
Эти репрессии в основном были развернуты в 70-е гг. Но еще до того властям удалось многого добиться. Во-первых, несмотря на все ранее сделанные разоблачения сталинских репрессий, в партийном и государственном аппарате, в судах, в системе КГБ, находящихся вне сферы какого бы то ни было публичного обсуждения, сохранилось достаточно сил и «прав», чтобы творить произвол. Во-вторых, и это еще важнее, довольно быстро удалось отсечь активно сопротивляющихся (позже кто-то подбросил имя страшного врага – «диссидент», по-русски просто «думающий иначе») от общества и даже от довольно многочисленного «либерального» слоя интеллигентов.
Говорят, что обречено общество, не способное выдвигать героев и праведников. Такие люди у нас были, долгое время одиноко звучал их голос, и даже самым непримиримым противникам казенного лицемерия, по сегодняшним меркам – либерально или реформаторски мыслящим людям – открытый протест против двоедушия – «жить не по лжи» – казался беспочвенным и опасным максимализмом.
Осенью 1969 г. торжественно и единодушно изгнали из Союза А. Солженицына, а потом и тех, кто пытался его защитить. С А. Сахаровым было посложнее. Его возраставшая политическая активность вызывала подлинный переполох в стане ревнителей «идеологической дисциплины». Но его обращения до поры до времени падали в пустоту. Их многие читали, передавали из рук в руки, перепечатывали. И молчали. Машина «единодушного» одобрения и осуждения действовала почти безотказно.
Да, счет прямым жертвам шел на десятки и сотни, не на миллионы. Но неправый суд бил не только по осужденным. От несправедливости, хотя бы в отношении одного-единственного человека, учиненной, конечно же, «во имя общества», страдает все общество, даже если оно не осознает этого. «Мученики догмата, вы тоже жертвы века», – писал Пастернак еще в молодости. А мученики страха? А верноподданные «единодушия»? А те, кто поднимал руку в пароксизме коллективного действа или просто, чтоб не выделяться? Кто делал вид, что «это» его не касается? Кто сберегал себя для «более важного» дела? И кто в бессильном отчаянии сжимал кулаки? Сегодня об этом нельзя не помнить. (Кстати, ведь и счета здесь еще не оплачены: пока не отменены несправедливые приговоры, не начислены компенсации, не названы публично имена доносчиков, – а надо бы.)
Система тотального устрашения ушла, оставив после себя действенную и способную самовоспроизводиться инерцию страха, страха уже не за жизнь, не за физическое выживание свое и детей.
И все же прямой победы горстки смельчаков над системой всеобщего устрашения и лицемерного единодушного послушания – не было и не могло быть. Но система дала трещину: была подорвана идея ее всемогущества, было доказано, что свободная мысль может звучать и может быть услышанной. Что найдутся и такие люди, которые не дрогнут, и другие, которые не отвернутся от них. И это означало если не свет, то все же сумерки страха.
Не просто украшением, но существенным, формообразующим признаком эпохи с самого начала стали нескончаемые юбилеи, которые сопровождались торжественной шумихой, громкими поздравлениями и обильными награждениями. Кроме юбилеев государственных и партийных, со временем стали отмечать все более пышно юбилеи учреждений и руководящих лиц, главным достижением которых было дожитие до круглой даты (а впоследствии – и некруглой). Над этими государственными нравами недавнего прошлого сегодня трудно не иронизировать. Но они заслуживают и более серьезной оценки.
На смену временам героических надежд и иллюзий, устремленных в будущее, дням, когда мы жили «грядущим днем», пришло время упоения достигнутыми успехами, реальными и мнимыми. А потом и оно сменилось эпохой «юбилейной», ориентированной на воспоминания о свершениях прошлого, реальных или легендарных. Сознавали это или нет, но то было признанием, что эпохе не на что опереться в своем многохвалимом настоящем и будущем.
Безудержно стало использоваться прилагательное «ленинский» по отношению к многообразным текстам и акциям начальственных лиц. Конечно, попытка создать иллюзию непосредственной преемственности власти и авторитета «от Ильича до Ильича» имела не больше шансов на успех, чем развернутое позднее превознесение литературных или полководческих талантов бесцветного лидера. Но все более утверждавшиеся правила игры были таковы, что требовался не столько какой-то реальный успех, сколько рапорт об успехе, иллюзия создания иллюзии, нечто вроде второй производной торжественной отписки.
Возможно, ирония судьбы состояла в том, чтобы господствовавшая идеология перед своим явным крушением приобрела самые гротескные, помпезно-«юбилейные» черты. Попытки изобразить конъюнктурно-охранительную политику продолжением так называемого «ленинского курса» в конечном счете обернулись глубокой переоценкой и дискредитацией всех авторитетов, столь торжественно поднимавшихся на щит пропаганды…
На протяжении нескольких десятилетий история нашего общества выступала лишь как подобие священной истории; она имела право на существование только как описание великих побед, славных свершений, безупречных героев. Не успели мы взглянуть на какие-то периоды, в частности на Гражданскую и Отечественную войну, ленинские работы последних лет его жизни, коллективизацию и 37-й год хотя бы критическими глазами XX и XXII съездов, как все попытки объективного научного исследования велено было зачеркнуть и забыть. Обозначилось и стремление под видом объективности реставрировать сталинский ореол. Речь шла не о том, чтобы втащить на самодержавный трон фигуру верховного вождя – ни трона, ни фигуры уже не существовало, – но о том, чтобы вставить его правление в «священный» ряд, при неизбежных оговорках относительно отдельных «просчетов» и «отступлений». Поступая так, шли навстречу чувствам многих дезориентированных людей. Но главное, чем были озабочены идеологи и пропагандисты, – подтвердить пошатнувшееся было представление о единственно правильном пути и благотворном характере его результатов.
Ключевыми словами пропаганды стали:
– возрастание руководящей роли партии;
– усиление идеологической борьбы;
– коренная противоположность двух систем;
– верность учению марксизма-ленинизма…
Эти слова произносились тем громче, чем меньше вкладывалось в них смысла, чем меньше в провозглашаемые идеалы верили сами лидеры. Коррупция духа явилась предпосылкой и неизменным спутником коррупции всей правящей верхушки.
Конец 60-х гг. был отмечен серией идеологических набегов. Первыми их объектами стали коллективы историков, социологов. Экономистов прорабатывали за увлечение рынком, а литераторов, художников, режиссеров – за «очернительство», «антипатриотизм» и т. д. Кстати, заставили примолкнуть и первые экологические движения (за чистоту Байкала). Самым распространенным обвинением вновь и вновь выступало отступничество от «незыблемых основ», нарушение иерархической монополии на конечную истину. Касту идеологических жрецов во главе с М. Сусловым отличало болезненное неприятие всего «неположенного» и «чужого». Даже возвращение к тому, что говорилось с трибун во времена Н. Хрущева, не говоря уже о попытках серьезного анализа настоящего и будущего, все легче подводилось под «идеологическую диверсию».
Однако давно известно, что времена общественной и политической неподвижности бывают благоприятными для внутренней работы творческого духа. Такая ситуация многократно описана по отношению к Германии XVIII в. или России XIX в. Так и наше время «застоя» оказалось – или, точнее, закономерно стало – временем пробуждения духовных потенций общества, формирования тех направлений мысли и страсти, которые способны сдвигать многие горы.
Самый краткий список происходившего здесь оказывается грандиозным по содержанию входящих в него событий.
В литературе – работа «Нового мира» во главе с А. Твардовским, прерванная в начале «застоя», но не прекратившая своего влияния на последующие годы. Из этого горнила вышли целые направления – «городская» социально-критическая и исторически-аналитическая проза Ю. Трифонова, «военная» проза В. Быкова, Г. Бакланова, «деревенская» литература, своим первым взлетом открывшая целый мир знания и смыслов. Оттуда же в основном пошла еще и новая для нас волна «реальной критики», то есть критики отраженного в литературе общества. Всплыла еще и молодая, дерзкая формой и содержанием литература. Для пробуждения общества огромное значение имело появление в кругу чтения таких авторов, как М. Булгаков и (хотя и частичных, еще без самых важных произведений) А. Платонов. Поначалу (до 1969 г.) еще из «Нового мира», а потом через «батальоны самиздата» и из-за рубежа доходили до читателей облитые горечью и болью страницы книг А. Солженицына.
В искусстве, вопреки яростному сопротивлению «охранителей» принципов, рушились каноны казенного оптимизма и псевдореализма, пробивало дорогу многообразие способов выражения и подходов к реальности. В 70-е гг. выступили и утвердились новые течения кино, театра, в большой мере сломанными оказались запоры и запреты, наложенные на живопись, музыку и т. д.
В условиях нарастающей дискредитации официального лицемерия все более широкий круг приходил к необходимости поиска новых ценностных ориентиров. Входили в моду художественные и философские искания русского «серебряного века», в интеллигентской среде повысилось внимание к религиозной мысли, наметились признаки церковного возрождения.
Уроки 68-го
Чехословацкие события того времени – от Пражской весны до ее принудительного прекращения после августа 1968 г. – сегодня широко и свободно освещаются в печати, в том числе у нас. Даны принципиальные оценки их трагического значения для чехословацкого общества, названы поименно виновники и пособники… Но пока не показано, что означали эти события для нас самих, для судеб советского общества.
Между тем это был слишком важный момент нашего собственного развития – политического и идеологического.
В Чехословакии была предпринята одна из самых глубоких попыток реформировать ту модель социализма, которую привыкли считать «единственно верной». Отметим два важных момента.
Во-первых, в массовом движении за реформы, развернувшемся в Чехословакии, присутствовало сильное обновленческое, демократическое и социалистическое начало, которое не выглядит чрезмерно радикальным в свете того, что мы знаем и пытаемся осуществить сегодня.
Во-вторых, стремление сопротивляться диктату извне, незаметное вначале, постепенно усиливалось по мере того, как все резче обозначалась сначала подозрительность, а затем и нарастающая враждебность со стороны тогдашнего советского руководства и средств массовой информации, которые повели яростную кампанию дезинформации и клеветы. Под флагом защиты социализма изо всех сил стремились сохранить элементы сталинизма, его политические и экономические структуры, его международную практику и идеологические символы.
Трудно поверить, что люди, принимавшие решение о неизбежности «силового» решения в роковом августе 1968-го, настолько плохо снабжались информацией и настолько плохо ее понимали, что верили собственным заявлениям о «разгуле» антисоциалистических сил в Чехословакии, об угрозе вторжения в страну американских и западногерманских войск и т. д. Скорее всего, здесь работала застарелая инерция стереотипа, согласно которому требовался возможно более жесткий «образ врага»: считалось, что «так надо», ибо иначе «нас не поймут». Так сохранялась одна из самых вредных и самых живучих традиций идеологизированной диктатуры – традиция двоемыслия. Окончательным крушением экономической реформы 1965 г. (в которой ее немалочисленные противники увидели сходство с проектом Отто Шика), воцарением догматической заскорузлости в теории и разгулом идеологических опричников, выискивавших «пражский дух» в каждой свободной мысли, мобилизацией аппарата госбезопасности для подавления «инакомыслия», рядом международных обострений, кризисом в мировом коммунистическом движении и многими другими явлениями эпохи так называемого «застоя», наконец, самой продолжительностью этого времени мы в огромной степени обязаны той линии, которая победила в августе 1968 г. Если бы остереглись тогда (или если бы «акция» не увенчалась желаемым «успехом»), возможно, не возникло бы и искушения военного решения в Афганистане в 1979 г.
* * *
В 1968–1969 гг. закончился «переходный» период. В Чехословакии удалось добиться «нормализации». Большинство социалистических государств приняло концепцию, которую на Западе нарекли «доктриной Брежнева». Под лозунгом «высших интересов социализма» она утверждала правомерность прямого диктата и вмешательства в дела «своих» стран.
Победители, однако, не властны были приостановить вползание страны в глубокий социальный кризис, нарастающее экономическое отставание, падение международного престижа: в сознании многих Советский Союз приобретал образ «танкового» коммунизма. Социальная и нравственная коррозия затронула все слои и группы общества.
«Застой» – самый длинный, почти двадцатилетний период в жизни страны. В этой статье мы берем только первые его годы, полагая, что именно они явились решающими. Облик режима, стиль правления, способы решения проблем – да и результаты – вполне определились. Последующие годы отнюдь не были пустыми – происходило множество событий на всех уровнях жизни, от верхушечных интриг до массовых сдвигов.
В 70-е гг., после того как несколько спали первые волны протестов после акции в Чехословакии, была провозглашена «разрядка» – политика частичных сделок и обещаний в отношениях с западными державами при нежелании что-либо менять по существу во внешнеполитических ориентациях. К середине 70-х гг. стало ясно, что разрядка зашла в тупик и в экономических, и в военных аспектах. Не согласившись узаконить свободу эмиграции, не получили статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Не покончив с принципом вмешательства везде, где только удается, в пользу «прогрессивных» сил, не вызвали доверия к собственному миролюбию. Хельсинкская декларация 1975 г. осталась на бумаге, дальше пошли палками в колеса ракеты средней дальности в Европе, а за ними и афганская авантюра.
В отношении прав человека нашелся лишь один выход – изгнание правозащитников (альтернатива – лагеря) и иных инакомыслящих. В 1974 г. – изгнание А. Солженицына. В 1980 г. – незаконная даже по внутренним стандартам ссылка А.Д. Сахарова.
Нефтяной кризис 1973–1974 гг. на первых порах причинил Западу немало бед, но затем привел к скачку научно-технического прогресса. Мы же заработали на повышении экспортных цен на нефть многие миллиарды «незаработанных» долларов и не получили за них ни технического перевооружения, ни потребительского изобилия.
Относительно «спокойный» период застойного развития в 70-е гг. сменился фазой явного кризиса после начала афганской войны.
На этой стадии выявилась едва ли не самая главная слабость всей социально-политической системы, достигшей апогея своего развития: ее невоспроизводимость. Не способный к обновлению режим дряхлел вместе со своими лидерами. Новые поколения приходили с новыми ценностями жизни. Краткосрочное правление Ю.В. Андропова с его попытками чисто внешними, милицейскими мерами «навести порядок», ничего не изменившее в основных параметрах системы и правящей пирамиды, завершилось вознесением на высший пост еще одного беспомощного и бездарного умирающего старика. Неспособная к саморазвитию система должна была сломаться, и это произошло после апреля 1985-го.
1991Бюрократизм и бюрократия: необходимость уточнений[450]
Трудно припомнить время, когда о бюрократии и бюрократизме говорили бы столь много и резко, как сегодня. Пробуждающееся общественное сознание ищет в этих явлениях одну из опор механизма торможения и одного из основных противников перестройки. Критика бюрократии стала важной струей самоочищения общества. Однако эмоциональной насыщенности не всегда соответствуют аналитическая глубина и строгость мысли. Порой критика останавливается на обличении внешних, очевидных черт бюрократизма – канцелярщины, волокиты, «буржуазного» руководства. Иногда зло усматривают в самом существовании «канцеляристов» – работников сферы управления. В последнее время ряд авторов стремится рассматривать бюрократию как особый общественный слой со своими интересами и ценностями (к этой позиции мы еще вернемся).
Нам представляется, что сейчас необходимо и возможно поставить анализ бюрократии на началах большей научной строгости и практической эффективности. Нужно объяснить, почему – несмотря на самую жесткую критику, бесчисленные сокращения и чистки – бюрократия оказалась способной не только сохранять, но и от кампании к кампании укреплять свои позиции в обществе. Как отмечается в резолюции XIX Всесоюзной партконференции, «в обстановке застоя, скованности демократических институтов бюрократизм разросся до опасных пределов, стал тормозом общественного развития». Исторический и сегодняшний опыт позволяет и обязывает подвергнуть критическому рассмотрению не только бюрократический стиль управления и связанный с ним общественный слой, но и деятельность бюрократической системы как целого.
Административная система и бюрократия
В тех или иных масштабах феномен бюрократии – концентрации рычагов власти в руках специализированного аппарата чиновников – присущ различным обществам и социальным организациям, не обходились без него ни древние империи, ни современные хозяйственные корпорации. Бюрократизации подвергались монархические режимы, парламентские демократии, революционные элиты, политические партии и общественные движения в различных странах. Сравнительный анализ бюрократизации занимает солидное место в истории мировой социологической мысли.
Однако тот бюрократический левиафан, с которым нам приходится иметь дело сегодня, не имеет аналогов в истории. Сформировавшаяся на протяжении десятилетий бюрократическая система управления получила неограниченные возможности подчинять себе все без исключения сферы общественной жизни – политическую, экономическую, культурную, идейную, – нигде при этом не сталкиваясь с какими-либо реальными противодействующими силами или ограничениями (например, традиционными или правовыми институтами). Сложилась уникальная система «бюрократического абсолютизма», то есть бюрократии, претендующей на абсолютное господство над обществом.
Отдаленные ее истоки связаны с наследием российской имперской, по словам Ленина, «крепостнической бюрократии»[451], ближайшие – с монополизацией властных функций в послереволюционный период. Героические поколения революционеров (не только в России) считали, что политическая неразвитость общества не должна препятствовать успешной деятельности берущего власть авангарда. И буквально на следующий день после политической победы им приходилось сталкиваться с трагической дилеммой: либо последовательные, не всегда быстрые шаги к тому, чтобы подкрепить революционные действия демократическими институтами, либо революционный по своим устремлениям и авторитарный по своей природе механизм форсирования, насильного подхлестывания общества. Такой механизм не сводится к «аппарату», то есть набору партгосучреждений и чиновников, он включает также звенья поддержки, организованного идеологического воздействия и т. д. Какими бы условиями ни был вызван к жизни подобный механизм, в его деятельности неизменно проявлялись две связанные друг с другом тенденции – отчуждения механизма власти от масс и коррумпирования. Попытки преодолеть последнюю тенденцию методами милитаризации аппарата (как в первые годы революции у нас и позже в Китае) или удвоения «следящих» систем нигде не оказались успешными.
Не будем касаться бурных дискуссий в среде историков о тех объективных и субъективных факторах, которые привели к реализации в нашей стране «форсированной» альтернативы со всеми ее последствиями. Подчеркнем лишь, что в годы сталинского режима механизмы, тенденции и ценности бюрократизированного общества получили откровенное и даже циничное воплощение (концепция партии как «ордена меченосцев», жесткой иерархии «чинов», бюрократического государства как главного орудия, модель пирамиды и «винтиков», «мундирная утопия» и др.). Во всей полноте значение происшедшей трансформации стало очевидным позже, когда чрезвычайные средства обернулись перманентными целями и бюрократический аппарат поглотил сами политические (целеполагающие) структуры. Расцвет и начало кризиса абсолютизированной бюрократической системы властвования приходятся на период так называемого застоя, но формировалась она значительно раньше. Сталинское самовластие на деле венчало и прикрывало всевластие бюрократической пирамиды господства. Деперсонализированный по самой своей природе иерархический механизм в период своего формирования нуждался в ширме «личной» заботы и «личной» инициативы, каковую и нашел в культе произвола верховного вождя. На следующем витке спирали бюрократического абсолютизма регалии «культового» реквизита играли уже иную роль. Вознося над обществом усыпанную наградными блестками фантомную фигуру «тишайшего вождя», правящая бюрократия получала возможность культивировать самое себя. Во всех случаях политические культы и культики формировались не иллюзиями и суевериями масс (хотя они тоже играли свою роль), а потребностями бюрократического господства, ведущего к отчуждению трудящихся от власти.
Экономической почвой бюрократической системы служат те отношения в народном хозяйстве и вокруг него, которые нуждаются в постоянном внеэкономическом принуждении (командно-административной системе) и постоянно воспроизводят ее. Положение общегосударственной собственности в сети директивных экономических отношений с неизбежностью превращает бюрократическую иерархию в единственный реальный субъект хозяйствования. Лишь она практически выступает как полномочный представитель (а точнее, если использовать удачный термин А. Платонова, «заместитель») общегосударственных или общенародных интересов. В то же время собственно экономических интересов (в серьезном, народно-хозяйственном масштабе) у бюрократии нет, ее подлинные устремления сводятся к удержанию своих позиций в иерархии господства. Поэтому бюрократическое господство в экономике неумолимо превращается в доминирование внеэкономических, сугубо иерархических интересов (назвать их политическими было бы профанацией).
Отсутствие реальных экономических стимулов создает необходимость «толкать» экономику с помощью стимулов внеэкономических, прежде всего административного понуждения и разного рода мобилизаций. Планирование, ориентированное на экстенсивный валовый рост, порождает целую систему искусственных, зачастую просто произвольных показателей («лукавых цифр», по меткому выражению современной экономической критики). Дефицитная экономика нуждается в громоздкой системе распределения фондов, ресурсов, потребительских благ, а значит, и соответствующем аппарате; более того, дефицит неизбежно порождает сеть специфических социальных отношений, проникающих во все поры общества. Давно показано (еще в 20-х гг. В.В. Новожиловым), что истоки хронической нехватки потребительских и производственных ресурсов – в самой системе директивного хозяйствования и соответствующей (командной, как можно выразиться сейчас) системе ценообразования. В нынешней затратной, неэффективной экономике расточительство и недостаток природных, экономических и социальных ресурсов, техники, рабочих рук, товаров, информации и т. д. тесно связаны друг с другом. Экономический и социально эквивалентный «обмен деятельностью» (Маркс) превращается в дефицитарной системе в вертикальные отношения распределения в соответствии с иерархией статусов, фигурально выражаясь – с порядком номеров в некоей универсальной социальной очереди. Выбор наиболее эффективного экономического поведения, в том числе потребительский выбор, подменяется «соревнованием» за место в этой очереди, точнее ряду очередей, поскольку возникают «особые» очереди, категории снабжения и пр. Неизбежным восполнением такого порядка оказываются «карточки» (лимиты всякого рода) и черный рынок. Вся эта стихийно самоорганизующаяся система ограничений, допусков, статусов, обоснованных и необоснованных льгот, лимитов, прерогатив разного рода – питательный «бульон» бюрократии во всех ее измерениях. В дефицитарных экономических и социальных условиях универсальные права граждан и общественных групп подменяются исключительными (монопольными) привилегиями, которые концентрируются в ведомствах и организациях, распределяются по их уровням в соответствии с удельным весом «претендентов». Это, так сказать, «нормальный» феномен для «ненормальных» общественных условий, источник ведомственного хозяйничанья и административной коррупции. Универсально-распределяющая бюрократия – продукт и страж дефицитарной экономики и дефицитарных социальных отношений.
Один из наиболее очевидных признаков бюрократического управления – пресловутое «бумажное руководство». Неуклонно растущий вал всевозможной отчетности и учетности возникает не из праздномыслия чиновников, а из того, что обстановка универсальной безынициативности и безответственности при универсальном же развитии недоверия нуждается в прикрытии бесконечным количеством сводок, отписок, отчетов. Этим создается неисчерпаемый предмет занятий для контролирующих инстанций, а также и основа для постоянного превращения отчетов в отписки и приписки, то есть для коррумпирования самой информации.
Жестко планируемая дефицитарная экономика, как показывает ее история и теория, не только с неизбежностью создает свою «тень», но и постоянно нуждается в ней, подобно тому как механические колеса нуждаются в смазке. В этой «тени» не только «вторая» экономика (несанкционированные производства, незаконные сделки) и экономическая коррупция, но и отряды «толкачей», способы «выбивания» фондов и корректировки планов.
Система «производства показателей» распространяется на сферы образования, культуры, науки, воспитания и выдвижения кадров. Пресловутая, несчетное число раз раскритикованная «процентомания» как показатель качества обучения, столь же осужденная и столь же неприкосновенная «чистота» анкетных данных вместо делового и нравственного подхода к работникам – явления одного и того же порядка. В том же ряду «отписочных» показателей – ориентиры показных сопоставлений международного и внутреннего порядка, создающие видимость соревновательности, стимулирования, опережения и т. д. при отсутствии реального соревнования и надежных мер сопоставления результатов.
Во всех сферах деятельность, направленная на «показатели», нуждается – в интересах самосохранения – в создании «производственных» тайн, а значит, и в «хранителях» этих тайн. Только тщательно поддерживаемая сокрытость от какого бы то ни было света даже самой ограниченной гласности могла долгое время придавать показухе и суете видимость государственной солидности, а хранителей тайны превращала в эзотерическую (замкнутую, недоступную для непосвященных) касту жрецов. Здесь вполне действует «экономическая» аналогия: любые «хранители» дефицитных, то есть строго регламентируемых и специально распределяемых, благ кровно заинтересованы в поддержании ситуации дефицитности, поскольку с ней связаны все их привилегии. Не в последнюю очередь это приводит к тому, что столь мучительно трудно проходит процедура рассекречивания статистики и архивов.
«Валовые» показатели, «процентомания», «анкетный» подбор кадров не только аналогичны по способу действия, но и приводят к однопорядковым результатам: в совершенно различных сферах материального, культурного и «человеческого» производства отбирается и доминирует продукция среднего (или, точнее, не выше среднего) качества. О том, что в современных условиях означает среднее качество товаров и услуг, в том числе образования, здравоохранения и т. д., сказано достаточно. Нужно специально подчеркнуть, что для самой административно-бюрократической системы анкетные и подобные им методы рекрутирования кадров с необходимостью ведут к воспроизводству и преобладанию некомпетентности. Это закономерность, так сказать, принципиального, «схемного» порядка, закрепленная номенклатурным способом циркуляции кадров. Любая абсолютизация властных функций делает их исполнение некомпетентным, упрощенным, подчиненным каким-то относительно бедным критериям. Например, такими критериями могут оказываться оценки, противопоставляющие «свое – чужое», «понятное – непонятное», «привычное – непривычное» и т. п. Отсюда возникают ситуации, когда одобряется «серое, но свое», поощряется «устаревшее, зато привычное» и т. д, причем во всех сферах и на всех уровнях управления. А снижение управленческих критериев ведет к неумолимому снижению уровня самого управления и его эффективности. Повторим: речь идет не о недостатках управляющих лиц или коллегий, а о пороках административно-командной схемы управления, в которой «абсолютистские» претензии на «всезнание» и примитивность критериального механизма ведут, в свою очередь, к утверждению примитивизма и серости в любых видах социального и культурного творчества.
С этим связаны и характерные особенности идеологии бюрократической системы. Прежде всего – ее упрощенность. По самой своей природе такая идеология не может быть ничем иным, как ограниченным набором предельно упрощенных схем и стандартных формул (по существу, это «формульная идеология»), лишенных внутренней связи и сколько-нибудь серьезного теоретического содержания. Вряд ли правомерно напрямую связывать бюрократическую идеологию с догматизмом, начетничеством, догматическим извращением марксизма и социализма. Как-никак догматизм преклоняется перед «буквой» теории, относится к текстам как к священным письменам; бюрократизм же использует любой текст (а точнее, отрывки из него) только для прагматической цели.
Он ценит лишь тот текст, который авторитарно санкционирован, для него субординация всегда важнее аргументации. Попытки поставить догматическое толкование каких бы то ни было теоретических текстов выше авторитарного нередко признавалось опасным – со всеми вытекавшими из этого последствиями. Поэтому бюрократическая система лишь по видимости является идеократической (или «логократической», то есть властью словесных формул); способ ее духовного существования – превращение любой живой мысли в мертвую формулу для заклинания действительности, а не для ориентации в ней. «Первичный» материал для этой процедуры более или менее безразличен. В сталинских работах можно найти бесчисленные примеры произвольной расправы с марксистскими идеями, сочетания их с великодержавными и просто конъюнктурными положениями.
Бюрократическая идеология «иерархизирована», каждый более высокий уровень наделяется большими полномочиями в отношении теоретических истин и моральных оценок, а предельному уровню иерархии приписывается и вся монополия на истину в последней инстанции применительно ко всем проблемам и сферам жизни. В соответствии с иерархической логикой от нижестоящих всегда требуется не осмысление спускаемых сверху авторитарных формул, а демонстрация полнейшей лояльности по отношению к ним (на деле, конечно, по отношению к санкционирующему формулу авторитету). Притом – опять-таки в соответствии с показательной логикой – именно демонстративная, показная лояльность (точно так же, как декларативная готовность выполнения любого указания) всегда ценились выше реального выполнения, если последнее вообще было возможным.
Идеологические формулы нередко обладают удивительной живучестью, сохраняют свою способность действовать много времени спустя после изменения условий, в которых они оформились. Это связано не с истинностью, а с удобностью таких формул. В теоретических статьях, в речах и беседах сегодня нередко приходится встречаться с ирреальными фантомными образованиями, давно позабывшими о своих первоначальных функциях. Чтобы объяснить это явление, недостаточно сослаться на привычку «верхов» оперировать привычными формулами, функциональность которых именно в этой привычности и состоит. Здесь действует еще и давняя привычка «низов» (в рамках иерархии авторитетов, разумеется) довольствоваться суррогатами «формульной» идеологии, поскольку они избавляли от необходимости вырабатывать собственное мнение, от ответственности, от активного действия, наконец. Массовую опору бюрократического сознания составляют распространенные формулы, за которыми стоят устойчивые стереотипы наподобие: «начальству виднее», «мы люди маленькие», «что там о нас подумают» и т. п. Казенный оптимизм, боязнь новизны и инакомыслия, примитивный комплекс неполноценности, превращающий патриотическое достоинство в напыщенную спесь и пренебрежение к «чужому», – существенные черты бюрократического сознания на всех его уровнях.
В наших условиях подобное сознание утвердилось как патерналистское, как идеология и психология надежды на «отеческую заботу» со стороны «верхов». Мифология «отца народов» венчала именно эту идейную конструкцию. Обратная сторона универсального патернализма, пожалуй, даже главная его особенность – униженное, холопски-благодарное или холопски-просительное сознание человека, отчужденного от властвующей иерархии и беспомощного перед ней. Такой тип сознания часто сравнивают с подростковым (например, в статье И. Кона в журнале «Коммунист» № 1 за 1988 год[452]), хотя, как нам представляется, иногда более плодотворным было бы сравнение с инфантилистским сознанием, способным подниматься до просьбы, но не до осмысленно-критической или творческой позиции. (Кто не помнит, скажем, что в стихах Маяковского образ «страна-подросток» ассоциируется с лозунгом «твори, выдумывай, пробуй»; инфантильному сознанию такие устремления не свойственны.) Идеология патернализма культивировала пассивность масс и прикрывала произвол формулами «заботы». Этим оправдывалось отсутствие или приниженное состояние правовых гарантий и общественно-договорных отношений.
На протяжении десятилетий формирование закрытости и патерналистских шаблонов сознания подкреплялось «крепостной» психологией напряженности и безоговорочного подчинения перед лицом прежде всего внутренних, а также внешних врагов (как показал исторический опыт, искусственно создававшийся «образ врага», долгое время доминировавший в пропагандистских стереотипах, порождал воспаленную «бдительность», ущербное, «охранительное» сознание).
На такой системе послушания, по сути дела, держался весь сталинский «порядок», который все еще находит своих почтительных защитников. Это не был порядок технической или экономической аккуратности, точности, дисциплины или строгой социальной исполнительности. Это был лишь порядок довольно жесткой социальной субординации, подчинения, иерархически организованной лояльности. Обеспечивался же он, как известно, разделением авторитарно-бюрократической системы на параллельные вертикали – подчинения и наблюдения за этим подчинением (на деле таких вертикалей, по-видимому, бывало и больше). Система вертикальной лояльности поддерживалась системой универсальной неуверенности и устрашения. «Цена», уплаченная обществом и народом за такого рода порядок, оказалась неизмеримо большой.
Абсолютистская по своим притязаниям бюрократическая система ни в какой из периодов своего развития не была и не могла быть абсолютно жесткой в исполнительском плане. Она не только всегда оставляла место для субъективизма и произвола на всех без исключения этажах иерархии, но прямо-таки нуждалась в них. Знаменитая некогда формула, согласно которой любые (впрочем, только удачные) начинания в обществе считались плодом инициативы «главного лица», по сути дела, прикрывала неспособность бюрократизированной иерархии к какой бы то ни было инициативе, движению, самонастройке. Все это могло в какой-то мере существовать лишь в порах системы, которая с такой же необходимостью, как жестко централизованная экономика порождает экономику «теневую», создавала и сохраняла многоэтажную систему «теневых» властных механизмов – личностных, клановых, вассальных, мафиеподобных. По способу организации бюрократическая система оказалась столь же двойственной, как и характерная для нее идеология («двоемыслие»).
В известной мере такая характеристика присуща и бюрократическому стилю управления. Инструментальной бюрократии свойственны измельчание и технизация управленческих функций: любая социальная и экономическая проблема низводится ею до уровня ряда отдельных «мероприятий», доступных кругозору соответствующих инстанций и вмещаемых в рамки стандартов отчетности. Но бюрократия абсолютизированная, то есть абсолютно безответственная, вносит в эту схему существенное изменение: осуществление намеченных мероприятий она незаметно подменяет рапортом об их осуществлении, иначе говоря, демонстрирует исполнительскую лояльность. Причем это тоже не порок отдельных очковтирателей, а сугубо схемная черта – абсолютные претензии в сочетании с абсолютно неизбежной некомпетентностью просто лишают систему возможности выполнить все то, на что она претендует. Бюрократическое управление обычно характеризуется большими объемами отчетности, учетной и прочей документации, «бумаг». На деле же специфика бюрократического стиля не столько в количестве бумаг, сколько в их функциях – а это прежде всего функции отписок, перестраховок, приписок, бесчисленных и ненужных согласований, уводящих от персональной ответственности.
Бюрократическая деятельность безлика и бездушна, поскольку она ориентирована не «вниз», не на конкретные нужды конкретных людей, а «вверх», на демонстративное, формальное исполнение вышестоящих указаний. Речь, разумеется, идет не об индивидуальном стиле (или психологии) отдельно взятых работников, а о стиле бюрократической системы как таковой. Поверхностная, карикатурная критика нередко облегчает проблему, представляя некоего абстрактного бюрократа непременно как угрюмо-важного канцеляриста. В социальные рамки бюрократической системы и ее стиля вполне укладывается и психологический тип общительно-панибратского работника, готового самоотверженно выдавать спущенные указания в цехе и в поле… Не только социальный тип функции, но и социальный стиль деятельности остаются теми же.
Этот стиль определяет различные уровни и сферы деятельности бюрократической системы. Насколько правомерно в таком случае рассматривать бюрократию в нашем обществе как особый общественный слой, «как бы класс»? Существует вполне понятный соблазн указать пальцем на этот особый слой, усмотрев в нем чуть ли не главный источник многочисленных страданий всех остальных общественных групп на протяжении последних десятилетий. Такой подход несет в себе немалый критический заряд, помогает выделить некоторые структурные пороки действующих социальных механизмов, неэффективность многих антибюрократических санкций. Однако его трудно признать сколько-нибудь строгим в научном смысле. Далеко не всегда ссылка на общественные классы и классовые интересы помогает объяснению социальных явлений.
Мы полагаем, что как социальная группа бюрократия представляет собой не «слой», а скорее вертикаль, это как бы «сложноподчиненная», иерархически организованная общность. Между статусами, возможностями, преимуществами различных ее уровней существуют резкие перепады. Даже если из часто приводимой цифры работников управленческого аппарата по стране в 18 миллионов человек вычесть занятых подсобными и обслуживающими функциями, остальные (около трех миллионов, так или иначе причастных к принятию и проведению решений) также составят не слой, а иерархию слоев. Очевидно, далее, что эта иерархия строится пирамидально, как бы стягиваясь к вершине. Власть, ответственность, привилегии и возможности произвола вовсе не распределены равномерно между различными этажами управленческой пирамиды. Отдельные ее уровни специализированы на принятии решений, обеспечении поддержки, практическом приложении и т. д. По способу своего существования бюрократия, таким образом, скорее подобна социальному механизму или институту, чем особому слою.
О том же говорит и поразительная на первый взгляд вездесущность бюрократии. Бюрократия функционирует не в каком-то определенном слое (например, платных функционеров), а как бы заполняет собой все доступное ее влиянию социальное пространство. Все, с чем соприкасается бюрократическая система, что попадает в ее силовое поле, превращается в ее составную часть (по крайней мере в тенденции). Это объясняется не только тем, что внештатные активисты различных бюрократических организаций функционально не отличаются от платных аппаратчиков. Поскольку иерархия бюрократической системы охватывает все виды властных функций в обществе – включая исполнительские, учетные, поддерживающие, – постольку все общественные формы, все виды человеческой деятельности, все общественные группы и профессии как бы предстают звеньями и винтиками этой системы, а любой человек оказывается чиновником «энного» разряда, занимающим штатное статусное место в определенной иерархии.
Социалистический идеал превращения всех членов общества в работников в бюрократическом варианте означает превращение всех и вся в государственных служащих, в чиновников многоярусного аппарата. Нечасто вспоминаемая ныне попытка сталинского руководства начала 50-х гг. одеть работников одного ведомства за другим в мундиры, распределив их по единообразным рангам и званиям, была безумным апофеозом реально и неумолимо происходившей бюрократизации страны, когда человек превращался в «винтик», общество поглощалось государством, государство – «аппаратом». Этот процесс затронул и правящую партию, звенья которой срослись с чиновничьей иерархией. Бюрократическая система, не встретившая сколько-нибудь действенного сопротивления в постреволюционном обществе, оказалась способной не просто подчинить себе, но трансформировать по своему образу и подобию различные социальные институты и группы общества, превращая пылких энтузиастов и расчетливых карьеристов в своих функционеров, а социальные институты – в рычаги и приводные ремни своего механизма. Были периоды в жизни советского общества, когда победа бюрократической системы над обществом казалась почти полной. Все же она оказалась пирровой.
Кризис бюрократизма как системы
С самого начала бюрократическая система управления строилась как чрезвычайная, предназначенная для того, чтобы справиться с исключительными ситуациями в какие-то краткие сроки, не приспособленная к ответу на вопросы типа «что потом?». История знает два типа чрезвычайных режимов социального управления: один из них, вынужденный, например, обстановкой войны, характеризуется всеобщей дисциплиной и самоограничением (именно к этому типу режима может быть приложено распространенное определение «казарменного»), другой – искусственно создаваемый ситуацией организованного насилия над обществом (здесь уже уместны аналогии другого рода).
Сформировавшаяся под сталинским руководством система административно-бюрократического господства сама непрерывно воссоздавала исключительную ситуацию в обществе, превращая в норму массовый террор в отношении собственного народа. Любая система чрезвычайного управления неизбежно оказывается временной, так как она разрушает предпосылки собственного существования. «Военизированная» система жизни рано или поздно исчерпывает те самые ресурсы общества, которые она мобилизует, – в том числе политические, социальные, моральные. Прямое насилие, доходившее до массового террора, явившееся повивальной бабкой административно-бюрократической системы, не всегда оказывалось необходимым для нее: в годы замедленного течения социального времени (застоя) та же по существу система опиралась скорее на инерцию страха, чем на непосредственное насилие. Именно в эти годы сложились известные тупиковые ситуации в различных сферах общественной жизни.
Прежде всего стало очевидным исчерпание ресурсов экстенсивного неэффективного, расточительного социально-экономического роста. К ориентации на эффективное развитие, соразмеряющее затраты с результатами, абсолютизированная бюрократия просто не способна хотя бы потому, что ориентирована на формальные показатели, на «отчетность». Во все периоды господства бюрократического управления – как до войны, так и во время войны и после нее – доминировали неэффективные, нерациональные, крайне расточительные методы управления хозяйством и обществом, приводившие к невосполнимым потерям, к утрате самих критериев нормального общественного развития и факторов, которые могли бы его обеспечивать.
Это привело к целому ряду социальных трансформаций, повлияло на характер деятельности и интересов различных общественных групп. Прикрываясь революционно-прогрессистскими формулами, бюрократическая система на деле последовательно нивелировала особенности социальных слоев и групп, шаг за шагом превращая их в равно отчужденных от общественных интересов и решений государственных служащих, различавшихся прежде всего по шкале допущенности к дефицитным благам, включая сюда информацию и власть. (В недавние годы свою лепту в оправдание такой трансформации внесла пресловутая концепция «социальной однородности».)
Бюрократическое «выравнивание» привело к тому, что рабочие утратили возможность свободного выбора мест приложения своего труда и договора об условиях вознаграждения. Достигнутое на первых порах сохранение дешевизны огосударствленной рабочей силы и сокращение ее мобильности породили незаинтересованность работников в результатах труда и эффективности производства. Лишившись хозяйской связи с землей, крестьянство утратило и хозяйский интерес к своему труду. Единственная общественная группа дореволюционного общества, которая не только сохранила, но и умножила свои специфические социальные функции, выдержав при этом полную и неоднократную смену своего человеческого материала, – это бюрократия.
Следует особенно отметить значение трансформации интеллигенции. Низведение работников интеллектуального труда до статуса государственных служащих, испытывающих постоянную неуверенность в сохранении своих достаточно скромных позиций на иерархической шкале престижа и доходов, к тому же подкрепляемое рецидивами политического недоверия и нескончаемыми идеологическими проработками с 20-х до 80-х гг., привело к глубокому разложению интеллигенции как специфической социальной группы и самого качества (если не института) интеллигентности общества.
Эта утрата произошла на фоне колоссального роста образованности общества, огромных вложений в стратегически важные научные области и т. д. Никакие сверхпривилегированные условия для особо выделенных групп ученых или, скажем, художников, никакие затраты на научно-производственную сферу (впрочем, не столь уж и крупные по масштабам международных сравнений, в особенности для невоенных отраслей) никогда не могли и не могут компенсировать главную потерю от бюрократического огосударствления интеллектуальной деятельности – утрату творческого духа. Существенным этапом на этом пути стало в свое время превращение самодеятельных творческих объединений писателей, художников и других в громоздкие «союзы», а на деле – департаменты по распоряжению соответствующими отраслями, ответственные за показатели количества, качества (оптимизма, реализма, боевитости и т. п.) положенной продукции. Аналогичная судьба постигла научное творчество в жестких рамках академического или ведомственного командования и запретительства. Все это в сочетании с непрестанным и некомпетентным вмешательством вышестоящих этажей бюрократической иерархии неизменно сковывало творческую активность и искажало ее смысл. Нельзя не восхищаться тем, что в самые трудные времена, в обстановке унижений и понуканий люди высокой духовной культуры достойно служили идеалам истины, продолжая традиции отечественной интеллигенции, творили разумное, доброе, вечное.
Но дело не только в творчестве. Наряду с духовно-«производственной» функцией интеллигенция в России – возможно, как ни в какой другой стране мира – несла еще одну социально важную функцию: социально-критическую, будоражащую общество и оценивающую его достижения и потери. Справедливо или несправедливо критикуемая за многочисленные слабости и промахи, интеллигенция выполняла незаменимую роль возбудителя сомнений и совести общества. Бюрократизация общественной жизни почти полностью устранила и эту роль, что способствовало падению уровня интеллигентности общества, торжеству самовосхваления, сплошь и рядом подменявшего трезвую самооценку и здравый смысл.
Господство бюрократической системы привело общество к застою, его институты – к глубокому разложению, а саму торжествующую бюрократию – к коррумпированию беспрецедентного масштаба.
Такая деградация не была случайной или внезапной. Становящиеся сейчас достоянием гласности данные о распространении взяточничества и разложения вплоть до самых высоких звеньев бюрократической иерархии потрясают общественное мнение, но не всегда получают адекватное объяснение. Распространено, например, мнение, согласно которому экономическая коррупция – продукт «эпохи застоя», результат ослабления дисциплины страха. Нам представляется, что корни разложения значительно глубже. Отгороженность аппарата социального управления от населения, отсутствие демократически институционализированных отношений между властью и обществом, дефицит гласности – все это питательная почва для коррумпирования различных звеньев бюрократической иерархии.
Неверно, будто в сталинские времена бюрократия была «зажата» (характерный сюжет из популистской мифологии «отца народов»). Неуверенность положения работников вплоть до высших уровней усиливала их зависимость от верхушки пресловутой пирамиды, от произвола верховного вождя, превращала их из деятелей в чиновников, а всем этим укрепляла господство бюрократической иерархии. Деградация политической и просто человеческой морали в обстановке массового террора, доносительства и травли подготавливала безудержную экономическую коррупцию.
Давно известно, что абсолютная, неограниченная и бесконтрольная власть разлагает абсолютно – в том числе самое себя. В режиме неограниченной власти никакая организация революционеров не может быть гарантирована от бюрократической деградации. Такая опасность уже в первые послереволюционные годы была указана Лениным («Коммунисты стали бюрократами. Если что нас погубит, то это»). В полной мере она проявила себя значительно позже.
Пока действовала параллельная властвующей иерархии система централизованного устрашения, возможности произвола были сконцентрированы в основном на верхних этажах бюрократической пирамиды, а условия для круговой поруки локального и ведомственного порядка оставались ограниченными; когда эта система рухнула – при сохранении основных устоев командно-бюрократической системы – локальные клики, кланы, мафиеподобные организации получили простор для своего распространения. Произвол местных властителей и групповая коррупция, как сейчас известно, в наиболее явных формах укоренились там, где они срастались с сетью родственных, клановых отношений. Правда, корни их уходили далеко в центральные зоны общества. Перед блоком коррумпированных звеньев бюрократической иерархии с локальными мафиями и воротилами теневой экономики практически оказывались бессильными правоохранительные и контролирующие инстанции; нередко они и сами включались в такой блок. В этом едва ли не самый тяжелый урок «застойного» периода.
Радикальные иллюзии и реальные надежды
На сегодняшний день проблема бюрократии в нашем обществе – это прежде всего проблема реальной власти. Вряд ли будет преувеличением сказать, что от того, как и насколько будет развязан этот запутанный узел, зависит судьба всего процесса общественного обновления.
Важно понять, что из сложившейся ситуации нет и не может быть простых выходов. Никакие обличения бюрократического стиля руководства, никакая критика бюрократического аппарата или его работников не могут быть плодотворными, пока сохраняется бюрократическая система управления, деятельности, мышления. Бесчисленные лозунги и кампании «борьбы с бюрократизмом» не имели успеха прежде всего потому, что были направлены против отдельных проявлений или элементов этой системы, которая присваивала себе плоды и свершения народного труда.
Сегодня ставится вопрос о том, чтобы ее сломать. Не «очистить» от наслоений, не исправить «извращения», а именно сломать систему бюрократического господства, создав принципиально новые основы общественного и политического развития страны. Эта проблема стоит в кругу интересов широкой общественно-политической дискуссии последних месяцев, и, естественно, она оказалась в центре внимания XIX партконференции [28 июня – 1 июля 1988 г.].
К сожалению, все еще живучи иллюзии относительно возможности «преодоления» бюрократизма с помощью сокращения управленческого аппарата, уменьшения числа министров и канцелярий, сокращения количества исходящих «бумаг» и т. п. По сути дела, это надежда на возможность чисто бюрократической – «отписочной» – борьбы с бюрократизмом. «Валовое» уменьшение численности аппарата, на наш взгляд, может привести к тому, что он станет работать хуже, а почва для бюрократического произвола и всевластия сохранится или даже укрепится. По сравнению с другими развитыми странами у нас значительно меньше квалифицированных работников управления, не хватает специалистов, подготовленных в областях информатики, экономики, права, социологии, прикладной психологии и т. д. Глубоко ошибочны представления о том, что кадры управления составляют заведомо «непроизводительный» и чуть ли не паразитический слой в обществе. Функция социального управления состоит в том, чтобы поддерживать, воспроизводить и повышать организованность общества. Она ничуть не менее полезна, чем «производство» образования или здоровья, а все они вместе столь же важны, как производство хлеба и металла.
Ведь в конечном счете общество «производит» самое себя, или, иными словами, общественного человека в его общественных связях. Другой вопрос – кто и как осуществляет функции социального управления. При демократическом устройстве общества решающая роль здесь принадлежит демократическим институтам и самодеятельности масс, подсобная – специализированным аппаратам, которые в современных условиях должны быть высококвалифицированными, специализированными, вооруженными компьютерной техникой. Бюрократия – самый примитивный, самый неэффективный, самый «затратный» механизм социального управления. Размеры аппарата должны определяться критериями эффективности его работы, «валовые» измерения здесь совершенно несостоятельны.
Опасной иллюзией представляется мнение о пользе чрезвычайных мероприятий («чисток», кампаний») «по борьбе» против бюрократизма. Такие мероприятия всегда некомпетентны и поверхностны. Нельзя забывать собственный исторический опыт: чрезвычайные меры не только не приводили к гибели бюрократии, но и способствовали разрастанию и всевластию наиболее опасных ее форм. Нельзя вернуться к романтическим воззрениям революционных лет, когда многим казалось, что непосредственная демократия и самоуправление трудящихся масс кратчайшим путем приведут к отмиранию государства, права и специализированного аппарата управления. В свое время иллюзорные лозунги и надежды в немалой мере способствовали разрушению правовых основ общества, дискредитации самой идеи правового сознания и правового государства. В вульгарной критике и сегодня встречаются призывы бороться с «параграфом», «инструкциями», «юридическим крючкотворством» как некими опорами бюрократизма. Между тем наше общество больше всех страдало и страдает не от избытка, а от недостатка «параграфов», если понимать под ними разумные, строгие и обязательные для всех нормы закона.
Сейчас ясно, что борьба с бюрократизмом нашего общества не может подменяться никакими «мероприятиями», сколь бы радикальными внешне они ни казались. Она будет реальной только в контексте всего процесса глубокой демократической перестройки общественных структур – от экономических до правовых и от организационно-партийных до внешнеполитических.
Первый и самый трудный шаг здесь как будто общепризнан – это слом абсолютистски-бюрократической системы, преодоление монополии бюрократической иерархии на власть, авторитет и истину. Известны основные составляющие этого процесса – утверждение правового социалистического государства; восстановление политически-авангардных функций партии; возвращение общественным организациям самодеятельности, развитие гражданской инициативы и ответственности человека; эффективное взаимодействие различных форм собственности и хозяйствования для развития инициативы экономических субъектов и удовлетворения потребностей общества; превращение гласности, свободы слова и мысли в норму плюралистического, открытого социалистического общества.
Ни для кого не секрет, что бюрократическая трансформация затронула и партию, деформировала ее внутреннюю жизнь, что выразилось в подмене политического руководства административным диктатом и мертвящей обстановке командования и показного единомыслия в ее собственных рядах. Сливаясь с административной системой, партия неизбежно утрачивает политическое лидерство, чем создается опасный – особенно для переломной эпохи – вакуум политической власти и сознания. Последовательное разграничение государственных и партийных функций призвано открыть государственным структурам возможность демократического развития и придать самой партии характер политической силы, способной к активному диалогу с обществом.
Этот первый шаг преодоления бюрократического господства, разумеется, не может быть быстрым – в лучшем случае он займет годы. Если этот шаг удастся последовательно осуществить, будет положено начало развязыванию бюрократических узлов в различных сферах общественной жизни, будет создана необходимая основа для следующего (в принципе не обязательно хронологически) шага – регулярной борьбы с многообразием ликов бюрократизма, характерным для него стилем, привычками, стереотипами административного и массового сознания.
На любых исторических поворотах инерция стиля – серьезная и опасная сила. Это сила привычки и сила «привыкших». Проще (хотя это далеко не просто) лишить бюрократию абсолютной власти, чем отучить ее действовать по-старому, как будто имея эту власть в своих руках. Тем более непросто выдавить комплексы массового патерналистского сознания. (Сегодня, после первых глотков гласности, приходится слышать сетования о временах, когда вездесущие абсолюты избавляли человека от избыточной информации и ответственности…) Как нельзя научиться плавать, не войдя в воду, так нельзя научиться – притом и «низам», и «верхам» – умению достойно вести политический диалог вне такого диалога. Здесь учиться и учиться очень многим и очень многому.
Десятилетиями абсолютистски-бюрократическая система отбирала и обтесывала социальный тип человека в соответствии с принципами чиновничьего всевластия «сверху вниз» и чиновничьего раболепия «снизу вверх», показной исполнительской лояльности и воинствующей некомпетентности. (Речь идет о социальном типе, кстати, не ограниченном обязательно «аппаратной» службой, – он существует повсеместно, и с ним никак нельзя отождествлять отдельно взятых работников управления.) Этот социальный тип составляет сегодня основную «живую силу» бюрократической инерции, а отчасти и прямого сопротивления перестройке и новому мышлению.
Никакие мероприятия и никакие социально-исторические сдвиги не могут «до конца» устранить бюрократию из общественной жизни или гарантировать общественные структуры от опасности бюрократической деградации. Даже самая последовательная демократическая система способна лишь ограничить бюрократию, но не ликвидировать ее. Впрочем, здесь нет ничего уникального: не существует общественных проблем, которые могут быть решены сразу и навсегда, вопрос в том, на какой основе они могут, а на какой не могут последовательно ставиться и решаться. Призовем на помощь техническую аналогию. Самая эффективная машина подвержена угрозе коррозии, которая требует постоянного внимания и противодействия; задача в том, чтобы создать «машину» действительно эффективную.
1988Размышления вслух об альтернативах нашей истории и нашего сознания, навеянные статьями современных авторов и одной старой притчей
…Отправился некий человек в темный лес и утешал себя тем, что перед ним два выхода: либо он заблудится, либо нет. Заблудился. Ну что ж, думал он, все равно впереди два выхода: либо провалюсь в яму, либо нет. Провалился. Падая вниз, успел подумать, что впереди все равно два выхода: либо сверну себе шею, либо нет. Свернул. Далее он размышлял о том, что и там его ждут два выхода: либо ад, либо рай. Попал он в ад. И снова подумал, что перед ним все еще два выхода: либо съест его черт, либо нет. Съел. И вот тогда остался у него только один выход…
Искушенный читатель (других сейчас и не бывает) уже догадался, что я привожу эту примитивную схему дерева целей, чтобы логизировать множество исторических дилемм. После того как выбор пути совершился, нереализованные варианты уходят в забвение. В любой точке за нами – следы избранного пути через поле неосуществленных возможностей. Чтобы заняться примеркой схемы к нашей истории, не хватает, правда, некоторых «архимедовых» – вы помните, что ему недоставало всего лишь точки опоры – мелочей: исторических координат начала и конца отсчета. Но я намерен не примерять схему, а оспаривать ее пригодность.
Самый острый дефицит
Чего нам только не хватает сегодня! В перечне дефицитов под рубрикой «История» мы обнаружим длинный ряд ссылок на отсутствующие факты, фамилии, архивы, статистику и пр. За последние пару лет завесы приоткрылись, но вот какой парадокс: ощущение дефицита в историческом знании, пожалуй, не просто сохранилось, но многократно усилилось по сравнению с молчаливыми временами безгласности. Более того, с каждой новой «острой», как сейчас говорят, публикацией, будь то статья ученого или роман, пьеса (и решения о реабилитации), становится яснее, как не хватает нам понятий, категорий, схем для того, чтобы связать воедино новые и старые факты. Из одного только материала, без подходящего плана, ни здания, ни знания не построить.
Если такого плана нет, любые новооткрытые или новодоступные факты поневоле укладываются в рамки старых, привычных, сложившихся (или слежавшихся?) в «те самые» времена схем и шаблонов. Кажется, при предыдущей попытке обновления наше общество не сумело преодолеть рубежа нового мышления. Результат известен: язык наводнили, в поры серого вещества глубоко въелись слова-уловки: «отдельные недостатки», «издержки», «болезни роста», «искажения», «злоупотребления». Укрывшись за ними, можно было еще долго уверять себя, что наши больные – самые здоровые в мире, а наши старики – самые молодые. Думаю, такой уловкой стал и эвфемистический термин «культ личности», поскольку его старались толковать всего лишь как культ и всего лишь по отношению к одной личности, «отдельно взятой» – вне поднявшей ее системы общественных отношений.
Переоценивать отдельные события и личности, пусть и «масштабные», куда легче, чем пересматривать самые маленькие полочки или схемочки, по которым эти события раскладываются в сознании. Все же рано или поздно – а «рано» уже быть не может, прошло целое поколение, больше трети столетия – это приходится делать. Ситуация во всем ее донынешнем развитии просто не умещается в привычные рамки. Да и сами эти рамки или шаблоны мышления настолько обветшали, что их конструкция стала очевидной и – вследствие этого – неубедительной.
Стереотипы «сверху» и «снизу»
Не достаточно ли говорить просто-напросто о догматизме мышления?
Но догматика вырастает из доверия к тексту, к книге, принимаемой за священное писание. А в нашей истории над всеми текстами и цитатами высились Указания Руководящего Лица, согласно которым и происходил отбор «нужных» и уценка ненужных к данному моменту текстов (и их знатоков тоже). Аргументация от Указания всегда стояла куда выше аргументации от Текста. Эту ситуацию я бы назвал догматурщиной – полагаю, что это уродливое словечко в толковании не нуждается. Именно она кристаллизовала ставшие потом привычными исторические стереотипы.
Нет, они не создавались по прямому личному указанию (тогда бы с ними и справиться было легче). Приглядевшись внимательнее, в них можно нередко обнаружить странный, но удивительно живучий гибрид вульгаризованного марксизма и экономического материализма, архетипов спасителя и атрибутов патриотической ксенофобии. А устойчивость, живучесть таких образований объясняются как раз тем, что навязанные сверху шаблоны ложились на достаточно подготовленную почву стереотипов массового сознания. Это относится, например, к стереотипам ксенофобии – негативного отношения к иностранцам и инородцам; ее характерные черты описал еще маркиз де Кюстин, посетивший николаевскую Россию в 1839 г. Да и шаблоны «культового» сознания, навязанные сверху (мне не кажутся убедительными встречающиеся в дискуссиях суждения о «мелкобуржуазных», крестьянских корнях массового сталинизма – это прежде всего была чиновничья выдумка), тоже находили определенную опору в ожиданиях и иллюзиях низовой части активистов.
В историческом же сознании – и сверху, и снизу, и в отдаленных его российских, еще просветительской выделки, истоках – самый расхожий стереотип «линейный». Он уподобляет историю движению поезда по рельсам в одном, заранее заданном направлении. Исторические проблемы сводятся к обсуждению роли машиниста, судьбам севших в вагоны и попавших под колеса. Общая черта подобных моделей, ставших популярными задолго до времен революционных и доживших до наших дней, – в них заведомо отсутствует проблема выбора пути, а заодно ответственности пассажиров «поезда» за характер его движения.
Но куда же он несется? Если отвлечься от «шума» – иллюзий и лозунгов, – оказывается, что он всегда кого-то догоняет. По углю и стали, по грамотности и транспорту, по мясу и молоку, по гектарам, тоннам, мегатоннам и боеголовкам. И не со вчерашнего дня, а чуть ли не с татарского нашествия, а то и с крещения Руси. Более распространены, конечно, точки отсчета, связанные напрямую с процессами модернизации, – Петр I, реформа 1861 г., события XX в.
Подчеркнем, что речь идет не о реальности, а об определенной ее модели. (Есть и иная, фокусирующая попятное движение к «истокам», отгороженность от мира; о ней сейчас мы не говорим, хотя и этот набор продолжает действовать, притом на разных уровнях.)
Два смысла технического фетишизма
«Техника решает все» – этот некогда модный лозунг концентрированно выражал целую идеологию: общество уподоблялось производственному цеху, а мерой его развития считались масштабы работ и номенклатура изделий. Вопрос о том, кем и как эта техника создается и используется, как бы отходил на второй план. Должно быть, такая идеология имела и свою массовую базу – вполне естественное восхищение общества своими новыми механическими «мускулами». Но главное в том, что техника как бы извне вторгалась в экономическую и социальную жизнь общества. И вовсе не потому, что много ее импортировалось; куда важнее другое – новая техника с первых шагов нашего индустриального развития и до последнего времени не «вырастает» из экономического развития, а как бы навязывается ему, преодолевая сопротивление хозяйственных руководителей и работников. В 30-е гг. за «антимеханизаторские настроения» карали жестоко, сегодня за отставание по плану новой техники наказывают помягче; принципиально положение не изменилось.
Кстати, в истории первой индустриальной страны мира, Англии, никакого «периода индустриализации» не было, был довольно долгий, часто суровый процесс модернизации общества во всех его измерениях, включая город и деревню, домашнюю и фабричную промышленность, рынок, кредитные системы и пр. Да и в странах «третьего мира» по-иному, конечно, но происходит все же именно модернизация, а не индустриализация как таковая.
Теперь уже ясно, что сама «тяжелая» техника никак не служит показателем уровня даже чисто технического развития. Им может быть скорее скорость обновления техники, эффективность использования, способность выхода на новые уровни электроники. Шансов на успех теории и практики «технического детерминизма» как будто остается все меньше.
Однако другая – и, по-моему, куда более опасная – сторона этого явления пока пользуется известной популярностью. Я имею в виду уподобление общественной жизни технологическому процессу производства. Это – один из самых характерных соблазнов мышления, идущего от «машинного» XIX в. Общество – вроде фабрики, человек – производственный фактор, процесс ведет к желанному результату, затраты покрываются выпуском и т. д. («Хотя бывают и отклонения»…)
Всякая аналогия имеет право на существование, но всегда имеет и пределы. Вот предел этой, технико-технологической. В производстве желаемый результат заранее задан, нужно лишь подобрать подходящие средства, чтобы его достичь, – здесь возможны варианты с разными материалами, затратами и т. д. Кроме того, действующее лицо, человек как личность, стоит как бы вне технологического процесса, независимо от степени участия своих физических и умственных сил.
В общественной жизни соотношения средств и цели (результата), человека и процесса принципиально иные. Результат человеческих действий заранее не задан – его можно желать, предвидеть, но это другое дело. Его определяют пути и средства, избранные для достижения цели. Каковы средства, таков и результат (так как выбор средств не всегда сознается, результат не совпадает с намеченной целью). И человек не стоит над процессом, а находится внутри него и, как знали уже древние, изменяется вместе с ним.
На разных заводах можно одну и ту же деталь выпускать при разных затратах и с помощью разных технологий: колеса вертятся, а излишние затраты растворяются в общей прорве затратного хозяйствования. На войне город или высоту можно захватить разными приемами, при больших или меньших потерях – результат тот же, потери «война спишет», как принято было говорить в трудные времена («…на всех нужна одна победа, мы за ценой не постоим» – это грустный лейтмотив целой эпохи, где на «войну», реальную, ожидаемую или воображаемую, списывали много чего).
Говоря же об обществе, «списывать» не на кого и не на что. Да и военная победа – в ее конечном, то есть общественном, значении – адекватна количеству и качеству затраченных усилий.
Но именно эта граница масштабов нарушается в «технологическом» воззрении на общество. Ведь пресловутая формула «любой ценой» как символ антиэффективности, временности, чрезвычайности, эта формула уж который десяток лет красуется над вратами нашего общего дома. У них-де корыстные расчеты и рыночные регуляторы, а мы «за ценой не постоим», сил и ресурсов не жалеем. У нас-де не только кто-то один за всех беззаветно, но и все как один – беззаветно, бескорыстно, не считаясь, не оглядываясь, не щадя, не дорожа, не рассчитывая…
Немало горьких уроков понадобилось, чтобы мы начали понимать, что результаты всегда равны затратам. Пожинаешь не только то, что сеешь, но и то, как сеешь. Принудительный труд мог, допустим, собирать ракеты (скажем, пресловутые «Фау-2»), но никогда и нигде не мог построить общество, свободное от принуждения. Неэффективная экономика не может привести к эффективной общественно-экономической системе. Бесчеловечные методы всегда приводят к бесчеловечным результатам. Победы, одержанные сверхтяжелой «ценой» – в войне ли, в мире ли – оказываются тяжелыми и по своим последствиям.
Средства и результаты: опыт тридцатых
То, что произошло в Переломную Эпоху (все же не за какой-то год, а больше), касается не предприятий, поставок, заготовок, перевозок, а общества – сложной системы социально-экономических, социально-политических, социально-культурных… наконец, социально-человеческих отношений. И только через эту призму можно понять реальное значение показателей производства, достижений, потерь, решений и тупиков. Но не наоборот!
Можно ли, например, оценивать Беломорско-Балтийский канал (он носил когда-то, и вполне заслуженно, имя Сталина) по его пропускной способности, месту в региональных грузоперевозках? Ведь эта великая – по тем временам – стройка-символ, стройка-эмблема, воспетая в кинофильмах и музыке, в роскошном томе коллективного сочинения самых прославленных писателей («Канал имени Сталина», 1934, под редакцией М. Горького) и запечатленная на папиросных коробках, – глубоко социальное явление. Это плод труда сотен тысяч свезенных со всех концов страны зэков по наспех составленным подневольными инженерами планам. Собственно говоря, он с самого начала рассчитан был не столько на экономический, сколько на идеологический или политический эффект – увековечить систему такого труда и власть его организаторов.
Не менее знаменитая Магнитка строилась в основном «просто» ссыльными, раскулаченными, но проектировалась в той же ситуации, и теперь, как известно, снабжается железной рудой из Кривого Рога. Имеет ли к этому «первородному греху» нашей советской металлургии какое-нибудь отношение сегодняшний сомнительный рекорд: производя больше всех металла, мы его хуже всех используем? Да самое непосредственное: с самого начала в Переломную Эпоху закладывались фундаменты неэкономической системы хозяйства, лишенной внутренней потребности в соотнесении затрат с результатами и в техническом обновлении. Вряд ли ныне работающее поколение успеет расхлебать все последствия заваренной тогда каши.
Родимое пятно обильного, дешевого, неэкономического, а потому расточительно используемого труда лежит на всех без исключения проектах и свершениях той эпохи (да и более позднего времени, вероятно, включая и Целину, эффекты которой еще предстоит подсчитать). Впрочем, как это обычно бывает, дешевым тот колоссальный труд казался лишь при очень близорукой оценке тогдашних его организаторов и вдохновителей. В исторической перспективе сегодня, а еще больше завтра – в соотношении со своими результатами – этот труд оказывается чрезвычайно дорогим.
Колхозы как своего рода социальный институт реально создавались для одной задачи («первая заповедь», она же и последняя, так как другие не провозглашались): сдавать хлеб казне как можно быстрее. Воспроизводились очень старые механизмы барщинных отношений деревни прошлого: принципиально разделялось «общее» и «свое» (личный участок, которым только и кормился вчерашний крестьянин добрых тридцать лет, примерно до 60-х гг.). Позже экономические соотношения между личным и общим хозяйством усложнялись, но последствия изначального разделения действуют и сегодня, причем не только в деревне. Пожалуй, та черта, которую провел «классический» колхоз между личным и общим, в действительности, в социальном, экономическом, а также и нравственном смысле прошла через все общество, все его структуры и сферы. И глубоко в нем осталась.
Мы пока только ориентировочно представляем себе масштабы человеческих, экономических, экологических потерь переломных лет. Где и какие миллионы были зарыты в землю «в буднях великих строек», может быть, серьезные исследователи расскажут будущим поколениям. Какими миллионами каких единиц можно измерять социальные и моральные «балансы»? Маловероятно, что их когда-нибудь научатся считать.
Вопрос поэтому не в учете и не в балансе потерь-приобретений, а прежде всего в их оценке, причем социальной. Иногда говорят об издержках больших достижений (по знаменитой формуле «лес рубят – щепки летят», стихотворный вариант которой хорошо известен). Предлагаются и иные трактовки. Иногда пишут, что форсированные изменения начала 30-х (позволю себе напомнить, что «форс» по-французски означает «сила») служили «формой разрешения» общественных задач.
Но история – не учебный класс, перед которым ставится задача с известным ответом.
Всякую «форму осуществления» (или способ, что одно и то же) можно рассматривать с двух сторон: с точки зрения предпосылок и последствий. В предпосылки попадут условия, расстановка сил, убеждений и предубеждений, повлиявших на выбор данного средства. Другую позицию я уже излагал: каковы средства, таков и результат. Средства, как выражаются гегельянцы, существуют в результатах в «снятом виде». В данном же случае «форсированность» экономического роста и общественной жизни в целом явилась не только средством – неизбежным или «избыточным», – но и результатом процесса социального формообразования 30-х гг. По-моему, это самое важное для понимания исторической перспективы, да и современной ситуации тоже.
О порохе в пороховницах
Никакое общество, никакое время нельзя понять, не зная, что его движет, радует, пугает, каков дух времени. Это несколько старомодные слова, не вполне строгие, отчасти метафорические, но – что поделать! – других в нашем арсенале нет.
В современных дискуссиях, мемуарах, попытках теоретического оправдания Переломной Эпохи встречаются как будто три совершенно разных толкования ее духа:
«Энтузиазм был!»
«Порядок был».
«Страх был…»
Легко допустить (по схеме притчи о слоне и слепцах), что речь идет о разных сторонах одного и того же явления. Но можно предложить и более активную модель: это три функциональных элемента одного и того же механизма. Когда вспоминают о «тогдашнем» Порядке, то вовсе не в смысле четкой организованности, аккуратности, дисциплины, куда уж там! (и тут…) Соблюдалась субординация, и каждый «винтик» знал свое место в грохочущем механизме. Порядок был и в другом – в том, что ювенильный задор активистов (надеюсь, терминология А. Платонова сегодня общеизвестна) подкреплялся универсальной инфраструктурой страха (по Г.X. Попову – подсистема страха), а сомнения и стенания глушились искрометными маршами. Помните, какую роль играет бетховенская «Ода к радости» в фильме Тенгиза Абуладзе?
Во всяком безумии, как известно, имеется своя логика. Попробуем обозначить некоторые ее ходы.
Сначала об основаниях. В 30-е гг. произошли социальные события прямо-таки космического порядка, еще недавно казавшиеся невозможными по всем правилам исторических и социальных наук: ликвидация крестьянства как класса, интеллигенции как особой социальной группы. Да и рабочего класса тоже: свободный наемный договорный труд (как несправедливо поносит его наша пропагандистская инерция!) превратился в труд несвободных, прикрепленных к рабочему месту людей, слабо заинтересованных в результатах. Образовались принципиально новые социальные слои «активистов» и «работников» в городе и деревне (пережитки старых и детали новых различий мы сейчас не будем брать в расчет, тем более что они шаг за шагом «стирались», и не только по отчетам). Эти слои и составили ту величественную общественную пирамиду, которую, по знаменитому изречению отца народов, венчал он сам с группой приближенных единомышленников. По сути дела, сохранил свою традиционную форму и умножил силу лишь один социально-структурный компонент старого российского общества: бюрократия. Смена личного состава не в счет.
Итак, перед нами как бы три этажа пирамиды – вершина, «середка», низ. Обычный перечень классов и групп разложить по таким полочкам нельзя: представители одной группы могут разместиться на разных этажах. А вот общественные функции и устремления разложить можно. Например, так.
Стремление изо всех сил удержаться в узком кругу, связанном круговой порукой сицилианского образца, – на верхнем этаже (вожди).
Надежда самоутвердиться и выдвинуться – на среднем (активисты).
Желание выжить в борьбе за первичные житейские блага – на нижнем этаже.
И на каждом – своя система иллюзий. Иллюзия собственной миссии (или это была только псевдоиллюзия? идеологический ритуал?) – на вершине. Иллюзия активного участия – на среднем уровне. И иллюзия «отеческой заботы» – в «низах»…
Конечно, это крайне упрощенная, рабочая схема, она оставляет в стороне многие связи и образования, номинальные и реальные «сквозные бригады». Для всех них, как и для каждого этажа в отдельности, цементирующей силой был страх. Он не был равномерно распределен в пространстве пирамиды (относительно слабея книзу и усиливаясь до безумия на вершине) и, разумеется, в ее социальном времени. Страх вылететь из «тележки» и тем самым оказаться под ее колесами (выпавшего затаптывают). Страх не попасть в ногу (не поспеть, не забежать вперед, не вооружиться новыми установками, не признаться вовремя, не разоружиться идейно, не отречься, не разоблачить…). На нижнем этаже страхи иные: нет, скажем, опасений остаться без работы, но есть опасения за кусок хлеба, за крышу над головой, за прогрессивку. Система санкций преимущественно негативная: действовали не столько поощрения, сколько наказания – за опоздания, за «колоски».
Инфраструктура страха была основательно организована в государственных масштабах, но, несомненно, обладала и способностью к самоиндукции на разных уровнях. От кампании к кампании его волны катились сверху вниз и обратно, сталкивались, набирая силу неких девятых валов и поддерживая обстановку предельной неуверенности на вершине пирамиды. Чтобы подкреплять эту инфраструктуру, требовалось постоянное обновление ипостасей вражьей силы: уклонисты, примиренцы, вредители, шпионы, убийцы, низкопоклонники, ревизионисты, отщепенцы и т. д. Кульминация 1937 г. отковала универсальное клеймо «врага народа» (слепок церковного «врага рода человеческого»; в речах и учебниках звучал аналогичного происхождения термин «изверги»). О самом ведомстве страха и судьбе череды его начальников сейчас много написано. Отмечу лишь непременную часть массовой опоры всей инфраструктуры – череду платных и добровольных доносчиков, от П. Морозова до Л. Тимашук, воспетых в заказном фольклоре.
Особое место в системе постоянного устрашения – порой, может быть, и самоустрашения – занимала внешняя военная угроза. При этом отдаленная и потенциальная угроза раздувалась (в начале 30-х, а потом с конца 40-х) в основном для внутренних надобностей. А когда она стала конкретной, под бодрящие мелодии («…и на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом») происходил разгром военных кадров и неразбериха во всем оборонном хозяйстве. Так работала «пирамидальная» логика.
Теперь об энтузиазме, все еще покрытом некой романтической дымкой. Вдохновенные порывы бывают в разные времена у различных людей или групп, источники их тоже неодинаковы. Для того времени прежде всего, видимо, следует указать на распространенную среди значительной части «активистов» надежду на близость царства изобилия и справедливости («Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»). Молодость мира и его созидателей неизбежно вводила в сознание общества тот самый подростковый синдром, о котором недавно писал И. Кон[453]: все возможно, все сначала, предельные цели, минимальные сроки, никаких авторитетов!
Впрочем, здесь требуется очень существенная оговорка. Опрокидывать разрешалось любые авторитеты – научные, политические, литературные, административные, но только по мановению высочайшего авторитета, который рос с каждой серией ниспровергательства. Любого трижды заслуженного борца или специалиста можно было хулить и травить с яростью, позже столь ярко воспроизведенной хунвейбинами, при незыблемой вере в премудрость наивысшего начальства. Это уже не черта психологии подростка, это социальный инфантилизм, корнями уходящий в холопское хамство и холопское же преклонение перед барином. Помноженное на административный восторг холопство дало и пресловутый «культ», точнее, его внешнюю, ритуальную форму.
Был тут еще один компонент: постоянно спускаемая сверху разнарядка на бодрость. Новый человек не только хотел и старался быть жизнерадостным, но… с него это в обязательном порядке требовали. И строго спрашивали с художников, писателей, музыкантов: почему недостаточно радости в героях или мелодиях? «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей»… «Всех ярче сверкают улыбки советских веселых девчат» – это ведь был образец, своего рода ГОСТ, за которым следили уже безо всяких улыбок. (Как доставалось сначала А. Платонову, а потом М. Зощенко за отклонения от этого ГОСТа!) Низовые и приказные потоки сливались воедино в ритуальных восторгах, «уроках ненависти» и маршах ударных бригад.
К общему знаменателю внеэкономического побуждения и понуждения, который, бесспорно, царил в Переломную Эпоху, следует добавить и некоторый элемент начально-экономический: как-никак необходимо было «накормить голодного» (или «одеть раздетого»). В условиях абсолютной бедности удовлетворение самых простых нужд, несомненно, стимулировали и премиальный оклад за ударные усилия, и лишняя, «стахановская», тарелка супа в войну.
Черта подчеркнутой чрезвычайности лежала на учреждениях, нравах, привычках этой эпохи. Все считалось временным, исключительным, переходным, и это тоже – наряду с реальными или мнимыми угрозами со стороны вражьих сил – служило оправданием насилий над людьми, планами, над здравым смыслом. «Дух» чрезвычайности приводил к постоянной работе на износ, на исчерпание ресурсов и природных, и технических, и человеческих, включая сюда ресурсы терпения, выдержки, трудовой мотивации. Говорят, нет ничего более постоянного, чем временные сооружения. Если допустимо приписывать эпохе некие намерения (их не следовало бы отождествлять просто с намерениями Вождя), то можно сказать, что чрезвычайная эпоха на самом деле стремилась увековечить себя. Это стало ясно в более поздние, послевоенные годы, когда марши превратились в торжественные оды, слой активистов – в касту чиновников, титулованных и замундиренных, а символами эпохи становились ампирные здания и величественные статуи. Колючая проволока была не символом, а строительным материалом. Но невоспроизводимые ресурсы уже были исчерпаны.
Стратегия или игра?
…«Налево поедешь – голову сложишь. Направо поедешь – коня потеряешь. Прямо поедешь – царство загубишь», – привычная всем стандартная сказочная ситуация. Сказки не только развлекают, но и учат жить, задают удивительно прочные рамки движению мысли. Не такова ли рамка исторического выбора на переломе 20 – 30-х? Ведь стандартная, запавшая в глубинные слои нашего исторического самосознания модель ситуации почти совпадает со сказочной, разве что надписи на камне иные, да и придуманы больше задним числом. И не просто предостережения, а стройные стратегии или, на более современный лад, программы: «левая», «правая», «центральная». Модель старая, сталинская (оппоненты Вождя с ней не соглашались).
Не слишком ли она бедна? (Заметьте, читатель, я хочу опять привлечь внимание не к монбланам известных или неизвестных фактов, а к модели, к способу их укладки.) Ведь даже то, что мы со школьной скамьи знаем, в ее рамки не укладывается. Если проследить за утверждениями и обещаниями Сталина и его окружения за ряд лет «до» и «после» – причем лучше всего не по поздним изданиям, которые постоянно подчищались (прямо-таки по рецептам Дж. Оруэлла), – никакой заранее определенной и сколько-нибудь стройной линии нельзя обнаружить. Жажда власти, стремление удержать ее и всячески возвеличить (это уже времена более поздние) – личностная цель, но не программа для страны.
Если же рассматривать спрямленную задним числом линию тактических зигзагов, интриг и пропагандистских маневров как целостную стратегию, придется признать, что она последовательно осуществлялась самым худшим из возможных способов и давала результаты, далеко расходившиеся с намеченными целями, приводила к тягчайшим потерям.
Надо было основательно постараться, чтобы в кратчайший срок расхитить природные и человеческие ресурсы страны, богатейшую аграрную державу в безоблачное мирное время ввергнуть в пучину страшного голода (1933 г.), травить аграрных специалистов при перевороте в деревне, инженеров и ученых – в годы индустриальных штурмов, военных – в канун войны, а интеллигентские и партийные кадры – едва ли не постоянно. Чтобы достаточно сильную в военном и военно-техническом плане страну молниеносно поставить на грань национальной катастрофы – и предложить народу закрывать амбразуру своей грудью.
В антисталинской литературе существует даже такая версия: деревенская авантюра была затеяна, чтобы создать дефицит и голод, а голодными массами легче править… Это, конечно, не более серьезная точка зрения, чем представление о войне, нарочно подстроенной, дабы, скажем, получить звание генералиссимуса.
Нас когда-то учили тому, что в первые годы войны действовал гениальный сталинский «план активной обороны», согласно которому противника и требовалось заманить к столице и Волге, чтобы… Сейчас все знают, что не было ничего подобного. Но не такова ли и вся сочиненная задним числом сталинская стратегия? И до войны, и после нее? Когда ломали хребет крестьянству, уверяли, что зарезанная курица будет процветать и нести несметное количество золотых яиц. Когда в деморализующем хаосе первых недель войны звучали заверения, что главные силы врага уже разгромлены. Не столь важно, чему из этого верил сам Вождь, а что заведомо было неправдой, где проходила граница между обманом и самообманом.
А была ли цельная стратегия у партийных оппонентов Сталина? Скорее всего, были отдельные точки и очаги сопротивления, причем все более разрозненного. Причем нередко реальные и декларируемые предметы борьбы (особенно если судить о них по позднейшим подделкам) существенно различались: скажем, потом создалось впечатление, будто в центре дискуссий стоял вопрос о возможностях «отдельно взятой страны», а на деле речь шла прежде всего о доверии к генсеку, то есть о власти в партии и стране.
В ряде схваток Сталин переиграл своих противников, как мне представляется, не потому, что был умнее или дальновиднее, а потому, что был ловчее, грубее, свободнее от доктринерства, сомнений, от всех столь ненавистных ему «интеллигентских» качеств. Недавно нам напомнили злую характеристику, которую когда-то выдал Сталину Троцкий: «величайшая посредственность в партии». Он до конца дней не понял, что этот тип посредственности давал немало преимуществ, позволял проходить в щели, где застревали более крупные фигуры. Стальная прагматическая логика, лишенная теоретических или этических табу, помогала ориентироваться в некоторых непосредственных ситуациях и захватывать ближайшие ключевые позиции, не затрудняясь заботами о дальних последствиях, тем более о «щепках».
Но если не было «схватки железных стратегий», то не было и единственной точки трагического выбора. Можно, следовательно, оставить сказки сказочникам. Реальная история прозаичнее и драматичнее. Если мир подобен театру, то люди в нем не только разыгрывают драмы, но и на ходу сочиняют их тексты; если он подобен игре, то это королевский крокет (из «Алисы»). Гегель видел «хитрость истории» в том, что люди, преследуя мелкие, корыстные, престижные (на современном социологическом языке) цели, исполняют ее требования. Он верил в высшую разумность исторической действительности, – увы, это убеждение в последующие времена мало кто разделял. По ту сторону непрерывных исторических импровизаций (термин Герцена) ни высшего разума, ни безликой Исторической Необходимости – она же Историческая Задача – не обнаруживается.
Это не значит, что во множестве постоянно совершаемых людьми актов – сознательного или бессознательного – выбора все исходы равновозможны. Одни более вероятны, другие менее, хотя строгих подсчетов здесь не бывает. Математики считают хаос, неорганизованность более вероятными событиями, а порядок – менее вероятным. В переводе на язык социального знания (разумеется, лишь условном) это означает, что близорукая политика всегда более вероятна, чем дальновидная, краткосрочные решения более вероятны, чем широкие рациональные программы, а проще говоря, «довлеет дневи злоба его».
Вероятность – не обязательность. Могут реализоваться и маловероятные ходы, так бывало и будет, если находятся люди и силы, способные этого добиться. Если же их нет, каждый миг поворота (из которых и состоит то, что именуют Историей) осуществляет не лучшее, а более простое. Падать проще, чем подниматься; гнить проще, чем гореть; умирать проще, чем жить.
P.S. Для чего копья ломать?
Что бы ни говорили участники сегодняшних дискуссий об исторических альтернативах, об истории «в сослагательном наклонении» («что было бы, если бы…»), за их спорами стоит нечто более серьезное, чем упражнения для воображения, или поиски аналогий, или, наконец, извечный для нашего исторического сознания вопрос «кто виноват?». История всего, что было и что могло быть – нерешенные задачи, неоконченные процессы, остановленные движения, – не принадлежит целиком прошлому. Она образует многослойный фундамент, на котором стоит и всякая современность, и всякий возможный выбор действия. В этом фундаменте – слои разного возраста, не только «вчерашние», но и «позавчерашние». Они становятся видны простым глазом в периоды разломов и кризисов, когда обнажаются глубинные структуры – стереотипы мышления, оценок, поведения. Как и всё в социальной и культурной действительности, эти структуры не существуют безотносительно к человеческому восприятию и действию.
Если мы не можем изменить события и судьбы людей ушедших времен, мы можем изменять – и изменяем – отношение к ним, а иногда и подвергаем пересмотру сами стереотипы или парадигмы исторического сознания. Что было, то было – этого не изменить. Но каким оно было, как оно продолжается, как влияет на то, что есть? Ответы на эти вопросы человек может и обязан пересматривать. В конечном счете от этого зависит отношение не только к альтернативам прошлого, но и к альтернативам близкого и далекого будущего. О них-то и идет спор.
1989Какие ресурсы сегодня исчерпаны?
…Когда в одночасье, одновременно, одномоментно и уже навсегда устали бетон, сталь, недра, человеческая плоть, и добыча начала сокращаться…
Ю. Калещук. Остывающая зола // Дружба народов. 1987. № 1. С. 189.Необходимость начавшихся в нашем обществе перемен, а также их масштабность прежде всего предопределены тем, что возможности старых, десятилетиями складывавшихся механизмов движения социально-экономических структур практически исчерпаны, ресурс традиционной модели социализма выработан. В этом сегодня и главная гарантия невозможности возврата назад, в некую точку давнего или недавнего прошлого.
Категория ресурсов обычно употребляется в экономике и технике; в данном случае она взята в более широком смысле. В качестве ресурсов могут выступать различные предпосылки и условия социально-экономических (а также социокультурных и др.) процессов.
Одну группу социальных ресурсов можно назвать объективными, отнеся к ним демографический, санитарный, образовательный потенциалы общества.
Демографические ресурсы как социальная проблема достаточно хорошо отражены в литературе. Сюда относятся состояние и перспективы роста трудоспособного населения, с учетом «иждивенческой нагрузки», его возрастная и половая структура, миграционный потенциал, условия воспроизводства. Как известно, в большинстве регионов страны произошло изменение типа воспроизводства населения (демографическая революция), в значительной мере завершена демографическая (переселенческая) урбанизация и доведена до минимума численность занятых в домашнем хозяйстве. Это позволяет говорить о том, что демографические ресурсы общества практически исчерпаны.
Санитарные ресурсы – это степень «совокупного здоровья» общества, как физического, так и психического. Она измеряется, с одной стороны, физическим и интеллектуальным развитием населения, с другой – потерями здоровья, времени и труда в связи с распространением различного рода заболеваний. Существующие здесь сложности известны; прежде всего они обусловлены распространением алкоголизма, травматизма, нерациональной структурой питания для ряда групп населения, плохой организацией медицинской помощи, уровнем детской смертности и др. Правомерно ли говорить в данном случае об исчерпании ресурсов, если мы значительно отстаем по всем перечисленным показателям от всех развитых стран (а порой и от развивающихся)? Нельзя ли сделать отсюда утешительный вывод об обратном, то есть о наличии огромных неиспользованных ресурсов здоровья общества?
Дело, однако, сложнее. Существующая у нас медико-демографическая («санитарная») ситуация воспроизводится уже во втором поколении, никакими призывами или кампаниями ее изменить не удается. Исчерпаны существующие в обществе средства использования санитарного потенциала, а именно это и составляет реальное содержание тезиса о «выработанности» данного социального ресурса. «Массовые» мероприятия в этой сфере (вакцинация и др.), которые привели к резкому падению смертности в 30 – 50-х гг., сегодня не в состоянии снизить ее уровень. Наиболее опасные в настоящее время заболевания требуют иного уровня специализации медицинской помощи, ее организации и технического оснащения.
К образовательным ресурсам общества нужно причислять не только, скажем, лиц, получивших определенную степень формального (школьного, вузовского и пр.) образования, суммарные показатели образованности общества (среднее число лет обучения), но также и показатели практического обучения (профессионального), и – что особенно важно – данные о качестве соответствующих форм обучения и профподготовки. Конечно, они вряд ли поддаются непосредственному учету, но по ряду косвенных данных (например, затраты на обучение в различных регионах, уровень преподавания, длительность практического «доучивания» специалистов и т. д.) можно было бы надежнее судить о современных проблемах развития образовательного потенциала нашего общества. Повсеместно признаваемый сегодня кризис системы образования связан с исчерпанием возможностей его чисто количественного роста. Правда, общий уровень образованности населения у нас существенно ниже, чем в США (9 – 10 лет против 12–13), но без повышения «отдачи» образования его дальнейшее расширение неоправданно.
Социальные ресурсы названных выше видов, несомненно, могут быть представлены как непосредственно экономические по своему значению; оправданно поэтому применение по отношению к ним таких категорий, как спрос, насыщение, дефицит, полезность, воспроизводство и т. д.
Несколько сложнее обстоит дело с ресурсами, которые можно обозначить как субъективные (в том смысле, что они преимущественно характеризуют субъектов экономической деятельности). По-видимому, они не подлежат прямому экономическому счету – хотя отчасти и могут измеряться косвенно, в частности с помощью системы психологических измерений, – но оказывают существенное влияние на степень и способы использования обществом его объективных ресурсов. К социальным ресурсам такого типа относятся моральные и мотивационные. Под моральными ресурсами общества в данном случае, то есть применительно к проблемам экономического роста, понимается, во-первых, реально действующая в нем нормативная структура (мера соблюдения общественных предписаний, масштабы существующих при этом «допусков», соотношение формальных и неформальных, «теневых» нормативных структур), а во-вторых, временная протяженность, своего рода дисконтирование общественно признанных ожиданий (мерой такого показателя может служить допустимый разрыв между действием и вознаграждением, роль ссудо-сберегательных отношений и другие индикаторы «экономизации» человеческого терпения и выдержки). В этом плане в нашем обществе накопилось немало сложных проблем. В известной мере произошло размывание нормативных рамок – распространение халатного отношения к работе, терпимости к несунам, пьяницам, «левакам». В то же время явно снижается порог допустимых ожиданий, соответственно возрастают надежды на немедленный эффект, например потребительский. Наблюдаемый за последние годы рост сбережений населения не противоречит этой тенденции, поскольку он выражает в основном вынужденное откладывание потребительского спроса из-за дефицита необходимых благ.
Более обстоятельного рассмотрения заслуживает ситуация с мотивационными ресурсами, поскольку она является наиболее сложной, а возможно, и наиболее острой.
Известно, что нет действия без соответствующей мотивации. А так как для анализа социальной реальности нужны прежде всего представления о регулярных, систематически воспроизводимых типах действий, а не отдельно взятых актов, в экономике и социологии (в отличие, например, от экспериментальной психологии) предметом исследования становятся не просто мотивационные импульсы, а сложные комплексы – мотивационные структуры. В них входят мотивационная ситуация (общие предпосылки данного типа действий – исторические и организационные) и конкретный мотивационный механизм (стимулы к действию определенного рода, средства мотивационного подкрепления и контроля, позитивные и негативные санкции).
Об экономической мотивации можно говорить в двух смыслах: как о любых типах мотиваторов поведения людей в различных сферах народнохозяйственной деятельности и как о специфических производственных мотивационных механизмах, опирающихся на экономические интересы действующих лиц. Чаще всего экономические мотиваторы рассматриваются по отношению к оперативно-трудовой деятельности. Это объясняется тем, что механизм простейших трудовых мотиваций долгое время остается больным местом и предметом как управленческого, так и исследовательского внимания. Между тем заслуживают разностороннего изучения мотивационные структуры таких сложных видов экономической деятельности, как управление, обмен, потребление, предпринимательство, кредит и т. д., а также и социально-трудовых отношений (коллективные договоры, трудовые соглашения, конфликты).
Чтобы представить современное состояние и перспективы использования мотивационных ресурсов, целесообразно сравнить возможности различных мотивационных механизмов. Здесь было бы недостаточно ограничиться ставшими традиционными противопоставлениями, скажем, «романтической» ориентации (на творческое содержание труда) «материальным интересам» (заработок) или «административных» – собственно «экономическим». Такой выбор противопоставлений в плане истории нашей социально-экономической мысли объясним, но далеко не полон. К тому же умозрительные дискуссии о творческом труде и о потребности в труде велись в условиях, когда реальность выдвигала на первый план совсем уж не диалектическое противопоставление добросовестного труда недобросовестному, законных форм заработка внезаконным, полузаконным и просто незаконным.
История социально-экономических структур «выработала» несколько основных типов мотивационных механизмов, которые в тех или иных формах действуют в различных обществах, в разные эпохи, в том числе и в наших условиях.
Это, во-первых, так называемые традиционные механизмы, ориентированные на воспроизведение немногих исторически заданных «привычных» образцов поведения. Главный мотив здесь – повторение того, что уже было, что кажется незыблемым, а часто и святым. Всякое отступление от привычного порядка вещей, поиск нового осуждаются, даже наказываются; сохранение традиции означает вместе с тем и сохранение соответствующих ей мотиваций. Конечно, в более или менее чистом виде такие структуры известны лишь этнографам, изучающим реликты первобытных культур. Но они вовсе не принадлежат только далекому прошлому или дальней периферии современного общества (развивающиеся страны и регионы). Традиционные структуры отношений и мотиваций в известной мере продолжают действовать в сферах семейно-бытовых и семейно-хозяйственных отношений, иногда могут распространяться и на некоторые стороны других областей социально-экономической жизни. Они устойчивы по отношению к переменам, так как опираются на преемственность личностных и межличностных установок, не требуя для своего поддержания писаных правил и громоздких общественных механизмов. В строгих рамках традиции и привычки человеческая деятельность ориентирована на самосохранение, на выживание, но ни в коем случае не на развитие, не на эффективность, тем паче не на рост потребностей. Поэтому сохранение и воссоздание «привычных» квазитрадиционных мотивационных структур неизбежно означают и воссоздание отношений «антиэффективности».
Во-вторых, это этические мотивационные структуры, в которых деятельность людей предстает как исполнение обязанности, долга перед обществом (предками, благодетелями, в религиозной интерпретации – перед божеством). Основное внимание при этом уделяется не столько результату, сколько самому процессу действия, например труда, а всевозможные трудности и страдания, связанные с выполнением долга, считаются необходимыми. В определенных исторических ситуациях этическим мотиватором может принадлежать важная роль. Известно, что М. Вебер видел в «протестантской этике» необходимый фактор старта европейской капиталистической цивилизации, пока последняя еще не выработала собственного (экономического) механизма мотивации. Однако в качестве главного мотиватора экономического действия этические стимулы и санкции могут выступать преимущественно в чрезвычайных и относительно кратковременных ситуациях, например военных, катастрофических. В нормальных же условиях апелляция к долгу, чести, самопожертвованию недостаточна уже потому, что она не ориентирует на качественную и эффективную работу, на совершенствование организации труда и управления и т. д. Сколь бы ни был благороден призыв к общественному долгу трудящегося и гражданина, он требует подкрепления со стороны более «прикладных» мотивационных механизмов, в том числе и этических стимулов более конкретного, как бы «локального» порядка: рабочей чести, профессиональной этики, долга по отношению к трудовому коллективу. В такие этические мотиваторы «встроены» явные качественные критерии, например профессиональный уровень.
Если подобных «заземлений» нет, апелляция к долгу остается неэффективной или попросту лицемерной. Наивны и бесплодны лозунги типа «Добросовестный труд – наш патриотический и интернациональный долг» (их и сегодня еще можно увидеть на стенах заводов).
В-третьих, директивные (сейчас их иногда называют административными) механизмы мотивации, основанные на вертикальном, иерархическом разделении управленческих функций сверху вниз и столь же иерархическом разделении дисциплины и исполнительности снизу вверх. Для таких механизмов характерны далеко заходящая специализация функций управления, информации, контроля, многообразие позитивных и негативных санкций, относительное быстродействие. Директивно-иерархические мотивационные механизмы издавна действуют в сложных политических, военных и хозяйственных системах. Эти механизмы связаны с распределением вознаграждений, престижа и возможностей карьерных перемещений. Для их действия необходимо формирование особых слоев и организаций, специализированных на исполнении учетных, контролирующих и управляющих функций. Управляющие воздействия в директивных системах могут варьировать от грубого принуждения, подкрепляемого страхом наказания, изгнания из системы, до высокорационализированных форм контроля, обусловленных в своем действии сознательной дисциплиной подчиненных. Сама по себе директивная система управления со свойственными ей мотивационными механизмами не хороша и не плоха, весь вопрос в том, как и для чего она используется.
Принципиальная ограниченность всякой директивной системы прежде всего в том, что все ее уровни ориентированы на исполнение извне заданных целевых функций; она может быть весьма эффективной для предприятия, для армии (хотя и не в качестве единственной), но не годится для общества в целом, которое формирует собственные целевые установки. Любая директивно-иерархическая система склонна к бюрократическому склерозу, особенно опасному в тех ситуациях, когда она претендует на универсализм и монопольность. К числу ее «врожденных» пороков следует отнести также тенденцию к эрозии самого механизма мотивационного контроля. Поскольку способ воздействия на исполнителей любого уровня здесь сводится к перемещениям по должностной лестнице и выводом за ее пределы, дефицит на нижних ступенях (нехватка рабочей силы) и растущая круговая порука на верхних практически обесценивают мотивационную систему.
По сути дела, директивные способы управления экономикой – это технические способы управления, характерные исторически для внутрипроизводственных форм разделения труда и управления, но вынесенные за рамки предприятия. В первоначальный, донэповский период поисков модели социалистического общества оно иногда рисовалось в виде гигантского предприятия, управляемого, естественно, по единому директивному плану. Реализация такой модели оказалась невозможной не столько в силу преходящих исторических обстоятельств, но прежде всего из-за неправомерности перенесения на социально-экономическую систему общества модели «фабричного» типа. Отметим наиболее существенные отличия: предприятие действует в системе заданных общественных целей и приоритетов, общество само их формирует. По своей деятельности предприятие в принципе однородно и однонаправленно (одномерно), в то время как общество многообразно и многопланово (многомерно); предприятие имеет дело с «готовым», социализированным человеческим материалом, а общество его само создает. Сегодняшний опыт исследования и использования социально-экономических механизмов говорит о большей обоснованности обратной процедуры – рассмотрения предприятия как модели общественных отношений.
В-четвертых, заслуживают быть отмеченными корпоративные структуры мотивации, связанные с привязанностью человека к группе, коллективу, организации. Основными средствами мотивационного подкрепления и контроля в них служат механизмы групповой солидарности и ответственности. Масштабы и организованность группы могут варьировать от примитивно-артельных форм до сложных и строго организованных структур крупного предприятия. В зависимости от задач и степени эффективности действий соответствующей группы меняется и значение групповых мотиваций. Групповая сплоченность, как показывают лучшие образцы коллективной организации труда, бывает важным фактором развития экономики и общества. Известно, что корпоративные мотиваторы играют значительную роль в эффективном развитии японской экономики, а также свойственных ей методов преодоления социальных конфликтов. Но вынесенные во вне «целевого» контекста групповые мотиваторы могут вырождаться в круговую поруку, то есть в систему «корпоративного торможения». Примеры таких превращений достаточно хорошо известны.
В-пятых, собственно экономические (в строгом смысле) мотивационные механизмы, которые предполагают активность и заинтересованность самих субъектов хозяйственной деятельности на всех ее уровнях, притом не только индивидуальных, но и коллективных. Именно эти черты экономических мотиваторов придали им динамизм и универсальность, выходящую за рамки исторических эпох и общественно-экономических формаций. По всей видимости, у нас наконец сломан барьер предубеждений, обрекавших экономические мотиваторы на участь недостойных «пережитков прошлого» в царстве директивного планирования. Становится очевидным, что этот мощный механизм не только важен сиюминутно, но и должен быть непременным элементом любой системы рационального и эффективного хозяйствования, притом не только в макромасштабах страны или отрасли, но в значительной мере и во внутрихозяйственных отношениях предприятия.
Его универсальность и могущество вовсе не означают универсальной эффективности и всемогущества. Ему, как правило, недостает быстродействия и специализации. Сами экономические интересы различных участников хозяйствования не могут быть кем-то изначально заданы в готовом виде, они формируются, взаимодействуют друг с другом, изменяются, требуют развития соответствующих инфраструктур (рынка, кредита, информации и пр.). И, разумеется, всякая система экономических интересов действует в рамках существующих в обществе этических, правовых, политических институтов. Имеются и такие области социально-экономической жизни, в которых экономические интересы в чистом виде не могут играть доминирующей роли. Это относится, например, к сферам социального и гуманитарного обслуживания, науке, творчеству, управлению.
Таким образом, экономическая мотивация не является всеохватывающей или самодостаточной. Но это относится и ко всем другим названным выше типам мотивационных структур. Привычка и долг, дисциплина и солидарность (если выделять ключевые понятия этих структур), так же как и интерес, ни в каких современных условиях не способны действовать в одиночку, они эффективны лишь в определенных сочетаниях, и именно типы таких сочетаний, а не отдельные мотиваторы могут быть специфичными для конкретных социально-исторических условий. Известно, что и классический капитализм дал образец симбиоза директивных мотиваций в рамках индустриальной структуры (предприятия) с сугубо экономическими (между фирмами и собственниками); в позднейший период многие элементы директивной регуляции проникли во вторую сферу, в то время как и в усложняющихся внутрифирменных отношениях находят место экономические мотиваторы. Да и в нашей истории даже в пору наиболее жесткого директивного централизма – который претендовал на охват всего и вся в социально-экономической системе, но никогда не был на это способен – оставались признаваемые с трудом или вовсе не признанные сферы действия если не собственно экономических, то квазиэкономических отношений (сделки, торга, поощрения межведомственного соперничества, квазирыночных и квазиденежных регуляторов и т. д.). Беда в том, что такое сочетание всегда было малоэффективным, а в последний период обнаружило свою высокую антиэффективность. Реальная современная проблема в этом плане – поиски оптимальных «увязок» экономических, директивных, этических, групповых мотивационных механизмов. К этому следует добавить и проблему поиска действительно современных форм и способов действия всех этих механизмов.
Один из возникающих здесь вопросов относится к структуре экономических мотиваторов «хозяйского» типа. Как социально-экономический феномен хозяин (соединение функций собственности, ответственности и управления) принадлежит периоду мелкособственнического или начального развития капитализма. В условиях далеко зашедшего разделения экономических функций – отделения собственности от владения и текущего управления (распоряжения), обособления планирования, проектирования, маркетинга и т. д. – мотивационная структура и функция «хозяйского комплекса» в значительной мере трансформируются. Как показывают исследования экономистов и социологов, основную мотивационную нагрузку несут ныне (в разных соотношениях) вознаграждение и участие, то есть некоторое распределение экономических и корпоративных мотиваторов. При этом прививаемое некоторой части работников представление о причастности к делам фирмы (согласно публиковавшимся данным, на американском заводе постоянно думают о его общих проблемах 10–12 % работников, на японском – 61 %)[454], можно считать скорее выражением корпоративных, чем собственно хозяйских или даже квазихозяйских мотиваторов. Самый рациональный и полноправный хозяйствующий субъект – администратор, труженик, совет коллектива – отличается от самого нерадивого собственника тем, что при любом развитии форм материального поощрения и наказания в первом случае имеется принципиальная разница между его кошельком и кошельком предприятия, во втором случае ее просто нет. Дело меняется, если собственность фактически (не декларативно) становится, например, кооперативной или акционерной. Аналогична, по-видимому, ситуация долговременной аренды. Первый опыт говорит о перспективности распространения таких экономических форм, хотя его результаты еще ждут обстоятельных исследований.
В ряде острых дискуссий последнего времени относительно исполнения и возможностей хозяйских функций в нашем обществе со стороны различных субъектов экономической жизни (трудящихся, коллективов, администрации, ведомств и пр.) выявлено, что проблема достаточно осложнена и простых решений не имеет. В многоярусном и дифференцированном экономическом механизме – а эти черты не являются лишь принадлежностью текущего момента – и формы, и реальное содержание хозяйских функций экономических субъектов неизбежно разнообразны и должны таковыми оставаться. В соответствии с масштабами отдельных хозяйственных систем, способами их управления, компетентностью участников здесь могут действовать как структуры непосредственного хозяйствования (распоряжения), так и механизм представительского (участвующего) управления разных уровней. Отсюда и неизбежное разнообразие мотиваторов – от экономических до групповой солидарности и общественного долга включительно.
Как известно, при капитализме в качестве экономического мотиватора наряду с трудовым вознаграждением выступает прибыль в разных ее формах, иначе говоря, мотивирующие факторы могут быть как потребительскими, так и предпринимательскими (при капитализации дохода). В социально-экономических рамках социалистического хозяйства до сих пор признавалась практически только потребительская форма экономической мотивации, поскольку предпринимательская деятельность (частная, индивидуальная, групповая) если и допускалась, значительной роли не играла. Экономическим мотиватором для основной части населения остается только потребительски используемое вознаграждение. Развитие и признание в нашем обществе таких экономических форм, как индивидуальная трудовая деятельность и кооперация – при всей ограниченности их масштабов, – практически означают легитимацию предпринимательской мотивации.
Декларировано и признано нашим обществом как справедливое соответствие вознаграждения трудовому вкладу отдельного работника (а также коллектива, при групповых формах труда). Но давно ясно, что практически (да и теоретически, по всем правилам политической экономии) невозможен учет результатов труда отдельного работника в общеэкономическом смысле, то есть в народно-хозяйственном масштабе. Столь же нереально строгое сравнение результатов труда разного рода и квалификации; многие же виды трудовой деятельности, притом в наиболее прогрессивных сферах научного и гуманитарного обслуживания (медицина, образование), вообще не могут измеряться «зримой» количественной мерой уже потому, что их конечные результаты далеко отстоят в социальном пространстве – времени от точки приложения труда… Сложнейшие системы тарифных сеток и должностных окладов, расценок, прогрессивок, коэффициентов и т. д. всегда были и будут паллиативами и суррогатами «оплаты по труду». Это вовсе не значит, что существующие средства вознаграждения заведомо плохи, они могут быть – по крайней мере в тенденции – прекрасно работающими стимулами труда, а также надежной мерой признанного обществом уровня равенства и справедливости в распределительных отношениях. Вспомним знаменитую проблему квадратуры круга: принципиальная невозможность измерить площадь круга квадратной мерой не мешает с достаточной точностью осуществлять практически полезные приближенные измерения.
Но в данном случае важен вопрос не о возможной строгости мотивирующих измерений, а о самой социально-экономической природе измеряемых «предметов». Таким предметом, по сути дела, является статус соответствующего экономического субъекта, то есть его позиция в многомерной системе координат, где притязания и самооценки субъекта соотносятся со степенью их признания со стороны общества или отдельных его групп. Объективные и субъективные компоненты слиты воедино в этой категории социальной деятельности. Реально действующий в нашем обществе соревновательный механизм – конкуренция ведомств и предприятий за дефицитные трудовые ресурсы, притом прежде всего за низкоквалифицированные – приводит к тому, что и сдельная, и повременная оплата неумолимо трансформируются в статусное вознаграждение. В том же направлении действует весьма огромный и громоздкий механизм льгот и приоритетов. (Кстати, это весьма показательный пример «стихийной» самоорганизации множества регулирующих мероприятий, задействованных в разное время и по разным поводам, в некое подобие слаженного и ориентированного механизма.) Совокупным и «нарастающим» итогом их действия и оказывается система преимущественного вознаграждения в соответствии со статусом работника, а также статусом региона, отрасли, предприятия, рабочего места. Это, кстати, подтверждается тем, что дифференциация вознаграждений за «выход на работу» между отраслями превосходит дифференциацию стимулирующих ставок внутри любой отрасли.
Распространение «статусных» притязаний и вознаграждений неизбежно приводит к относительному обесценению собственно трудовых компонентов вознаграждения и соответственному росту значения «сверхтрудовых» мотиваторов. К ним можно отнести, например, «сверхударную» оплату труда в особо приоритетных сферах, аварийных ситуациях или, скажем, предоставление работнику при небольшой зарплате возможности получать немалый доход от «дополнительных» занятий. По сути, речь идет о молчаливо узаконенной привилегии дополучить до определенного «статусного» уровня притязаний, характерного для соответствующей профессии, квалификации и пр. Аналогичное значение фактически имеет и распределение особо дефицитных благ, прежде всего жилья. С помощью таких процедур происходит закрепление статусного механизма.
Речь идет не о каких-либо крайностях и злоупотреблениях (они неизбежно порождаются самой системой дефицитарно-статусных отношений), а о регулярном функционировании самой этой системы. В экономической социологии социально-экономические факторы труда иногда делят на условия и стимулы. К первым относятся социальные предпосылки, гарантированные минимумы оплаты, оборудование рабочего места и т. д. – все то, что делает данную работу возможной, но прямо не влияет на ее результативность (иногда такие факторы называют гигиеническими, поскольку они ощущаются лишь в случае их отсутствия). Стимулирующими являются те факторы труда, которые активно воздействуют на его результат (поощрения, премии). Конечно, это различие не абсолютно и не постоянно; активные стимулы при определенных условиях превращаются в пассивные предпосылки (реже – наоборот). Реальная тенденция перехода активных мотиваторов в пассивные статусные признаки – пример трансформации такого рода. При соотношении уровня формальных доходов (заработка) с уровнем притязаний соответствующих групп населения и при нынешнем состоянии потребительского рынка едва ли не любая стимулирующая мера (премия, надбавка) спустя некоторое время стремится опуститься до «нулевой отметки», перейти на положение статусной предпосылки труда.
Эхом этой ситуации оказываются нередкие в экономической литературе суждения о том, что недостаточная эффективность мотивационных механизмов связана в настоящее время то ли с завышенными социальными гарантиями, то ли с завышенными притязаниями части работающих. Известно, например, что в середине 60-х гг. на 1 рубль заработной платы приходилось 46 копеек выплат и льгот из общественных фондов потребления и дотаций, а в 1985 г. – 70 копеек. Отсюда делается вывод, согласно которому с помощью экономического «нажима» (отказ от дотационных цен, в частности, на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги) можно сравнительно легко мотивировать рост трудовой активности, а также привести уровень потребительских притязаний в большее соответствие с развитием производства и возможностями рынка.
Представляется, что логика таких суждений небезупречна. Ведь дотации и льготы, о которых идет речь, – наследие разновременных и разнородных финансовых и социально-экономических мер, которые далеко не всегда могут считаться реальными гарантиями чего бы то ни было. По сравнению с другими развитыми странами, а главное, по мерке роста собственных социальных потребностей у нас не слишком много, а скорее слишком мало действительно работающих социальных и экономических гарантий. Отсутствуют гарантии минимальной часовой оплаты, жизненного минимума, необходимого больничного и детсадовского обслуживания и пр. В известном смысле это относится и к гарантиям полной и эффективной занятости, ставшим предметом острых дискуссий. Иногда происходит непроизвольное, мешающее обсуждению проблемы смешение гарантий различной природы.
В отношении занятости у нас имеются превосходные конституционные формулировки. Так, право на труд трактуется как право «на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального размера, – включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей» (статья 40)[455]. Но чем гарантировано соблюдение этого важнейшего из социально-экономических прав человека? Согласно той же статье Конституции – социалистической системой хозяйства, «неуклонным ростом производительных сил», «…профессиональным обучением, развитием системы профориентации и трудоустройства». Как известно, упомянутая система еще не создана. Не определена и минимальная оплата труда.
Реально же действуют – притом не для всей региональной структуры – прежде всего «ситуационные» гарантии: обилие рабочих мест, «обеспеченных» экстенсивным развитием экономики. Эффективных же институциональных гарантий (информационная и консультативная помощь в выборе подходящего места работы, содействие в необходимой переквалификации и трудовой мобильности, система необходимых пособий и кредитов и т. д.) практически нет. Это, кстати, способствует превращению правовых и социальных заслонов от административного произвола в некую гарантию неэффективности занятости («незанятости» на рабочих местах). Мешает эффективному обеспечению занятости и относительно низкая (более того, искусственно сдерживаемая) трудовая мобильность занятого населения.
Развитая рациональная система социально-экономических гарантий – индивидуальных, семейных, коллективных, включая и гарантированную возможность достойного заработка (основного, «формального») – только и может составить надежную основу уверенной трудовой активности. При отсутствии такой базы «напряженные» мотивационные механизмы могли действовать лишь в экстремальных и кратковременных ситуациях, в нормальных условиях об этом нечего и думать. Кроме того, одно лишь ужесточение экономических требований при сохранении нынешних уровней зарплаты и запросов могут привести к росту апатии и поискам относительно легких источников дохода в стороне от народно-хозяйственных потребностей.
Следовало бы обратить внимание на значение такого понятия, как уровень запросов (или притязаний). В научной литературе и в плановых разработках этот фактор практически почти не учитывается: он не всегда просто уловим, слишком нагружен «субъективными» моментами, так что значительно удобнее оперировать ссылками на рационально исчисленные (в соответствующих институтах) потребности населения. Однако на другом конце общественного планирования – индивидуальном, семейном – именно этот показатель и работает. В повседневном социально-экономическом поведении люди учитывают принятые в данном обществе стандарты и оценки благ, престижных позиций, собственных и чужих стремлений. С большей или меньшей степенью осознанности здесь принимаются во внимание сравнительные характеристики масштаба стремлений, напряженности и реальности их осуществления. Этот набор черт и определяет уровень притязаний как фактор социальной и экономической жизни. Рано или поздно поворот экономической системы к потребителю, должно быть, вынудит исследователей обстоятельно заняться его значением для различных групп и периодов развития общества. Некоторые тенденции можно отметить и сейчас: прежде всего, конечно, то, что в последние 20–25 лет уровень притязаний основных социальных групп нашего общества вырос более значительно, чем производство и потребление; рост «ориентирующих» стандартов опередил рост их насыщения. Это, естественно, в значительной мере усиливает дефицитность рынка и ослабляет действенность мотивационных механизмов.
Однако вряд ли правомерно делать вывод о завышенности уровня притязаний в обществе. Если отвлечься от очевидных крайностей, получится, что для основной массы населения этот уровень определяется стандартами жизни среднего жителя большого города, как материальными, так и культурными. Сами же эти стандарты, даже по сравнению с соответствующими показателями по близким странам, не столь уж высоки, что, в частности, ограничивает и их стимулирующий эффект. Именно на основе довлеющей над обществом относительной «непритязательности» сформировался своего рода порочный круг, связавший относительно низкие требования к труду с низкими же требованиями к его оценке.
Разорвать этот круг, вызывая дух «доброго старого (бедного) времени» или предлагая некое «равенство в бедности», невозможно, потому что «старое» было чрезвычайным; кроме того, само общество во всех измерениях выросло настолько, что его невозможно облачить в стеснительные одежды далекого детства. Тем более что эти «одежды» (социально-экономические формы) рассчитаны были на дешевизну трудовых ресурсов (как, впрочем, и всех остальных ресурсов) и низкий уровень притязаний работников. А фактором, который связывал воедино эти ориентиры, явилось внеэкономическое принуждение. Для того чтобы сформировать не «рационированно» – бедный, а рационально-богатый современный уровень притязаний, недостаточно латать «тришкин кафтан» несовершенного ценового механизма, здесь требуются крупные структурные изменения народно-хозяйственного порядка, да и не только народно-хозяйственного. В конечном счете от них зависят и перспективы использования социальных ресурсов экономики.
Подобно природным социальные ресурсы бывают возобновляемыми и невозобновляемыми. Способность воспроизводства собственных социальных ресурсов, вероятно, следовало бы считать существенным признаком нормального общественного развития – в отличие от чрезвычайных ситуаций, когда все ресурсы (не только социальные) как бы используются «на износ».
По отношению к социальным ресурсам «первичного» типа правомерно говорить сейчас об исчерпании возможностей их дальнейшего экстенсивного использования. Что же касается социальных ресурсов «вторичного» порядка (моральных и мотивационных), то существующие способы и формы их использования явно становятся менее эффективными; в значительной мере они также могут считаться исчерпанными. Меры по их воссозданию и реактивации не укладываются в рамки каких-либо чисто экономических программ. В этом направлении действуют радикальная перестройка управления экономикой, изменения в образе жизни и степени общественной активности трудящихся, в структуре общественного сознания.
Потенциально социальные ресурсы нашего общества огромны и исчерпаны лишь в долго использовавшемся поверхностном слое. Чтобы перейти к новым, более глубоким их слоям, недостаточно только снять определенные запреты и ограничения, нужны крупные и разнородные «вложения», нужна социально-экономическая система, которая не только эффективно использует ресурсы общества, но и осуществит их реальное расширенное производство.
1989Мера всех вещей[456]
Я человек эпохи Москвошвея…
О. МандельштамСтранный призрак бродит по нашей земле уже, должно быть, лет 60 под именем человека советского: он одновременно реален и ирреален, всем известен и неуловим, это человек «особого склада», отягощенный грузом «пережитков», но он же и носитель ключей ко всеобщему светлому будущему. Эмпирический, плотский его прообраз обнаруживается с трудом; собственно говоря, до последнего времени его как следует и искать-то не пытались, серьезных и широких исследований никто не проводил. Зато из авторитетных источников всем было известно, что этому человеку «нужно», чего он «настойчиво требует», чему и кому он «беззаветно предан», что ему «чуждо», что «непонятно» и что он «единодушно осуждает». Согласно тем же источникам, терпение, трудолюбие, миролюбие, патриотизм, солидарность и – паче всего – отвращение ко всему чужому и чуждому у него развиты в исключительной степени. Но все это лишь предвосхищение черт собственно нового человека, полностью освобожденного от гнета и страданий, от тщетных желаний и суетных интересов. Написаны многие тома относительно того, каким должен быть этот идеально новый человек и как его надлежало бы изготовлять. Формирование, воспитание, борьба за нового человека – тема инструктивных постановлений и ученых трактатов, поэм и кинофильмов.
И все же: существовал реально такой человеческий тип или только должен был существовать? Вот в чем вопрос, притом далеко не академический, так как от ответа на него зависит и отношение к человеческой основе и перспективам нашей сегодняшней неспокойной жизни.
Идея нового человека как элемента новой социальной конструкции, идея хомо новус принадлежит обычному арсеналу социального утопизма, а еще ранее – социальной мифологии. Всюду, где обещаны были «новая земля и новое небо», фигурировал и новый человек, который должен был эту конструкцию на своих плечах удержать. Давно прошло время наивно-безоглядного восхищения подобными конструкциями. В литературе показано, что вписанный в их рамки человек сочетал черты мрачного монаха и жизнерадостного робота. Персонаж знаменитой серии «русских сновидений» прошлого века – от «Сна смешного человека» до «снов Веры Павловны» (впрочем, есть все основания поставить в этот ряд иронические описания сумасбродных сновидений Угрюм-Бурчеева, оказавшихся, увы, провидческими) – «новый человек» – мифологема, а вовсе не принадлежность социальной программы, манящая и недостижимая концепция. Она рисует существо, свободное от забот и труда, от страданий и слез, а прежде всего и главным образом – от бремени нравственного выбора. Потому он и не способен на человеческие поступки. Он рисуется бодрым и могущественным, пригодным для созидания и наслаждения, но это – не более как бодрый автомат, тень человека, персонаж потустороннего царства, «человек наоборот».
«Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!» За этим навеянным сном – целые эпохи фантастических упований и отчаянных попыток претворить их в жизнь. Пробуждение от него оказалось долгим и трудным делом для нашей культуры, а когда оно наконец наступило, сказка стала былью («Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», согласно популярной перефразировке), и по многим параметрам она превзошла ожидания самых отчаянных пессимистов.
С известных пор лозунг «нового человека» стал составной частью официальной доктрины, как бы лозунгом нескончаемой (никогда не достигавшей своих целей) кампании всеобщего принудительного перевоспитания, перековки и переделки человеческой личности. Лишь поначалу может показаться, что этот классический идеал утопизма стал государственной идеологией – так, например, полагают некоторые ее критики. Скорее всего, этот идеал просто и цинично использовался для оправдания постоянно возникавшей и тоже никогда не решаемой до конца задачи сугубо практического порядка: подавления «старого», обычного человека в человеке. Превратить человека в «винтик» стремились не для реализации утопических конструкций, а для удержания и расширения власти. Суверенность личности была опасной и недопустимой, поскольку подрывала саму основу тотальной власти – ее тотальность. Под флагом сменявших друг друга кампаний борьбы против отклонений, увлечений, бытовизма, индивидуализма, групповщины, мелкобуржуазности и т. д. и т. п. в конечном счете осуществлялось постоянное централизованное и групповое насилие над мыслью, чувством и желаниями человека. Теоретические выкладки относительно общественной природы человека служили всего лишь оправданием концепции государственной принадлежности человека – чего-то наподобие универсального государственного рабовладения и столь же универсального рабского подчинения.
Мы говорили пока о доктринах, о попытках, об идеологических формулах. А как с результатами? Если бы идея нового человека оставалась лозунгом, требованием – что ж, надлежало бы рассматривать судьбы такого лозунга или оправдывавшей его мифологии. Однако ситуация оказывается более сложной. Конечно, в завершенном виде никакого нового, идеально приспособленного к заявленным обещаниям человеческого типа создать не удалось. Задача его формирования постоянно отодвигалась все дальше в туманное будущее, как, впрочем, и реализация всех иных социальных заявок. Но социальная мифология все же имела – в качестве своей предпосылки и своего же результата – некую «человеческую материю», то, что можно назвать антропологией (тот набор человеческих качеств и форм поведения, который составляет предмет научной социальной антропологии). «Был мальчик-то» – да и сегодня существует. Не соответствующий ни утопическим образцам, ни тоталитарным ГОСТам. Это его приучали (и приучили!) равняться на «всех», на молчаливо послушное или по приказу беснующееся большинство, довольствоваться минимально малым во всем, уповать на милостивую заботу власти и ненавидеть любых возмутителей спокойствия, всех, кто «гонит волну». Его научили отрекаться от родных, близких и самого себя. Его научили трепетать и шагать в ногу. Его закаляли в огне и воде, не говоря уже о «медных трубах».
И результаты были – неполные, незавершенные, но были; человеческая слабость повергалась, а непреклонность системы торжествовала. Меньше всего стоило бы искать причины этого в изощренности идеологов и проповедников государственного насилия над природой (человека). На сцене действовала не только проповедь насилия, но и само насилие во множестве своих форм. Но все же, чтобы прямое и косвенное, намеренное и ненамеренное насилие подействовало, необходимо было наличие соответствующего «человеческого материала», в меру твердого и в меру податливого, пластичного. Ни грандиозные перевороты, ни пароксизмы идеологических истерий, ни массовые насилия (как известно, осуществлявшиеся руками «массовых» исполнителей при массовом же пособничестве и соучастии) не были бы возможны без такого материала. Не будь его, не могли бы произойти никакие трагедии 20-х или 30-х гг. нашего века, а кроме того – что сегодня особенно важно – не тянулся бы за этими событиями столь длинный исторический шлейф[457].
Как можно представить себе «человеческий материал» («антропологию») той или иной эпохи? Возьмем такой пример. Каждый период жизни общества, каждая ситуация обладают определенной расстановкой социальных ролей: таковы, например, «гонитель» и «жертва», «лидер» и «последователи», «обманщики» и «обманутые» и пр. Эти роли всегда как бы связаны в пары, пучки, сценарии, более того, исполнители могут меняться ролями (скажем, жертва превращается в преследователя, и наоборот), причем сам набор ролей сохраняется (сегодня о таких превращениях можно узнать из книги А. Кестлера, воспоминаний А.М. Лариной и др.). Но это может происходить тогда, и только тогда, когда существует определенный человеческий тип, пригодный для исполнения таких ролей и перехода к новой роли в рамках данного «сценария».
Всякое общество, особенно сложное, обладает большим разнообразием человеческих типов. Изменяются они медленно, наверное, на протяжении целых исторических эпох. Но смена общественных ситуаций может – и мы это как раз наблюдаем – приводить к сравнительно быстрым изменениям в распределении человеческих типов, выдвижению на первый план одних и уходу со сцены других, это тоже изменяет антропологическую картину общества. Впрочем, это не так уж быстро происходит, как хотелось бы…
Здесь, пожалуй, пора сделать небольшое методологическое пояснение. О человеке, одиночном или массовидном, мы судим по делам и замыслам его, то есть по психологии его поведения. Психологический анализ того человеческого типа, который стал реальным действующим лицом нашей истории, еще ждет своих исследователей и может дать интересные результаты. А сейчас речь идет прежде всего о тех социальных рамках, в которых действует этот персонаж. Психология его заметна лишь в той мере, в какой она «материализована» (точнее, институционализирована) в наборе социальных ожиданий и требований.
Наличие в обществе необычного и взрывоопасного человеческого материала было обнаружено социально чуткой литературой достаточно рано: О. Мандельштам, М. Булгаков (Шариков!), М. Зощенко, но сильнее, глубже всех, наверное, А. Платонов. (Можно когда-нибудь дойти до более ранних пластов – анализа «бесов» у Достоевского или «грядущего Хама» Мережковского…) Уместно вспомнить и восторженных певцов нового человека – скажем, Маяковского, Богданова, Гастева, да и Бердяева в некоторые периоды его творчества. Все это относится к предупреждениям, в которых очень много здравого и актуального на сегодняшний день. С оценками – сложнее. В большинстве случаев (конечно, за исключением Достоевского) – ужас и восхищение, готовность бежать за молодой силой и жертвовать собственной жизнью и достоинством во имя приобщения к торжествующему большинству. А уж «народом» – то жертвовать готовы были и того более. Кавычки здесь кажутся вполне уместными: разделение общества на «народ» и «интеллигенцию» – продукт политических и духовных разломов второй половины XIX в. – оказалось столь же фальшивым, сколь и трагическим для всех групп общества, для целого и для человека.
В прошлом веке и тревожные, и восторженно-наивные споры вокруг нового человека недалеко выходили за рамки интеллигентно-разночинного слоя. В ХХ в. феномен стал массовым. В нашем обществе – доминирующей фигурой жизни. Здесь, как можно полагать, сработали три взаимосвязанных фактора.
Во-первых, кризис и гибель институтов, традиций и социально-нравственных устоев «старого» российского общества, обнаруженные еще в начале века и практически завершенные серией исторических поворотов 1914–1917 – 1921 гг. Человеческий, «антропологический» результат этого мучительного процесса – массовый, маргинальный, отчаявшийся и вкусивший крови человек без моральных и культурных берегов. А это значит, что у него доминировали чисто утилитарные и притом беспредельно утилитарные притязания. (Переход от немедленного удовлетворения таких притязаний к отложенному, от притязаний массовидного человека – к императивам государственного Левиафана был запрограммирован, задан самой логикой утилитаризма[458].) Именно он составил «материал» революционного переворота и придал определенную форму всему развитию общества на несколько десятилетий.
Во-вторых, это тот экономический порядок, который первоначально был порожден мировой войной, разрухой и социально-экономическими экспериментами, а в дальнейшем привел к формированию замкнутого дефицитарного общества. Иерархия общественных групп уступила место различению порядковых номеров в очереди у государственного распределителя. Отметив, что в Москве уже тех ранних советских лет «квартирный вопрос испортил» людей, Воланд дьявольски точно выделил главный предмет в общеобразовательной школе, которую прошли несколько поколений. «Эпоха Москвошвея» – это эпоха массового стандартного производства, рассчитанного на минимальные, «голодные» потребности и карточное распределение (или – та же вездесущая очередь). Человек очереди, человек распределителя – пассивный потребитель, больше того, заложник дефицитного потребления. Он терпеливо ждет, покорно благодарит, если подходит его очередь, он может роптать и просить (прибавки, привилегии). Роли и места могут меняться, но очередь остается, а вместе с ней остается и определенный человеческий тип.
Наконец, в-третьих, формирование тоталитарной политической системы закрытого общества, завершившееся к 30-м гг. Следует отметить, что «нэповский» промежуток экономических компромиссов не составил какого-либо перерыва в этом процессе. Более того, именно в эти годы революционные «романтики», полагавшие, что массовое политическое насилие высвободит мировую энергию трудящихся масс, проиграли борьбу за власть циничному «реалисту», для которого державное насилие стало и основой, и высшей целью властвования. На смену концепции человека-«воина» (борца, бунтаря) закономерно пришла концепция человека-«винтика» как опоры бюрократической иерархии и главного статиста социальной драмы. (Правда, о «винтиках» стали говорить не в середине 20-х, а двадцатью годами позже, но у нас есть все основания судить о начальных фазах развития процесса по его зрелым, завершенным формам.)
В режиме тоталитарного типа личность не свободна, не суверенна на любых этажах пирамиды власти, вплоть до самых верхних. Механизм карьерного отбора и продвижения, при котором нет привилегий «заработанных» или прирожденных, а имеются только выслуженные и купленные, с неизбежностью приводит к тому, что на высших этажах иерархии концентрируются власть, некомпетентность и неуверенность. Здесь имеются привилегии, но нет привилегированного сословия, имеются функции управления, но нет специфического управляющего слоя или правящего класса. «Всеобщим рабством» называл Маркс азиатские деспотии. Сказанное о старой России: «сверху донизу все рабы» – тысячекратно верно применительно к новой иерархии. Заброшенный волей случая или силой связей на высокое кресло холоп остается трепещущим холопом на троне, сколько бы он ни пытался компенсировать собственную неуверенность своеволием по отношению к нижестоящим или потребительскими привилегиями.
Правда, в этой общественной структуре, кроме вертикальных отношений «верха» и «низа», сложилась еще одна, маргинальная, как бы побочная позиция – группа (слой, «прослойка») так называемых спецов, наследие функций и бледное подобие былой интеллигенции. Сколько ни требовали от нее «служения», сколько ни признавали ее государственную необходимость, сколько ни демонстрировали титулованные спецы и «инженеры душ» безграничный сервилизм (читайте записки К. Симонова!), сколько ни утюжили ее нескончаемыми кампаниями всяческих перевоспитаний, ни разлагали насилиями и привилегиями, не стала она «своей», не встроилась в пирамиду. Холоп и барин могут меняться ролями, хранитель культуры и источник творчества – пока он таковым остается – такие роли играть не способен.
Социальные, культурные, политические предпосылки появления на нашей общественной сцене нового человека уходят в даль десятилетий, а может быть, и веков. Само же сочетание таких предпосылок – явление уникальное, единственное в своем роде, как уникален и его продукт. Наличие аналогий или даже прямых подражаний – от великого Китая до жалкой Центральноафриканской «империи» – ничего здесь в принципе не меняет. Такие аналогии мы видим всюду, где делаются попытки перейти от традиционных форм насилия над человеком к государственным, надеть колпак принудительного единомыслия на головы, еще не успевшие научиться самостоятельно мыслить. И повсюду же рано или поздно – а жребий его измерен, должно быть, несколькими десятилетиями – этот механизм социального «антропогенеза» обнаруживает свою неэффективность. Сформировавшийся в уникальных условиях человеческий материал неизбежно теряет свою «прочность», перестает служить надежной опорой социального здания. К этому вопросу мы еще вернемся.
* * *
Если попытаться представить себе характерные черты «хомо новус» нашей истории, это следовало бы делать не с позиций упований и опасений прошлых десятилетий, а с позиций современных, учитывающих зрелые, развитые формы интересующего нас явления.
Первая, определяющая черта нашего персонажа трудно поддается требуемому логиками позитивному определению. Приходится поневоле прибегать к дефинициям негативного порядка: это слабость, неразвитость, подавленность индивидуального начала в человеке и общественном самосознании. Индивид беспомощен, масса могущественна. Большинство всегда право. Общественные интересы выше личных. Нельзя перечить коллективу. Человек принадлежит обществу… Этот лозунговый набор столь привычен, что о нем не принято задумываться – либо принять как неизбежность, либо позабыть, приписав прошедшим временам с их пропагандистскими штампами.
Между тем здесь дело не просто в штампах, а в более серьезных вещах, в словесных и ценностных ориентациях, которые за ними стоят. Даже если это не прямо ориентиры для действия, а только приемы приспособления к господствующим настроениям или даже способы камуфляжа. Эти ориентации чаще всего фигурируют под именем коллективистских или общественных. Имена эти мало о чем говорят. Какой именно коллектив строится на подавлении личности и коллективном заложничестве, всеобщей слежке и выдаче инакомыслящих? Кто и по какому праву выступает от имени общества? Это очень старые вопросы. И в России, и в Европе о них спорили и 100, и 200 лет назад. В дискуссиях о самой идее социализма – пока это была лишь идея – и в миражах антиутопий, от Е. Замятина до А. Зиновьева, на этот счет было сказано много разумного и уместного, но главное, что система, построенная на подавлении личности, ни коллективу, ни обществу в целом не может быть гарантом.
В контексте российской действительности механизм обезличивания нашел подходящую почву, потому что здесь отсутствовали в сколько-нибудь развитом виде экономические, юридические, политические гарантии личности, а сравнительно слабые их ростки без труда были сметены в ходе «восстания масс». Но, помимо этого, здесь сработал еще один достаточно традиционный механизм: глубоко въевшаяся привычка выдавать отсталость и неразвитость за достоинство и доблесть. Старые, новые и новейшие теоретики «третьеримского» пути неизменно согласны в утверждении, что неиндивидуализированность, принудительная «коллективизация» духа, «соборность» – не просто исторический факт, но историческое благо. У достойнейших и эрудированных авторов приходится сегодня читать, что отсутствие личностного начала и общественного договора составляет неотъемлемую особенность и преимущество российского сознания над европейским.
Но разве не дает нам блестящие примеры восприятия подобной «коллективизации» духа (у Дж. Оруэлла это называлось «олигархическим коллективизмом»), например, Африка южнее Сахары? Или Иран? Или любое иное общественное образование, где не порвана или воссоздана пуповина крепостной зависимости человека от рода-племени-власти? И где эта самая пуповина возводится в доблесть? Переход от племенного рабства к государственному соблазнительно прост и часто кажется самой удобной формой сочетания традиционной жизни с современной техникой (прежде всего военной). Да и отмежеваться от «растленного Запада» привычнее и проще, чем пробиться на путь современной цивилизации. Когда комплекс неполноценности, возникающий при столкновении цивилизаций, возводится в государственную идеологию, создается столь мощное орудие порабощения человека, что умозрительные карточные домики всех западных утопистов, вместе взятых, не идут с ним ни в какое сравнение.
Мы много лет читали и слушали обличения современных развитых обществ, в которых происходят процессы деиндивидуализации, стандартизации потребительских вкусов и пр. Однако массовое общество экономического избытка может строиться только на глубоко индивидуализированных экономических, правовых, моральных «корнях», стандартизируются лишь «верхушки». Между тем в нашем случае, да и во всех аналогичных ему, массовая коммуникация и пропаганда ориентированы на то, чтобы новыми средствами закрепить старое отрицание гарантий, прав и инициативы личности. Что же касается потребительских стандартов, то их нечего пропагандировать: монополия производителя в условиях дефицитарной экономики добивается этого лучше любой пропаганды.
Присмотримся поближе к некоторым особенностям «коллективизированного» духа того персонажа нашей истории, который получил кодово-песенное наименование «советского простого человека».
«Простой» – значит нетребовательный («сознательный»), маленький («понимает»), скромный («не высовывается»). Ему не только приписывали такую простоту и скромность в песнях и кинофильмах – от него этого ждали и добивались. Чтобы не зазнавался, не ссылался на собственные заслуги или таланты, не забывал, что «всеми своими успехами он обязан» – отметим эту отменную формулу – только партии, правительству и лично вождю народов. Чтоб не слишком выделялся из ряда поставленных в то же положение ни образом жизни, ни вкусами, ни одеждой, ни мнениями, – на худой конец, чтобы тщательно скрывал собственные вкусы и склонности. Предполагалось, что он не должен слишком отдаваться личному горю или радости, поскольку главным содержанием жизни его, как и всех иных «правильных» людей, должно быть радостное служение общему благу, а точнее, тем, кто от имени общих интересов выступает. Нетрудно заметить, как при описании набора социально признанных ожиданий, которые предъявлялись нашему персонажу (впрочем, уместно ли здесь прошедшее время? Когда вы, читатель, последний раз проходили мимо призыва типа «Все силы на выполнение пятилетнего плана»?), мы как-то незаметно перешли от практических требований к символическим: не показываться, не высовываться, не выделяться… Такая подстановка заслуживает особого рассмотрения.
Считалось, что «наш» человек, по крайней мере в своих устремлениях, должен быть самым радикальным эгалитаристом. Но ведь он жил всегда в обществе с четко выраженной иерархией власти и привилегий. Практически ему оставалось лишь соблюдать тот уровень равенства, который предписан соответствующему этажу социальной иерархии… И – как следствие – яростно отвергать всякую попытку выйти за рамки такого уровня. Если для динамичного и открытого общества характерно стремление поощрять продвижение, стремление достичь завоеванных кем-то другим высот, то для общества закрытого, иерархически-привилегированного признанным является стремление иное: наказать всякого, кто «не по чину» выдвинулся, «окоротить» того, кто слишком учен, богат, ловок. В первом случае действует ориентация на то, чтобы «не было бедных», во втором – чтобы «не было богатых». Можно сказать, что для открытого, достижительного эгалитаризма характерна «белая» зависть к чужим успехам, а для закрытого, иерархического – «черная», выражаемая формулой «всем должно быть одинаково плохо».
С этим последним типом эгалитарного сознания мы сталкиваемся сегодня буквально на каждом шагу, притом довольно болезненно. Завистливое озлобление против тех, кто слишком инициативен, самостоятелен, кто слишком много получает, – живое и живучее наследие этого въевшегося в плоть и кровь стандарта мышления и поведения.
Самым страшным из смертных грехов нашего человека неизменно считался «индивидуализм», иначе говоря, любая попытка сознавать себя свободным и ответственным человеком, видеть такого же ответственного человека в другом, строить отношения с ним на основе взаимности и договора. От рождения до кончины ему напоминали, что он – ничтожная частица некоего единого целого – коллектива, общества, класса, государства, движения, некоего грандиозного и всеохватывающего «мы». «Единица – вздор, единица – ноль»… «Мы – коллектив, человечество, масса»… «Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слезы из глаз» (Маяковский). «Мы», «наш» – универсальная точка отсчета и сопоставления, во-первых, с «я», а во-вторых, с «они». Но в обществах разного типа эти стандартные вершины человеческого треугольника имеют разные веса.
Кажется, например, что «мы» – это прежде всего непосредственное окружение, коллектив, где все знают друг друга лично. Такое окружение в человеческой жизни немало значит, но многое действует на человека и помимо него – и социальные институты, и массовая коммуникация, идеологические шаблоны и пр. Кому неизвестно, что человеческие привязанности и обязанности в рамках «малого» коллектива оказывались не соответствующими требованиям авторитетов государственного значения – тогда и коллектив мог попасть в «индивидуалисты», а его связи – предстать в виде злонамеренной круговой поруки. Главным средством давления, критерием добра и зла, носителем карающих санкций («ему отмщение») всегда было не «малое», а «большое» сообщество, «большое мы». Сообщество или символ?
Чем ближе станем мы присматриваться к этому феномену, тем более туманны, расплывчаты, зыбки оказываются его очертания. Ни принадлежность к «нашему» классу, гражданству, «лагерю», клану и т. д., ни приверженность к «своей» идеологической системе недостаточны, чтобы отнести конкретного человека к этому «мы». Стоило «своему» сделать даже полшага в сторону – все равно в какую, – и он рисковал попасть в разряд «чужих», то есть уже в группу «они» (в социологии иногда употребляется такая терминология: «мы-группа», «они-группа»). Но и сами границы «нашего» неоднократно менялись, ими могли оказываться то принадлежность к группе, то подчинение указаниям, то верность вождю, то еще что-нибудь. Напрашивается вывод о том, что столь значимое образование, как это универсально применимое «мы», – феномен символический. Причем главная особенность такого символа – не в каких-то свойствах или признаках, а в строгом разграничении с «они». Линии границы могут меняться, сама граница должна оставаться незыблемой (наподобие того, как в описанной Оруэллом державе объект государственной ненависти был преходящим, но сама ненависть – постоянной и необходимой). Чужое всегда означает чуждое, а чуждое – враждебное. Мир предельно прост и понятен: «мы» – это те, кто не «они», «они» – это не «мы». Чтобы эту ситуацию сохранять, требуется лишь поддерживать статус «границы на замке» (разумеется, прежде всего – символической). Нерушимость такой границы – важная черта всей закрытой общественной системы, неотъемлемая принадлежность ее героев. Здесь начала и концы ее стабильности и ее крушения.
Для того чтобы постоянно поддерживать напряжение в «пограничной полосе», приходилось тщательно разрабатывать образ врага, следить за его происками, изобретать средства устрашения и наказания для всякого, кто попытается преодолеть символическую границу, – для «отступников», «отщепенцев» и пр. И постоянно сторожить человека – всякого, каким бы «своим» он ни считался, – чтобы вольно или невольно не пересек незримую границу, не преступил, не поддался, не переметнулся. И множились кадры, органы, учреждения, окруженные добровольными помощниками, которые только и делали, что сторожили, наблюдали, пугали, словом, поддерживали напор на границе. Правда, все менее надежно.
Вовсе не безумная подозрительность вождя, а внутренняя логика такой системы постоянно приводила к тому, что самый опасный враг – это не тот, что за бугром, и даже не его агент, а тот «свой», который усомнился, задумался, разошелся, отклонился или мог бы это сделать. Значит, и огонь – прежде всего по своим. Что из этого получалось, показало начало реальной войны.
Была построена и более глубокая линия обороны пресловутой «границы»: всякий вид человеческого действия и мышления – от науки до музыки, от техники до морали и быта – достаточно было строго-настрого разделить на «наше» и «чужое», чтобы раз и навсегда сделаться недостижимым. «Наше» всегда лучше, потому что оно «наше» («советское – всегда отличное»… «у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока»). Все это – далеко не новые приемы. Маркиз де Кюстин когда-то увидел в России странную конфигурацию спеси и подхалимства по отношению к иностранцам. В принципе вся операция идеологического удвоения человеческого мира направлена была на то, чтобы возродить или даже просто сохранить под новыми вывесками древнейшую систему морали, согласно которой зло не в краже, а в том, у кого украли – у своих или чужих.
Общий знаменатель столь хорошо всем знакомого типа «мы» – сознания – устойчивая установка враждебности ко всему чужому и чуждому, весьма удобная платформа для старых и новых ксенофобий, неизменный питательный бульон для микробов завистливой подозрительности по отношению к иностранцам, инородцам и инакомыслящим. Но главным острием вся эта система ненависти все же была направлена внутрь, на «своих». И значение имела прежде всего чисто внутреннее.
Принято считать, что «наш» человек отличается образцовым терпением. Многие и сегодня полагают, что по этой-то части мы еще можем дать пример остальному миру. Терпение бывает разным. Когда, допустим, говорят, что «терпение и труд все перетрут», имеется в виду терпение активное, упорная и терпеливая работа. Увы, «не наша» это черта. Куда ближе нам терпение ожидания (в очереди?), нечто заведомо пассивное. И ждут притом не того чуда, которое вымаливают молитвой или выслуживают праведностью жизни, – нет, скорее просто счастливого случая. Взыскание чуда практически совпадает с расчетом на знаменитый российский «авось».
Опять-таки – не новая черта, не особенность только нашего «хомо новум». «Вот основные черты русского характера: когда ни одно дело до конца не доведено, он все же, не будучи изо всех сил подтягиваем, сейчас же распускается» (Ленин). Это хорошо знала и по этому поводу горевала вся передовая российская мысль, не видевшая в окружающей действительности подходящего материала для строительства града земного. Революционеры ленинского направления подошли к проблеме с другой стороны, поставили вопрос иначе: что, если попробовать «изо всех сил подтягивать»?
И снова сработал уже упоминавшийся нами механизм превращения слабости в преимущество. Вожделенный самообман и просто обман сошлись в формировании представления о том, что способность к отчаянному бунту и готовность к безграничному терпению дают, при условии должного «подтягивания», необходимый строительный материал. Правда, сооружение оказалось не тем, которое было запланировано, это выяснилось довольно скоро. Кроме того, уже позднее выяснилось, что глубоко в фундаменте этого сооружения заложена бомба замедленного действия, да и не одна. Сама модель нового человека как конструкционного материала для светлого здания содержала в себе существенные изъяны, которые, по-видимому, не были замечены при проектировании и обнаружились в ходе строительства.
Главное свойство сознания нового человека Оруэлл в своей картине общества назвал «двоемыслием»: «…это способность придерживаться двух взаимоисключающих мнений и верить в оба. <…> Говорить преднамеренную ложь и искренне верить в нее; забывать все то, что стало неприемлемым, и снова извлекать забытое из небытия, когда это становится необходимым; отрицать объективную действительность и тут же принимать ее в расчет <…>». Здесь схвачено многое, но кое-что можно и оспорить с точки зрения того исторического опыта, который автор наблюдал со стороны.
Двоемыслие, по Оруэллу, – сочетание противоположных версий, притом человек знает, какая из них истинная. Реальная социальная логика оказалась несколько иной: в ней просто не действовал критерий истины, а поступки оценивались по тому, что «надо» и «не надо». Естественно, понадобился и непререкаемый авторитет, дабы выносить окончательное суждение относительно того, что «нам надо», – и нашелся, был сконструирован из наличного человеческого материала… Об этой конструкции сегодня многое уже сказано, хотя далеко не все. Стоит отметить только, что последовательное низведение нового человека до незаметного «винтика» в пирамиде общества не придало прочности ни пирамиде, ни ее человеческой материи.
* * *
Протагор говорил, что человек – мера всех вещей. Мир стабилен, если эта мера прочна, он шатается, когда оказывается, что мера неустойчива.
Для того чтобы общественная система продолжала существовать на протяжении какого-то времени, требуется, помимо всего иного, чтобы каждое поколение наследовало определенные социальные и культурные установки (ожидания, требования), принятые прошлым поколением. Иными словами, нужно, чтобы в должной мере воспроизводились социальные и моральные ресурсы общества, его человеческий потенциал. Если этого не происходит, человеческий материал подвергается эрозии, возникает проблема выживания общества. Все эти процессы сегодня у всех на глазах, и вопрос в том, насколько глубоки их причины или движущие силы.
Можно полагать, что в самой конструкции, в самом проекте того нового человека, который формировался нашей историей (не так важно, насколько управляемым был этот процесс и где ответчики), были заложены временные ограничения.
Во-первых, модель нового человека предполагала строго герметичный, изолированный от посторонних влияний мир его деятельности. Сохранить надолго ситуацию изолированности было невозможно. Столкновение же с иными образцами, темпами, механизмами жизни неизбежно привело к размыванию символической границы и подрыву всего генотипа.
Во-вторых, эта модель была рассчитана (точнее, как бы рассчитана, поскольку степень сознательного проектирования неясна) на ожидание будущих благ, а не на соблюдение фиксированных социальных норм. Между тем идеология обетования не осуществлялась, а приказные регуляторы в обществе всегда имеют границы.
В этих условиях смена активных поколений на социальной сцене неизбежно означает и существенные изменения в «генетической», нормативно-ценностной системе общества.
По сути дела, до последнего времени на этой сцене выступало всего два поколения людей «советского» типа. Первое из них, пришедшее к активной деятельности еще в дореволюционные годы, было «советизировано» где-то в 20-х в обстановке изоляции и социальной напряженности незавершенной революции. (К этой когорте относятся группы разных слоев, из низов и верхов, из старых спецов и революционных активистов.) Второе, собственно «советское» поколение вступило в активную общественную жизнь в 30-е гг. и заняло доминирующие позиции в обществе после «великой чистки». Военные обстоятельства и отсутствие механизмов обновления привели к тому, что поколение сохраняло такие позиции до последнего времени, условно – до середины 80-х гг. С тех пор началась и происходит широкая смена человеческого материала общества, связанная с неизбежным изменением его ориентаций. Безвозвратно уходит поколение правящих и управляемых, которое сформировало свои ценностные ориентации в условиях дешевого труда и внеэкономического принуждения, минимально-«прожиточных» потребительских запросов и общего низкого культурного и квалификационного уровня.
Все это приводит к тому, что впервые в нашей истории возникает проблема реального, не лабораторного, не прожектерского изменения человеческого материала общества. Нужны новые – не по нашим меркам, а по «мировым стандартам», – возможно, просто нормальные люди. Их не надо выдумывать, их достаточно выявить: ведь так называемый новый человек никогда не представлял все многообразие человеческих типов общества или хотя бы существенное их большинство. Он вытеснил с авансцены человека человеческого, нормального, но никогда и нигде не мог его устранить или заменить его полностью.
1989Уходящая натура?
«Человек советский»: предварительные итоги
Каждая цивилизация создавала не только свой набор государственных институтов, жизненных ценностей и правил поведения, но еще и собственный, характерный только или преимущественно для нее тип человека. Был человек Рима и Китая, Европы Средневековья и Европы Нового времени. В каждом из таких человеческих типов воплощались и концентрировались черты соответствующего времени: человеческая личность – может быть, самый надежный носитель «кода» всего социального устройства и его ценностных ориентиров.
Существовал ли свой тип человека в советской общественной системе? С каким человеческим «материалом» оперировали ее создатели и правители? И какова возможная судьба этого «материала»: насколько историчны и насколько «исконны» его качества? Способны ли они сохраниться после крушения системы? Если да, то не создает ли это возможности ее возрождения?
Нам представилась возможность подвести под анализ этой проблемы некоторую эмпирическую основу. В конце 1989 г. группой сотрудников ВЦИОМа (Всесоюзного – ныне Всероссийского – центра изучения общественного мнения) была разработана программа исследования под условным названием «Советский человек»[459]. 2700 респондентов из различных республик и регионов СССР в ноябре 1989 г. ответили на 100 вопросов специальной анкеты, а на протяжении 1990–1991 гг. некоторые данные проверялись и пополнялись в ходе других опросов.
Социологи в нашей стране не могли изучать феномен «человека советского» в пору его расцвета (с некоторой долей условности ее можно датировать концом 30-х – началом 50-х гг.). Мы застали этот феномен на последней фазе его относительно стабильного существования, когда разворачивающийся общественный кризис уже встряхнул социальную систему, но еще не принял характер катастрофы. Исследователям довелось рассматривать человеческий (антропологический) итог 70-летнего развития той структуры, которая составляла советское общество.
Ситуация глубокого общественного разлома, кризиса всех основных общественных институтов всегда создает поистине уникальные возможности для рассмотрения тех компонентов и механизмов социального устройства, которые в обычных условиях глубоко скрыты и незаметны. Это вполне относится и к краеугольному камню такого сооружения – человеку.
Для социолога, изучающего общество, его человеческий «материал» прежде всего предстает в качестве распределения (набора, многообразия) определенных человеческих типов. В любом сложном современном обществе (в отличие от примитивных форм социальности – рода, племени) наличествует широкий спектр человеческих качеств и особенностей, и общества отличаются друг от друга тем, насколько распространены такие качества в тех или иных группах, какую роль они могут играть. Конечно, общество не только отбирает, так сказать, из «готового» человеческого материала наиболее подходящие для себя человеческие типы, но и направленным образом их формирует. Это не обязательно происходит сознательно, по чьему-то замыслу и желанию: решающая роль принадлежит «обстоятельствам», сложному сочетанию жизненных, педагогических и пропагандистских воздействии. Поскольку мы имеем дело с социальным продуктом относительно «быстрого» формирования все же только десятилетия, а не века существования «человека советского», можно полагать, что перед нами прежде всего результат определенного распределения человеческих типов – доминирующей роли одних и подчиненности, малозначимости других. Инструментарий массового социологического опроса поэтому достаточно эффективен.
«Государственный» человек?
Согласно довольно устойчивому представлению о русском, а потом и о советском человеке, его характерной чертой служит отношение к государству, а точнее, даже – осознание своей государственной принадлежности.
Кем вы себя считаете с гордостью?
(в процентах от числа опрошенных)
(Менее распространенные ответы не приводятся.)
Как видим, прямая позитивная идентификация с «человеком советским» обнаруживается примерно у четверти населения. Если бы удалось выяснить, какая часть населения «с огорчением» или «с отвращением» относит себя к советским людям, можно было бы говорить о масштабах негативной идентификации. Существует еще идентификация двусмысленная, самоироническая (например, выраженная бесподобным неологизмом «совок»). Нетрудно заметить, что в приведенной сводке наиболее распространенных ответов содержатся четыре существенные оси координат человека: «семейная», «государственная», «профессиональная», «этническая». Приоритетной оказывается семейная, приватная (родители, дети, дом), и лишь за ней следует государственная. Интересно отметить, что наиболее сильно выраженными советские пристрастия оказались у двух групп респондентов: у наименее образованных и у наиболее близких к кормилу власти (ну чем не «единство народа и партии»…).
Обратимся к другому ряду данных, которые позволяют судить о том, с каким государством соотносит себя человек в советском обществе.
Первые четыре варианта ответов (которые респонденты должны были выбирать) выражают позиции патернализма, отношения к государству как органу «отеческой заботы». Только последний вариант, с которым согласна треть опрошенных, явно говорит о гражданском, «договорном» отношении к Левиафану. Примечательно, что эта позиция наиболее характерна для людей молодых: так, ее разделяют 44 % в возрасте 25–29 лет.
С каким из следующих суждений вы бы скорее согласились?
(в процентах от числа опрошенных)
В свете событий последних месяцев особый интерес представляет оценка населением государственных рамок своей жизни. Из общего числа опрошенных несколько более половины (56 %) заявили, что считают себя в первую очередь гражданами СССР, а 33 % – гражданами своей республики. Но преобладание первого варианта в момент опроса создано было в основном голосами русских (66: 22), в то время как предпочтения украинцев и казахов делились между вариантами почти поровну, но с уклоном к «республиканскому» (42: 46 и 48: 52). Значительно сильнее выражен «республиканский» вариант гражданского самосознания у азербайджанцев (28: 65), армян (8: 83), эстонцев (3: 97). В то же время понятие «Родина» для 40 % из общей совокупности опрошенных означает место рождения, для 35 % – республику, для 25 % – СССР (отметим, что последняя цифра практически совпадает с числом гордящихся тем, что они – советские люди; вероятно, это ответы одних и тех же респондентов). Очевиден, таким образом, процесс «национализации» и «приватизации» патриотизма, – тот самый, который взорвал союзную государственность и «советский» суперэтнос.
Человек и государство. Если они связаны непосредственно, без промежуточных, самодеятельных, политических, экономических, социальных институтов и организаций, – это значит, что перед нами общество тоталитарное, в котором человек – государственный крепостной, а государство – на деле всего лишь организация самовластья. Оно может быть и сильным, и страшным, но мы уже видели, что оно не может быть прочным.
А человек? По всем данным, которыми мы располагаем, выходит, что «человек советский» не столько был таким, как от него требовали лозунги, сколько стремился казаться им и даже считал, что «так надо». На всех ступенях грандиозной общественной пирамиды, созданной под флагом всеобщего равенства, доминировал один и тот же простой принцип: самосохранения. Для этого и требовалось, с одной стороны, как будто безоговорочно признать тотальную власть государства со всеми его органами уговаривания и удушения, а с другой – сохранить некоторую нишу для убогого, но все же приватного, семейного, человеческого существования. Тоталитарное общество не могло обходиться без лукавого человека. Такая двойственность обнаружена Джорджем Оруэллом в романе «1984» («принцип двоемыслия»). Нам пришлось изучать ее пятью годами позже условной даты, указанной в названии книги. По данным последних месяцев, «истовых» сторонников прежней системы насчитывается 10–12 %. Нет надежного способа сосчитать, сколько их было 20 или 40 лет назад. Но можно допустить, что большей доли уверовавших, что все происходило «как надо», не было никогда.
Число же примкнувших, уверовавших и лукаво признавших «правоту силы» возрастало в некотором соответствии с ростом государственной машины, аппарата принуждения и индоктринации, с ростом городского населения, образованного слоя.
Куда меньше было тех, кто избежал «двоемыслия» с другой стороны, то есть оставался непримиримым – всегда, абсолютно, последовательно. Абсолютной была система двоемыслия.
Одиночество в толпе
Советская система пыталась противопоставить «своего» человека всему миру как человека коллективного, подчиненного групповой дисциплине, а точнее – системе группового заложничества. Если за нелояльность одного отвечают все, то эти «все» превращаются в орудие изощренного и грубого принуждения к лояльности, И одновременно – в инструмент двоемыслия, поскольку принуждение создает показную лояльность. Как поступают работники, если руководитель дает заведомо нелепое распоряжение? По данным одного из опросов ВЦИОМа (ноябрь 1990 г.), 21 % делают вид, что подчиняются, 16 % исполняют нелепость добросовестно, еще 11 % пытаются уклониться, а 29 % говорят начальнику об ошибке. Так работает система двоемыслия в рамках коллектива.
Большинство опрошенных предпочитает начальника строгого, но заботливого: главным критерием его оценки служит не столько эффективность деятельности предприятия, сколько добрые отношения с сотрудниками. И довольно ревниво фиксируется уровень оплаты. Так, собственную зарплату 59 % считают «слишком низкой», 36 % – «адекватной», а вот зарплату начальника 51 % называет «адекватной», 18 % оценивают как «слишком высокую».
Кроме того, начальников принято оценивать не по их квалификации, а по «коду иерархии»: чем выше начальник (то есть чем больше у него подчиненных), тем более высокую оценку он получает. Да и сам начальник использует тот же код в отношениях с подчиненными. Чем выше начальник, тем критичнее он к своим подчиненным. И тем более удовлетворен своей зарплатой.
Удовлетворенность своей властью над людьми и своими доходами никогда, однако, не создавала высокого престижа статусу руководителя – это одна из наименее уважаемых профессий – и никогда не делала руководителя свободным и ответственным за свое дело. Именно руководители чаще других жалуются на «давление начальства». Они более всех подвержены социальным страхам (боязнь массовых репрессий, публичных унижений). Вслед за руководителями по ощущению собственной угнетенности стоят наиболее высокообразованные и культурные группы населения. Не чувствуют себя свободными 50 % мужчин и 42 % женщин, при этом в возрасте 20–39 лет – 59 %, старше 60 лет – 22 %, из лиц с высшим образованием – 53 %, с образованием ниже среднего – 35 %. Сильнее всего ощущают свою зависимость от начальства и от государства (то есть чаще упоминают о ней) обладатели крупных домашних библиотек.
Наряду с ощущениями зависимости и страха важнейшим структурообразующим средством в том мире человеческих отношений, который мы пытаемся изучать, выступает зависть. Не та, о которой писал в свое время Ю. Олеша, не жалкая зависть поверженного интеллигента к торжествующему хаму, а универсальная форма «негативной социальности» – нечто вроде модели социальных отношений, ориентированных на то, чтобы помешать чужому успеху. Характерна агрессивная реакция «человека очереди», которую обнаруживает, согласно нашему исследованию, добрая половина опрошенных.
Что вы подумаете, если встанете в очередь, а товара вам не хватит?
(в процентах от числа опрошенных)
Заметим, что эти данные получены на одной из предыдущих фаз развития всеобщего дефицита, характерного для советского общества. По ряду исследований ВЦИОМа, уровень доверия к людям в обществе невысок и имеет тенденцию к снижению. 35 % в декабре 1989-го полагали, что люди «пекутся не только о себе, стараются помогать другим», но 55 % были убеждены, что «люди чаще всего заботятся лишь о своей выгоде, судьба других им безразлична». На момент этого исследования 55 % полагали, что «людям можно доверять», но уже через год, в январе 1991-го, это мнение разделяли только 36 %. Недоверие к окружающим заметно растет.
В этой связи несколько замечаний о языке и языках социального взаимодействия, которые позволяют существовать диалогу и взаимопониманию в обществе. С периода насильственного разрушения стратифицированной, в частности элитарной, культуры в обществе значение универсального средства общения получила грубость, а мат приобрел статус «нормального» языка социального взаимодействия. Словесные оскорбления приходилось испытывать одной трети опрошенных, причем эта доля заметно выше среди более культурных и образованных (например, среди представителей гуманитарных профессий – 45 %, обладателей крупных библиотек – 62 %). Это значит, что в других общественных слоях постоянная грубость не воспринимается как оскорбительная.
Лишь 7 % населения не сталкивались с бюрократическим «хамством и равнодушием», и только 11 % удавалось успешно протестовать против него. Треть привычно терпит хамство начальников, а 37 % даже полагают, что оно в порядке вещей и необходимо.
Школа жестокости
Императив показного благополучия понуждал людей отворачиваться от темных и жестоких сторон жизни, равно как и от витальных проблем смерти, страданий, секса. По свидетельству наших респондентов, только у 28 % из них в семьях говорили о репрессиях. Разговоры с родителями о смерти вспоминают 11 %, о сексе – 4 %, о самоубийстве – всего 2 %.
Качества, которые женщины в первую очередь хотели бы видеть у своих детей
(в процентах от числа опрошенных)
Получается, что «советская» специфика требований к детям прежде всего в том, что на первый план выдвигаются требования порядочности и уважения к родителям, а также успешной учебы. Но принцип независимости (в нашем списке ему соответствует пожелание «быть самим собой») оказывается значительно более «американским». Примечательно, что о почтении к родителям чаще всего говорят сами родители, то есть имеющие детей; значительно реже (в полтора раза) упоминают о нем молодые люди. Такой принцип, как «работа для общего блага», чаще всего поддерживает поколение «дедушек». «Не забывать своих корней» – скорее пожелание «бабушек». Между тем чисто «молодежными» являются такие принципы, как «быть хитрым», «уметь ударить первым».
Чрезвычайно показательны для понимания общества и человека распространенные в различных социальных группах оценки насилия. Учтем, что в нашей общественной жизни явно выделяются три особые, «привилегированные» зоны наибольшего применения насилия против человека: преступность, армейская жизнь, карательная система.
Почти половина населения (опрос декабря 1989 г.) заявляет, что боится стать жертвой преступления, 15 % считают такую опасность «очень серьезной», 31 % – «достаточно серьезной», 30 % – «не очень серьезной» и только 18 % – «совсем не серьезной». Лишь 30 % опрошенных (ноябрь 1990 г.) полагают, что в стране можно жить, не нарушая законов. Около трети либо были судимы, либо имеют осужденных среди родственников.
Неблагополучие в армии в последние годы привлекает огромное внимание общества и прессы, поэтому основные болезненные проблемы армейской действительности сегодня хорошо известны. По одному из исследований ВЦИОМа 1991 г., 43 % опрошенных согласились с тем, что «служба в нынешней армии калечит юношей морально, а порой и физически». В другом опросе только 10 % сочли положение в армии благополучным, в то время как 40 % видят его «скорее неблагополучным», а 33 % – «совершенно неблагополучным». Чаще всего непорядки в армейской среде отмечают люди 40–49 лет, то есть в возрасте «солдатских родителей», что означает непосредственную связь оценок армейской жизни с печально известной практикой дедовщины и «землячеств».
Систематическое и грубое насилие в отношении каждого очередного пополнения армии нельзя сводить просто к бессмысленным издевательствам. Дедовщина – если учесть, что через ее влияние проходит больше половины юношей каждого призывного возраста, то есть огромная часть населения – представляет собой важный социальный механизм перехода от юношества к зрелости, от «домашней» жизни молодых людей (с родителями) к самостоятельной, претендующей на «мужскую». И вот этот ритуализированный переход оказывается школой деморализации, цинизма, агрессивности. Бессмысленное на первый взгляд казарменное насилие обладает на деле чрезвычайно важным смыслом. Плоды этой школы унижения (которую солдаты «проходят» за время службы сначала в пассивной, а затем в активной роли вершителей насилия) сказываются на моральной атмосфере всего общества.
При анализе ответов на вопрос о дедовщине в армии оказалось, что в обществе преобладает резко отрицательное отношение к этому явлению.
Молодые солдаты пишут из армии, что их там бьют те, кто старше. С каким мнением вы бы согласились?
(в процентах от числа ответивших)
Сильнее всего отрицательное отношение к дедовщине выражено у опрошенных старше 30 лет, причем у женщин («солдатских матерей») значительно больше, чем у мужчин. Позиция юношеской бравады («Настоящий парень…») сильнее всего у молодых людей до 20 лет (29 %). Чаще всего ссылаются на то, что «об этом писать не нужно», в 20–29 лет (18–19 %), в первые годы после службы. Как показали данные исследований, осуждение насилия варьирует по республикам бывшего СССР довольно заметно: от 48 % в Узбекистане до 59 % в России и 83 % в Литве.
Можно сказать, что на момент опроса в сознании людей (совокупного «советского человека») «гражданская» модель общества явно преобладала над «милитаризованной». С утверждением о том, что «устройство армии является образцом построения всего общества», согласились только 28 % опрошенных – впрочем, так ли это мало? – и не согласились 47 %, остальные затруднились дать определенный ответ.
Но это декларативное «миролюбие» соседствует с широко распространенными требованиями ужесточить наказания правонарушителей и – гораздо шире – нарушителей привычных стандартов поведения. Исследователи предложили опрашиваемым выразить свое отношение («Как следовало бы поступить с…») к различным категориям реальных или воображаемых нарушителей норм: убийцам, проституткам, гомосексуалистам, «рокерам» (вопрос-ловушка, чисто условный термин), наркоманам, сектантам, больным СПИДом, алкоголикам, хиппи, нищим, бродягам, психически больным, родившимся неполноценными. Предоставлялась возможность избрать один из четырех вариантов ответа: ликвидировать, изолировать от общества, оказывать помощь, предоставить самим себе.
Оказалось, что предложение «ликвидировать» находит весьма широкую поддержку, особенно в отношении убийц (72 %), но также гомосексуалистов (34 %), проституток, наркоманов (по 28 %) и даже никому не ведомых «рокеров» (21 %). Оказание помощи чаще всего рекомендуется по отношению к нищим (82 %), алкоголикам, психически больным, зараженным СПИДом, родившимся неполноценными. Совет «предоставить самим себе» обращен преимущественно к сектантам, хиппи, «рокерам». Анализ ответов на эту серию вопросов позволяет выявить важные моменты распределения агрессивности, терпимости, страха, желания помочь. И конечно, того самого умения «понять другого», которое, как мы видели, хотели бы воспитать в своих детях многие матери.
Наблюдается очевидная, хотя и не везде сильная связь уровней образования и терпимости, толерантности в обществе: люди с высшим образованием заметно реже предлагают прибегать к крайним репрессивным мерам. Наибольшая терпимость в обществе по отношению к тем группам, которые традиционно вызывают в массе не столько агрессию, сколько сострадание: нищим, бродягам. В среднем все же жестокие репрессии пользуются сильными симпатиями.
Две трети опрошенных высказались за сохранение смертной казни, только 6 % предлагают немедленную ее отмену и еще 20 % выступают за отказ от этого вида наказания в будущем, в числе возможных мер снижения преступности значительная часть опрошенных предпочитает ужесточение режима в местах заключения, расширение сферы применения смертной казни. Примечательно, что меры по самозащите населения от преступников непопулярны: в соответствии с недоброй старой традицией граждане уповают на защиту со стороны могущественного и жестокого государства. Средством борьбы с насилием, преступным в сознании массового человека, остается насилие государственное.
Этнические рамки и образы
Только в последние годы мы начинаем понимать, насколько существенными оказались для человека советского национальные рамки его существования. Это не только во многом искусственно сконструированные территориальные разграничения (сегодня воплощенные в реальность) или обязательное паспортное приписывание человека к этнической группе. На деле ситуация гораздо сложнее. У разных народов оказались разными их способы «государственного» самоопределения, самоосознания, а также восприятия других народов.
По данным нашего исследования, государственно-советское самоопределение характерно прежде всего для русских. Отмеченная выше черта патриотической гордости («тем, что я советский человек») указывается в анкетах русского населения примерно в полтора раза чаще, чем в среднем. Сравнительно часто упоминают эту черту также опрошенные в республиках, переживших в советские годы интенсивный процесс модернизации (казахи, киргизы). Стоит отметить, что у русского населения идентификация с государством сильнее всего у людей старших возрастных групп, а также у социальных групп, связанных с государственной службой: руководителей предприятий, работников аппарата управления, военнослужащих. Только среди русских встречается (нечасто, примерно у 3 % опрошенных) горделивая ссылка на идеологический мессианизм: с мыслью о родине связывается представление об «идеях, которые мы несем другим народам».
Практически у всех опрошенных из числа нерусских народов на первом месте иные способы самоосознания – главным образом связанные с историей родного народа, его великими людьми, родным языком, родной землей. Причем представления о такой связи слабо соотносятся с действительной историей того или иного народа, значением выдающихся личностей и пр.
В ситуации сегодняшнего национального самоопределения и размежевания различение «государственного» принципа и «исторического» может стать и становится поводом для сложных разбирательств и конфликтов. Их простому разрешению постоянно препятствует именно разноплановость исходных позиций, конфронтация напоминает спор аршина с пудом. Государственность, державность одних противопоставляется обращению к историческим корням у других. События последнего года показали, что идентификация с государственностью, властью может приобретать иной смысл, если власть выступает фактором перемен. Отождествление с государством может – при определенных условиях – обозначать отождествление с демократией. В тех же условиях существует и другая возможность – отождествления с государственным мессианизмом. Тогда следуют сожаления об утрате престижа великой державы, ведущей роли русских среди других народов. История последних лет знает оба варианта. Причем все более дает себя знать негативная идентификация; удрученное осознание того, что страна никому не может служить примером (с 1988 по 1990 г. согласие с такой позицией возросло с 7 % до 54 %!).
И люди, и народы осознают себя (формируют некий образ «мы») в сравнении с другими (с образом «они», то есть иные, чужие). Не столь важно, насколько соответствуют реальности те черты характера или поведения, которые массовое сознание приписывает собственному или чужому образу; но если образ существует, он способен влиять на многие оценки и поступки человека. В нашем исследовании сопоставлялись образы нескольких наций (русских, англичан, узбеков, евреев, литовцев) в глазах респондентов, принадлежащих к разным национальным группам. Каждому опрашиваемому предлагалось отметить в длинном списке те черты характера и поведения, которые, по его мнению, присущи представителям определенной нации. Получилось, что, например, в представлении русских «англичане» – это прежде всего культурные, энергичные, с чувством собственного достоинства, рациональные, религиозные (эти пять характеристик упоминались чаще других). «Узбеки» – почтительные к старшим, гостеприимные, религиозные, униженные, трудолюбивые. «Евреи» – лицемерные, энергичные, скупые, рациональные, скрытные. «Русские» же представляются самим себе как простые, терпеливые, гостеприимные, миролюбивые, готовые помочь. (Напомню, что речь идет не о реальных качествах людей разных наций, а о том, какими они выглядят в глазах других, поэтому уместны кавычки.)
Структура каждого образа состоит из двух групп признаков: одни представляют мнение большинства или значительной части населения (обычно от одной до двух третей всех опрошенных), другие – мнения небольшой части (от нескольких процентов до четверти). В каждой группе мнения особым образом упорядочены, что подтверждает корреляционный анализ. При этом те черты, которые респонденты ценят у «своих», они часто преуменьшают у «чужих»; те же черты характера, которые люди сами у себя осуждают, они нередко склонны преувеличивать у других. Мнения явного меньшинства обычно фиксируют те черты, которые не хотели бы видеть у «своих».
Черты характера, которые русские чаще всего относят к себе (точнее, к собственному образу) – плод сложного сочетания исторических наслоений и идеологической обработки, – по сути дела, относятся к образу человека «общинного», патриархального (терпеливый, добрый и т. д.). Напротив, черты, приписываемые воображаемым «англичанам» (а в большой степени также евреям, литовцам), относятся к образу человека современного, рационального, делового. Но в глазах нерусских народов бывшего Союза образ «русского» иной: в нем на первое место выступают отношение к власти, навязывание своих обычаев другим, довольно часто упоминается лень, но зато гораздо реже (в сравнении с собственным образом русских) – миролюбие, терпение, гостеприимство.
Повторное изучение структуры «образов наций» в одном из исследований ВЦИОМа (конец 1991 г.) показало, что этнические стереотипы в массовом сознании весьма устойчивы и мало подвержены изменениям.
«Счастия ключи…»
Все счастливые люди, да и народы, наверное, похожи друг на друга по крайней мере в том, что они полагают себя счастливыми. А мы? По всей совокупности опрошенных ответы распределились так.
Если говорить в целом, вы счастливы?
(в процентах от числа опрошенных)
Если учитывать только тех, кто явно выразил свое мнение, число считающих себя счастливыми (45 %) значительно больше числа явно несчастливых. Но если добавить к последним около 40 % уклонившихся от ответа, получится, что общество разделено почти поровну по субъективному и зыбкому признаку «счастливости». Относительно чаще относят себя к счастливым мужчины, молодежь 20–24 лет, люди с высшим образованием, высокими доходами, семейные, имеющие детей-дошкольников, обладатели отдельной квартиры или дома, жители столичных городов, давно поселившиеся в этих городах. Меньшая доля считающих себя счастливыми среди женщин, лиц 40–49 лет, низкодоходных, неженатых, бездетных. Между прочим, члены политических партий и общественных организаций показали себя более счастливыми, чем те, кто в этих организациях не состоит. А мусульмане считают себя счастливыми в два и более раза чаще, чем христиане (55 % и 23 %)… В общем, более счастливы люди благополучные и образованные, активные, включенные в общественную и семейную жизнь. И, конечно, менее подверженные страхам.
Распространенность страхов «нашего» человека конца 80-х оказалась довольно поучительной.
Чего вы больше всего боитесь?
(в процентах от числа опрошенных)
На первых пяти позициях в этом списке – страхи общечеловеческие, с которыми никакой прогресс не справится. Во «втором ряду» занимают места страхи, которые именно с этим прогрессом и связаны. Примечательно, что в нашем обществе конца 80-х гг. страх перед произволом властей (усиленный опасениями насчет возврата к массовому террору) распространен больше, чем страх перед преступниками. Как показал анализ, с ростом образования ослабевают страхи «первого ряда», а также страх гнева Божьего, зато растут страхи перед болью, унижениями, произволом, репрессиями, конфликтами, то есть перед искусственно созданными, социогенными факторами. Человек боится самого себя, того, что создано его руками.
Вот для сравнения данные одного из недавних исследований ВЦИОМа (февраль 1992 г., опрошено 1548 человек, получивших высшее образование). Больше всего тревожит респондентов будущее детей, далее идут ссылки на преступность, анархию, гражданскую войну, смерть близких, потерю работы, болезнь близких, бедность, голод, возврат к массовым репрессиям, старость, собственную смерть… Социогенные страхи, как и следовало ожидать, выражены в более образованной среде значительно сильнее.
Иначе распределены источники радостей человеческих. Судя по опросным данным, самую большую радость нашему человеку доставляют дети, это единственная позиция, которую поддерживает большинство (53 %). Реже упоминается чтение (40 %). Затем со значительным отрывом (около 20 %) следуют такие занятия, как ведение домашнего хозяйства, кулинария, работа в саду, семейные утехи, музыка, путешествия, работа в полную силу, хороший заработок, телевизор, прогулки по лесу. «Вкусно поесть» на исходе 1989 г. любили 16 %. Список радостей жизни, каждую из которых предпочитают около 10 %: учиться, рыбачить, побыть одному, заниматься любовью, домашними животными, спортом, выпивать в компании, созывать гостей. А вот самые редкие источники радости (не более 3–5 % упоминаний): организовать людей на полезное дело, играть в шахматы или домино, участвовать в политической жизни, наконец, «ничего не делать» (последний вариант собирает менее 1 %, что, впрочем, вряд ли можно принять за чистую монету – людям свойственно приукрашивать себя).
Давно было сказано: «Итак: если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а вы высмотрите лучше его, когда он смеется» (Достоевский, «Подросток»). Согласно данным нашего исследования, радости дифференцируют людей и социальные группы значительно сильнее, чем горести.
Во что или в кого верит человек советский? За последние годы значительно возросло количество людей, которые относят себя к верующим. Сейчас в обществе примерно равное число – по 40 % – считающих себя верующими или безрелигиозными. Другой вопрос, к какой степени мы можем оценить глубину или интенсивность связей человека с символами его веры. Исследователи пытались подойти к нему с разных сторон – выяснялась распространенность представлений о воздаянии за грехи, страха перед гневом Божьим, гордости своей религиозной принадлежностью, благодарности родителям за воспитание в вере и др. Сопоставление ответов позволяет сделать вывод о том, что интенсивной религиозностью отличается примерно 7–9 % населения, причем эта доля практически остается неизменной.
На момент опроса 5 % населения считали высшим духовным авторитетом марксизм-ленинизм, 7 % усматривали его в религии, а 47 % соглашались с тем, что человек должен опираться только на собственный здравый смысл. Еще около 30 % склонны искать духовный авторитет в науке, экономике, политике; значительная часть опрошенных указывала сразу несколько вариантов. Около четверти вообще затруднялись сказать, кому и в чем они верят. Конечно, сами по себе такие утверждения позволяют судить только о декларативных ориентациях, а не о реально «работающих» в мозаике факторов человеческой жизни.
Что уходит и что остается?
Официальные структуры и тем более ярлыки общества изменяются быстрее, чем его основания. Это относится и к человеческому материалу общества, к социальному типу человека. Мы могли лишний раз убедиться в этом уже после завершения эмпирической стадии исследования «Советский человек». Переживаемые обществом потрясения, исчезновение советской символики и фразеологии не скоро влекут за собой перемены в его социально-антропологической основе. Выращенный, подобранный, поставленный советской системой в соответствующую социокультурную нишу, этот человек надолго останется «советским» и, наверное, будет находить подходящие условия для самосохранения в тени распределительной экономики и номенклатурной кадровой системы – а в длительности существования этих теней трудно усомниться.
В различных разделах нашего исследования, бегло и неполно здесь представленного, мы сталкивались с фундаментальной особенностью человека советского – его двойственностью. Он с удивительной легкостью, практически безо всякого сопротивления воспринял крушение социальных и идеологических рамок своего существования. Можно полагать, так произошло потому, что он и ранее принимал эти рамки главным образом демонстративно, как элемент игры на выживание. Легкость крутых перемен всегда чем-то подозрительна. Не было ли демонстративным само отвержение советских социально-идеологических рамок? По крайней мере отчасти так и происходило. После крушения советской системы на поверхность вышел не сказочный освобожденный богатырь, а человек, склонный приспосабливаться, чтобы выжить. Готовый декларировать свою приверженность демократии из отвращения к старой системе, но вовсе не приспособленный к демократическим институтам. Готовый следовать в моменты эмоционального подъема за новыми лидерами в надежде на то, что они окажутся отцами народа, вождями и спасителями. (Кстати, потому и склонный довольно быстро от этих лидеров отворачиваться, если они подобных надежд не оправдывают.) Готовый декларировать свою приверженность рынку и приватизации, но почти не готовый к самостоятельному экономическому поведению. Из этой двойственности соткана сегодня вся наша противоречивая социальная действительность.
1992Феномен «человека советского»: социологические параметры
Приблизительно с середины 20-х гг. нашего столетия, после утверждения – казалось, надолго и прочно – большевистского режима в «отдельно взятой стране», бывшей Российской империи, в отечественной и эмигрантской общественной мысли возникла проблема советского человека как особого социально-антропологического явления.
В мировоззрении более раннего периода, проходившего под лозунгами революционного переворота со «всемирным» прицелом, для подобного понятия не было места: провозглашались или ниспровергались категории глобального, всемирно-исторического масштаба, заведомо противопоставленные национальной и государственной ограниченности. Героями или злодеями созданной распаленным воображением мировой сцены представлялись сверхчеловеческие и сверхнациональные «классовые» персонажи (точнее, замещавшие их парткомиссары). Неинтересно сейчас обсуждать, в какой мере в подобных титанических фантазиях отразились мечты интеллигентской романтики XIX в. (для России – начала ХХ в.) о «новой жизни», «новом мире», «новом человеке», а в какой – доктринерский утопизм социалистов. Неудачу потерпели и те и другие.
Стоит, однако, отметить некоторые поучительные моменты теоретических дискуссий о судьбе «нового человека» в середине 20-х гг. Известная тогда группа «Смена вех» (и вместе с ней значительная часть русской эмиграции) утверждала, что нормальный «русский человек» (прежде всего мужик, крестьянин), переживший кошмары войны и революции, возьмет верх над революционными фантазерами и организует жизнь и государство на обычных началах. Группа так называемых евразийцев надеялась на то, что порожденный революцией «новый человек» спасет российское государство и сможет ориентировать его на (мифологизированную) Азию. Варианты подобных позиций воспроизводятся в настоящее время в аргументации адептов «особого пути» развития России.
Советская официальная общественная мысль ориентировалась на то, что должным образом реконструированный и «исправленный» человек имперской эпохи послужит достаточно надежным винтиком или кирпичиком новоимперской государственности. (Чисто идеологическое прикрытие, с большей или меньшей интенсивностью использовавшееся в разные периоды, но никогда не имевшее ни массового распространения, ни существенного значения, – словесные упражнения, резолюции и диссертации на тему «нового человека» или «человека будущего».)
Реальность советского человека целиком принадлежит постромантической эпохе – тем десятилетиям, когда послереволюционная государственность пыталась стабилизировать репрессивный режим, сохраняя и наделяя статусом прежде всего человека покорного, исполнительного, сопричастного и т. д. Как это бывает практически всегда, «гора» титанических фантазий («новый сверхчеловек») породила некую «мышиную» реальность – сопряженность ролей аппаратной бюрократии, послушных ей «спецов» разного профиля и безгласной «народной массы». Именно такая пирамида социальных позиций определила характерный набор необходимых черт Homo Soveticus’а, на котором мы остановимся далее.
Говоря о реальности, о статусе существования названного социально-антропологического типа, мы предполагаем его отличия от «чистых» идеально-типических конструктов в духе Макса Вебера. Конечно, если представить себе некий образец «идеально-чистого» советского человека, то его методологически правомерно было бы рассматривать как идеальный тип. Но тогда пришлось бы заняться рассмотрением идеологической конструкции, что в задачи настоящего исследования не входит. Эмпирическое социологическое исследование, в данном случае массовый опрос, предъявляет исследователю только те характеристики ценностей, установок, мнений людей, которые достаточно эффективно воздействуют на их сознание и поведение. В том числе на иллюзии, фантазии, интересы и прочие «субъективные» конструкты – в той мере, в какой эти последние работают в социальном поведении.
Поэтому исследователям представляется, что мы вправе ставить вопрос об условиях и о рамках существования (или несуществования) «человека советского» как носителя определенных социальных характеристик[460].
Отметим некоторые особенности постановки такой задачи.
Прежде всего предполагается, что те характеристики, которые признаются типичными для изучаемого социально-антропологического феномена, должны быть достаточно широко распространены, присущи относительно большому числу людей, но не обязательно абсолютному большинству. Условием «достаточности» здесь, видимо, может служить способность исполнять функцию доминанты, образно выражаясь, способность «задавать тон» в соответствующей области социального пространства. Скажем, взгляды, которых придерживаются 30–40 % населения, могут быть доминирующими в общественном мнении, если с ними вынуждены считаться другие, если выразители данных взглядов занимают высокие статусные или харизматические позиции, если носители других точек зрения относительно малочисленны или разобщены и пр. Важно, следовательно, не только количественное, но и качественное распределение изучаемых признаков, социальный статус их носителей и трансляторов.
Очевидно, характеризующие признаки должны обладать определенной консистентностью, устойчивой взаимной сопряженностью.
И, наконец, наиболее важное условие – явно или неявно задаваемая (и принимаемая) функция социокультурного стандарта (образца, паттерна), который подкреплен соответствующим механизмом социального контроля, позитивных и негативных санкций. «Джентльменский набор» «человека советского» – это не просто часто наблюдаемые особенности установок и поведения, но такой набор, который специально поощрялся, насаждался, навязывался. Притом не только через официальные каналы воспитательных (социализирующих), информационных, контрольных социальных институтов, но и через личностно-групповые механизмы давления («коллективное» принуждение). Более того, официальная монополия на целеполагание и предельные ценности приводила к ситуациям вынужденного принятия, по крайней мере на официальном и декларативном уровнях, образцов «правильного», «должного» поведения. Свою роль в этом играла монополия на «зеркало» общества и общественного мнения: официально навязываемая картина была единственно доступной и, естественно, воздействовала на представления людей о самих себе.
В рамках данного исследования имелась возможность отслеживать искомые поведенческие характеристики через ряд эмпирических референтов – как декларируемых непосредственно (например, распространенность такого ответа, как «с гордостью считаю себя советским человеком»), так и латентных (ответы об отношении к заботе государства, понятию родины, хозяйственной инициативе и пр.). Выяснение социально-этнических барьеров, установок по отношению к насилию и ряду других позиций требовало в некоторых разделах исследования построения специальных шкал и рядов сравнений.
Разработка данных массового опроса позволила выделить специфику наборов, различающихся интенсивностью проявления, а также вариантами сочетаний нормативно заданных характеристик «советской» принадлежности. Различимы, например, «центральные» (в социокультурном плане) и «периферийные» варианты, маргинальные, переходные, смешанные и пр., связанные статистически с различными поколенческими когортами, образовательными группами, этническими средами.
Черты человеческого «образца»
Современному исследователю приходится иметь дело с социокультурным типом Homo Soveticus’а в условиях его очевидной деградации. Поэтому, чтобы представить нормативно заданные черты этого типа, приходится оглядываться на его конфигурацию в зрелый, «классический» период, который можно отнести примерно к 30 – 40-м гг.
Первая из фундаментальных характеристик «человека советского» – внушенное и воспринятое им представление о собственной исключительности, особости, принципиальном отличии от типичного человека иных времен и социальных систем. Сформировался образ «особого человека», обладающего исключительной системой собственных ценностей, сознанием собственного превосходства, своей системой социальных мер и весов, не допускающего даже мысли о реальном сравнении собственной жизни с «чужой». Эта обособленность проявлялась в историческом сознании (точкой отсчета исторического времени принято было считать Октябрьскую революцию 1917 г.), геополитических установках («железный занавес», подкрепленный социально-психологическим барьером между «своим» и «чуждым» мирами), аксиологических ориентирах (своя система ценностей) – вплоть до эстетических, этических и гносеологических категорий («свои» критерии истины и красоты) и т. д.
Обоснования «установки на исключительность» могли быть различными – от апелляции к марксистскому лексикону «классовой» обособленности до ссылок на традиционную для отечественного консерватизма идею извечного противостояния России и всего остального мира. Впрочем, в годы расцвета сталинской державности произошло практическое слияние этих позиций. Социально значимым оставался результат: установление некой границы, барьера между «своим» и «чужим» (или «чуждым»), проведенной через все сферы социального существования человека – от межгосударственных до межличностных. Будучи признанным (в том числе и на уровне социальной личности), этот барьер трансформировался в средство универсального структурирования мира по самому примитивному из принципов социального мировоззрения: принципу противопоставления «нашего» «чужому».
«Знак» противопоставления мог быть амбивалентным. «Свое» может быть не только лучшим, превосходящим «чужое» по каким-то критериям, – оно может выступать и атрибутом социально-мазохистского самоунижения («худшее», униженное, обиженное). Своеобразная диалектика или, может быть, игра «возвышающих» и «принижающих» установок хорошо известна и из российской, и из собственно советской истории. Для периодов агрессивного изоляционизма – один из них приходится наблюдать сегодня – всегда было характерно широкое распространение установок самоуничижительного противостояния «чужим». Показательно, например, распространение в массовой речи уничижительного прозвища «совок» применительно к советскому человеку. В этом прозвище соединены самоуничижение и его оправдание, даже некое горделивое любование своим уничижением. Термин, имеющий явно «элитарное» происхождение, подчеркивает некую особость советского человека, невозможность для него быть «как все».
Как уже отмечалось, наше исследование застает эту границу исключительности уже серьезно нарушенной. С прорывом информационной и политической блокады советского человека неизбежно лишается смысла и вся «стена» изоляционизма и противопоставления остальному человечеству. Анализ результатов нашего опроса (а также ряда других, проведенных в последнее время) дает широкую картину происходящего буквально на глазах обесценения всего набора установок на «исключительность», противостояние «Западу», «буржуазным» ценностям и пр. Расставание с более или менее привычным миром пещерной изоляции проходит с трудом, встречает сопротивление – и психологическое, и политическое. Согласно данным одного из исследований ВЦИОМа (март 1991 г., опрошено 1954 человека городского населения в ряде республик СССР), 63 % согласны с тем, что «СССР должен идти по пути развитых стран Запада», 8 % – «по пути развивающихся стран Азии», 44 % полагали, что «у СССР свой собственный путь развития», и 42 % указывали на «один путь развития человечества» (очевидно, что часть опрошенных отмечала более одного варианта ответов).
Годом позже (исследование «Культура», ВЦИОМ, апрель 1992 г., опрошено 1800 человек в России), только 16 % предпочли «путь стран Запада» (для сравнения: на Украине – 27 %, в Эстонии – 45 %, в Узбекистане – 4 %), 48 % – «свой собственный путь». Как видим, ответ о приверженности «собственному пути» остается наиболее массовым и традиционно «советским». В этой формуле изоляционизм сочетается с надеждой на преимущества «своего» перед «чужим». Она остается удобной для выражения среднемассовых настроений, а также как популистски-политический лозунг, имеющий явную «патриотическую» ориентацию.
Другая фундаментальная черта социального характера советского человека – государственно-патерналистская ориентация.
«Образцовый» советский человек не мыслит себя вне всеобъемлющей государственной структуры. В одной из последующих глав мы постараемся рассмотреть специально некоторые эмпирические параметры этой чрезвычайно устойчивой «государственности» (которая, что весьма важно, проявляется и в ситуации бунта, направляемого против государства; российский тоталитаризм и анархизм имеют общие истоки и корни).
Но эта «государственная» принадлежность человека всегда имела довольно мало общего с тем, что понимается под аналогичными терминами в европейской социальной и правовой мысли. Государство для Homo Soveticus’а – не один из ряда исторически сформировавшихся социальных институтов, имеющих свои функции и рамки деятельности, а некий суперинститут, всеобщий, универсальный как по своим функциям, так и по своей сфере деятельности. По сути дела, в облике государства в советском обществе выступает не расчлененный на функциональные компоненты, универсальный институт досовременного патерналистского образца, который проникает во все уголки человеческого существования. По своему проекту советское «социалистическое» государство тоталитарно, поскольку оно не должно оставлять человеку никакого независимого пространства[461].
Это притязание на универсальную роль принципиально отличает государство советского типа от этатических структур в «третьем» мире, которые исполняют преимущественно модернизаторские функции. В «советских» же структурах модернизационные функции (которые в той или иной мере присутствуют) оказываются отодвинутыми на второй план патерналистскими. По сути дела, это охранительные, контрольные функции, исполняемые как будто в порядке неустанной «отеческой заботы» о подданных. Здесь метафорика требует, однако, более пристального рассмотрения. В плане эмоционально воспринимаемой символики, возможно, в силу российско-исторических традиций (то, что Николай Бердяев называл «бабьим характером русского народа») да еще пристрастия режима к оруэллианскому превращению смыслов, система жесточайшего насилия выступала – и, более того, воспринималась! – как выражение «материнской» заботы (образ «матери-Родины», но никак не «отца»; роль последнего исполнялась лидером, вождем).
Следует отметить некоторые последствия «патернализации» государства и государственных ориентаций человека. «Отеческое» государство непригодно для исполнения тех социально-организующих функций, которые несут западные государственные структуры: это не государство в современном смысле термина. Его индивидуальным контрагентом является не автономная личность, а (в принципе) гиперсоциализированный и тотально зависимый от властей субъект. Патернализму непременно соответствует инфантилизм, самосознание подростка, недоросля. «Забота» со стороны «верхов» должна встречать «благодарность» со стороны «низов» – такова главная, осевая формула патерналистского устройства общества и социальной личности. Еще Е. Замятин «вычислил», что верховный властелин в тотальной утопии должен считаться Благодетелем.
По данным одного из исследований 1990 г. («Бюрократия», 3200 опрошенных в городах бывшего СССР), наиболее распространенная характеристика стоящих у власти (37 %) – забота о народе. Да и от начальства на предприятии подчиненные ждут заботы о людях (49 %) и только чуть более (51 %) – компетентности в делах.
Как известно, роль главного благодетеля, источника «неустанной заботы» о простом человеке была возложена в советской системе на государственную партию. (Монопольная государственно-политическая организация имеет с «обычными» для Запада политическими партиями столь же мало общего, как тотально-патерналистское государство с «просто» государством.) Характерное для классических времен советской системы обозначение верхнего правящего слоя термином «партия и правительство» (вариант: «руководители партии и правительства») отпечатывается в массовом сознании как представление о всемогущем едином «верхе». Сегодняшние разломы воспринимаются им как «борьба за “верх”», дискредитация «верха» и т. д.
Разумеется, благодетеля не только благодарят – от него ждут, просят, требуют, его осуждают за неисполнение требований. Наибольшее недовольство деятельностью правительства, по одному из опросов в сентябре 1992 г. (1667 респондентов по России), связано с «недостаточной заботой о народе» (мнение 36 %). Все эти столь очевидные сегодня признаки никоим образом не снимают принципиальной парадигматики спаренных полюсов оси забота – благодарность. Патерналистская структура становится объектом патерналистской же критики. По сути дела, исторически традиционная российская (анархистская, толстовская) критика государства, сколь бы резкой она ни была, не выходила за рамки той же модели, противопоставляя «плохой» заботе о подданных «хорошую», «подлинную». Тем более это относится к советской ситуации. Причем значительная часть критики в адрес партийно-государственных структур и в «диссидентский», и в «перестроечный» период также ограничивалась патерналистскими рамками. Образ «отеческого государства» – едва ли не наиболее инерционный компонент советского социального сознания, в частности в популистских его течениях. Представления о договорном характере государства, о приоритете автономной личности имеют, согласно нашим наблюдениям, значительно меньшее распространение.
По данным одного из исследований ВЦИОМа (1990), свыше 60 % населения полагают, что большинство советских людей не сможет «прожить без постоянной заботы, опеки со стороны государства». Экономическая основа подобных суждений очевидна: более двух третей населения зависит от государственных предприятий и пособий.
Еще одна фундаментальная черта внутреннего миропорядка типического человека советского – иерархичность. Типический этот человек долго носил эпитет «сознательного», что означало готовность принять существующий социальный порядок и политическим режим. Собственно говоря, уже принятие патерналистской модели человеческого мира означает всегда и везде принятие вертикальной иерархии отношений: слоя заботливых и слоя подлежащих заботе (или допущенных к «таинству» управления и подлежащих управлению и пр.). Здесь наиболее глубокие корни специфической для советского общества иерархии социальных ролей, авторитетов и привилегий. Это не аскриптивная иерархия традиционных обществ (наследуемые привилегии) и не достижительная иерархия общественных систем нового времени (распределение статусов в соответствии с плодами труда, капитала и знания). Фактор, структурирующий советское вертикальное общество – напомним, что речь идет о «классической» эпохе его существования, – мера допущенности к властным привилегиям и сопутствующим им информационным, потребительским и другим дефицитам. Пошлейшая формула «по заслугам каждый награжден» (из самой знаменитой песни 30-х гг.) достаточно точно отражает реальную черту социальной конструкции: иерархия заслуг (перед «верхом») и наград (опять-таки пожалованных «верхом»).
Одна из первых позиций исследования «Советский человек» – субъективная оценка собственного положения на гипотетической шкале (лестнице) социальных статусов.
Опрашиваемым было предложено определить, на какой из ступеней «общественной лестницы» они находятся. Полученные ответы мы можем сопоставить с данными исследования, проведенного ВЦИОМом в конце 1991 г. (4600 опрошенных). Респонденты следующим образом распределили свои статусные позиции (данные в процентах):
(Более высокие ступени (9-я и 10-я) не играют роли в статусном распределении, поскольку к ним относит себя слишком малое число опрошенных.)
Как видим, распределение статусных позиций в общественном мнении довольно устойчиво (за немногими исключениями, оно весьма близко к распределению опрошенных по уровням материального благосостояния). За два года произошел очевидный сдвиг более высоких статусных категорий книзу, возможно это результат «перестроечных» потрясений в обществе и частичного распада старых элит.
Оценить значение подобных данных (в других исследованиях ВЦИОМа использовались также такие показатели, как восприятие респондентами своего экономического статуса) можно, по нашему мнению, только с учетом генезиса вертикальной организации, свойственной советскому обществу. Принятие иерархии сочетается в традиционном для него наборе личностных ориентаций с установкой на специфический эгалитаризм. Здесь перед нами – пример одной из антиномий, характерной, как мы попытаемся показать, для всех фундаментальных характеристик Homo Soveticus’а.
Итак, «иерархический эгалитаризм». Существуют подозрения, что это чисто декларативная конструкция, что-то вроде пропагандистского фона для властвующей бюрократической пирамиды. Такое упрощение вряд ли оправданно, так как мы имеем дело не с радикально-мечтательным, а с вполне практическим эгалитаризмом, который отвергает лишь то неравенство, которое не соответствует принятой иерархии: «незаслуженные» привилегии и «нетрудовые» (то есть не узаконенные тарифной сеткой и массовой привычкой) доходы. За гранью допустимого оказываются в таком случае, во-первых, плоды всякого неординарного труда и таланта, во-вторых, доходы от собственности и экономических услуг, в-третьих, «слишком большие» привилегии у людей «недостаточно» высокого статуса.
В современных условиях распада классической советской пирамиды власти антиномия иерархии – эгалитаризма трансформируется в разрушительную. По данным нашего исследования, а также другим наблюдениям эгалитаристские притязания, которые в конце 80-х гг. (у старших групп населения и посейчас) были направлены против «чрезмерных заработков», «миллионеров» и особенно против первого «призыва» частных предпринимателей («кооператоров»), в дальнейшем все больше поворачивались против привилегий правящего партгосаппарата. Это одна из главных, наиболее очевидных мишеней массовой, в частности популистской, критики. Из опоры системы эгалитаризм превратился в ее противника.
Какие из перечисленных ниже категорий населения имеют, на ваш взгляд, незаслуженно много?
(Другие варианты ответа собирают не более 10 % мнений.)
«Кооператоры» как социально-экономический (и социально-психологический) феномен принадлежат периоду 1989–1990 гг., когда под этим именем впервые вышел на общественную сцену «новый» частник. В исследовании 1989 г. резко негативную реакцию примерно половины опрошенных вызывали «люди, официально получающие миллионы» (другая половина либо ничего не имела против – но такой позиции придерживались всего 11 %, – либо сопровождала свое одобрение важной оговоркой – «если деньги заработаны честно»).
Дальнейшее развитие установок советского человека по отношению к богатству и собственности – очевидный переход от негативных к позитивным реакциям. Примерно с конца 1991 г. частная собственность, приватизация, капитал приобретают положительные значения в советском общественном мнении. (Изменение масштаба цен лишило смысла вопрос о «миллионерах».) В апреле 1991 г. уже 52 % опрошенных (против 13) высказывали положительное отношение к частному предпринимательству (опрос «Культура», 2000 респондентов в России). В октябре того же года только 12 % принципиально «возражали против частного бизнеса». Сравнение ответов на различные серии вопросов позволяет считать, что именно такое меньшинство населения (11–13 %) составляет на 1992 г. основу сопротивления «рыночным» изменениям.
Анализ социальных структур сегодняшнего эгалитаризма оставим на дальнейшие главы; в данном случае достаточно обозначить позиции.
Сравнительно новый продукт распада иерархического эгалитаризма – трансформация функции «благодетельного» верха в функцию «таинственного злодея». В советской мифологии «верх» всегда выступал анонимным и таинственным, изо всех сил стремился казаться таковым. Вседозволенность карательных органов не создавала, а лишь восполняла картину таинственности господства. Еще одним восполнением всеобщей анонимности служила мифологизация персоны вождя. А теперь атрибуты тайной, вездесущей и всемогущей власти над человеком, которые раньше приписывались анонимному руководству страны, переносятся на «мафию». До половины населения склонно искать причину бедствий общества (во всех сферах – от потребительской до межнациональной) в кознях «мафии». Притом, согласно одному из опросов ВЦИОМа, около трети (34 %) населения под «мафией» понимало партийно-государственное руководство.
Апелляция к «тайной власти» занимает важное место преимущественно у людей старшего возраста и «старого закала», условно говоря, группы «ветеранов» – именно эта поколенческая когорта сформировалась и прожила годы наибольшей активности в «классические» времена советской системы. Взаимосвязь представлений о «своей» и «враждебной» тайной власти отчетливо была видна в эту эпоху (отсюда, кстати, и та удивительная легкость, с которой массовое сознание перемещало «вождей» в стан «врагов»), но она не исчезла и ныне. Незадолго до путча 1991 г. тогдашний шеф КГБ В. Крючков разоблачил заговоры враждебного «Запада», который будто бы подкупил демократических деятелей для развала страны (по данным опросов ВЦИОМа, эти разоблачения не пользовались доверием в обществе). К осени 1992 г., с новым обострением политического кризиса, обличения тайных козней, подкупов и пр. опять получили довольно широкое распространение в пропаганде «красного» и «патриотического» оттенков.
Последняя из фундаментальных особенностей Homo Soveticus’а, на которые хотелось бы обратить внимание, – его имперский характер. (Это не оценка, а аналитическая категория понимания общества и личности, не более того.) Советское государство восприняло от Российской империи принцип транснациональной организации, опирающейся на соответствующую элиту (русскую или русифицированную по преимуществу). Причем последняя выступала не столько как национальный, сколько как универсальный организующий и (с XIX в.) модернизационный фактор. В ценностной структуре «нормативного» советского человека заложена была с самого начала его формирования целая система антиномий национального и «интернационального» (безнационального, транснационального, постнационального), связанных с последовательными попытками сохранения национальной «революционной» элиты, замены ее демонстративно русифицированными «кадрами», псевдонациональными элитами. Как стало очевидно в последние годы, именно эта антиномия самоопределения оказалась источником наиболее острых напряжений всей системы. Патерналистская нагрузка, возложенная на советско-русскую и русифицированную элиту, привела к фрустрации ее собственных очагов национально-политической консолидации нерусских народов на всех рубежах бывшей империи.
Существенным препятствием на пути формирования нормальных для ХХ в. рамок этнического самоопределения в советском обществе явились попытки государственного закрепления национальной идентичности (национальная «графа» в паспортах, квазинациональные административные размежевания субъектов федерации). Поэтому Homo Soveticus по самой природе своей генетически фрустрирован, поставлен перед неразрешимой задачей выбора между этнической и суперэтнической принадлежностью.
Кем вы считаете себя в первую очередь: гражданином СССР или гражданином республики, в которой вы живете?
(в % по строке)
Что для вас означает родина?
(в % по строке)
Приводимые выше данные получены в базовом исследовании 1989 г., то есть тогда, когда проблема выбора человеком национально-государственной идентификации носила гипотетический характер. С началом реального распада Союза ССР она приобретала сугубо практические измерения.
Подчеркнем, что проблема здесь вовсе не в плюрализме возможных точек отсчета: подобная ситуация наверняка существует (и неплохо существует) во многих других обществах. В условиях же фрустрации человеку навязывается выбор, который нельзя сделать, оставаясь в «нормальных», современных рамках. Для российского имперского наследия суперэтнический вариант национальной идентификации (типа США, Австралии, Бразилии) столь же закрыт, как моноэтнические варианты типа Франции или Португалии.
Можно теперь сопоставить перечисленные характеристики «человека советского»: принудительная самоизоляция, государственный патернализм, эгалитаристская иерархия, имперский синдром. Конечно, это не исчерпывающий перечень (в принципе, исчерпывающим может быть только аналитически сконструированный набор вариантов, например категорий социального действия у Т. Парсонса; всякий эмпирически полученный перечень остается «открытым»). Можно было бы, например, рассмотреть такие черты «человека советского», как «идеологичность» (и ее дополнение – равнодушие ко всякой идеологии), «гиперорганизованность» (спутником которой является аномия), принудительный «активизм» (и его теневая функция – отвращение к труду) и др. Выше выделены только те признаки интересующего нас культурно-исторического явления, которые в большей мере рассмотрены в данном исследовании и могут считаться ключевыми.
Каждая из них антиномична, она как бы содержит собственное отрицание: «нерушимая граница» и готовность ее перейти, надежда на государственную заботу в паре с лукавым недоверием по отношению к государству, в одно и то же время – признание государственной иерархии и ее отвержение («эгалитаризм»), этатизация национальной идентичности и фрустрация национального сознания в рамках суперэтнической (имперской) принадлежности. В каждом случае налицо некая парная связка демонстративной и латентной функций. Это не просто теоретические конструкты, не только инструменты логического анализа. В относительно стабильной ситуации доминируют явные, демонстративные компоненты названных выше парных категорий: изолированность, государственность, иерархия, имперская символическая идентификация. А в обстановке общественного кризиса латентная компонента каждой антиномии выступает на поверхность и превращается в мощный дестабилизирующий фактор.
Кстати, все перечисленные характеристики говорят скорее о принадлежности человека определенной системе ограничений, чем о его действиях. Отличительные черты советского человека – его принадлежность социальной системе, режиму, его способность принять систему, – но не его активность.
Искушение простотой
«Советский человек – простой человек». Атрибут универсальной простоты принадлежит как официальному, так и массовому классически-советскому сознанию. Это «вывеска», демонстративный символ противопоставления всему чуждому миру (включая и внутренний мир человека) как слишком динамичному, сложному, изощренному. В то же время это доминирующее изображение человека в «зеркале» пропаганды, это существенная черта идеологического проекта человека и – самое важное – это вполне реальный феномен советского мира. Он стал и остается таковым, потому что в императиве «простоты» совпадают различные тенденции: насильственное и самопроизвольное опрощение, адаптация и сопротивление. Выделим некоторые моменты полисемантичности концепции «простоты», составляющей сердцевину образца «человека советского».
Во-первых, простота выступает синонимом массовидности. Требование «быть как все», встроенное в культурный код социализированной личности, не означает коллективности или сплоченности (в дюркгеймовском смысле), это лишь ориентация на всеобщее усреднение.
Отсюда вытекает второе: простота противостоит элитарности («не выделяться!» – принцип поведения, который и сейчас считали бы наиболее важным для воспитания детей 8 % опрошенных в нашем исследовании). Это привычнейший принцип самосохранения человека в ситуации, где всякий признак успеха, таланта и просто усердия «не в меру» становится поводом скорее для подозрительности, чем для возвышения. Как уже отмечалось, агрессивная зависть по отношению к обладателям таланта, власти и потребительских благ (о капитале и говорить нечего) неизменно служила социально-психологической основой иерархического эгалитаризма. И условием массового одобрения или массового соучастия во всех без исключения кампаниях травли против «слишком» интеллигентных, богатых и знатных. Довольно часто – и против власть имущих, если они впадали в опалу (в прошлом; сегодня последнее обстоятельство утратило значение).
Особенно, конечно, против «чуждых» – инакомыслящих, отщепенцев, отступников и т. д. Клеймо «врага народа» было для своего времени чрезвычайно удачным изобретением (французский генезис термина никого не интересовал). Всякий, отклонившийся от курса – «шаг влево – шаг вправо», – автоматически рассматривался как идущий «против всех». Психология массового заложничества, описанная в свое время А. де Сент-Экзюпери («Письма к заложнику»), – непременная принадлежность всякой системы массового террора, в которой каждый индивид, независимо от меры его лояльности, вынужден отвечать за отчаянные поступки другого. В такой системе покорное или даже умеренно-критическое большинство становится яростным противником «экстремизма», то есть протеста. Здесь одна из главных точек совпадения идеологических установок «верхов» и массовых привычек, которая обеспечивала массовую психологическую (порой молчаливую, порой истерично-демонстративную) опору режиму. «Простой» человек не должен был и не мог куда-либо уклоняться.
Запросы «простого человека», естественно, всегда считались минимальными, простейшими. В качестве таковых практически принималась ориентация на уровень простого выживания; все сверх того клеймилось как «излишества», «роскошь», «избыточность». Массовый человек не должен был (и не мог практически) переходить границу усредненного минимума. Для элиты и приближенных к ней групп допускались исключения, чреватые, однако, риском обличения и расправы.
Еще один семантический срез обязательной «простоты» человеческой – «прозрачность», открытость для понимания со стороны себе подобных и в особенности для контроля сверху. Все «непрозрачное» (по гениальной догадке В. Набокова) – опасно, ибо оно недосягаемо для могущества той самой власти «чуда, тайны и авторитета», на которую мечтал опереться Великий Инквизитор у Достоевского.
К атрибутам «простоты», несомненно, относится и привычка довольствоваться «простыми радостями» (по сути дела, это то же стремление довольствоваться простой возможностью выжить, а также тайное злорадство по поводу беды ближнего).
Императив окончательной «простоты» человеческого материала для властвующей над ним системы был непременным условием действенности власти. «Простота» контроля, примитивность и стабильность набора запросов, недопустимость излишних мудрствований и требований – как будто идеальное условие управляемости. Однако как раз ориентация на «простоту» стала, как сегодня можно судить, источником примитивности и косности самой «управляющей подсистемы», показавшей свою непригодность для эффективного контроля над человеком и обществом.
В свое время принято было говорить о «коллективности» «человека советского». Этой черты мы попросту не обнаружили. Между тоталитарным государством и одиноким индивидом не занимали сколько-нибудь важных позиций никакие социально-психологические общности, связанные с профессией, занятием, интересами и т. д. Практическим носителем обобщенного «мы» являлась партийно-государственная машина власти. Групповой контроль (по принципам «не высовываться», «не подводить всех» и пр.) обеспечивал подчинение человека машине тоталитаризма.
Начала и последствия
Ставка на «простоту» человека оказалась катастрофической для советского общества и его аналогов. Чтобы понять уроки происшедшего, представляется полезным в самом кратком виде напомнить об истоках. Они восходят отчасти к отечественной истории, преимущественно же – к попыткам насильственно изменить ее течение. Относительная малочисленность и слабость правящей элиты и модернизированного среднего слоя императорской России питали иллюзию, что с помощью «организации революционеров» удастся «перевернуть» страну и реализовать желаемую модель общества, в каковую входило и формирование если не вполне «нового», то вполне послушного человеческого материала.
Как уже отмечалось выше, социально-антропологический тип, который составляет реальный материал общественной системы и который мы пытаемся рассматривать в этой работе, – это всегда распределение различных социально значимых человеческих типов (грубо говоря, соотношение между человеческим наполнением высших, низших, поддерживающих и прочих социальных позиций). В результате революции в этом распределении произошли перемены в нескольких направлениях.
Прежде всего имела место элиминация практически всей социальной элиты: дворянства, имперской бюрократии, средних слоев в городе и деревне, духовенства, наиболее образованных (в том числе и тех, кто поддержал и осуществлял революционный переворот).
Революционный авантюризм и давление «массового фактора» обусловили характер нового правящего слоя в первый, переходный период постреволюционного существования общества. Применительно к последующему, собственно уже советизированному временному периоду можно говорить лишь о постреволюционной бюрократии и бюрократическом авантюризме. В этот период отливается в относительно устойчивые формы распределение человеческих типов, составившее «нормативную» конфигурацию «человека советского». Повальное раскрестьянивание и бегство в города, новый тип казарменного индустриального города, создание громоздкого и малоэффективного советско-бюрократического аппарата, превратившего в чиновников практически все городское население, включая массовые «интеллигентские» профессии, – важнейшие компоненты формирования этого типа.
К этому следует добавить систему массового образования и индоктринации в условиях жесткой информационной блокады – поколение училось грамоте и воспитывалось только на «правильных» текстах. Прямой жесткий контроль за мыслями со стороны идеологических и карательных ведомств «нового человека» не сотворил, но способствовал распределению человеческого потенциала в обществе.
В эмигрантской (а в последнее время и в советской литературе) давно ведется дискуссия о том, насколько велика была роль коммунистического утопизма и фанатизма во всем происходившем. Применительно к нашей проблеме – насколько направляемым был процесс формирования специфически советского человеческого материала. Конечно, тот набор эмпирических данных, которые получены в рассматриваемом исследовании, прямого ответа на такой вопрос не содержит, но некоторые основания для прояснения ситуации все же позволяет обсудить более аргументированно.
Если верно, что по зрелому организму можно судить о зародыше, то по характеру кризиса и распада общества правомерно представлять некоторые аспекты его формирования или зрелости. В современном спектре социально-антропологических типов для революционного фанатизма практически нет места; те немногие проценты населения, которые демонстрируют стойкую приверженность марксистски-традиционной лексике в оценке социальной действительности, вряд ли способны увлекать самих себя и кого-либо иного этой лексикой. Это скорее реликтовые, пережиточные группы, которые не способны оказать какое-либо влияние на распределение интересов в современной общественной ситуации. Без сомнения, в период «формообразования» системы отчаянные, абсолютно свободные от культурных и нравственных ограничений авантюристы играли заметную роль прежде всего в разрушении сложившихся укладов жизни. «Полуфанатик, полуплут» – вполне адекватная характеристика активиста этого времени (словами Пушкина). В дальнейшем запросы и роли в обществе изменились, место «полуфанатиков» заняли плуты и насильники, позже – плуты и чиновники.
Советская история знала лишь одно поколение «вполне советских» людей. Хронологически это в основном поколение (когорта) вступивших в активную социальную жизнь в начале 30-х гг. и занимавших ключевые позиции в ней до середины или конца 50-х. Предыдущее поколение было переломлено революционными потрясениями и лишь отчасти приспособилось к новой для него жизни. Последующее – встретило и, в общем, с готовностью приняло кризис и распад всей системы.
То, что советская и подобные ей общественные системы не оказались способными воспроизводиться в последующих поколениях, – факт сегодня общепризнанный. Подтверждают его и некоторые данные нашего исследования.
Чтобы объяснить принципиальную нерепродуцируемость того распределения социально-антропологических типов, которое составляет структуру «человека советского», как нам кажется, следовало бы принять во внимание разнородность, разнослойность самой этой структуры. Она утвердилась тогда – и постольку, – когда произошла смена функциональных элит и последовавшее за этим изменение расстановки человеческого материала в обществе. В грубом приближении эта расстановка (иерархия власти) может быть сведена к трем элементам: властвующая элита, примыкающая к ней образованная «прослойка» и «послушный им народ», то есть масса «простых» людей. В этой конструкции собственно элиту составляют первые две группы (властвующая и поддерживающая), состояние которых прежде определяло стабильность общества и ее нарушение. Наиболее сложна оценка функции поддерживающей элиты (интеллигенции): демонстративная или молчаливая лояльность при некоторой степени скрытого сопротивления власти может трактоваться в прямо противоположных смыслах («капитуляция» и «потенциал свободолюбия»). Имеются основания рассматривать два слоя, два одновременно значимых смысла этой функции, которые в разных условиях оказываются доминирующими.
В советском обществе относительно устойчивого («классического») периода стабильность обеспечивалась монополией власти, лояльностью поддерживающего слоя, покорностью массы. (Напомним, что речь идет о демонстративных аспектах функций соответствующих сил.) Причины разрушения этой стабильности многообразны, широко обсуждаются, в данном случае нам важно выделить только социально-антропологические их составляющие.
Смена поколений губительно сказалась на внутренней структуре властвующей элиты. Показное единогласие уступило место растерянности и дезориентации (примерно с середины 50-х гг.). Доминирующий интерес к самосохранению не мог придать ей ни силы, ни сплоченности. Жесткий контроль отчасти уступил место системе сделок и допусков (по отношению к местным и функциональным фракциям правящей элиты, а также и поддерживающего слоя). Это привело к тому, что со следующей сменой поколений (к середине 80-х гг. или началу «перестройки») произошло разрушение всей пирамиды власти и ее антропологических устоев – единомыслия, принудительной лояльности, массовой покорности. Разрушение нормативных стандартов социального поведения, то есть стандарта нормативно заданного «человека советского», начавшееся в верхних слоях пирамиды власти, распространилось на поддерживающие структуры (из опоры режима интеллигенция превратилась в носителя вестернизованного образца, обладающего привлекательностью практически для всех общественных групп). Наконец, «массовый человек» современного советского общества утратил стимулы (как иллюзорные, так и устрашающие) ориентации на «советский» образец.
Разрушение элиты и поддерживающих ее механизмов общественного доверия, страха, социальной мифологии оказалось столь важным и роковым, потому что с момента своего формирования советская система, в том числе «система» советского человека, строилась на двусмысленной, лукавой основе.
Игра на проигрыш
Главная особенность нормативных установок «человека советского» состояла в том, что они никогда не могли быть исполнены, более того, эта неосуществимость была всегда условием их существования. Все социальные механизмы принуждения, воспитания и контроля практически ориентировались на «производство» человека лояльного, демонстративно принимающего господствующие ценности. Реализация их не требовалась и не была возможной. Под громкими лозунгами все слои общественной пирамиды работали по одному и тому же принципу – самосохранения, выживания. Демонстративное принятие полной зависимости от всемогущего государства было условием сохранения определенной «ниши» для приватного, семейного существования. Подчинение всеобщему планированию – гарантией возможности для некоторой хозяйственной автономии. Важно подчеркнуть взаимность «допусков»: тотальный государственный контроль не мог существовать без фактического признания приватной сферы, как и «плановая» система не могла обходиться без личного интереса и «теневого» продолжения.
Моделью отношений человека с обществом советского типа можно, вероятно, считать систему традиционного колхоза, где земля и работа делились на две принципиально различные неравные части: «общее» (чужое, казенное) и «свое». Работник, бывший крестьянин, жил плодами «своего» (личного «подсобного» участка), но чтобы сохранять на это право, он должен был отдавать «дань» колхозу и государству. В свою очередь, колхоз и власти вынуждены были – не сразу и не без колебаний – согласиться с существованием личного хозяйства как источника средств к существованию человека. На этой сделке строилась вся экономическая система в селе. Эта сделка явилась плодом некоего практического компромисса, а не теоретического проекта. В масштабах страны она не существовала более срока одного поколения (заметим, что действует та же мера времени). Кончается же традиционно-колхозное разделение «сфер деятельности» для обеих сторон плохо: разрушением деревни и окончательным раскрестьяниванием населения. Одна из важнейших причин этого – невоспроизводимость установок на «сделку» со сменой человеческих поколений. Потомки колхозников первого поколения не удерживаются в деревне. (Мы несколько упрощаем реальные процессы, но для модельного сравнения этого достаточно.)
В ситуации претендующего на тотальную власть патерналистского государства у человека (массового, среднего общественного человека) нет возможности для элементарного самосохранения без явной или подразумеваемой сделки с всемогущим партнером (сделка с дьяволом – чуждой и бесконечно могущественной силой). Но и «всемогущая» власть не может существовать без постоянных сделок с множеством «простых» людей, без признания их права на самосохранение.
Плодами такой сделки, или, скажем, такой игры со множеством участников, становится вынужденная «правилами игры» взаимная снисходительность. Можно даже попытаться описать некоторые из наиболее распространенных вариантов «игр».
Игра «работа»: на основе известного принципа «одни делают вид, что работают, другие – что им за работу платят». Это, видимо, наиболее универсальный вариант того социального договора, на котором построено было советское общество.
Игра «забота»: видимость отеческой заботы порождает видимость благодарного подчинения.
Игра «сопричастность»: показное участие в государственных делах оборачивается соучастием в преступлениях государства.
Игра «согласие»: показное принятие высших ценностей как условие сохранения ценностей приватных.
Игра «единодушие»: каждый в отдельности против (или безразличен), но механизм коллективного принуждения вынуждает «всех вместе» выражать бурное согласие с каким-нибудь очередным лозунгом.
Зримый результат этого – формирование устойчивой системы двойных стандартов в обществе, отделение критерия «надо» от критерия «истинно» (нравственно, законно и пр.). Эта система весьма близка описанному Дж. Оруэллом принципу двоемыслия. Устойчивость ее связана со способностью демпфировать, сглаживать внешние воздействия, сохраняя неповрежденным некое ценностное ядро. Социальные потрясения сказываются на внешних, обособленных от такого ядрах слоях. В свое время это облегчило приспособление среднего человека к новым условиям политического существования, и примерно такой же механизм обеспечивал существование образованной элиты общества. В той или иной форме практически все ее группы и деятели вынуждены были пройти через «сделку с дьяволом», стремясь сохранить себя, возможность работать и хранить культурное наследие. Именно эта сделка сформировала типично советскую интеллигенцию в ее мишурно позолоченной государственной клетке.
Но имеется и другой результат «сделки с дьяволом» – разрушение структуры самой личности, особенно заметное на поколенческих разломах. Нравственные сделки всегда и неизменно губительны для несформировавшейся личности. А постоянное разложение критериев отношений в обществе, в том числе уровня воспитания, культуры, нравственности, разлагает все общество. Поэтому мы и можем рассматривать феномен «человека советского» в его социологических параметрах – как феномен исторически преходящий.
1993Десять лет перемен в сознании человека
Прочность человеческого «материала» в конечном счете определяет ресурсы стабильности любого общества, его способность к переменам и степень сопротивления нововведениям. Поэтому анализ происходящих в стране экономических, социальных и политических трансформаций будет неполным без анализа изменений в самом человеке – и субъекте, и объекте идущих преобразований.
Важную базу для такого анализа дают исследования по программе «Советский человек», которые проводятся ВЦИОМом раз в пять лет. Первое датируется ноябрем 1989 г. (российская доля выборки – 1325 человек), второе – ноябрем 1994 г. (опрошено 2957 человек), наконец, третье было проведено в марте 1999 г. (опрошено 2 тыс. человек)[462]. Первым результатам сравнения данных этих трех исследований, а также некоторым соображениям о возможности их интерпретации и анализа и посвящена данная статья.
Сопоставление результатов сложных по замыслу исследований, разделенных значительным – пятилетним – промежутком времени, неизбежно сталкивается с целым рядом специфических проблем методологического порядка. Общественные перемены, а также накопленный опыт вновь, как и пять лет назад, вынудили разработчиков уточнить или заменить некоторые формулировки и блоки вопросов, учесть новые проблемы. Очевидно, что со временем претерпевают изменения многие смысловые характеристики используемых в исследовании терминов. Так, перемены и катаклизмы последнего времени вынудили значительную часть населения не только иначе оценивать, но и иначе понимать значение ряда ключевых категорий анализа социальной и политической реальности. Иной смысл приобрели, например, категории собственности, свободы, демократии, советского прошлого и др. А ведь наше исследование охватило очень динамичное десятилетие, которое началось первым социально-политическим переломом 1988–1989 гг. и завершилось кризисной ситуацией второй половины 1998–1999 гг. При всем этом результаты нового опроса показывают принципиальную возможность получать с помощью регулярных опросов достаточно надежные и сопоставимые данные, которые позволяют судить о стабильности и динамике социальных установок, механизмов социальной идентификации и ориентации, эмоциональных рамках существования и т. д.
Прежде всего несколько слов о масштабе и значении перемен, произошедших за 10 лет. Представление об их значительности с годами явно крепнет. В то же время как будто возрастает разномыслие в оценках этих перемен. Так, на вопрос о том, что изменилось за 10 лет, в ходе последнего опроса 59 % респондентов согласились с тем, что произошли большие изменения, 9 % считают, что по сути ничего не изменилось, а 19 % выбрали позицию «недавно казалось, что жизнь изменилась, но теперь я вижу, что все идет по-старому», наконец, 12 % затруднились с ответом (в 1994 г. соответствующие цифры составляли 56 %, 13 %, 16 % и 14 %).
Не надо забывать, что само признание факта «больших перемен» далеко не равнозначно их одобрению и – еще менее – их восприятию как утвердившихся и привычных. Для большинства населения произошедшие перемены остаются болезненными и непривычными. Общий фон ностальгии по прошлому («до 1985 года») сохраняется и даже становится все более отчетливым. Об этом свидетельствуют, в частности, ответы на вопрос: «Было бы лучше, если бы все в стране оставалось таким, как до 1985 г.?». Показательно, что доля утвердительно ответивших на него существенно выросла по сравнению с 1994 г. (58 % против 44 %). Не согласных с такой точкой зрения стало несколько меньше (27 % против 34 %), меньше стало и затруднившихся с ответом (15 % против 23 %). Только у молодежи (до 25 лет) и у высокообразованных сейчас преобладают предпочтения к переменам.
Если же перейти к переменам в различных сферах общественной жизни, распределение позиций изменяется и даже «средние» показатели выделяются на том же негативном фоне (см. табл. 1). Из таблицы видно, что за последние пять лет ухудшились оценки свободы слова, многопартийных выборов, сближения России с Западом, практически без перемен осталось отношение к свободе выезда, улучшились оценки свободы предпринимательства и – в наибольшей мере – права на забастовки, которое сегодня одобряют все категории населения, за исключением сельских жителей. (Можно предположить, что последний сдвиг – единственный из всего рассмотренного ряда случай, когда происходит поворот от преимущественно негативных оценок к преимущественно позитивным, – отражает ситуацию после серии демонстративных, отчасти и успешных забастовок последних лет с требованием выплаты задолженности по зарплате.)
Таблица 1
Оценки перемен последнего десятилетия (в %)[463]
Но как человек приспосабливается к потоку изменений и переломов, захвативших общество? Это извечная задача, практически стоящая перед «средним», «массовым» человеком в любых переломных ситуациях независимо от знака их оценки или степени понимания ситуации. Оценить адаптивные способности респондентов мы попытались, предложив варианты поведения в переходное время (см. табл. 2).
Сравнивая данные за 1999 г. и 1994 г., легко увидеть, что растет число считающих себя «неприспособленными», значительно чаще указывается необходимость «вертеться» (что, скорее всего, означает понижающий вариант социальной адаптации), стабильно мала доля ссылок на «новые возможности» (повышающая адаптация). Правда, здесь следует отметить, что по данным других исследований ВЦИОМа (типа «Экспресс», апрель 1999 г., 1600 опрошенных), где проблема приспособления к переменам рассматривается иначе, 48 % считали, что большинство населения уже приспособилось или вскоре приспособится к переменам, а 43 % – что люди «никогда не смогут этого сделать». Аналогичный вопрос, обращенный к семье респондента, дает даже несколько более «адаптивные» результаты (53 % семей уже приспособились или надеются, что вскоре это сделают, а 40 % «никогда не смогут»).
Таблица 2
Варианты поведения в переходное время (в %)
Таблица 3
Государство и мы (в %)
Естественно, существует корреляция между позитивным отношением к переменам и готовностью приспособиться к новым условиям. Тем не менее приспосабливаться приходится всем, поэтому мера адаптации населения (в том числе субъективной и потенциальной) – один из важнейших показателей общественного состояния.
Разрушение привычно «советских» систем государственной опеки и контроля привело к заметному изменению (по крайней мере на декларативном уровне) оценок и ожиданий в отношении государства. Об этом свидетельствуют данные табл. 3. Различия в оценках весьма показательны. За прошедшие 10 лет практически исчезла позиция «государство дало нам все…», резко снизилась готовность жертвовать чем-либо для блага государства. Укрепились, притом значительно, две позиции: «ничем не обязаны государству» и «мы должны стать свободными людьми». Иными словами, возросло демонстративное отчуждение человека от государства и столь же демонстративная приверженность упрощенной, но все же демократической модели («заставить государство»). Кстати, чаще всего эту позицию выражают те, кто полагает, что человек несет ответственность за действия своего правительства.
Несложный анализ показывает, что за отмеченными сдвигами стоит не столько внедрение в сознание демократических принципов, сколько недовольство нынешними возможностями государства. Представление о том, что граждане «ничем не обязаны» государству, реально служит оправданием широко распространенного лукавства по отношению к государственным институтам, выражающегося в неисполнении законов, уклонении от уплаты налогов и т. д., при распространенном убеждении в том, что само государство еще в большей мере лукавит со своими гражданами.
Отторжение от обязанностей по отношению к государству отнюдь не означает поэтому освобождения человека от государственной зависимости. Последняя лишь обретает в общественном мнении обоюдолукавый характер.
Свое собственное положение респонденты исследования 1999 г. описывают следующим образом. Лишь 5 % считают, что они являются полноправными гражданами России, имеющими возможность влиять на власти через выборы, печать и др., 27 % оценивают себя как людей, жизнь которых во всем зависит от власти, от государства, а 57 % заявляют, что живут, полагаясь во всем только на себя и не рассчитывая на государство. Остальные затруднились с ответом.
Такое распределение ответов, если понимать его буквально, наводит на аналогию с какой-нибудь республикой свободных фермеров XVIII в., где большинство на государство действительно не рассчитывало, не помышляло ни о государственных пенсиях, ни об иных государственных гарантиях… Однако на самом деле перед нами в данном случае скорее декларация настроений и пожеланий, чем реалистическая картина ситуации. Ведь в ответах на другие вопросы исследования те же люди, которые заявляют, что «полагаются только на себя», надеются на гарантированный государством минимальный доход, считают важнейшими правами человека право на государственное обеспечение, на гарантированные государством прожиточный минимум и трудоустройство. 71 % опрошенных в данном исследовании считают, что «государство должно заботиться о благосостоянии каждого гражданина». Да и нынешние формы «русского бунта» (в основном против задержек зарплаты) – это преимущественно претензии, прошения, требования, адресованные тому же государству.
Критическое отношение к сегодняшним государственным институтам создает благоприятные условия для все более позитивных оценок еще недавно отвергаемого советского прошлого и характерных для него деятелей. Согласно данным третьей волны исследования, значительной части, если не большинству опрошенных 1999 г. прежние руководители советских времен кажутся не только более сильными, но и более честными, и более авторитетными, и более заботливыми, и т. д.
Наконец, вполне реальное и важное значение имеет демонстрируемая подавляющим большинством опрошенных зависимость от символов государственного величия. Лишь 14 % считают, что Россия сегодня остается «великой державой», но 78 % уверены, что страна должна быть ею. В критических ситуациях – наподобие «балканского кризиса» марта – апреля 1999 г. (для российского общества он оказался кризисом государственной политики и массового политического сознания) – такие ожидания могут превращаться в опасную политическую силу.
Правда, если побудить опрошенных уяснить самим себе, что входит в понятие «великая держава» (с помощью той же анкеты), то оказывается, что большинство вкладывает в него вполне «мирное» содержание – высокий экономический потенциал (64 % упоминаний), высокий уровень благосостояния (63 %), уважение со стороны других стран (35 %), великая культура (31 %), и только после этого следует военно-ядерное могущество (30 %).
К двусмысленности отношений в системе «человек – государство» нам еще придется возвращаться при рассмотрении других проблем исследования.
За время наблюдений изменились практически все референты моральной ответственности человека. Об этом свидетельствуют данные, обобщенные в табл. 4. Из таблицы видно, что уровень осознаваемой ответственности «за родственников» почти неизменен и потому может служить точкой отсчета для оценки сдвигов в других параметрах. Наиболее заметными оказываются сдвиги, происшедшие между первой и второй волнами исследования – до 1994 г. За это время значительно слабее стали обозначаться показатели ответственности человека перед властью, страной, предприятием, этнической группой. В дальнейшем ситуация как будто стабилизируется – все, что могло измениться, уже изменилось.
Таблица 4
Несет ли человек моральную ответственность?.. (в %)
Кто мы
В переломной ситуации очень важна проблема идентификации человека в различных социокультурных, групповых, исторических рамках[464]. В таких условиях она становится одной из самых напряженных. Обратимся к опробованной в 1989 г. модели «горделивой» идентификации (см. табл. 5).
Таблица 5
Кем вы осознаете себя с гордостью? (в %)
Примечательно, что некоторые направления «горделивой» идентификации, как социальной, так и групповой («сын своего народа», «хозяин на своей земле», «специалист в своем деле», «член своей компании», «работник своего предприятия», «представитель рода человеческого»), спустя 10 лет представлены почти такими же числами. Чаще всего, как и ранее, упоминаются «поколенческие» оси идентификации (дети – родители), причем эти показатели возросли. Существенно укрепились «локальные» оси (свой город, район). Наиболее важным видится изменение национально-государственных рамок идентификации: «русское» не только вытесняет «советское» в качестве ведущего социального деноминатора, но и отмечается значительно чаще, чем «советское» 10 лет назад. Видимо, в 1989-м признак «советского» указывался скорее как привычный и официальный, а признак «русского человека» к 1999-му приобрел значение некой спасительной гавани после периода замешательства и пертурбаций. Тенденция самоутверждения «русскости» (равно как и социальное содержание этого признака) видна и по другим данным исследования.
Разрушение «советских» рамок и стереотипов сознания – при неразвитости структур личностного самоопределения – почти с неизбежностью приводит к увеличению и даже гипертрофии функций национальной идентичности, прежде всего негосударственной (языковой, исторической, мифологической, этнической). Причем в условиях доминирующей в массовом сознании негативной и критической составляющей в данном случае востребованным оказывается «позитив», то есть набор признаков, годящихся для опорной конструкции. Время «перестроечного» гиперкритицизма кажется далеко и безвозвратно ушедшим: люди ищут, акцентируют или приписывают положительные качества.
Рассмотрим некоторые результаты отслеживания «образа наций», которые предлагаются программой «Советский человек». У исследователей была возможность сопоставить показатели трех опросов относительно «качеств русских» с данными 1999 г. о том, какие характеристики респонденты приписывают сами себе (см. табл. 6). Получается, что за прошедшие 10 лет русские «сделались» (в собственном массовом воображении) значительно более энергичными, гостеприимными, открытыми, простыми и даже более трудолюбивыми. Все эти сдвиги можно отнести к динамике комплекса самоутверждения. Его обратная сторона – переживание собственной униженности, которое стало более явным после опроса 1994 г. Зато реже респонденты бичуют себя за непрактичность и безответственность, чаще указывают на религиозность. При этом на протяжении всего десятилетия на одном уровне сохраняется показатель лени как национальной особенности.
Таблица 6
«Образ нации» и «образ человека» (в %)
Таблица 7
Что в первую очередь связывается у вас с мыслью о нашем народе? (в %)
Интересно сравнение личных характеристик с общенациональными. Оно показывает, что «средний» человек считает себя более энергичным и трудолюбивым, лучше воспитанным, далеко не столь униженным, ленивым и безответственным, а также менее религиозным по сравнению со своими – воображаемыми, конечно – соплеменниками.
Обратимся теперь к другой группе показателей, относящихся к той же проблеме. В табл. 7 обобщены результаты ответов на вопрос о том, что в первую очередь связывается у респондента с мыслью о нашем народе. Как видно из приведенного сопоставления данных трех этапов исследования, идентификация с большой родиной (национально-государственное самоутверждение и самоотождествление) с 1994 г. заметно уступает место идентификации с «малой» родиной («место, где я родился и вырос»). С этого же времени возросло значение «территориального» фактора. Видимо, это связано не столько с «почвенными» ориентациями, сколько с вполне актуальной проблемой утверждения российского места в постсоветском пространстве.
Таблица 8
Значительные события XX века (в %)
Особенно важен при исследовании самоидентификации россиян анализ параметров социального времени. И здесь обращает на себя внимание растущее от этапа к этапу значение исторических параметров, к которым относятся и персонализованные показатели, то есть оценка «великих людей». В табл. 8 показаны изменения, произошедшие за 10 лет в оценках значительных событий XX в.
В числе изменений, заслуживающих особого внимания, – дальнейшая акцентировка немногих «успешных», «утверждающих» событий: победный 1945-й и полет Ю. Гагарина. Растущее внимание к ним – своего рода поиск точек опоры в историческом потоке. Другой аспект исторической идентификации человека – разделение исторических эпох на позитивные и негативные. В табл. 9 отражены оценки периодов истории нашей страны XX в. Здесь приведено соотношение оценок «принесло больше хорошего» и «принесло больше плохого».
Видно, что за пять последних лет заметно изменились к лучшему оценки периодов правления И. Сталина и Л. Брежнева, к худшему – оценки времени М. Горбачева. Практически без изменений осталось соотношение оценок периодов революции и хрущевской «оттепели». В соответствии с доминирующими общественными настроениями наиболее негативные оценки относятся к периоду правления Б. Ельцина. Это означает, что единственно реальной (то есть сохраненной в живой памяти значительной части населения) и единственно позитивной кажется сегодня эпоха, названная когда-то «застоем».
В третьей волне исследования был использован еще один подход к проблеме исторической идентификации – выяснение ценностно отмеченных моментов российской истории, вызывающих у опрошенных чувства гордости или, напротив, стыда и огорчения.
Таблица 9
Оценки периодов отечественной истории XX века
Примечание 1[465]
Оказалось, что главными предметами гордости являются: победа в Великой Отечественной войне (указали 86 % опрошенных), ведущая роль страны в освоении космоса (60 %), достижения российской науки (52 %), великая русская литература (46 %), моральные качества русского человека – простота, терпение, стойкость (45 %), превращение страны после революции в одну из ведущих промышленных держав (42 %), слава русского оружия (35 %), великие русские путешественники (33 %), борьба с татаро-монгольским игом (22 %), передовой советский общественный строй (14 %), нравственный авторитет русской интеллигенции (12 %), дух русской вольницы, свободолюбие (12 %), подвижничество русских святых (10 %), перестройка, начало рыночных реформ (2 %). Только у 2 % респондентов ничто в нашей истории не вызывает особой гордости.
Таблица 10
Десять выдающихся людей всех времен
Чувства стыда и огорчения вызывает прежде всего то, что «великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности» (79 %), разрушение СССР (48 %), грубость нравов (45 %), репрессии 1920 – 1950-х гг. (34 %), хроническое отставание от Запада (31 %), некомпетентная и своекорыстная власть (28 %), наша косность, инертность, лень (24 % – сравните с аналогичной позицией в приведенном в табл. 6 списке национальных качеств), гонения на церковь (21 %), наследие крепостничества, дух рабства, привычка к подневольному труду (17 %), военные поражения (16 %), стремление силой навязать свои порядки другим народам и странам (15 %), национальное высокомерие, шовинизм, антисемитизм (7 %). У 1 % ничто в нашей истории не вызывает особого стыда.
Наконец, еще одна ось исторической идентификации определяется набором «значимых имен», то есть деятелей, которые воспринимаются как выдающиеся. В этом наборе также происходят определенные изменения (см. табл. 10). Как видим, список основных персонализованных «вех» исторического поля почти стабилен; изменяется частота упоминаний отдельных лиц. Наиболее заметные изменения в списках произошли между 1989 и 1994 гг. В 1999 г. первые четыре позиции в списке занимают те же фамилии, что и пять лет назад, но частота упоминаний увеличилась по всем позициям. «Юбилейный» рост внимания к Пушкину не нуждается в комментариях. Ностальгия по советскому периоду несколько усилила внимание к имени Ленина, но особенно к Сталину, который многим представляется символом утраченного государственного порядка и величия. Подобным же образом память об утраченных успехах в космической области поднимает на верхние ступени фамилию Гагарина, ранее не входившую в первую десятку. Понятно, что в список выдающихся деятелей, составляемый самими опрошенными по «компенсаторному» принципу, имена современных лидеров попадают крайне редко (так, в 1999 г. Горбачева указывают 3 %, а Ельцина – 2 %).
Надежда на гарантии
Наименьшие изменения, прослеживаемые в ходе трех опросов, наблюдаются в системе ориентаций в неопределенной социальной ситуации: при выборе между ценностями успеха и стабильности большинство респондентов явно предпочитает последнюю (см. табл. 11). Устойчивое и растущее большинство выражает предпочтение «советскому» образцу скромных и гарантированных доходов. Все менее популярным становится вариант «малого заработка при большем свободном времени» (по составу предпочитающих – это преимущественно женский выбор). «Собственное дело» в 1989 г. было скорее благим пожеланием, но после 1994 г. стало вполне суровой реальностью для немногих. А установка на то, чтобы «много работать и хорошо получать», остается характерной примерно для четверти опрошенных. Думается, это немало. Если это не просто мечтания, а реально «работающая установка», то ее распространенность может определять примерные рамки нового, активного социального слоя. Между тем доля предпочитающих «много работать и хорошо зарабатывать» достигает 32 % среди опрошенных в возрасте 25–40 лет и падает до 8 % у пожилых (старше 55 лет).
Таблица 11
Гарантии и риск: выбор приоритетов (в %)
Наиболее общую картину распределения ценностных ориентаций показывают суждения о том, «чего не хватает» человеку в нашем обществе (см. табл. 12). Вполне естественно, что проблема материального достатка остается центральной и все больше беспокоит людей. Резкий спад интереса к политическим правам по сравнению с 1989 г. – по-видимому, результат массового разочарования в новых политических институтах: права как будто имеются, а реального улучшения положения и реального участия рядового человека в государственном управлении так же нет.
Сложнее объяснить, почему столь значительно снизилось внимание к ценностям «трудолюбия» и «культурности». Вероятно, одна из составляющих такого сдвига – довлеющая ныне «критика критики» образца 1989 г., то есть отрицание того национального самобичевания, которое было свойственно началу перестройки (и которое скорее имитировало, чем инициировало реальное преодоление ценностных рамок «советского» традиционализма). Нынешняя востребованность «позитивных» опор массового мироощущения (как показывает и представленное выше сравнение характеристик нации) стимулирует тенденцию к более оптимистической оценке отечественного прошлого, в том числе и характерных для него трудовых и нравственных установок. Как бы следуя известному литературному персонажу, человек сегодня требует «не учить его жить». Значимость такой установки подкрепляется все более распространенной дискредитацией «учительствующих» (интеллигентских, либеральных и демократических) образцов и их носителей. Не следует, впрочем, упускать из виду все более существенное расхождение между установками, пожеланиями, демонстративными ценностями, с одной стороны, и реальностью, к которой приходится приспосабливаться, с другой. Чаще всего жалуются на недостаток культуры и воспитанности наиболее образованные (21 % из получивших высшее образование и только 7 % из тех, у кого нет и среднего).
Таблица 12
Чего не хватает сегодня человеку? (в %)
Таблица 13
Что требуется от поколения детей? (в %)
Таблица 14
Кем бы вы хотели видеть своего сына (дочь, внука)? (в %)
Согласно мнению опрошенных в 1999 г., окружающие их люди чаще всего завидуют богатым (60 %), удачливым (38 %), занимающим высокое положение (25 %), молодым и здоровым (20 %), повидавшим мир (16 %), талантливым, умным (15 %), свободным, независимым (9 %). Лишь 4 % никому не завидуют. Понятно, что это своего рода фотонегатив собственных позиций респондентов («у кого что болит…»).
Еще один подход к проблеме динамики ориентаций – через установки на будущее детей. Таблица 13 содержит в себе довольно богатую картину, отображающую смену предпочтений за 10 лет. В 1999 г. по сравнению с 1989 г. заметны рост установок на возвышение, достижение, хватку, хитрость (в этом ряду, видимо, следует воспринимать и пожелание «быть счастливыми») и соответственное снижение популярности «советских» ориентаций на скромность, общее благо, на «свой дом». Реже упоминаются честность, порядочность, прямота («открыто говорить, что думают», «быть всегда самими собой»), чаще – память о «корнях», уважение к родителям.
Но вот – как будто противоречащее всему сказанному – желаемое распределение будущих профессий детей (см. табл. 14). Оказалось, что за пять последних лет установки на желательные профессии детей остались на удивление стабильными. Причем наибольшей популярностью по-прежнему пользуется «советский» набор престижных профессий – врач, учитель, инженер, рабочий… Правда, рядом с ними заняли стабильные и почетные места также бизнесмены и банкиры.
Толерантность: рамки допустимости или безразличия к человеку
Программа нашего исследования предполагает сравнение мнений о том, как поступить с носителями девиантных, отклоняющихся от принятых в качестве привычных или преобладающих, норм поведения. В трех опросах, разделяемых пятилетним интервалом, мы интересовались, что следует делать с проститутками, гомосексуалистами, наркоманами, больными СПИДом, бродягами и бомжами, алкоголиками, «рокерами», родившимися неполноценными и членами религиозных сект. Предлагались четыре варианта ответов: ликвидировать, изолировать от общества, оказывать помощь или предоставить самим себе.
С наибольшей участливостью, полагая, что этим людям прежде всего следует оказывать помощь, относятся у нас к больным СПИДом, к родившимся неполноценными, к наркоманам и алкоголикам, а также к бомжам. «Рокеров» и членов религиозных сект большая часть опрошенных считает лучше всего предоставить самим себе (хотя, например, в 1994 г. практически столько же хотели ликвидировать рокеров, а в 1999 г. желающих изолировать от общества членов религиозных сект набралось лишь немногим меньше, чем тех, кто хотел бы предоставить их самим себе). В отношении к гомосексуалистам предпочтения колеблются между «изолировать от общества» и «предоставить самим себе», но желающих изолировать все же больше. По отношению же к проституткам с 1989 г. произошел перелом. Если тогда 33 % хотели изолировать их от общества, 27 % – ликвидировать, 17 % – предоставить самим себе и только 8 % – оказывать помощь, то в дальнейшем ситуация изменилась: в 1994 и 1999 гг. соответственно 30 % и 29 % были за то, чтобы предоставить их самим себе; число жаждущих их ликвидации снизилось до 18 % в 1994 г. и до 12 % в 1999 г., а число желающих изолировать их от общества – соответственно до 23 % и 20 %. Если 12 % в 1994 г. предложили оказывать им помощь, то в 1999 г. таких было уже 20 %.
В целом же за прошедшие 10 лет произошло определенное смягчение отношения практически по всем группам девиантов. Единственным исключением служит отношение к сектантам, которое заметно ужесточилось за последние годы. Вероятно, это эхо направленных против них обличений со стороны приобщенной к государству православной иерархии. Вопрос в том, что означают такие сдвиги в массовых установках: распространение более гуманных и цивилизованных критериев толерантности или рост безразличия к нравственным нормам (и к людям), сопутствующий ситуации ценностного кризиса и распада.
Показателем жестокости в общественных настроениях давно служит вопрос о возможности отмены смертной казни. За 10 лет исследования варианты ответов на этот вопрос остаются практически стабильными. Заметно, что более широкое применение «исключительной меры» пользуется все меньшей поддержкой. Если в 1989 г. за это высказывались 35 % опрошенных, то в 1994 г. – 25 %, а в 1999 г. – 23 %. За сохранение же status quo ратовали 33 % в 1989 г. и 36 % в 1999 г. Немедленную или постепенную отмену смертной казни все эти годы поддерживали только 20 % населения. Хотя настроения общества далеко не соответствуют «европейским» стандартам, можно отметить отсутствие в них тенденции к ожесточению. А ведь ее можно было бы ожидать в связи с постоянной темой кровавого насилия в массмедиа и в реальной жизни.
Эмоциональные рамки существования человека
Опросы выявляют различные по своей природе и функциям эмоциональные механизмы, так или иначе участвующие в определении актов социального поведения. Видимо, самый простой из них – реакции на определенные события или действия, соотнесение ожиданий с реалиями создает «текущие» оценки одобрения/неодобрения и т. п. Более сложные по своей природе обобщенные оценки (например, «удовлетворенность собственной жизнью в целом» или упоминавшиеся выше оценки исторических рамок идентификации) строятся на соотнесении текущих раздражителей внимания и более устойчивых, не всегда осознаваемых структур типа ценностных установок и стереотипов социального восприятия. Поэтому обобщенные эмоциональные оценки значительно менее подвижны.
Можно, вероятно, выделить и еще один тип предельно генерализованных оценок, которые во многом задают сами рамки эмоционального восприятия реальности и обеспечивают некий относительно устойчивый баланс между «внешней» (непосредственно социальной) и «внутренней» (личностной, интернализованно-социальной) средами человеческого существования. В эмпирических исследованиях такие генерализованные оценки выглядят константами.
В своем исследовании мы стремились выявить, в каком эмоциональном поле живут наши сограждане. Для этого в 1999 г. был задан вопрос: «Какие чувства появились, окрепли за последние годы у окружающих вас людей и у вас лично?» (см. табл. 15). В предложенном сложном наборе эмоциональных оценок явно преобладают негативные – безразличие, обида, отчаяние, страх, ожесточение. Но при этом «личные чувства» заметно более оптимистичны, чем «чувства окружающих»: в правой колонке все позитивные оценки встречаются заметно чаще, а все негативные – реже (за исключением чувства обиды, которое чаще упоминают как личное переживание).
Непременным условием существования человека в стабильной или, напротив, бурно изменяющейся социальной обстановке является постоянное поддержание некоего эмоционального баланса между «раздражителями» различного уровня. Как показали и наши предыдущие исследования по программе «Советский человек», источники напряженности носят чаще всего социальный характер, а источники радостей и удовлетворенности – преимущественно личные, семейные (см. табл. 16). Данные таблицы показывают, что наиболее существенные изменения в иерархии вызывающих страх событий – выдвижение в число первостепенных безработицы и бедности. Более редки в последние годы упоминания о страхе перед мировой войной и возвратом к массовым репрессиям.
Таблица 15
Эмоциональные рамки: «у всех» и «у себя» (в %)
Другой эмоциональный полюс – определение того, что доставляет человеку наибольшую радость, удовольствие (см. табл. 17). Данные таблицы демонстрируют некоторые изменения. Они невелики, но показательны. Реже упоминаются дети, книги, семья, работа, зато чаще – деньги, телевизор, хорошая еда, секс. Вероятно, в этом сказываются не только изменения в реальном образе жизни и привычках людей, но также изменения акцентов в демонстративном поведении, в тематике публичного обсуждения.
В заключение остановимся на некоторых генерализованных показателях эмоционального состояния человека, которые могут быть представлены в качестве констант его существования. В последние годы не только по рассматриваемой программе, но и в рамках мониторинговых исследований ВЦИОМа регулярно задавался вопрос в том, чувствуют ли наши сограждане себя свободными людьми. Оказалось, что положительно отвечают на этот вопрос от 29 % (1995 г.) до 36 % (1997 и 1999 гг.), отрицательно – от 58 % (1995 г.) до 51 % (1999 г.). В целом при всех колебаниях и пертурбациях социальной конъюнктуры в обществе сохраняется почти неизменным отношение «свободных» и «несвободных» (по их субъективным оценкам) людей: около трети первых и несколько больше половины вторых, причем с годами доля последних даже уменьшается.
Таблица 16
Чего боятся современные россияне[466]
Таблица 17
Что доставляет вам наибольшую радость, удовольствие? (в %)[467]
Другой пример почти стабильного показателя – доля людей, считающих себя счастливыми. По данным исследования «Советский человек», счастливыми себя чувствовали 45 % в 1989 г., 46 % в 1994 г. и 49 % в 1999 г., считали себя несчастливыми соответственно 32 %, 34 % и 38 %, а затруднялись с ответом 23 %, 21 % и 13 %. Таким образом, доля считающих себя счастливыми практически стабильна – несколько меньше половины населения. Увеличение процента несчастливых в последние годы явно происходит за счет неопределившихся с ответом, то есть – как можно полагать – за счет людей, не решавшихся демонстрировать свою обделенность радостями жизни «в целом». (При том что люди довольно охотно показывают нехватку конкретных благ, денег, здоровья и т. д.) Как показывают международные сравнительные исследования, процент «счастливых» в разных странах (во многих из них, например в США и Японии, он значительно выше отечественного «стандарта») стабилен и сложным образом коррелирует с самооценками людей, страны, истории, мало связан с текущей социально-экономической или социально-политической конъюнктурой.
* * *
Краткий обзор некоторых результатов нового исследования по программе «Советский человек» позволяет сделать – в предварительном порядке – некоторые выводы принципиального характера. Первый из них имеет методологическое значение и упоминался в начале статьи: вновь подтверждена реальная возможность использования данных периодических массовых опросов для изучения фундаментальных изменений в общественных институтах и структурах, в том числе в структуре человека как социальной личности.
Три волны исследования – 1989, 1994 и 1999 гг. – выявили существенные особенности динамики общества и общественного мнения в сложных условиях общественных переломов и кризисов переходной эпохи. Опрос 1989 г. застал российских – тогда и номинально советских – людей в момент подъема «перестроечных» иллюзий и первых признаков разочарования и недоумения. Опрос 1994 г. прошел в атмосфере широко распространенной переоценки результатов перемен и поисков стабилизирующих механизмов. Последний опрос 1999 г. – в условиях доминирующей в массовых настроениях ностальгии по прошлому и попыток адаптироваться к изменившейся социальной реальности. Исследования охватили все важнейшие сдвиги в настроениях и оценках общественного человека за последние 10 лет и представили материал для анализа основных «загадок» его поведения (в их числе российское терпение, пассивный русский бунт и постоянная «мобилизационная» готовность).
В опросах общественного мнения, связанных с изучением политической или коммерческой конъюнктуры, часто бывает достаточно выявления позиций абсолютного или относительного большинства населения, избирателей, потребителей. Но в настоящем исследовании основной объект изучения – скорее не большинство, а некое меньшинство опрошенных – значимое меньшинство, которое своим поведением определяет (но не обязательно осознает) характер и устойчивость перемен в различных сферах жизни общества.
При любых переменах большинство («средняя») общества инертно, консервативно, подвержено влиянию ностальгических и даже просто реставраторских настроений. Судьба перемен определяется соотношением сил и влияний определенного значимого меньшинства (правда, чаще принято использовать термин «элита», который представляется в данном случае менее продуктивным). Если социальный человек – в соответствии с представленным ранее замыслом всего исследования – эмпирически дан как распределение человеческих позиций и типов, то его характер и его способность изменяться зависят от соотношения определенных значимых меньшинств и «массы» (которая, впрочем, всегда выступает как достаточно условное образование). Притом соотношения не только «долевого», но и «ролевого» (в смысле функций, влияний таких меньшинств)[468].
Неоднократно приходилось отмечать «вынужденный» характер перемен в нашем обществе «после 1985-го» и последствия этого для состава и способов действий вовлеченных в них субъектов социального действия[469]. Массовая сторона такого процесса (а именно она непосредственно изучается в исследованиях, основанных на опросах общественного мнения) – вынужденное приспособление к результатам перемен. Серия опросов по программе «Советский человек» дает обширный материал для анализа таких перемен на уровне человека.
1999Постсоветское общество: анализ общественного мнения, диагностика и перспективы
Homo post-soveticus
Человек приспособленный
Проблема приспособления человека к изменившейся социальной среде становится предельно острой и общезначимой в условиях крутых общественных переломов, когда практически все общественные силы и группы оказываются перед выбором вынужденного приспособления или самораспада. Результатом советского эксперимента стал не столько тотально новый человеческий тип, сколько человек, тотально приспособившийся к советской реальности, готовый принять ее как безальтернативную данность. В закрытом со всех сторон – в том числе от собственной реальной истории – обществе вырастали поколения, не имевшие представления о каком-либо ином образе жизни, кроме заданного. Безальтернативность придавала всеобщей приспособленности значение привычки, то есть нерасчлененной и не подлежащей анализу массово-поведенческой структуры.
В категории приспособившихся оказались люди из самых разных социальных групп – фанатики революционного авантюризма, остатки бывших элит, равно как и бывших низов, то есть крестьяне, мещане, рабочий люд и др. Никакие революционные мечтатели и организаторы «переворачивания России» после 1917 г. не были готовы к его реальным последствиям. Обстоятельства заставили приспосабливаться к новой жестокой реальности и ее внутренних оппонентов, и надеявшихся остаться в стороне. Социальный и политический перевороты сопровождались относительно быстрыми – а значит, минимально подготовленными – процессами массированной урбанизации, «тяжелой» индустриализации, раскрестьянивания села, технизации, массового образования и т. д. Причем все эти процессы происходили в условиях массовой социальной мобилизации и напряженности – в условиях террора.
Приспособление могло быть ориентировано по-разному – от примитивного выживания до использования возможностей новых инструментальных (например, связанных с технической грамотностью), организационных и карьерных образцов. Адаптация достигалась за счет снижения уровня требований (как потребительских, так и ценностных), путем переоценки символов (например, переход от эгалитарных к иерархически-распределительным ценностям), через смену ролевых и инструментальных функций (крестьяне становились работниками госпредприятий, представители свободных профессий – государственными служащими, политические лидеры – чиновниками аппарата) и т. д.
Но и самая устойчивая адаптация не означает полной ассимиляции человека с системой социальных требований. Советский строй не создал нового, «простого», полностью социализированного человека, образ которого создавали радикальные мечтатели и который до конца своего властвования использовала официальная пропаганда. На деле сформировался не «простой», но лишь «упрощенный» в своих представлениях и запросах человек. И не новый, а лишь более или менее прочно приспособленный к заданной и неотвратимой социальной реальности. На уровне отдельного человека вся присущая советскому строю система сделок с государством неизбежно оборачивалась нравственной коррумпированностью, принятием показухи, приписок, блата, взяточничества, двоемыслия в качестве необходимых условий функционирования хозяйства и общества. Крушение советской системы не принесло в этот котел ничего принципиально нового, но лишь устранило те социальные и институциональные (карательные) регуляторы, которые ограничивали влияние коррумпирующих механизмов.
Относительная быстрота и легкость этого краха – по крайней мере его официальной стороны – показали, насколько неустойчивым был на деле определяющий для социализма компромисс между государством и человеком. И в то же время выяснилось, насколько неготовым оказался советский человек для врастания в ситуацию, возникшую после разрушения привычной социальной «крыши».
Существенно, что снова, в третий раз с середины прошлого столетия (как после и 1861 г., и 1917 г.), возникла ситуация всеобщего и вынужденного приспособления человека к изменившейся среде существования. Всеобщего, поскольку адаптироваться к новым условиям приходится решительно всем – и ярым противникам, и убежденным сторонникам демократически-рыночной цивилизации, и тоскующим по великому прошлому, и заинтересованным только в собственном благополучии. В очередной раз – в ситуации вынужденного, как будто извне навязанного, но уже совершенного выбора; пока далеко не привычного, но уже принимаемого как данность. Так, в современной политической полемике, раздирающей все общество, речь идет не столько о выборе пути для страны, сколько о том, сможет ли общество (или народ) адаптироваться к сделанному выбору. В практической же плоскости решается вопрос о том, какой ценой достигается приспособление к изменившейся системе авторитетов и ориентиров.
Вынужденная адаптация отнюдь не означает примирения, согласия, одобрения. Общественную ситуацию нельзя игнорировать, но ее можно оспаривать, осуждать, можно искать в ней ниши для более спокойного и отрешенного существования (на деле эти ниши всегда приходится «покупать» за определенную цену). Беспрецедентные возможности социального, ценностного, нравственного выбора при распаде привычных и принудительных регулятивных механизмов создают условия для разных уровней и типов социальной адаптации, которые подлежат анализу с различных сторон. У исследователей имеется возможность аналитически и эмпирически представить различные стороны этого достаточно сложного феномена.
Прежде всего на основе регулярных исследований ВЦИОМа можно показать самые очевидные изменения за последние пять лет. Наиболее заметно увеличилась доля дающих ответ «не могу приспособиться к переменам» среди старшей возрастной группы, а также – что заслуживает особого внимания – среди самых молодых. В младшей возрастной группе на том же уровне остался показатель «без изменений», во всех других группах он стал значительно ниже. Процент тех, кому «приходится вертеться», сильно вырос во всех группах, кроме старшей (55 лет и старше), которая просто не имеет возможностей для такого рода адаптивного поведения. Ни в каком возрасте не выросла, а в самом активном (25–40 лет) даже несколько уменьшилась доля отмечающих «новые возможности».
Граждане, имеющие высшее образование, составляют единственную группу, в которой доля «неприспособляемых» осталась неизменной и относительно невысокой (те же 16 %), не изменилась практически и доля получивших «новые возможности». Зато снизилось число не изменивших своего положения, и сильно (с 33 % до 41 %) вырос процент «вынужденных вертеться». Люди со средним образованием значительно чаще признают, что «не могут приспособиться к переменам», но реже отмечают отсутствие перемен, среди них резко возросла (с 33 % до 45 %) доля вынужденных «вертеться» – это самый весомый показатель частоты такого варианта поведения для всех групп населения. Наличие «новых возможностей» в этой группе отмечают несколько реже, чем ранее (соответственно 6 % и 4 %). У имеющих образование ниже среднего возросла доля «неприспособляемых» (с 27 % до 46 %) и уменьшилась доля отмечающих отсутствие перемен. При этом без изменения остались показатели вариантов «вынуждены вертеться» (видимо, за отсутствием реальных возможностей и ресурсов для этого) и «новых возможностей», поскольку ниже 3 % этому показателю опускаться как будто и некуда.
В Москве и Петербурге, как и везде, возросла доля считающих, что они «не могут приспособиться», и уменьшился процент не отмечающих особенных перемен в своем положении. Но здесь осталось неизменным довольно высокое число «вынужденных вертеться» (те же 38 % – можно полагать, что соответствующий потенциал был исчерпан уже пять лет назад) и заметно (с 7 % до 12 %) увеличилась доля указывающих на «новые возможности». В больших городах доля «вынужденных вертеться» значительно возросла и лишь немного отличается от «столичных» показателей (34 %). В малых городах соответствующий показатель достигает своего максимального значения (41 %). Здесь, как и в селах, чаще отмечают невозможность приспособиться к переменам и необходимость «вертеться», реже – неизменность своего положения и наличие «новых возможностей».
В целом можно сказать, что «не могут приспособиться» преимущественно представители старших возрастов (73 % старше 40 лет, в том числе 50 % старше 55 лет). В их числе вдвое меньше среднего людей, имеющих высшее образование, заметно больше среднего малообразованных. Состав группы, не отмечающей особых изменений, мало отличается от средних показателей. «Вертеться» чаще всего приходится в самых активных возрастах (70 % в этой группе составляют те, кому от 25 до 54 лет, при том что в общем составе населения к их числу относится половина). Из тех, кто активно адаптируется к постоянно ухудшающимся условиям, 72 % – люди, имеющие среднее и высшее образование. Что же касается находящих «новые возможности», то в их числе 72 % тех, кому до 40 лет, и 77 % тех, у кого высшее и среднее образование. Общий вывод напрашивается довольно простой: имеющие социальные ресурсы (молодость, образование) более активны.
Добавим некоторые профессиональные характеристики вариантных групп. Почти половина неприспособляемых – это пенсионеры, за ними по численности следуют рабочие, безработные, специалисты; в этой группе совсем не представлены предприниматели и военные. Более половины из тех, кто не замечает перемен в своем теперешнем положении, – пенсионеры и рабочие. В группе «вынужденных вертеться» 60 % приходится на рабочих, специалистов и пенсионеров. И, наконец, среди «находящих новые возможности» чаще всего встречаются предприниматели, специалисты, руководители, причем около трети этой группы работает в негосударственном секторе. Естественно, ни одна из выделенных групп не может быть полностью социально однородной: в каждой из них в разной мере представлены почти все общественные слои.
Обратимся теперь к оценкам различными адаптивными группами масштабов перемен, происшедших в 1994 и 1999 гг. (см. табл. 1). Очевидно, что общие оценки масштабов изменений в выделенных группах за пятилетие изменились довольно мало (что показывает определенную устойчивость групповых рамок). Представления о значительности перемен возросли во всех группах, причем – что весьма примечательно – особенно сильно среди тех, кто считает эти изменения незаметными.
Если же оценивать «знак» (одобрение или неодобрение) происходящих перемен, то получается вполне предсказуемая картина всеобщей демонстративной ностальгии по состоянию до 1985 г. Согласных с тем, что «было бы лучше, если бы все в стране оставалось… как до 1985 года», 58 %, в том числе 73 % среди неприспособившихся, 49 % среди считающих, что ничего не изменилось, 55 % среди «вертящихся» и 24 % у тех, кто открыл для себя новые возможности. Основные корни этой ностальгии – в преобладающей резко отрицательной оценке положения в последние годы. И годы перестройки М. Горбачева, и время правления Б. Ельцина во всех интересующих нас группах характеризуются весьма негативным образом.
Таблица 1
Масштаб перемен (в % по столбцу)
Картина несколько меняется, если перейти к более детальному рассмотрению отдельных направлений происшедших перемен. Ограничимся двумя примерами (см. табл. 2). Получается, что свобода предпринимательства во всех адаптивных группах оценивается скорее позитивно; сближение с Западом осуждается большинством лишь в группе неприспособляемых. И, наконец, интересно рассмотреть такой интегральный показатель более или менее практического отношения к переменам, как суждения о необходимости продолжения или прекращения экономических реформ. За прошедшие пять лет в целом отношение к реформам стало более определенным (меньше затрудняющихся ответить) во всех группах. В той или иной мере (больше всего, естественно, среди получивших новые возможности и среди вынужденных «вертеться») во всех группах уровень позитивной оценки реформ поднялся.
Получается удивительный на первый взгляд парадокс: никто не любит перемен, но при этом ни в одной группе нет большинства, которое выступало бы против них. Люди нехотя принимают как данность вынужденные и не желаемые большинством перемены, которые оказались неожиданными практически для всего населения.
Попробуем теперь разобраться в эмоциональном балансе, который можно наблюдать среди различных адаптивных групп. Позитивные чувства (надежда, уверенность, свобода и т. д.) явно преобладают только в небольшой группе, получившей новые возможности. Правда, здесь же и максимум «одиночества» (видимо, сказывается не только малочисленность, но и сам характер деятельности авантюрного предпринимательского и близких к нему слоев). Не утратили надежды, чувства достоинства, в какой-то мере даже свободы и уверенности в группе не замечающих никаких изменений. Безразличие ощущает почти половина в группе неприспособленных и в группе вынужденных «вертеться», в этих же группах и более распространены чувства обиды и отчаяния. Можно обнаружить, правда, одно существенное отличие: агрессивность минимальна в группе неприспособленных (10 %) и чаще всего (16 %) встречается в группе тех, кому приходится «вертеться»: постоянная необходимость напряженных усилий и метаний, видимо, порождает и эмоциональную неуравновешенность.
Таблица 2
Оценка респондентами конкретных перемен (в % по столбцу)
Свободными чувствуют себя 73 % открывших новые возможности (нет – 16 %); 46 % считающих, что ничего не изменилось (нет – 45 %); 37 % тех, кому приходится «вертеться» (нет – 54 %), и только 22 % неприспособившихся (нет – 62 %). Но при этом людей, считающих себя счастливыми, в стране заметно больше, чем свободных. Если в среднем соотношение счастливых и несчастливых составляет 49: 37, то в группе открывших новые возможности это 72: 17 (здесь нет «совершенно несчастливых»!) и только в группе неприспособившихся несчастливые преобладают – 35: 49.
Обратимся теперь к серии данных исследований типа «Экспресс». На протяжении последних лет в них регулярно ставится квазиэкспертный вопрос «Как вы думаете, большинство жителей уже приспособились к происшедшим переменам?», с 1998 г. параллельно ставится вопрос о том, приспособилась ли к переменам семья самого опрошенного. Сопоставимые данные за два года создают впечатление, что практически никакой динамики показателей «приспособления» не наблюдается, заметно лишь их колебание вокруг некоторого среднего уровня. В то же время нетрудно заметить определенное соответствие тенденций изменения показателей типа «уже приспособились» и типа «перемены идут в правильном направлении». Представляется вполне вероятным, что изменения в оценках общей приспособленности близки изменениям (но, конечно, не уровню) в столь же общих позитивных оценках ситуации в стране. Причем при сопоставлении ситуации в стране и в семье четко прослеживается гораздо более негативная оценка первых, чем вторых. Можно полагать, что источником мнений о положении «большинства в стране» служат сообщения СМИ, тогда как мнения о собственном положении опираются на непосредственный опыт человека. На деле происходит более сложное взаимодействие и взаимная проекция источников.
Получается, что «уже приспособленных» в ответах на личный вопрос во всех группах (кроме, пожалуй, самых молодых) заметно больше, чем в ответах на экспертный вопрос. В ответах же на вопрос о возможности приспособления «в ближайшем будущем» соотношение показателей прямо противоположное: чаще полагают, что приспособятся другие. Личный опыт побуждает и к увеличению доли негативных позиций («никогда не приспособятся»).
В заключение хотелось бы коснуться одного принципиального методологического сомнения: насколько правомерно относить к типам адаптивного поведения позицию, которую респонденты определяют как «не могу приспособиться». Одна из моих задач состоит в подтверждении того, что такая позиция реально означает один из типов (или даже некоторую совокупность типов) адаптивного, приспособительного поведения. Характерные особенности структуры выделенных в исследовании поведенческих вариантов можно представить следующим образом:
– открывшие для себя новые возможности – люди, которые обрели новые инструментальные средства для удовлетворения собственных растущих запросов («повышающая адаптация»);
– вынужденные «вертеться» используют непривычные для них средства для поддержания наличного, или сниженного, статуса («понижающая адаптация»);
– считающие, что для них ничего особенного не изменилось, находят определенную нишу, из которой происходящие перемены не видны или кажутся малозначительными («изолирующая адаптация»);
– неприспособляемые – те, кто определяет свое положение в терминах «не могу приспособиться», то есть люди, вынужденные предельно снижать уровень собственных запросов и статусных притязаний и крайне негативно оценивающие такое снижение («разрушающая адаптация»).
Следует подчеркнуть, что ни один из выделенных (с какой-то долей условности) адаптивных типов не совпадает полностью с какой-либо из рассматривавшихся в статье групп – «типичными» можно считать только наиболее устойчивые и консистентные по своим признакам «центры», или «ядра», таких групп. Ни один из вариантов адаптивного поведения в наличных социально-исторических условиях не может быть устойчивым. В опросных данных это обычно выражается как ощущение неуверенности в будущем; такая черта свойственна носителям как «новых», так и «старых» типов поведения.
Человек недовольный: протест и терпение
Общепризнанная, подтвержденная множеством наблюдений и эмпирических исследований особенность массовой реакции на нескончаемую череду испытаний, лишений, тягот, которые приходится испытывать человеку в российском обществе на протяжении практически всей досоветской, советской и нынешней, постсоветской истории, – безусловное преобладание терпения над активным протестом, приспособления – над бунтом, пассивного недовольства – над борьбой за свои права.
Для сторонних наблюдателей (а также для подверженных соблазнам «революционных взрывов» или страхам перед ними) ощущение парадоксальности происходящего в современной России явно усиливается в обстановке, когда социальные настроения перестали быть молчаливыми, получили выход в политические институты, массмедиа, на «улицы». Чтобы преодолеть видимый парадокс, нужно определить те социальные условия и структуры, которые формируют и поддерживают такое сочетание (а точнее, взаимодействие) недовольства и терпения в обществе. Апелляции к отечественной традиции («всегда так было»), к особенностям национальной психологии («хотим малого, ждем худшего, терпим все» и т. п.) или к неэффективности современного социального недовольства («фонового») констатируют бесспорные факты, но не объясняют их. Объяснение же в рамках социологического исследования проблемы должно, по-видимому, учитывать те особенности социальных институтов и структур интересующего нас общества, которые обесценивают массовое недовольство, направляют его в русло пассивного терпения или в сторону поисков «внешнего» источника зла и т. п.
Традиционно советский человек характеризовался своими политическими (и литературно-художественными) воспитателями как абсолютно лояльный и доверяющий власти, довольный своим положением и уверенный в светлом будущем. Реальный массовый человек в те времена, конечно, не был существом абсолютно безмятежным, однако у него отсутствовали не только легитимные возможности выразить свое недовольство, но и условия для того, чтобы его осознать. Принудительное единодушие поддерживалось не только страхом наказания за малейшее отклонение от требований, но и – что даже важнее – самой ситуацией безальтернативности, отсутствия «точки опоры» для сравнения и оценки действий.
В связке современных ностальгических настроений и оценок содержится и представление о том, что «раньше» подобного нынешнему уровня массового недовольства не было. Такого типа и тем более так выраженного недовольства действительно не было и быть не могло. «Застойные» времена заслуживают своего наименования именно из-за того, что будущее не отличалось от прошлого («своего» прошлого, поскольку «чужое» оставалось за пределами массового восприятия). Сегодня такие различия ощутимы, сравнения как бы автоматически заданы, результаты их часто печальны. От 2/3 до 3/4 российского населения считают, что живут хуже, чем раньше, значительно хуже, чем рассчитывали, и – сверх того – хуже, чем большинство окружающих людей. Последнее представление («хуже других») показывает, сколь велика доля субъективных установок – в данном случае установок на «сравнительное самоунижение» – в оценках людьми собственного положения.
Особая и чрезвычайно важная (практически и теоретически) проблема – способ выражения общественного недовольства. «Гласность» первых лет перестройки вынесла наружу различные его тенденции – и тут же обнаружилось отсутствие адекватного социального и политического языка, способного их выразить, и адекватных структур, в которых этот язык мог бы работать (программ, партий, элит). Отсюда преобладание «настроенческого», эмоционального протеста, который довольно быстро стал вырождаться и укладываться в традиционные формы «советского» патернализма и патриотизма.
Механизм социально-политической мобилизации (и такие его индикаторы, как условно-«единодушная» поддержка символов и действий власти), сформированный ранее, сохранял свое значение и в годы расцвета перестроечных надежд. Понадобилась политическая поляризация 1993 г., чтобы хаос и тяготы реформ превратились в базу устойчивого и все более широкого социального недовольства. Стоит подчеркнуть, что такое массовое настроение не возникло ни после первых вспышек забастовочной борьбы в 1989 г., ни после пустых полок и кошельков 1992 г. Демонстративная поддержка реформ оставалась преобладающей, да и Е. Гайдар находился на вершине общественного доверия после своего ухода из правительства в конце 1992 г. (кстати, это хороший довод против упрощенно-потребительской трактовки современного социального протеста!).
Легитимация консервативной социально-политической оппозиции (в массовом сознании) сыграла огромную роль в преодолении структур и традиций мобилизационного общества. Монолитное принудительное единство – как это ни кажется парадоксальным на первый взгляд – было разрушено усилиями сторонников «монолитной» модели общества. Вместе с тем как бы попутно получило право на существование само общественное недовольство, причем самой разной направленности (скажем, одни недовольны быстротой перемен, другие – их медлительностью, третьи – самими переменами). Вопрос, однако, в том, кто и как артикулирует (а тем самым и организует) общественное недовольство.
Как показывает время, никакие социальные структуры, институты и механизмы, разрушавшиеся или обесцененные переменами 80 – 90-х гг., не были разрушены «до основания». Это относится и к механизму массовой социально-политической мобилизации. В усеченном и ограниченном виде (на ограниченный период, в ограниченной сфере, для части населения и т. д.) мобилизационные механизмы могут включаться и в расколотом, недовольном обществе.
Прежде всего следует отметить особенности таких поведенческих категорий, как почти универсальное («диффузное») недовольство, массовые настроения (направленного) протеста и организованная борьба за достижение определенных общественных целей. Недовольство, как будто направленное «на все» – от собственного положения до положения страны и политики ее руководителей и пр., – в то же время практически не направлено никуда: это некое довольно устойчивое состояние общественного мнения, некий общий фон для всех его параметров и колебаний. На таком фоне происходят и всплески одобрения действий отдельных политических лидеров, и вспышки острого общественного недовольства (возможно, теми же лидерами), которые потом переходят в форму хронического, «фонового» недовольства, расходятся по каналам «мобилизованной» агрессивности и дополняющих ее страхов и т. д. Если перефразировать известную ироническую формулировку 70-х гг. («все недовольны, но все голосуют “за”»), можно сказать, что сейчас все недовольны, все «против», но голосуют по-разному, а терпят все.
Впрочем, в подавляющем большинстве случаев недовольство населения направлено на социальные и политические институты, на должностных лиц. Собственное же положение оценивается более спокойно. По данным сводного мониторинга 1994–1999 гг., своим положением в обществе удовлетворены («вполне» и «скорее») 52 % против 34 % «вполне» и «скорее» неудовлетворенных. Однако материальным положением своей семьи удовлетворены только 16 % против 82 % неудовлетворенных. «Своей жизнью в целом» удовлетворены 45 % против 48 %.
Является ли настроение «всеобщего» недовольства сугубо современной характеристикой общественного состояния России? Или его можно отнести к каким-то исторически закрепленным особенностям национальной психологии, российского народного характера или чего-то в этом роде? Если оставаться в пределах возможностей социологического понимания исторических феноменов, правомерно допустить, что настроения всеобщего и диффузного недовольства – непременный продукт всякой «эпохи перемен», когда традиционные рамки существования подорваны, а новые ориентации не ясны, средства для их реализации отсутствуют, иллюзии разрушаются и т. д. Для различных слоев российского общества (а затем и для всех его групп) такие сдвиги происходят на протяжении последних двух-трех сотен лет.
Правомерно выделить три основных параметра направления трансформации современного общественного недовольства в определенные активные действия: «экономическое», «политическое» и «национальное». (Некоторая условность такого разделения будет рассмотрена позже.)
Готовность протестовать «против экономической политики и падения уровня жизни» отмечается в исследованиях чаще всего. По сводному мониторингу 1994–1999 гг., за этот период в среднем 27 % считали возможными массовые выступления в своем городе или сельском районе «против роста цен и падения уровня жизни», 56 % считали такие выступления маловероятными, 17 % затруднялись ответить. В среднем за указанный период 23 % опрошенных (против 60 %) утверждали, что могли бы принять участие в таких выступлениях.
Данные опросов показывают, что из года в год снижается «запас терпения», однако даже заявленный потенциал протеста изменяется довольно мало. После пиковых значений, явно связанных с переживанием финансово-экономического обвала августа 1998 г., показатели экономического недовольства постепенно возвращаются к докризисному состоянию. Причем есть существенная разница между заявленными намерениями опрошенных участвовать в акциях протеста и реальным участием в них: оно всегда было значительно меньше заявленного. Так, накануне шумно готовившейся всероссийской акции протеста 7 октября 1998 г. около 10 % заявляли о готовности участвовать в забастовках и временных приостановках работы. На деле (по опросным данным) участвовало в таких действиях не более 3 %.
Отметим некоторые особенности протеста, который отнесен к экономической сфере. Во-первых, чаще всего он направлен не против конкретных владельцев и конкретных экономических условий производства на данном предприятии, в данной отрасли, а против «власти» и ее «экономической политики». Во-вторых, эти претензии, как бы демонстративно они ни выражались (марши «пустых кастрюль» в начале реформ или шахтерские пикеты у здания правительства в 1998 г.), по смыслу своему не выходят за рамки прошения, посланного к властным структурам. И в-третьих – что, пожалуй, наиболее важно отметить, – выдвигаемые требования, за немногими исключениями, направлены не на повышение уровня оплаты или улучшение условий труда (что характерно для западных стран), а всего лишь на выполнение старых обязательств – в основном по своевременности оплаты труда.
Если в классической традиции либеральной (да и марксистской) мысли рабочее движение со своими экономическими требованиями считалось одним из факторов технического и социального прогресса, то в нашей реальности такого просто не наблюдается: с помощью массовых выступлений защищают себя «старые» – советские, патерналистски-распределительные – структуры хозяйства. Значительная часть экономических протестов – это борьба за «образ прошлого». При отсутствии способов и организационных средств реальной борьбы за расширение своих прав и улучшение условий массовый протест неизбежно укладывается в наиболее привычные (отнюдь не «стихийные», как считалось когда-то) формы. Сказанное подтверждают и приобретшие в последние годы шумную известность акции захвата предприятий, которые совершались руками профсоюза, стачкома в интересах старых владельцев или администраторов.
Что касается протеста против политических институтов, то он носит преимущественно консервативный и популистский характер – это настроенческий, воображаемый бунт с позиций прошлого, организатором которого выступают люди старой элиты.
Предпринятая М. Горбачевым попытка реформировать партийно-советскую систему запоздала на 30–50 лет, а потому и привела к неожиданному обвалу всей конструкции. По своему складу и составу советская «партия власти» оказалась неспособной стать «партией прогресса», но и никакая иная структура для исполнения этой функции не была пригодна. В итоге «партия власти» вынуждена – в интересах самосохранения – продолжать «линию» (точнее, просто инерцию) реформ, лишенных программы и содержания.
Инициаторы реформ не были способны ни собрать в какую-то силу новую просвещенную и реформистскую элиту, ни убедить массового человека в том, что состояние, именуемое (слишком торжественно и малопонятно) реформами, может быть полезно и выгодно ему. В качестве единственной опоры им пришлось использовать ненадежные институты и рычаги существующей президентской власти, а тем самым оказаться заложниками этих институтов. Результат – дискредитация демократических сил и превращение их в маргиналов политической сцены.
Параллельно произошли существенные изменения в позициях консервативной (коммунистической) оппозиции. Имея довольно крупный и стабильный электорат, КПРФ фактически претендует не на власть, но лишь на позицию «группы давления» на нее и неизменно поддерживает власть во всех принципиальных ситуациях – в утверждении премьер-министров, принятии бюджетов, кавказской политике и пр. Искусственно раздутое противостояние «правых» и «левых» 1995–1996 гг. утрачивает смысл и превращается к 1999 г. в «борьбу за центр» политического поля. Причем, как приходилось отмечать ранее, «центральной» считается всего лишь позиция отмежевания от «крайностей». В этой ситуации характерную эволюцию претерпевает популизм как политика завоевания массовой поддержки, которая используется практически всеми политическими течениями (за исключением демократически-элитарного).
На таком фоне эволюционируют настроения и акции политического протеста конца 90-х гг. Массовое эмоциональное недовольство, направленное против партийно-советской системы в 1989–1990 гг., после 1993–1994 гг. уступает место не менее эмоциональному и значительно более массовому разочарованию в демократических силах и реформах. Но последовавшая за этим довольно широкая поддержка «левой» оппозиции не находит практического выхода и шаг за шагом превращается в надежды на поддержание современного status quo, именуемого «центризмом».
Представленная ситуация обессиленных и исчерпывающих себя конфликтов и протестов, приводящих к вынужденным компромиссам, могла бы найти свое продолжение до самих выборов в Думу 1999 г. или даже позже, если бы над этими выборами и всей политической жизнью страны не нависала необходимость смены президента и фактически самого типа президентского режима в 2000 г. Связанная с этим «большая» политическая интрига по своему значению несравнима с перипетиями межпартийной конкуренции предвыборных месяцев. Отсюда и выдвижение фигуры В. Путина как сильного премьера с президентским прицелом, опирающегося не на возможный баланс политических и парламентских сил, а непосредственно на массовую национальную мобилизацию. Последний термин заслуживает особого рассмотрения.
Самая напряженная у нас зона недовольства, протестов и открытых, в том числе силовых, конфликтов – национально-государственная. Именно на этом поле потерпела решающее поражение вся советская партийно-государственная машина в 1988–1991 гг. (Существует определенная, хотя и неполная историческая аналогия с крушением на подобном же поле российской монархии.) Термин «национальный» в данном контексте, естественно, имеет смысл национально-государственного, а не этнического или межэтнического. Фактор общенациональной интеграции – как политической и экономической, так и моральной сплоченности (в терминологии Э. Дюркгейма), – важный для существования любого государства, неизменно становился болезненно важным в ситуациях кризиса государственных образований имперского типа. О национальном комплексе в указанном смысле – или комплексе национально-государственной идентификации – можно говорить как о некоторой системе взаимосвязанных ценностей и установок, ожиданий и символов, поведенческих и эмоциональных стандартов, которые разделяются «всеми», то есть достаточно большой частью населения, принадлежащего к разным социально-статусным, политическим и прочим группам.
Исследования подтверждают, что комплекс национальной идентификации может поддерживаться как «внутренними» (общность жизни, хозяйства, отсылки к «своей» истории и традиционным символам), так и «внешними» (отмежевание, противопоставление по отношению к «чужим») факторами. Причем в ситуации слабости внутренних связей – нечто подобное приходится переживать сейчас российскому обществу – возрастает и даже гипертрофируется роль второго из названных, то есть «внешнего» самоутверждения. Перевод национального комплекса в возбужденное, «активированное» состояние сейчас практически невозможен без апелляции к внешней угрозе и инкарнации внешнего врага. Обращение к этому испытанному историей средству происходит с двух сторон – как «сверху», со стороны властных структур, так и «снизу», со стороны массового сознания.
Судя по всем данным, действенным оказался примитивный, но сильный фактор – страх перед вездесущими и неуловимыми (как представляется) террористами. Обычный человеческий массовый страх за собственную жизнь, за личную безопасность, жилище, имущество. Очевидно при этом, что в одной связке с терроризирующим страхом оказались такие давние, как бы заранее приготовленные компоненты негативной мобилизации общественного мнения, как отрицание «западного вмешательства» и стыд за получение «западной помощи», возмущение «засильем кавказцев» на столичных рынках и т. д. И, разумеется, универсальное – не только военной элите присущее – стремление вытеснить из исторической памяти переживание военно-политического поражения 1996 г.
Думаю, в данной связи уместно вспомнить и ситуацию совсем иного плана и значения – отношение к проблеме «перемещенных» (то есть присвоенных в качестве военных трофеев) художественных ценностей. Несмотря на довольно упорное противодействие правительственных структур, связанных определенными международными нормами и обязательствами, и в общественном мнении, и в обеих палатах российского парламента безоговорочно возобладала простая и вечная концепция отмщения за нанесенную обиду («око за око», «кража за кражу», «десять за одного» и т. д.). Отзвуки давней конфронтации предметно доказали, насколько далеким от цивилизованных стандартов готово быть российское общественное мнение, даже когда мобилизующим его фактором служит только направленная историческая память.
На старте второй чеченской войны «механизм отмщения» был запущен – притом чрезвычайно успешно – уже с использованием всей мощи государственных структур и массмедиа. Простой, умело (или случайно – не столь важно в принципе) направленный страх оказался более сильным возбудителем, мобилизующим общественное мнение, чем все вызовы имперского комплекса или государственного сознания.
Основную роль во всякой ситуации негативной мобилизации общественного мнения играет «комплекс врага», от которого когда-то безуспешно пытались чисто словесно избавиться инициаторы перестройки. Этот комплекс обстоятельно разработан и испытан в ходе формирования «человека советского», черты которого не утратили своего значения и по сей день. С врагом можно поступать «вражески», не стесняясь никакими рамками законности или гуманности. Подозрение может приравниваться к приговору, исполнение наказания – предшествовать суду и следствию, массовое устрашение – заменять поиски конкретных виновников и т. д.
Вся эта атрибутика политической мифологии многократно описана и обличена, однако она не может выйти из употребления, пока общество (именно общество и общественное мнение, а не только официально-воинственная пропаганда) нуждается в комплексе врага, бережно его хранит и активно использует. Прежде всего – для самоопределения, для того, чтобы носителем вины непременно оказывался некто чужой и враждебный.
В процессах социально-политической мобилизации осени 1999 г. примечательна трансформация первоначального (относящегося к 1994–1995 гг.) «демократического» протеста против тогдашних военных акций в Чечне в практически безоговорочную поддержку значительно более жесткого курса. Поскольку здесь речь идет не о массовой реакции, а о поведении весьма квалифицированной политически элиты, то в мотивационном ряду на первый план выступают, видимо, не упомянутые выше пароксизмы «простого страха», а более сложные факторы политических расчетов и зависимостей. Это серьезно влияет на всю картину оценки общественным мнением происходящих событий: лишенный артикуляции слабый антивоенный протест превращается в неслышимый. Причем в данном случае нынешний «приговор» общественного мнения имеет обратную силу, то есть задним числом оправдывает те акции пятилетней давности, которые еще недавно оценивались как трагически ошибочные или просто преступные.
Итак, принципиальная слабость всех форм и направлений протестных акций, которые можно наблюдать в российском обществе, определяется не какими-то случайными, ситуативными моментами, а таким их качеством, как слабая структурированность общества. Ни общественные потрясения, ни околополитические страсти и интриги последних лет не привели к формированию устойчивых политических разделений, не зависимых от вертикали власти элитарных структур, суверенности человека по отношению к власти. Сама возможность моментальной социальной мобилизации («негативной» мобилизации), которую продемонстрировало общество осенью 1999 г. – убедительное подтверждение того, что оно недалеко ушло от образцов механической «монолитности», которая поддерживала абсолютную власть и позволяла безоглядно собой манипулировать. Никакой общественный протест не может быть эффективным, если он не артикулирован, не опирается на определенную структуру сформировавшихся общественных интересов, групп, институтов. И пока эта ситуация не изменится принципиально, социальный протест будет укреплять ресурсы социального терпения.
Человек лукавый: двоемыслие по-российски
Согласно данным последней волны исследования «Советский человек», только 3 % опрошенных в марте 1999 г. полагали, что на выборах в нашей стране побеждают «более достойные»: по мнению 83 %, побеждают «более ловкие». (Такое распределение суждений присуще, с небольшими колебаниями, всем социальным слоям и политическим группам – без каких-либо исключений.) Сразу же после выборов в Государственную Думу 1999 г. 50 % опрошенных оценили их как «не очень честные» или «совсем нечестные». И тем не менее в том же опросе большинство (55 % против 27 %) выразили удовлетворение их результатами. Представляется, что объяснение этого явного – и весьма типичного! – парадокса отечественного массового сознания следует искать в самом характере используемых им критериев, стандартов оценки социальных процессов и событий, то есть действующего в наличных условиях нормативного поля человеческого существования.
Как показывают наблюдения и исследования, это поле многомерно: в нем одновременно сосуществуют различные критерии, точки отсчета, системы координат нормативных оценок – допустимого, полезного, правильного и т. д. Кроме того, сами такие критерии, как правило, оказываются условными и размытыми. Это не жестко определенные императивы, а скорее рамки допустимого, относительно терпимого («можно терпеть», «не самое худшее зло» и т. п.). Подобный характер нормативного поля человеческого существования формирует лукавые типы поведения и характерные черты их носителя – «человека лукавого». Он приспосабливается к социальной действительности, ища допуски и лазейки в ее нормативной системе, то есть способы использовать в собственных интересах существующие в ней «правила игры», и в то же время – что не менее важно – постоянно пытаясь в какой-то мере обойти эти правила. Это вынуждает его постоянно оправдывать собственное поведение то ли ссылками на необходимость самосохранения, на пример «других», то ли апелляциями к нормативным системам иного ранга («высшие интересы» и т. п.). Непрестанная смена общественных настроений «эпохи перемен» – смена увлечений и разочарований, взлет и падение персональных рейтингов и т. п. – служит показателем заведомой легковесности каждого выбора, заложенной в нем доли лукавого самообмана.
Конечно, лукавое стремление обойти запреты и отыскать удобные поведенческие ниши в нормативных системах разного уровня (социальных, групповых, личностных) может быть обнаружено у людей всех времен и народов. Когда, скажем, опрос показывает, что среди современных россиян только 11 % могут сказать, что «никогда никому не лгали», а 32 % – «не брали чужого без разрешения», перед нами один из простейших типов человеческого лукавства, имеющий универсальное распространение. В его основе – разнородность самих нормативных полей (социетальных, групповых, ролевых и пр.), определяющих ориентации и рамки деятельности человека. Нас же интересуют более специфические типы и структуры «лукавого» поведения, связанные с особенностями функционирования собственно социальных норм в соответствующих исторических и национально-государственных условиях – скажем, уклонение от гражданских обязанностей или от соблюдения правил уличного движения.
Доминирующий в настоящее время в российском обществе вариант нормативного «полицентрического релятивизма» сформировался на пересечении нескольких исторически наслаивавшихся друг на друга разломов регулятивных структур. Незавершенный процесс модернизации России порождал бессчетные варианты нормативных конфликтов на всех уровнях человеческого существования и самосознания. На этой почве, в частности, выросла вся великая литература прошлого века, выражавшая противостояние «правды-истины» и «правды-справедливости», правды «маленького человека» и правды «державы», спасения человечества и «слезы ребенка» и т. д. В этой ситуации лукавый человек почти неизбежно становился несчастным человеком.
Советская эпоха декларировала новую, универсальную по своему значению и абсолютную по своим источникам (от имени и по поручению исторического прогресса…) нормативно-ценностную систему, призванную заменить или подчинить себе все существующие. На деле она лишь меняла знаки и термины в некоторых нормативных полях и надстраивала над ними еще одно. Формула «нравственно то, что полезно…» (в декларативных вариантах – «трудовому народу», «делу коммунизма» и т. п., в реальном значении – «что соответствует планам и указаниям свыше») возводила в абсолют сугубо утилитаристскую нормативную систему. Универсально значимая и всеобъемлющая нормативно-ценностная система в реальности обернулась множественностью критериальных рамок – «большой» и «малой» правды, «истинного» и «должного», перспективных и сиюминутных интересов и т. д.
Одна из важнейших ее особенностей состояла в принципиальной невыполнимости предъявляемых к человеку требований. Невозможно было принимать повороты политической конъюнктуры за веления «истории». Никому не удавалось «отдавать все силы на выполнение пятилетнего плана». Невозможно было выполнять «грандиозные планы» без приписок, блата, «выбивания» дефицитных ресурсов и т. д. Отсюда – формирование «человека лукавого» на советский манер. Абсолютное насилие порождало абсолютную готовность к лукавому приспособлению. Лишенный возможностей для сопротивления человек торжественно или молчаливо соглашался с императивными предписаниями и настойчиво искал лазейки, позволяющие их обойти.
Успех этой системы (на долгие десятилетия, по крайней мере) был бы невозможен, если бы она опиралась только на массовое принуждение и массовый обман. Сейчас ясно, насколько наивными были представления 60 – 80-х гг. о надувательстве народа со стороны всезнающей и предельно циничной партийно-политической верхушки (в духе изображенного Дж. Оруэллом механизма «двоемыслия»). Лукавый человек – на всех уровнях, во всех его ипостасях – не только терпит обман, но и готов обманываться, более того, постоянно нуждается в самообмане. Для того же (в том числе психологического) самосохранения, для преодоления собственной раздвоенности, для оправдания собственного лукавства. «Нас возвышающий обман» – не только точная поэтическая формула. Весь механизм советской системы формировал и «лукавых рабов» (по очень точному выражению Т. Заславской), и не менее «лукавых господ». И те и другие лукавили друг перед другом и перед самими собой.
В условиях всеобщего лукавства исполнение нормативных императивов превращается в более или менее лукавую сделку (типа «делаем вид, что работаем – делаем вид, что платим»). Сам же такой императив предельно персонализируется (общественный договор редуцируется до «договора» нарушителя с трамвайным контролером).
Сосуществование и взаимодействие различных нормативных полей со своими критериями дозволенного – недозволенного, одобряемого – неодобряемого присущи разным общественным системам, в которых имеется разграничение будничного и праздничного, своего и чужого, приватного и официального и т. д. «Советская» специфика (вполне сохраненная и ныне) состоит в том, что разграничения нормативных «полей» размыты, смазаны. Лукавое сознание легко переходит условные барьеры, находит многочисленные лазейки в предписаниях – короче говоря, ведет игру «без правил». После крушения советской системы лукавство с обеих сторон просто вышло наружу.
Лукавое поведение стагнирующей эпохи – преимущественно адаптация к стабильным структурам, карьеризм, основанный на конформизме. «Эпоха перемен» изменяет характер адаптивности. Неустойчивость всех структур, включая властвующие, теневые, группы давления и поддержки и т. д., создает условия для краткосрочных «пирамид» (не только финансово-экономических, но и политических, на разных этажах иерархии власти) и быстротекущих карьер. Отсюда – востребованность соответствующих человеческих, личностных типов, прежде всего «человека ловкого», способного пользоваться переменчивой ситуацией с пользой для себя, менять взгляды и пристрастия применительно к текущей конъюнктуре.
Как показывают исследования, в общественном мнении отсутствуют жесткие разделительные линии, разграничивающие сферы одобряемого и неодобряемого поведения. Это относится и к выполнению различного рода социальных обязанностей.
Рассмотрим внимательнее данные табл. 3.
Таблица 3
Насколько допустимо нарушать социальные обязанности (в %)
Примечание 1[470]
Примечание 2[471]
Использованный в последнем столбце условный «индекс нормы» имеет наименьшее числовое значение в отношении наиболее «государственной» обязанности – военной службы. Можно полагать, что это связано с происходящими в последние годы процессами «разгосударствления» человека – ослабления идентификации с государственными институтами и символами. (Отсюда и новейшие призывы к укреплению государственности через возрождение армии и военной мощи в ходе силовых авантюр и карательных экспедиций. Полученные в исследовании данные позволяют судить, на какую почву попадают такие призывы.)
Весьма примечательно, что для возрастных групп до 40 лет уклонение от воинской обязанности представляется вполне оправданным: чем ближе к призывному возрасту, тем больший перевес мнений о правомерности избежать исполнения священного долга. У самых молодых, непосредственно подлежащих призыву, неисполнение такого долга в два с лишним раза чаще оправдывается, чем осуждается. Держателем нормы здесь (как, впрочем, и по другим приведенным позициям) является самая старшая возрастная группа.
Уровень образования оказывает аналогичное влияние на показатели допустимости уклонения от воинской обязанности – чем выше образование, тем ниже «индекс нормы», а у высокообразованных уклонение чаще оправдывается, чем осуждается. Урбанизационная шкала столь прямой зависимости не обнаруживает. Менее всего обязательной представляется военная служба в больших городах, лучше – в селах, в Москве и (максимум одобрения!) в малых городах. Правда, в среде москвичей наибольшая доля осторожных оценок типа «отчасти предосудительно» и меньше всего категорических оценок. В городской среде происходит «сшибка» просвещенной терпимости и идеологической нетерпимости к уклонению от службы в армии.
Наибольшая величина «индекса нормы» из приведенных в таблице позиций относится к извечной проблеме «несунов». Возможно, это обусловлено просто тем, что в бездефицитной экономике привычный (со времен чеховского злоумышленника) компенсаторный механизм в значительной мере утратил свое значение. Но не исключено и другое: самый распространенный и фактически самый терпимый в советское время способ получения дополнительного дохода работниками скрывается чисто лицемерно, из лукавого стремления выглядеть «приличнее».
Неуплата налогов – самый современный из социальных «грехов», неведомый в эпоху государственного хозяйства. Осуждается он всеми категориями старше 40 лет, но считается скорее терпимым у более молодых. Держатель нормативного стандарта, как и в других позициях, – самые старшие, у которых «индекс нормы» заметно выше, чем у других групп. Уровень образования, по-видимому, связан и с распространенностью «рыночного» лукавства, поэтому малообразованные осуждают неуплату значительно резче, чем высокообразованные.
В табл. 4 приведены сводные данные об оценке населением допустимости нарушений ряда других социальных норм. Как видим, решительное осуждение вызывают нарушение частных обязательств (не платить долги), неоплата покупки («шоплифтинг») и такое экзотическое событие, как сокрытие найденного клада. Сокрытие дохода осуждается довольно сдержанно, а такие действия, как операции с «левой» продукцией, вообще осуждаются редко.
Таблица 4
Степень допустимости нарушения социальных норм (в % по строке)
Обратимся теперь к серии данных о самой сложной форме лукавого поведения – когда человек вынужден лукавить с самим собой. В табл. 5 обобщены результаты ответа на вопрос: «Поступали ли вы когда-либо вопреки тому, что считаете правильным, справедливым?», полученных в ходе исследования по программе «Советский человек» за 1989 и 1999 гг.
Прежде всего следует обратить внимание на то, что в целом лукавства в поведении людей за последние 10 лет стало больше. Не 17 %, а только 12 % утверждают теперь, что им никогда не приходилось поступать «вопреки» собственным представлениям о праве и справедливости. За исключением молодых работников 25–39 лет (что, конечно, очень важно) и, в небольшой мере, самых пожилых, все остальные группы отмечают, что кривить душой приходится чаще. Но произошли изменения в соотношении факторов, которые побуждают людей так поступать.
Таблица 5
Соответствие реальных поступков представлениям о правде и справедливости (в % по строке)
Значительно реже в 1999 г. отмечается такой побудительный фактор лукавства, как давление со стороны «начальства». Заметное исключение здесь – сами начальники, то есть руководители, директорский корпус: у них значение сделок с совестью под давлением «сверху» осталось на прежнем уровне (32 % и 31 % – наиболее высокий показатель по всем группам!). Это относится также к работникам старшего возраста и служащим. Реже ссылаются на давление начальства специалисты, рабочие, пенсионеры. Учащиеся, как и вся молодежь, и раньше редко вынуждены были оглядываться на волю начальников, а сейчас делают это еще реже.
В то же время заметно возросла доля считающих, что им приходится кривить душой «для пользы дела», как будто начальственная воля превратилась в некий обобщенный корпоративный интерес. Вероятно, это отражает тенденцию растущей идентификации человека с предприятием, фирмой, то есть новым субъектом игры на социальном поле (и соответственно субъектом лукавого поведения). Особенно сильно выросла доля ссылок на «пользу дела» у руководителей, специалистов, а также среди самых молодых при отсутствии изменений у пенсионеров и малообразованных.
С процессом «разгосударствления» или «приватизации» человека, очевидно, связано увеличение частоты ссылок на давление семьи. Заметных различий между группами здесь почти нет. Ссылки на принуждение со стороны коллектива несколько чаще, но остаются довольно редкими. В большей мере упоминают этот фактор предприниматели и служащие (видимо, речь идет о корпоративных интересах персонала).
Несколько неожиданный и труднообъяснимый феномен – более частые ссылки на необходимость поступаться принципами из-за страха за родных и близких. Об этом говорят во всех группах опрошенных. В какой-то мере это иной поворот указанного выше роста «семейного» давления. Кроме того, видимо, сказывается общая атмосфера обостренного переживания страхов в обществе.
Процент отмечающих, что кривить душой им «приходится постоянно», был небольшим 10 лет назад и снизился по всем наблюдаемым группам (всего с 6 % до 4 %). Правда, за то же время примерно на столько же выросла частота ссылок на уступки, вызванные «собственной слабостью» (только руководители не хотят в ней признаваться).
Исследования 1989 и 1999 гг. позволяют сопоставить оценки занятий «неприятных» различными группами населения. Здесь, по нашим данным, заметны существенные сдвиги показателей в сторону уменьшения по трем позициям – «командовать другими», «убеждать других в том, во что сам не верю» и (в меньшей мере) «делать то, что не понимаю». Все эти позиции можно считать в высшей мере «идеологически насыщенными» в советский период, откат от них – явное свидетельство отхода общества от старой политизированной модели человеческого поведения.
Кроме того, данные показывают, что необходимость заниматься «общественной работой» (в нынешнем варианте – «политикой») не по душе людям примерно в той же мере, что и 10 лет назад, хотя содержание терминов заметно изменилось. Молодых и высокообразованных такая деятельность тяготит больше, а пожилых и малообразованных, напротив, меньше. Очевидно, имеет значение захватившая часть старших поколений политически-оппозиционная активность. А вот необходимость «подчиняться другим» людям столь же не по душе, как и ранее. По сравнению с ситуацией десятилетней давности она сейчас больше досаждает пенсионерам и малообразованным, несколько меньше – молодежи.
Наблюдения за ростом и спадом надежд на отечественных политических лидеров за последние годы (М. Горбачев, Б. Ельцин, Г. Явлинский, А. Лебедь, Б. Немцов, Е. Примаков… далее список пока открыт) заставляют многократно вспоминать известное выражение Н. Бердяева, писавшего о «вечно-бабьем» в русской душе – готовности довериться любому, кто продемонстрирует силу и одарит обещаниями. Само по себе сравнение ничего не объясняет. Увлечение новыми кумирами (и затем довольно быстрое разочарование в них) обусловлено отсутствием внутренней социальной организованности общества. Дальние исторические корни этого феномена можно искать, видимо, в отношениях между государством и населением в старой, «дореформенной» России: пока не работают социальные институты современной цивилизации («гражданское общество»), масса готова и склонна искать организованности внешней – со стороны самодержавной власти или иной «руководящей силы». В рамках нашей темы затронем лишь одну сторону происходящего – способность множества людей увлекаться персонализованными символами и затем разочаровываться в них. Причем если поначалу фигуры лидеров в массовом сознании символизировали определенные идеи или по меньшей мере привлекательные лозунги, то в дальнейшем предметом символического предъявления становится просто власть. Соответственно обещания «перевернуть» страну трансформируются в требование «навести порядок».
В этих процедурах регулярных очарований-разочарований настроение масс так или иначе определяется состоянием их «головной части» – более образованной, политизированной, влиятельной, способной задавать образцы поведения для остальных. При всех отечественных пертурбациях последнего времени было заметно (в том числе и по данным массовых опросов), что изменения общественных симпатий прежде всего отмечались именно в этих слоях. «Легковерием» страдает не относительно «темная» масса, а ее «просвещенная» верхушка. Отсутствие социальной организованности и гражданского сознания – прежде всего черта нашей интеллектуальной и политизированной элиты (в широком смысле слова; речь не идет, естественно, о конкурирующих группировках околовластной «кухни»).
Исследования электоральной ситуации в стране (еще во время предыдущего избирательного цикла) показало, что большинство населения не верило предвыборным обещаниям претендентов на должности, не надеялось на то, что они будут выполняться, а потому и не предъявляло претензий к своим фаворитам сразу после выборов. Претензии предъявлялись всегда задним числом – когда фавориты переставали быть таковыми. Здесь два связанных друг с другом вопроса заслуживают особого объяснения: во-первых, какие факторы возносят на пьедестал, превращая малоизвестного чиновника или провинциала в фаворита общественного мнения, а во-вторых, почему столь легко и быстро общественное мнение расстается с ним.
По крайней мере одно из объяснений может быть связано с изложенными выше соображениями. Массовые увлечения – особенно если они ориентированы на предельно значимых фаворитов – с самого начала амбивалентны, двусмысленны: искусственно нагнетаемый (не только извне, но и «изнутри», через механизмы самообольщения) демонстративный восторг всегда дополняется скрытым недоверием, черной завистью и т. п. В определенный момент конструкция как бы опрокидывается, скрытое становится доминирующим и демонстративным. Причем каждый такой поворот менее всего связан с реальным опытом и рациональными оценками – ведь очарование очередного фаворита общественного мнения не подкреплено ни массовым опытом, ни знакомством с его деятельностью, программой, идеями («И ненавидим мы, и любим мы случайно…»). Главным же фактором перемены симпатий служит противопоставление характеристик, которые приписываются «старому» и «новому» избраннику. Например, образ динамичного и решительного Горбачева противопоставлялся образу дряхлого и нерешительного Брежнева, затем решительность Ельцина – нерешительности Горбачева, затем образ более молодых и решительных Лебедя, Немцова, Путина – образу одряхлевшего Ельцина (в ряду подобных парных сопоставлений участвовали и другие фигуры). Отсюда, кстати, и непременный спутник всех поворотов – «перенос вины» на предшествующую эпоху, власть, персону лидера как средство самоутверждения (и, насколько удается, самооправдания) каждой новой смены в верхах. Такие трансформации священного образа в проклятый, инфернальный присущи всякому мифологическому сознанию. Непременно присутствующий в общественном мнении «комплекс врага» предполагает амбивалентность значений «своего» – «враждебного» и возможность перемены знаков (но в подавленном и напуганном обществе – преимущественно в одну сторону, то есть превращения своих во врагов).
В условиях социальной разобщенности, слабости традиционных и групповых межличностных структур человек со своими заботами и опасениями постоянно оказывается одиноким перед властью, социальными институтами, могущественным давлением массмедиа и общественного мнения. Если он вынужден вести себя «как все» и демонстрировать это публично (в том числе в ответах на вопросы исследователей), он снимает с себя ответственность за разделяемые позиции, но не избавляется от одиночества по отношению к этим «всем». Только 13 % опрошенных в 1999 г. (в основном молодые люди) указали, что у них «много близких, надежных друзей», в 1989 г. такой ответ давали 42 %. Сейчас 74 % полагают, что они могут вполне доверять лишь одному-двум близким людям.
Российская действительность с неизбежностью транслирует социально-психологические барьеры и дистанции, начинающиеся с соседней квартиры и улицы, на масштабы страны с ее отдаляющимися друг от друга регионами. Это ведет к гипертрофии социальной версии «астенического синдрома», неспособности и нежеланию воспринимать «чужие» беды и страдания, более того – к настойчивому стремлению отгораживаться от них. («Мы живем, под собою не чуя страны…» – эти слова давно приобрели значение универсальной формулы поведения.) Астеническое поведение лукаво, потому что фактическая ситуация у «других» сегодня известна любому телезрителю неизмеримо лучше, чем когда бы то ни было. Но зритель остается зрителем, и его беспокоит преимущественно опасность самому превратиться в жертву. Действует на зрительскую массу и фактор привыкания к сообщениям о «далеких» несчастьях: та наглядная информация о катастрофах, конфликтах, стихийных бедствиях, которая была в новинку 10 лет назад, стала обыденной.
Ситуация массовой политической мобилизации, массовых войн, массовых жертв может лишь укреплять астенический синдром общества. Когда страдания и жертвы становятся массовыми, люди способны переживать только личные утраты. К тому же доступные общественному мнению масштабы страданий и потерь сегодня в значительной мере определяются могущественным влиянием современных массмедиа. В эпоху «телевизионной» мобилизации трактовка массовых жертв целиком сосредоточена в руках СМИ и связанных с ним политических комбинаторов – от них зависит, как оценят эти жертвы зрители и избиратели. Поэтому столь силен астенический синдром массового безразличия.
В классическом описании Дж. Оруэлла двоемыслием именуется «способность одновременно держаться двух противоположных убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, знает, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. <…> партия пользуется намеренным обманом, твердо держа курс к своей цели, а это требует полной честности <…>. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить <…> все это абсолютно необходимо»[472]. Введя в научный и политический оборот столь плодотворный термин, Оруэлл не рассматривал внутренний механизм сочетания противоположных позиций. Представленную ситуацию можно считать преднамеренно упрощенной в интересах «чистоты» мысленного эксперимента. Он, видимо, сознательно допустил жесткое разграничение цинично-рационального расчета всемогущих «верхов» (в его терминологии – «внутренней партии») и покорности политических «низов» («внешней партии»). И явно переоценил возможность правящей верхушки («внутренней партии», в его терминологии) осознанно и сплоченно исполнять роль «коллективного Великого Инквизитора».
На деле же, как показано всей серией разоблачений и признаний, связанных со сменами состава правящих верхов и элит, такого разграничения просто не существует. Сплоченности и рациональности действий «наверху» ничуть не больше, чем на нижележащих ступенях социально-политической пирамиды общества. «Верхи» неизбежно живут по тем же правилам лукавого двоемыслия, что и типичные их подданные, так же лукавят сами с собой, принимая на веру желаемое, и если время от времени вынуждены заявлять о решимости выпутаться из порочного круга, то лишь запутываются еще сильнее. И потому именно политическая элита («голова») прежде всего разлагалась и коррумпировалась (духовно и нравственно).
Опыт десятилетия российских перемен и перетрясок подтверждает это вновь. Самая яростная критика этого положения «задним числом» (означающая на деле перенос вины на предшественников) не позволяет выйти за рамки круга, очерченного лукавым сознанием. Расчет команды «сменщиков» на то, что безвыигрышная в перспективе военная кампания может принести нужные плоды, – циничен и лукав. Надежды же вчерашних кумиров радикальной демократии на то, что, поддержав этот курс, они сохранят причастность к власти (или обслуживающим ее механизмам), еще в большей мере опираются на лукавое двоемыслие. Выйти за его пределы обществу и его лидерам пока не удалось.
2000Общественное мнение и общество на перепутьях 1999 года
Год 1999-й обнаружил ряд новых феноменов общественного мнения, которые ранее не замечались исследователями. Широкое, почти единодушное осуждение первого президента России (в частности, в то время, когда Думой была предпринята попытка импичмента Б. Ельцина) сменилось примерно столь же массовой поддержкой нового премьера, который стал официальным его наследником. С августа 1999 г. начался довольно сложный и длительный процесс фактического перехода высших властных полномочий в руки нового лидера и – как ожидалось, по крайней мере – новой президентской «команды». Можно отметить четыре взаимосвязанных направления трансформации общественных настроений и симпатий за эти месяцы: во-первых, формирование массовой поддержки неизвестному ранее деятелю; во-вторых, кардинальная переоценка военно-чеченской кампании; в-третьих, создание социальной базы для бюрократического блока «Единство»; в-четвертых, разрушение аналогичной базы для столь же бюрократического блока «Отечество – Вся Россия» и дискредитация его лидеров. Все они обеспечивались беспрецедентным и беспредельным давлением со стороны государственных телеканалов. Если в период президентской избирательной кампании 1996 г. с трудом полученная поддержка Б. Ельцина была достигнута в результате политической мобилизации «старого» демократического электората, то в данном случае требовалось не воспоминание о славном прошлом, а демонстративное отрицание его, противопоставление стилю и наследию прошлого, конструирование симпатий к новому лидеру как бы с нулевого уровня. Достигнутый результат – поддержка кандидатуры В. Путина большинством потенциального электората – породил в среде пропагандистской (пиаровской) его поддержки представление о том, что средствами «эффективных технологий» можно надолго овладеть не только общественным мнением, но и самим механизмом власти над обществом. Последующие месяцы (скорее всего, уже после президентских выборов) покажут, насколько обоснованны подобные представления.
Важный «фоновый» момент указанных сдвигов в общественных симпатиях – изменение общественных настроений, наблюдаемое с лета и особенно с осени 1999 г.: резко улучшились показатели социального оптимизма, оценки людьми их собственного положения, надежды на будущее, доверие к властным институтам и пр. (табл. 1).
Таблица 1
Индексы социального настроения 1998–2000 гг.[473]
Если в феврале 1999 г. 28 % опрошенных отвечали, что они уже приспособились к переменам последних лет, а еще 20 % – что они приспособятся в ближайшее время, то к концу декабря 1999 г. эти показатели составили уже соответственно 41 % и 23 % (исследования типа «Экспресс», N = 1600 человек). И при этом только 15 % отвечали, что они выиграли от происшедших перемен, а 73 % – проиграли. Это значит, что люди начинают привыкать к потерям, а некоторая часть – меньшинство, порядка 10 %, по данным ряда исследований, – стремится использовать открывшиеся с реформами новые возможности.
Имеется очевидная «экономическая» составляющая процесса роста позитивных настроений за последние месяцы: признаки оживления хозяйства, стабилизация рубля, заметное уменьшение мучительных для населения задержек зарплат и др. (так, в 1999 г. в феврале улучшение ситуации с выплатами отмечали только 17 %, а в декабре – 50 %, номинальные душевые доходы за год возросли почти в полтора раза). Однако лишь экономических факторов явно недостаточно, чтобы объяснить крутой поворот общественного мнения в сторону оптимизма. Решающую роль здесь, скорее всего, сыграли надежды, связанные с новым энергичным лидером, и первые успехи решительных действий в мятежной Чечне.
Наблюдаемый на протяжении ряда месяцев затяжной переход власти от Б. Ельцина к В. Путину представляет собой довольно сложный и противоречивый социально-политический процесс, затрагивающий различные сферы, слои, механизмы общественной жизни. Сама сложность такого перехода давно может считаться некоей отечественной традицией: персонализация верховной власти при неразвитости формальных политических институтов в России неизменно, в течение нескольких столетий, приводила к тому, что смена первых лиц означала смену политических эпох, стилей и механизмов господства, состава и роли определенных групп влияния и т. д.; наиболее драматическими такие переходы были в XVIII–XX вв. В XX в. ни один из российских и советских правителей не ушел в «положенный» срок, при гарантированных условиях преемственности. Каждый властный переход означал более или менее глубокую трансформацию властных механизмов.
В этом ряду происходящий переход может, видимо, считаться наиболее длительным и как будто лишенным внутриполитической напряженности. Очевидно, однако, что соблюдение конституционных рамок и видимая бесконфликтность, даже фактическое отсутствие конкуренции обеспечены смещением решающих политических и программных дилемм в сферы неформальных меж– и внутригрупповых отношений в коридорах или подземельях власти (отсюда, разумеется, и затяжной характер реальной передачи власти, далеко выходящий за формальные рамки – как в начале, так и в конце). И столь же очевидно, что внешне мирный процесс смены «караула» в Кремле гарантирован и стимулирован широкими и ожесточенными военными действиями на Северном Кавказе. Да и тревожная неопределенность принципиального политического курса верховной власти на всем протяжении «переходных» месяцев показывает, сколь неустойчивыми и расплывчатыми оказались сами рамки социально допустимых действий, предусмотренных конституционными статьями и традициями постсоветских лет.
Властный переход 1999–2000 гг. стал трудным испытанием для всей хрупкой институциональной системы, которая стала складываться в России после 1991 г., в том числе и испытанием на прочность демократических тенденций общественного мнения.
Накопившийся за ряд лет груз разочарований и унижений позволил провести своего рода «переворот» в общественном мнении. «Назначенный» уходящим президентом преемник был воспринят и утвердился как контрастная фигура по отношению к предшественнику. Публично (и почти официально) проклинавшаяся еще весной 1999 г. чеченская кампания уже осенью стала героической или по меньшей мере необходимой акцией. Одновременно сменился и сценарий действия на российской политической сцене: утратило значение противостояние власти и компартии, произошла переоценка роли «правых».
Как и любой кризисный перелом, затянувшийся переход властных функций обнажает скрытые механизмы реализации таких функций – групповые («семейные») и «олигархические» структуры влияния, ограниченность роли формальных институтов (партий, парламента, прессы) и, разумеется, роли общественного мнения как социального института.
В этих условиях систематические исследования общественного мнения оказались востребованными в не виданных ранее масштабах. Ни один из происходивших ранее процессов передачи властных полномочий в нашей стране не был отмечен таким официальным и неофициальным вниманием к общественному мнению, причем не столько даже к соответствующим исследованиям, сколько к направленному воздействию с целью формирования (или разрушения) определенных его тенденций. На первый план выступили проблемы, относящиеся не к технологии, а к социологии изучения общественного мнения: понимание специфических функций общественного мнения в новой переходной ситуации, факторов и пределов направленного влияния на отдельные его слои и «болевые точки» и т. д.
Как можно судить по опросам, общественное мнение ожидает от нового лидера принципиальных изменений в стиле руководства, в программных установках деятельности, а также в составе самой президентской команды. До сих пор эти ожидания подкреплены лишь первым – изменением стиля поведения первого лица государства. Этого пока оказывается достаточно, чтобы закрепить в массовом сознании новый имидж лидера, контрастный по отношению к имиджу его предшественника.
Характерный для периода президентства Б. Ельцина стиль правления (импульсивные порывы, перемежающиеся длительным бездействием, опора на узкий круг постоянно меняющихся лиц, невыполнимые популистские обещания и пр.) стал вызывать явное отторжение в общественном мнении уже с конца 1993 г. Попытки поддержать падающее доверие к верховной власти с помощью «маленькой победоносной войны» (какой представлялась поначалу чеченская кампания 1994–1996 гг. ее организаторам) или периодических угроз в отношении коммунистов (запрет партии, ликвидация Мавзолея и т. п.) не могли принести успеха. Вынужденное в условиях искусственно раздутой общественной конфронтации голосование в пользу Б. Ельцина на президентских выборах 1996 г. означало не столько возвращение доверия лидеру, теряющему бразды правления, сколько надежду на сохранение хотя бы некоторого порядка в стране (и отрицание «красного реванша»). Буквально на следующий день после выборов общественное мнение отвернулось от вновь избранного старого президента. Против него стали работать и невыполнение предвыборных обещаний, и неудача в чеченской кампании, и собственная затяжная и тяжелая болезнь.
«Народный» импичмент Б. Ельцина, несомненно, сыграл важнейшую роль в довольно быстром одобрении общественным мнением В. Путина как наследника президентской власти (примерно в октябре 1999 г., в обстановке воинственно-патриотической консолидации), а затем и досрочный уход Б. Ельцина с поста президента (31 декабря 1999 г.) оказал воздействие в этом же направлении. Это не значит, что Б. Ельцин ушел под «нажимом» общественного мнения: просто падение его популярности было использовано для внутригрупповых и внутриаппаратных «разборок» – того единственного механизма, который обеспечивает реальные политические сдвиги в нынешней ситуации. По всей видимости, постоянная смена премьеров-«наследников» с начала 1998 г. отражала растущее отторжение носителя президентской власти основными влиятельными группировками – олигархическим капиталом, «силовыми» верхами и собственным аппаратом. Очевидно, что только при характерном для Б. Ельцина стиле авторитарного своеволия были возможны такие «нештатные» ситуации, как, например, нажим на компартию, неожиданные рывки в кадровой и внешней политике, прекращение (или развязывание) военной акции на Кавказе и т. п.
С самого начала «испытательного» (премьерского) срока В. Путина от него ждали какой-то программы. Явное, даже демонстративное отсутствие таковой вплоть до формальной передачи премьеру президентских полномочий ставило в тупик общественное мнение. В ходе опросов относительное большинство опрошенных полагало, что претенденту все же следовало бы обнародовать какую-то программу. Однако отсутствие программы не помешало избирательной поддержке В. Путина, а возможно, даже помогло. Тем самым вновь было подтверждено, что в нашем обществе никакие программы, обещания и декларации не принимаются всерьез, а кажущаяся неизвестность будущего президента стала важнейшим ресурсом массовой надежды на него: отсутствие знаний открывает возможности массового воображения, склонного наделять фаворита самыми желанными чертами.
В переломные моменты неизменно находит свое подтверждение универсальная фольклорная формула «не по хорошу мил, а по милу хорош», то есть первоначально о человеке судят не по делам его (пока неизвестным), а по симпатии, по имиджу. Это, в частности, позволяет до сих пор обходить мучительный для общественного мнения с самого начала переходного процесса вопрос, связанный с тем, останется ли при власти «старая» группа влияния на президентские решения («семья», «ближайшее окружение»).
Первые оценки деятельности первого президента России были получены вскоре после его отставки. Приведем распределение ответов на вопрос:
Что хорошего принесли годы правления Б. Ельцина?
Исследование типа «Экспресс», январь 2000 г., N = 1600 человек.
Распределение ответов на вопрос:
Что плохого принесли годы правления Б. Ельцина?
Исследование типа «Экспресс», январь 2000 г., N = 1600 человек.
Конечно, мы здесь наблюдаем скорее непосредственную эмоциональную реакцию, чем взвешенную оценку уходящей политической эпохи. Возможно, в дальнейшем распределение акцентов несколько изменится. Отметим, что главные упреки в адрес Б. Ельцина в период его правления связаны с экономическим положением страны и населения, чеченской войной 1994–1996 гг. и распадом СССР. Позиции, отражающие национально-престижные поражения, занимают последние места в списке. Позитивные результаты отмечаются значительно реже, причем даже разрыв с коммунистической системой оценивается довольно сдержанно.
Незначительное внимание к такой бросающейся в глаза черте деятельности Б. Ельцина, как демонстративный, даже показной антикоммунизм, – явление весьма примечательное. Декларативное, часто импульсивное, не подкрепленное ни глубиной критики, ни последовательностью действий отрицание предшествующей системы служило главным средством самоутверждения уходящей эпохи. Использовалось оно, особенно в критические моменты, значительно чаще, чем, например, призывы к созданию демократического строя, включению в современную цивилизацию и т. п. В большей степени это было связано с политической биографией и стилем публичного поведения Б. Ельцина. Потенциал демонстративного антикоммунизма был исчерпан довольно давно, это уже показали выборы 1995–1996 гг. Согласно данным ряда опросов последних лет, отношение населения к коммунистическому прошлому заметно улучшилось (особенно к брежневскому «застою»), даже одиозная в целом фигура И. Сталина стала восприниматься менее критично. Время затягивает старые, даже недолеченные раны, молодые поколения не представляют атмосферы всеобщего террора и вспоминают Сталина прежде всего как кумира победы 1945 г. Новое поколение лидеров, символизируемое сейчас В. Путиным, практически свободно от «антикоммунистического» груза, ищет иные способы самоутверждения и потому гораздо более открыто для практических и идеологических компромиссов с силами или символами прошлого.
Нелепо упрекать респондентов, на ответах которых формируется общественное мнение, что они не знают закулисных механизмов власти. Они оценивают лишь то, что им доступно (или что им показывают), и чаще всего – то, что они хотели бы видеть. При этом в общественном мнении нередко достаточно четко отражены какие-то принципиальные, решающие связи и соотношения. Например, данные опросов позволяют утверждать, что уход с политической сцены Б. Ельцина воспринимается людьми не как смена лиц (урочная или досрочная – не столь важно), а как признак окончания определенной политической эпохи в жизни страны, характеризующейся своим набором проблем и своим стилем их решения. Поэтому на первое место в оценке отставки президента выходят не характеристики личностей, а представления о том, как же заканчивается – или все еще длится – эта затянувшаяся эпоха. И поэтому каждому наследнику власти приходится решать вопрос о том, как он будет представлен в глазах публики – то ли как верный ученик и продолжатель дела, то ли как решительный обличитель и критик полученного наследия. Как известно из всей истории уходящего века, каждый раз довольно быстро принимался и становился популярным второй, «контрастный» вариант, который, впрочем, непременно оказывался в чем-то искусственным, слабым.
Одна из особенностей нового этапа и нового лидера – их «долгожданность». Ведь Б. Ельцин, как и М. Горбачев, Н. Хрущев, В. Ленин – деятели, которых «не ждали», которые навязывали стране нечто иное и непривычное.
От «законного» преемника Б. Ельцина (то есть от Кириенко – Примакова – Степашина – Путина) меньше всего ожидали реставрации советской системы. Ожидания носили преимущественно стабилизационный характер: политическая элита надеялась на изменение стиля управления, массы – на снижение цен и уровня безработицы, и те и другие мечтали о наведении порядка.
Массовые экономические ожидания неизбежно и повсеместно носят популистский характер по своему содержанию и патерналистский – по средствам их осуществления. Отсюда – постоянно повторяющиеся пожелания государственного контроля за ценами и экономикой в целом, которые обычно соседствуют с привычкой пользоваться широким выбором товаров.
Подавляющее большинство населения считает, что проиграло от изменения экономической системы. При этом около 70 % считает, что уже приспособилось или вскоре приспособится к происшедшим переменам. Но значительная часть предпочла бы все же иные, «социально направленные» преобразования. В этих «трех соснах» неизменно и безысходно блуждают массовые экономические предпочтения последних лет.
Что же касается массовых политических ожиданий, то здесь уже достаточно давно на первый план вышло требование «порядка». При всякой постановке перед общественным мнением дилеммы «демократия или порядок?» порядок неизменно одерживал верх.
Уже довольно долго и легко общественное мнение склонно считать, что материальное благополучие должно предшествовать демократии (в духе известного тезиса Великого Инквизитора у Ф.М. Достоевского: «Сначала накорми, а потом спрашивай с них справедливости»), о чем свидетельствуют данные табл. 2.
Динамика здесь не слишком заметна, но тенденция очевидна: с годами позиции сторонников приоритета демократии ослабевают.
И, наконец, давняя проблема «сильного лидера», которого, судя по опросам, давно жаждут видеть уставшие от непорядков российские граждане (табл. 3).
Поддержка сильного лидера достигает максимума в смутном 1998 г., несогласие с этой позицией уменьшается из года в год.
Таблица 2
Согласны ли вы с тем, что прежде нужно добиться материального благополучия, а уже потом думать о демократии?
(в % от числа опрошенных в соответствующем году, N = 1600 человек)
Примечание 1[474]
Примечание 2[475]
Исследования типа «Экспресс».
Таблица 3
Согласны ли вы с тем, что сильный лидер может дать стране больше, чем самые хорошие законы?
(в % от числа опрошенных в соответствующем году, N = 1600 человек)
Примечание 1[476]
Примечание 2[477]
Исследования типа «Экспресс».
Конечно, само по себе распределение позиций внутри общественного мнения – это пока лишь пьедестал для имиджа вожделенного фаворита, но еще не реальная опора его власти и не рычаг для совершения определенных действий.
Согласно общественному мнению, в последние годы на первых местах в перечне идей, вокруг которых можно было бы консолидировать страну, неизменно оказываются «стабильность» и «порядок». Население устало от неопределенности и неожиданных поворотов (неизменно ухудшавших положение простого человека). Не меньше жаждут порядка и спокойствия (при сохранении достигнутого статуса и доступа к ресурсам власти!) новые политические и хозяйственные элиты. На политической арене, даже на политическом горизонте, не наблюдаются силы, реально заинтересованные в каких-то бурных потрясениях и переделах.
«Общий знаменатель» стабилизации, приемлемой для различных общественных слоев и сил, сводится к тому, чтобы сохранить (возможно, частично) достигнутые после 1991 г. результаты социальных и политических переделов, пожертвовав при необходимости некоторыми их «излишествами».
Проще всего, разумеется, предположить (проследив за развитием ситуации в переходные месяцы), от каких именно «излишеств» попытаются отказаться власти под лозунгом стабилизации.
В их число попадают прежде всего некоторые «избыточные», не востребуемые сейчас свободы – от свобод для регионов и губернаторов до свободы слова и прав человека. Положение упомянутых позиций в списке потенциальных лишенцев принципиально различно: за свои свободы и привилегии местные власти будут, скорее всего, вести напряженные торги и борьбу с центром, а за свободу слова и права человека при нынешней расстановке политических сил бороться практически некому и незачем. Правда, и прямой отказ от политических свобод общественное мнение также не готово одобрить.
Большинство никогда и нигде не может быть самостоятельным защитником прав меньшинства и в конечном счете отдельного человека, если нет активных демократических сил (движений, партий, лидеров), способных отстаивать такие права. В прошлую эпоху такие силы все же были заметны, и, что главное, в противостоянии с коммунистическим прошлым власть, при всех своих автократических склонностях, вынуждена была время от времени апеллировать к демократическим символам и ценностям. «Стабилизационная» власть если и использует подобные апелляции, то, скорее всего, для демонстрации практического обесценения былого политического многообразия под лозунгами консолидации «всех», от сталинистов и гэкачепистов до нынешних патриотов и олигархов.
Далее на очереди – общегражданские права и конституционная законность. Принятая в опросах последних лет позиция «соблюдение порядка и законности» теряет смысл, когда порядок опирается на беззаконное использование силы. Наглядный пример этому, конечно, – используемый способ наведения порядка в мятежной Чечне, оказывающий все более сильное влияние на общероссийские политические процессы и на состояние общественных настроений. Одна из важнейших опор поддержки населением новых властных структур – сложившаяся в недавние годы тенденция одобрения ужесточения наказаний и расправ без суда с «опасными» элементами.
И, разумеется, излишней оказывается недоразвитая, а точнее всего, лишь наметившаяся за десяток лет многопартийность со всеми политическими конфликтами, парламентской борьбой и т. д. Гораздо более удобной и эффективной для нужд стабилизации выглядит «управляемая» демократия – контролируемый исполнительной властью парламент, доминирующая «государственная» партия при неэффективной или мнимой оппозиции. И, разумеется, чуть ли не безграничные возможности для «технологических» манипулирований общественным мнением.
В такой ситуации демократические свободы не востребованы, не вынуждены (как было при М. Горбачеве и Б. Ельцине), они лишь допустимы в определенных рамках.
Впрочем, характеристики содержания любых эпох всегда в какой-то мере условны (идеально-типичны), не учитывают всего реального своеобразия событий и действий, тем более если такие характеристики относятся к только что обозначившемуся периоду.
Время покажет, какие акции, заявленные или признанные в качестве стабилизирующих, действительно и в какой мере станут таковыми, а какие будут иметь и прямо противоположные последствия.
Массовое восприятие В. Путина как энергичного и решительного деятеля связано преимущественно с его стремлением любой ценой подавить чеченский мятеж, а также с его постоянно демонстрируемыми подвижностью, бойкостью речи и т. д. Эти особенности нового лидера буквально ошеломили общественное мнение с первых недель появления В. Путина на посту премьер-министра. В дальнейшем чисто эмоциональное восприятие в определенной мере входит в привычку, отчасти осмысляется в свете накопленного опыта. На протяжении «переходных» месяцев в общественном мнении утвердилось представление о В. Путине как о «безальтернативном» новом лидере. Это нашло свое выражение в предвыборных рейтингах и ожиданиях.
Стержень общественно-политических настроений в начале 2000 г. – феноменально высокий уровень общественного доверия к и.о. президента при феноменально низком уровне представлений о В. Путине как человеке и политике, его «команде» и его ориентациях. Ему удалось завоевать популярность, показав свой характер – энергичность, решительность, настойчивость – на определенном, заранее для этого подготовленном, поле. И оставив фактически открытым вопрос о том, как, в каком направлении и с кем он намерен или способен эти качества использовать. В результате общество сегодня знает имя президента, который, по всей видимости, будет всенародно избран 26 марта 2000 г., но не знает, каким будет этот президент. «Правые» ожидают от него правого поворота в политике, «левые» – возврата к ценностям социальной справедливости, патриоты – противостояния проискам Запада, либералы – сохранения деловых связей с Западом и т. д. И практически все, поддержанные гласом народа, надеются на то, что решительность нового президента обеспечит стране какой-то (неясно, какой именно) порядок.
Наиболее важными, разумеется, являются показатели готовности голосовать за определенного кандидата на ближайших президентских выборах. За последние полгода динамика по основным возможным кандидатам в президенты приведена в табл. 4.
Таким образом, уже в октябре 1999 г. определился успешный для В. Путина результат выборов, а в декабре стало ясно, что – при сохранении нынешнего или близкого к нему набора массовых предпочтений – этот успех будет достигнут уже в первом туре. (Если бы и состоялся второй тур, то, по январским данным, создалась бы ситуация безальтернативности, то есть отсутствия реального выбора, отчасти напоминающая ту, которая существовала в эпоху партийно-советской монополии. И тогдашнее единогласие («99 % за…»), и приписываемая ему эмоциональная окраска («энтузиазм», «любимый вождь» и пр.), и господствовавшая практически всеобщая привычка к такому положению связаны с этим отсутствием альтернативы.) Ресурсы доверия населения В. Путину питаются не столько эмоциональными оценками и тем более не рациональным анализом его действий, сколько тем же представлением об отсутствии иного выбора.
Таблица 4
Динамика поддержки потенциальных кандидатов
(в % от числа собирающихся участвовать в голосовании, исследования типа «Экспресс», N = 1600 человек)
Переходная ситуация обострила внимание к роли военных и спецслужбовских структур в общественной жизни страны с двух сторон: во-первых, ФСБ снова предстает как «кузница» руководящих кадров нового президента и части его окружения; во-вторых, прямое и значительное влияние на общество оказывают действия и амбиции военного командования и военных структур (армейских, МВД и др.), участвующих в чеченском конфликте. Серьезное значение для состояния общества имеют процессы, происходящие в действующих вооруженных силах – декларированные некоторыми, в том числе и демократическими, политиками надежды на «возрождение» армии или наблюдаемые тенденции деградации ее личного состава, ожесточение, развитие «чеченского синдрома», аналогичного «афганскому», и пр.
Как показывают исследования, сама по себе длительная связь В. Путина с «органами» вызывает беспокойство у сравнительно небольшой части опрошенных – менее чем у четверти. В сентябре 1999 г. полное доверие к службам госбезопасности выражали 20 % опрошенных, полное недоверие – 25 %. Образ органов НКВД – КГБ как самостоятельного субъекта карательного насилия (созданный, кстати, для самооправдания партийным руководством еще при И. Сталине, если не ранее, а потом активно использовавшийся в аналогичных целях уже Н. Хрущевым) практически полностью утратил свою силу.
Если в прошлом избирательном цикле 1995–1996 гг. основным «динамизирующим» фактором была несколько искусственно раздутая конфронтация между некоммунистами и коммунистами (в тени которой оставалась «первая» постсоветская война в Чечне), то в 1999–2000 гг. таким фактором стала новая чеченская война. Политическая консолидация общества в поддержку только что предъявленного стране нового премьера и преемника президента вряд ли была бы возможна без воинственной («агрессивной» в социально-психологическом смысле) мобилизации против общей опасности. Притом опасности вполне зримой, повсеместной, предъявленной стране грохотом и жертвами провокационных взрывов.
На протяжении всех месяцев войны на Северном Кавказе общественное мнение в стране находится в напряженном, экстремальном, давно не виданном состоянии воинственной мобилизованности. Значительное большинство населения (около 70 %) демонстративно поддерживает продолжение военной операции до победного конца.
Возникший осенью 1999 г. широко распространенный страх населения перед возможными новыми актами террора к концу года стал заметно слабее. Предполагаемых виновников взрывов пока не смогли найти, до судебного разбирательства обвинений дело не дошло. Однако значительной части населения официальная версия причастности к взрывам чеченских боевиков (к которым к концу 1999 г. стали причислять и властные структуры Ичкерии) представляется достаточным доказательством их виновности. Чувства ненависти и мести по отношению к чеченским боевикам и всем их поддерживающим разделяет, согласно опросам, около трети населения, примерно столько же согласны с тем, что разрушенные селения в Чечне не стоит восстанавливать, что раненых боевиков не следует лечить, что с боевиками можно расправляться без всяких судебных процедур.
Отметим две существенные особенности восприятия новой чеченской войны в общественном мнении.
Во-первых, отсутствие заметного влияния военных потерь на настроения общества. Потери – даже по официальным данным – растут, но общая поддержка населением военных действий сохраняется.
Во-вторых, при общей воинственной напряженности общественного мнения желание непосредственного личного участия в операциях против террористов и мятежников выражено весьма слабо: так, в ноябре 1999 г. такую готовность выражали 19 % опрошенных (против 65 %).
В основе обоих феноменов, как можно полагать, лежит «постороннее», своего рода «зрительское» отношение к чеченским событиям. Это не равнодушие, не безразличие: в массовых настроениях есть и гнев, и боль, и печаль, – но преимущественно в тех формах, которые обнаруживают заинтересованные и взволнованные зрители действия, происходящего на экране, на сцене, отгороженной от публики. Непосредственную боль человеческих смертей и страданий испытывают близкие, соседи, товарищи попавших в беду. В целом по стране это, возможно, десятки тысяч людей. Для остальных миллионов война остается событием по ту сторону телевизионного экрана. Более того, значительная часть людей сознательно или не вполне сознательно отстраняет от себя самую тревожную, самую мучительную информацию, замыкаясь в собственных повседневных заботах. (Подобным же образом отстраняются люди и от ответственности за происходящее в стране.) Отсюда и решительное нежелание большинства людей участвовать в осуществлении той самой акции, которую они так активно (но только как «зрители»!) поддерживают. С этим связана и устойчивость оптимистических тенденций в общественных настроениях в тревожные месяцы осени 1999 г.
Так, собственно, работает в российском обществе феномен «астенического синдрома» – отсутствия нормальной болевой реакции на разрыв социальной ткани, а также на разрыв «связи времен» (реакция на действие не связана с учетом его последствий). Но это значит, в числе прочего, и то, что негативная, «агрессивная» мобилизация порождает преимущественно демонстративную консолидацию общества. Ни солидарно переживаемые чувства гнева и отмщения, ни единодушные голосования не означают реального единства активных действий.
Заслуживает внимания динамика представлений о перспективах военных действий на Северном Кавказе. Несмотря на рост победных ожиданий, особенно заметный к концу 1999 г., значительная часть опрошенных видит скорее пессимистические сценарии развития ситуации.
Как ни странно на первый взгляд, но за долгие месяцы войны отношение российского населения к возможности отделения Чечни от России не слишком изменилось: в сентябре 1999 г. лишь 14 % считали необходимым воспрепятствовать отделению Чечни любыми средствами, включая военные, в конце года такую позицию занимали чаще. Но ранее и теперь большинство готово смириться с независимостью мятежной провинции. Не потому, что одобряет действия чеченских сепаратистов, а чтобы «отделаться», отстраниться от всего узла тревог и противоречий. (Тот же астенический сидром.)
За несколько месяцев существенно изменилась политическая сцена страны – характер действующих лиц и самого действия. Характерное для минувшего десятилетия противостояние «демократов» коммунистам, определявшее (или, по крайней мере, обозначавшее) политические разграничения, явно уходит в прошлое. На первый план выходит «партия власти» («государственная» партия по своим претензиям).
Номинально все атрибуты многопартийности 90-х гг. сохранены, реально же в значительной мере утратили значение. Происходит процесс замены так и не созревшей многопартийности новым вариантом хорошо известной в свое время «государственной партийности». Если в советские времена единственная партия объявляла себя государственной силой, то сегодня государственная власть объявляет себя единственно «правильной» партией, подчиняя себе или оттесняя на обочину политической жизни все прочие организованные партийные силы. Партии, организованные «сверху», как правило, превращаются в простых сателлитов государственной власти, а те, которые пытались вырасти «снизу», на основе каких-то групп и течений, практически сходят со сцены.
При этом в соответствии с хорошо известной традицией нынешняя (президентская) власть склонна все чаще отождествлять себя с государством или даже с отечеством, а несогласие со своей политикой объявлять «антигосударственным» действием.
Первым результатом этих политических новообразований можно считать пересмотр всей функциональной конструкции сдержек и противовесов, которая составляла основу многопартийного механизма последних лет. Это фактически лишает своих традиционных ролевых функций на политической сцене не только компартию и ее марионеточного дублера, ЛДПР, но и силы демократической поддержки власти (выступающие сейчас под именем СПС) и демократической оппозиции («Яблоко»). Наглядные подтверждения этой тенденции – поддержка «чеченской» политики правительства большинством во всех партийных электоратах, почти плебисцитарные президентские выборы 2000 г., наконец, фактическое подчинение новоизбранной Думы требованиям исполнительной власти.
В итоге – довольно унылая картина опустевшей за десятилетие российской политической сцены. Политика капитулировала перед «завоевателем» – президентской властью. Власть и «послушный ей народ» вновь остаются наедине.
Опыт месяцев, минувших после фактической и формальной передачи высшей власти в России, приоткрывает главную «интригу» всего процесса: ожидаемая и провозглашенная как будто стабилизация при отсутствии реальных средств для этого (как «физических», так и «программных») превращается в создание новых «проблемных точек» и новые попытки балансировать между обострениями различного типа.
Воинственная мобилизация общества вокруг чеченского узла из острой превращается в «привычную», тем более что героическая («штурмовая») фаза операции – с водружением знамен на горные вершины и разрушенные кварталы Грозного – миновала безвозвратно. Любые же варианты рутинных «зачисток» и партизанских вылазок в сочетании с разговорами о переговорах, урегулировании или восстановлении чего бы то ни было при любом варианте управления/неуправляемости в регионе заведомо не героичны, не способствуют сохранению надолго мобилизационной напряженности.
Управляемая Дума и конструирование «госпартийности» дали явный, но временный выигрыш исполнительной власти. Административно-направляемая демократия – как в общеполитическом, так и в парламентском плане – превращает администрацию в «крайнего», ответственного за все и вся (каким и представлялся бесконечно критиковавшийся бывший президент). Если нельзя ссылаться на непослушную Думу или на нераспорядительное правительство, виноватыми оказываются президент и его администрация. Кроме того, всякое «механическое» единство, пригодное для противодействия (например, парламентским аутсайдерам), не обязательно окажется эффективным для принятия конструктивных решений.
2000Диагноз: агрессивная мобилизация с астеническим синдромом
Меня задел за живое один японец: «В вашей стране идет война, на вашей территории, а все живут, как будто ничего не происходит. У нас это было бы совершенно невозможно. Как же так, почему это возможно у вас?»
Дело, конечно же, не в географических необъятных пространствах, дело в устройстве пространства социального – с оборванными нервными окончаниями, убогой информационной сферой.
Последние 10 лет мы изучаем советского – и постсоветского – человека. Поначалу очень хотелось увидеть, как он меняется. Потом с огорчением наблюдали, как он сопротивляется изменениям. Мы успели увидеть нашего человека в трех агрегатных состояниях. Первое: состояние восторженной мобилизации – 70 % были уверены, что ситуация в стране улучшается во всех отношениях. Второе: разочарование и приспособление – раскол в обществе, демобилизация и деидеологизация, много разнообразных элит, Ельцин, с энтузиазмом и в полном единстве поддержанный на предыдущем этапе, с трудом переизбирается на второй срок. Наконец, третий этап: негативная (или агрессивная) мобилизация.
Это особый тип общественной организации: символы, лозунги похожи на те, что мы уже проходили: «Все под одним, за одною, на одного, друг за другом, шаг вправо, шаг влево…» – ну, сами знаете. Раньше казалось, что мы уже ушли от этого; оказалось, нет, на людей можно надеть ту же (или похожую) узду.
То, что мы сейчас переживаем, – агрессивная или негативная мобилизация – новое состояние общества. Ситуация невиданная: агрессия с астеническим синдромом.
Данные совсем недавних опросов: что вас волнует? На первом месте инфляция, на втором безработица, на третьем коррупция. События в Чечне на седьмом месте, главным событием их считает 6 % опрошенных. Это и есть астенический синдром: знать – и не знать, слушать – и не слышать.
Это превращение заняло весь прошлый год, только не календарный, а с августа 1998 г. по август 1999 г.
Соотношение поддерживающих Ельцина и неприемлющих его совсем недавно было 5: 72; после отставки – 15: 67, очень уж обрадовались этой самой отставке. На вопрос, что дало правление Ельцина, отвечали так: ничего хорошего – 40 %, ничего плохого – меньше 2 %. В плохом прежде всего поминают первую (какая она по счету на самом деле? Шестая? Седьмая?) чеченскую войну. Когда обсуждали импичмент Ельцина, половина опрошенных были за предоставление Чечне независимости; 76 % считали, что Ельцина надо судить именно за чеченскую войну – ее и сейчас оценивают как преступную, как второй Афган. Распад Союза занимает лишь шестое место в списке того, что вменяется в вину Ельцину.
Мобилизация – это высокая степень единомыслия в обществе. Наступать или вести переговоры? Примерно 70 к 27. А если будут большие потери в наших войсках (о потерях чеченцев, о потерях мирных жителей у нас и спрашивать не принято)? Примерно процентов на 15 уменьшается число сторонников наступления, на столько же растет число сторонников переговоров. Это единственное, что всерьез влияет на уровень агрессивности, – собственные потери. Поразительное единство, характерное именно для массовой мобилизации; агрессивность практически не зависит ни от возраста, ни от образования, ни от места жизни. Только женщины менее кровожадны, чем мужчины. Люди с высшим образованием более агрессивны, чем с образованием ниже среднего: они более идеологизированы. Но при этом наименее агрессивна Москва (примерно пополам сторонников наступления и переговоров), трудно сказать, почему. Может быть, сказываются пролужковские настроения, его общая оппозиционность Кремлю. Мало различий и в партийных электоратах: за наступление в Чечне – 80 % сторонников «Единства», 68 % – «Яблока», 65 % – «Союза правых сил», 60 % – «Отечества».
Сейчас все быстренько встают в единый строй – выдвигать Путина, избирать Путина, рукоплескать Путину; и элита встала в эту очередь в надежде ухватить кусочек власти или благ. Это значит, что первая, демократическая элита кончилась, исчерпала себя. Ответственность элиты действительно очень велика: оба раза в нашем веке режим рушился не потому, что народ больше не мог терпеть, а потому, что элита разлагалась.
Отсутствие порядка порождает тоску по сильной руке. Мы это видели давно, но считали, что такой сильной руки нет и ее обладателю не на что, не на кого опереться в сегодняшней России. Мы, кажется, ошиблись. Говорят о манипулятивной демократии, о том, что телевидение, печать могут сделать с людьми что угодно; я в это не верю. Одной манипуляции тут мало. Манипулировать можно теми, кто хоть вполсерьез готов к этому.
Ближайшая аналогия нынешней ситуации – август 1914 г., когда были страсть, энтузиазм, но войны как беды еще не было. С 1941 г. сравнивать бессмысленно, там война началась неожиданно и сразу как беда. А в августе 1914 г. этого состояния – «война как беда» – еще не было.
Татьяна Ивановна Заславская в свое время очень метко назвала нашего человека: лукавый раб. Он за порядок, но сам он обязательно попробует этот порядок обойти. Все процессы у нас с хитрецой: лукавый раб подчиняется, а сам думает, как уклониться.
Что же произошло с людьми? Выиграли от перемен 15 %, проиграли – 73 %. Но большинство к ним или уже приспособились (22 %), или скоро приспособятся (еще 29 %). Даже из тех, кто считает себя проигравшим, большинство приспосабливается. Но в сознании при этом происходят некоторые сдвиги. Все больше и больше людей считают, что сильный лидер для страны важнее законов, что западная демократия несовместима с российским менталитетом. До 80 % дошло число тех, кто уверен, что прежде надо накормить страну, а потом уж заниматься демократическими преобразованиями.
Осенью 1999 г. мы спрашивали: «Что, по вашему мнению, значит падение Берлинской стены для мира?» 16 % оценили последствия как положительные, 52 % – как скорее положительные. «А как это скажется в нашей стране?» 40 % были уверены, что нам от этого станет хуже. Всем другим странам лучше, а нам – хуже.
Люди в основном позитивно относятся к сближению с Западом и все же не прочь вернуться к тому, что было до 1985 г. Фактически перелом в отношениях к Западу произошел, но пока мы предпочитаем делать вид, но это не так. Пик антиамериканских настроений пал на события в Югославии, потом они снизились, и сегодня за сближение с Западом высказывается большинство – примерно столько же, сколько за продолжение воины в Чечне до победного конца.
Самый популярный отечественный политический деятель – Брежнев, но в последние годы быстро росло число поклонников Сталина.
Сегодня, когда мы попали в высокотехнологичный век, не прожив предварительно историю Европы, мы удивляем всех своим немыслимым доверием телевидению. Мы получили верхушку технологической цивилизации без всего остального, включая гуманитарные установки. Известно, что чем образованнее человек, тем критичнее он относится к массовой информации и массовой культуре. Мы до этого еще не дошли.
Верят ли люди тому, что сообщает телевидение о наших потерях в Чечне? Доверяют только 28 %, нет – 67 %. Спрашиваем: как назвать то, что происходит в Чечне, предлагаем несколько вариантов. Большинство выбирают то, что слышат по телевидению: антитеррористическая операция. Формулировка «карательная операция в мятежной провинции» почти не нашла сторонников. То есть мы, конечно, не совсем верим, но другого языка для описания событий не имеем.
Мы все время противопоставляем друг другу народ и власть, но власть – тоже народ. Все признают, что «власть портит», но согласных с утверждением, что «каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает», очень мало.
Чего ожидают от Путина в Чечне: военной победы или мирного урегулирования? Мирного урегулирования ждут те же 23–24 %, которые и в ответах на другие вопросы не проявляли агрессивности. Очевидно, вот это и есть реальная оппозиция наступательному курсу правительства. Их немного, но и не так уж мало, столько сторонников было у большевиков в конце 1917 г. Но они, в отличие от большевиков, никак не организованы, рассредоточены по разным партиям, слоям, группам. Более организованной, сознательной, ответственной элиты не видно.
Вот какие чувства вызывают у населения сообщения о событиях в Чечне (опросы ноября – декабря 1999 г.): удовлетворение – 21–24 %, стыд – 7–9 %, тревогу – 57–59 %.
Притом сторонники мирного решения никак не объединяются и даже не пытаются это сделать, нет антивоенного движения, пусть не такого сильного, как во Франции, воевавшей в Алжире (вот где прямая аналогия: там в конце концов и пошли на перемирие, на отделение, на полный уход из страны), или как в США времен Вьетнамской войны, даже такого слабенького движения, какое все же было во время первой чеченской, совсем нет.
Мы живем в лукавом обществе, в котором человек то восторгается тем, чем его призывают восторгаться, то озабочен тем, чтобы его это не коснулось. Лишь бы бомбы не падали на меня, лишь бы воевать не пришлось мне и моим близким. Ответы на вопрос: «Вы сами пошли бы воевать в Чечне?» Готовы – 18 %, не готовы – 67 %…
Можно утешаться тем, что во Франции после грязной и кровавой революции до тех пор, пока установилась настоящая демократия, прошло двести или полтораста лет, но меньше ста не дает никто. Мы в самом начале этого пути. Так что если смотреть на происходящее через телескоп, с позиции истории, то все нормально, все идет как надо. Но мы живем здесь и сейчас, мы должны мерить события своей собственной жизнью…
2000Август-91: несостоявшийся праздник?
Год назад, в июле 2000 г., граждане России следующим образом оценивали события 19–21 августа 1991-го:
Почти 80 % видят в том августе трагедию или просто эпизод. Как это часто бывает, мнения сильно разнятся в зависимости от возраста: для тех, кто моложе 50, это был скорее «эпизод», для пожилых – трагический перелом жизни. О демократической революции говорят прежде всего москвичи (каждый четвертый); собственно, только столичные жители тогда и были непосредственными свидетелями происходившего. Примечательно, что такое распределение мнений наблюдается уже много лет почти без заметных перемен.
Можно соглашаться или не соглашаться с наиболее распространенными оценками исторических фактов, далеко не всегда они являются верными. Но важно понять, почему в обществе доминируют именно такие представления.
Очевидно, что общество действительно мало знает о том, что же произошло в «те» дни. Точнее, многие слышали или читали, а москвичи и видели, как это происходило, но мало кто представляет себе, что же это было. Глубинный смысл событий никогда не виден вблизи и простым глазом.
Яркие впечатления бурных дней августа вскоре затмились сложными переживаниями, вызванными последующими потрясениями и разломами: paзвалом Союза, тяготами экономических реформ, политическими интригами, катаклизмами «в верхах» и т. д.
Из бесславного провала опереточного переворота (ГКЧП) не получилось народного праздника, не утвердился в массовом сознании образ Августа как символического начала новой эпохи в истории страны. Народ (а точнее, тысячи встревоженных, а потом восторженных демократически настроенных москвичей) был скорее свидетелем, чем участником событий. Толпы людей на московских улицах возмущались бессмысленным вводом в город танковых колонн, тысячи составили знаменитое тогда «живое кольцо» вокруг Белого дома. «Символы протеста» противостояли «символам порядка». Реальное соперничество, представляется, происходило на других уровнях – в сложных интригах и переговорах между тогдашней командой Ельцина и силовыми структурами (армия, госбезопасность), что и определило мирный исход конфликта.
Ближайшая, хотя и слабоватая аналогия подобного хода судьбоносных событий в отечественной истории – Февраль 1917-го. Монархия обвалилась быстро, бесславно, при чисто зрительском участии «народа». Героев и победителей тогда не оказалось. А дальнейшее развитие событий сделало невозможным превращение Февраля в народный или официальный символ, праздник новой жизни. Известная британская формула смены правления («Король умер – да здравствует король») в русском переводе приобрела примерно такой странноватый вид: «Монархия умерла, да здравствует… неизвестно что».
Нечто подобное мы видели в том Августе. Бездарная попытка «военизированного» спасения партийного господства привела к обвальному и бесславному концу этого господства (а тем самым и к гибели советской системы и советской империи, на этом державшихся). Но эта гибель не открыла «дней демократии прекрасного начала». Слава победителя заслуженно, но ненадолго досталась Ельцину – и довольно быстро была им растрачена (притом в большой мере зря). Возможность радикальной перемены власти – если она и существовала в момент августовского безначалия – была упущена. Оказалось, что власть некому было брать всерьез и по-новому.
Водоворот событий Августа как будто застал врасплох все общественные силы страны, как консервативные, так и демократические; ни попытка гекачепистского переворота, ни ельцинский контрпереворот не были сколько-нибудь подготовлены. Хотя говорить о полной неожиданности происшедшего так же невозможно, как, например, о «неожиданности» германского наступления в июне 1941-го. Кризис перестройки и власти Горбачева разворачивался на протяжении полутора-двух дет, с 1990 г., а в конце года он стал очевидным, об этом кричали депутаты, члены политбюро, журналисты, генералы, патриоты. Военный переворот с конца года готовился почти по правилам гласности, с ведома или при участии президента Горбачева. Но никакая сторона не была готова к серьезному противодействию.
Отечественная демократия (точнее, настроения и группы демократической ориентации) практически целиком полагалась на добрую волю и возможности Горбачева, не имея ни сил, ни воли для того, чтобы определять и отстаивать собственные позиции. Поэтому не получалось у нее и влияния на ход событий.
За полузабытым Августом последовал всем памятный Декабрь, покончивший с великой советской державой. Главная жертва Августа – Союз ССР, именно это превращает память в трагическую для значительной части населения. Распространенная логическая ошибка («после того – значит вследствие того») побуждает многих винить в распаде СССР как будто бы победивших в августе демократов, Ельцина (все же чаще Горбачева). Часто забывают о том, что предшествовало Августу: «суверенизация» и беспомощные попытки власти ей противостоять, кровавые «эксперименты» в Риге и Вильнюсе, попытка ввести военное положение в Москве в марте, лукавый референдум в апреле (с предложением «сохранить обновленный – неизвестно, кем и как – Союз»), «новоогаревский» процесс (бессмысленные дискуссии о федеративном или конфедеративном будущем разваливавшегося Союза).
Распад СССР и сейчас воспринимается большинством российских граждан как трагическое событие. В марте 2001 г. сожалели об этом 70 %, не жалели – 24 %. Почти треть опрошенных считают, что развал державы был неизбежен, 60 % – что его можно было избежать.
Наиболее распространенные суждения о том, что можно было сделать 10 лет назад для сохранения Советского Союза:
Говорят, что история не знает сослагательного наклонения («что было бы, если…»). Но люди от такого способа размышления отказаться не могут, тем более что речь идет о недальней, «вчерашней» истории. В конкретной ситуации 1991 г. большинство перечисленных выше вариантов скорее всего просто были нереальными. Это показал 1991 г., то есть ход событий до Августа и в самом Августе. Ни у кого не было сил для того, чтобы сохранить Союз в прежнем виде или преобразовать его в жизнеспособное сообщество, долго назревавшая «танковая атака» могла произойти раньше или позже (как известно, она была приурочена к попытке подписания Союзного – фактически федеративного – договора). Вряд ли это могло тогда серьезно повлиять на ход событий. Положение могло бы быть иным, если бы, скажем, в 1985–1986 гг. вместо борьбы с водкой Горбачев со своей командой опередил «сепаратистов» и занялся реорганизацией государственного устройства. Но не было у этой команды ни достаточного авторитета, ни, по всей видимости, представления о том, насколько обветшала вся партийно-государственная конструкция. Да и самые решительные противники режима догадались об этом только в том же Августе…
В августе 1991 г. кризис системы перешел в агонию, которая продолжалась – по крайней мере формально – до конца года, до спуска красного флага с Кремля. А выяснять, что делать дальше, стали уже после этого, в катаклизмах и конвульсиях 1992, 1993, 1994-го и далее почти везде.
Государства, нации, граждане всегда и везде нуждаются в символическом подкреплении собственной консолидации, своей коллективной сущности. Такими символами служат определенные даты и места событий, имена героев и жертв, флаги, изображения, памятники, мелодии и пр. Причем любой символ имеет как свою историю, так и свою мифологию, второе важнее: чтобы превратить событие или знак в национальный символ, его значение чаще всего нужно раздуть, а то и просто выдумать.
Самая известная в мире праздничная дата – 14 июля, день взятия Бастилии, национальный праздник Франции – символ, «исторически придуманный». Историки знают, что на указанное число 1789 г. королевская тюрьма была пуста и защищать ее было некому, а причиной жертв была неразбериха среди восставших. А чтобы этот символ утвердился в официальном календаре, понадобилось чуть ли не 100 лет с революциями, реставрациями, войнами. Посмертно сохранившийся в нашем календаре красный день 7 ноября (25 октября), торжественный символ начала советской эпохи, включает чисто легендарные компоненты («залп “Авроры”», «штурм Зимнего дворца»).
Символы революционных надежд по мере стабилизации общественной системы сменялись символикой и стилем державного величия. Параллельно происходило вытеснение живого, эмоционального начала символики мертвящей казенщиной, которая никого не могла вдохновлять или консолидировать.
В Августе с шумом и грохотом на весь мир была как будто официально отвергнута (еще даже в масштабах доживавшего последние месяцы СССР) коммунистическая идеология со всеми своими формулами и символами. Вместе с ней – как многие ожидали – должна была исчезнуть и стена, десятилетия разделявшая «два мира». Формально так и произошло: появилась возможность без труда пересекать границы, читать и слушать «чуждые» тексты и пр. Но сохранились, а иногда даже укрепились внутренние барьеры, отделяющие «свой» мир от всего остального. Ушли в прошлое заклинания о непримиримой противоположности социализма и капитализма, а значительной части населения внешний мир все еще кажется чужим и враждебным, стремящимся Россию унизить, ограбить, поработить, расчленить и т. п. Поэтому довольно легко находят массовую поддержку призывы к противостоянию Западу, неприятию ценностей свободы личности и демократического устройства общества. В массовом сознании работает логика басенной лисы: недоступный плод считается «зеленым», непригодным для «нашего стола».
Да и сами идолы и символы советского времени, опрокинутые Августом, никогда не были всерьез преодолены в массовом сознании. Соблазны «того» порядка, «того» равенства, «той» справедливости все еще живут и действуют на многих. В том числе – что стоит подчеркнуть – на заметную часть молодых людей, не имевших советского опыта.
Как только стало известно о жалком конце «путча» ГКЧП, в Москве стали ломать памятники советским деятелям. Самый громкий эпизод восторженной расправы с символами – сокрушение памятника Дзержинскому в Москве перед зданием бывшего КГБ. (Возможно, массовый гнев тогда направили на статую, чтобы уберечь от него само учреждение.) Как вспоминал потом Ю. Лужков, после демонтажа «железного Феликса» в толпе раздавались призывы снять также громадный монумент Ленину на Октябрьской площади, и тогдашний вице-мэр столицы был готов это сделать; позднее время и общая усталость помешали этому. Другие памятники (Свердлову, Калинину) сняли без большого шума. Но слом символов далеко не означал избавления от их влияния, то есть от влияния лозунгов и социальных мифов, которые за этими символами стояли. Публично – и то не слишком убедительно – осуждены «эксцессы» сталинских лет и преследования диссидентов, но не вся система полицейщины, доносов, массового террора и покорного власти правосудия. Пока сохраняются в людях восторженно-почтительные оценки организаторов и исполнителей грязной работы сыска и расправ, будут и попытки вернуть на свои места (не только на площадях, но и в умах, и душах людей) символы прошлого. И сами памятники будут оставаться скорее орудиями современного политического противостояния, чем знаками истории.
Своих же символов Август-91 не создал, и это служит одним из признаков его ограниченности, даже неуверенности в себе. Практически никем не воспринимается эта дата как праздничная. (Одно время, правда, пробовали устраивать некое действо под странным именем «Виват, Россия!», потом – отмечать «день российского флага»; все это без малейшего успеха.) И осталась в качестве «изначального» праздника страны дата 12 июня, связанная с двусмысленной Декларацией 1990 г. о российском суверенитете. Она бросила вызов союзной державности СССР, но не с позиций демократии, а с позиций узковатого российского патриотизма. Не стали организующими народную память символические (по сути, случайные) жертвы августовского уличного противостояния, воспоминания о них давно заслонили чудовищные и бессмысленные жертвы политических разборок в октябре 1993-го, а потом и чеченской бойни.
Во время демократических митингов конца 80-х трехцветный флаг служил символом демократии, противостоявшей официально-советскому красному. В дни путча К. Боровой с товарищами пронесли по улицам Москвы к Белому дому громадное трехцветное полотнище, ранее опоясывавшее большой зал бывшего почтамта; через пару дней триколор был объявлен государственным флагом России. А позже, при режиме, который предпочитал символику и стиль скорее царской монархии, чем демократии, тот же флаг трактовался уже как наследие царя Петра. И ничего удивительного (во всяком случае, по здравом размышлении) в том, что, не найдя своей «Марсельезы», власть, при одобрении большинства населения, обратилась к державным мелодиям прошлого времени.
Сейчас трудно даже представить себе, что когда-нибудь – когда утечет много воды, крови и слез – Август-91 будет восприниматься как начало нового отсчета времени в отечественной истории. Все же исключить такой вариант нельзя.
2001Весна 2001-го: дела и символы
Если сравнить первую и нынешнюю, вторую, весну президентства Владимира Путина, бросаются в глаза существенные отличия в обстановке, стиле и правилах поведения всех субъектов, действующих на социальном поле. Чем меньше реальных успехов (экономических, международных, «военно-чеченских»), тем большее значение приобретают такие символические акции, как продвижение «александровско-михалковского» гимна и «покорение» НТВ. Примечательно, что в обоих случаях была примерно одна и та же расстановка действующих сил, схожие попытки сопротивления; использовались, правда, разные средства давления со стороны «наступающей» стороны. Победители – по крайней мере на данном этапе – определились, первые страсти несколько улеглись, приходит время «считать раны» и анализировать уроки и последствия. Как известно, скорее именно дальними, не всегда учитываемыми последствиями в конечном счете определяются различия между победами историческими и пирровыми, между событиями трагическими и фарсовыми, между повторением и имитацией пройденных образцов.
Традиции социологического анализа вынуждают рассматривать общественные события прежде всего в плане действий и переживаний социально значимых групп. За рамками внимания остаются, как правило, намерения и мотивы отдельных действующих лиц, распределение ролей между инициаторами, вольными и невольными исполнителями, виновниками, подставными фигурами и пр.
Сражение за «четвертую кнопку»: итоги и уроки
Для переподчинения НТВ потребовался почти целый год атак, маневров, интриг с использованием обширного набора разнородных и противоречащих друг другу средств. За прокурорским нажимом следовало предложение теневой сделки (пресловутый «протокол № 6» – свобода в обмен на молчание), за ее провалом – подготовка «акционерского» переворота при столь же многообразных и противоречивых приемах прикрытия. Президент хвалил коллектив непослушного канала и даже восхищался сердитыми «Куклами», утверждая, что его беспокоит только финансовое положение компании. В то же время «загонщики» из журналистского цеха, не щадя сил, обличали злонамеренность действий энтэвэшной команды и корыстолюбие ее лидеров. А кто-то из услужливых социологов спешил сообщить о падении популярности канала. Оставив политологам грядущих времен разбираться в пропорциях простого лукавства и неупорядоченного разноголосия в этом хоре, займемся более интересной проблемой – социальными итогами происшедшего и содеянного.
Отметим прежде всего, что длительная борьба вокруг НТВ оказалась серьезным испытанием для всех сил, так или иначе к этому действую причастных. В значительной мере ристалище носило скрытый характер, все стороны – не всегда, пожалуй, сознательно – использовали ложные ходы, прикрытия, маски.
Помимо непосредственных участников противостояния, в действии участвовали различные группы сочувствующих, злорадствующих, наблюдателей и т. д. Подлинный баланс приобретений и потерь всех сторон (речь идет о влиянии, доверии, имидже, иллюзиях; финансовые проблемы обсуждать не берусь) подсчитает время; пока можно подвести лишь предварительные итоги.
«Власть» (отнесем к ней все ее ветви и разновидности – от президентской до прокурорской и судебной, явно, хотя и не в унисон, действовавшие заодно) заплатила за свою победу довольно дорогой ценой. Вряд ли можно усмотреть в ее акциях на протяжении года наличие заранее продуманного плана, скорее всего – насколько это, конечно, видно с интересующей нас стороны – имели место сменяющие друг друга серии силовых импровизаций, сочетаний грубого наката и довольно изощренного лукавства. Президенту пришлось неоднократно использовать и отставлять в сторону маску нейтрального гаранта законности, ценителя талантов киселевского коллектива. «Свита» еще раз показала, как она может играть президента (или за президента).
Как это принято у нас, власть оправдывается за свои действия только перед чужими. И только так, как это она делала встарь. Официальный мидовский ответ на озабоченные голоса западных дипломатов: у вас самих сокращают работников телевидения. Проще говоря: «от такой и слышу»… Невыигрышные последствия применения таких аргументов придется долго заглаживать.
Длительная осада «крепости НТВ» придала ее защитникам своего рода терновый венец. Упрекать их стоит за многие ошибки и слабости, за ложные надежды, за неверные шаги, за напыщенность и пр. Не время сейчас этим заниматься: пинать поверженных – не самое достойное занятие. Предметом яростных атак все последние месяцы служили скорее не слабые, а сильные стороны работы энтэвэшной команды – то, что им часто удавалось (или, может быть, точнее, приходилось) говорить на всю страну вещи, которые не решались или не умели сказать другие. И совершенно неважно при этом, какие мотивы в большей или меньшей степени определяли поведение отдельных участников – престижные, карьерные, денежные и т. д. В любом человеческом поступке можно отыскать мелкие или случайные факторы: кого-то недохвалили, кому-то недоплатили, кому-то припомнили прошлые грехи, на кого-то действует мотив «страшной» (в смысле мелкой личной) мести и т. п. Не столь уж интересно, по какому поводу рассорились такие-то Иван Иванычи с такими-то Иван Никифорычами, важно, какие общественно значимые последствия это имело или будет иметь. И не так существенна чистота помыслов и дальновидность замыслов каждой стороны конфликта, важно, что из этого получилось для общества.
Сердитую – или, как у нас принято выражаться, «неконструктивную» – критику мало кто любит. Если оставаться в рамках закона, ее можно терпеть, на нее можно отвечать, наконец, ее можно обжаловать в судебном порядке. Но если следовать нашим историческим традициям, набор возможностей оказывается иным: от безжалостных расправ до показного безразличия (последнее – при Ельцине). Поминать знаменитую фразу Вольтера («Ваши взгляды мне неприятны, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы могли их высказывать») практические политики не склонны, а уж тем более не готовы следовать этому принципу. Возможно, какая-либо будущая власть в нашей стране признает не только допустимость, но и необходимость открытой политической оппозиции.
В пылу полемики «старое» НТВ иногда называли «оппозиционным», на деле оно было порой лишь трибуной для выражения несогласия с официальной «линией», не более того. К тому же несогласия неорганизованного и слабого; чтобы приписать ему роль оппозиции – к сожалению, не существующей, – требуется большая доза сугубо «придворного» воображения.
Но здесь имеется еще одна, и довольно существенная, деталь. Как известно, никакие, пусть самые резкие выпады против президента в «Итогах», «Куклах» и пр. ни в какой мере не поколебали уровень его электоральной поддержки и его рейтинги в общественном мнении, равно как критическое отношение к чеченской кампании, выраженное в ряде передач НТВ, не уменьшило – до поры до времени – ее массового одобрения. Это значит, что проблема не столько в массовом воздействии телевизионной критики, сколько в уровне – или стиле – отношения к ней со стороны влиятельных элитарных групп. (А возможно, и в отношениях «внутри» оных.)
Тем самым «дело» НТВ превращается в «дело» самой власти, в показатель восприятия действительности со стороны разных групп и персон из числа власть имущих.
Борьба за «четвертую кнопку» высветила такой угол нашего бытия, как состояние журналистского сообщества, да и прочих групповых и коллективных образований. Оказалось, что это сообщество с удивительной быстротой разлагается от одного строгого взгляда «сверху», а каналы, газеты, авторы, недавно пользовавшиеся репутацией солидных, легко – повинуясь черной профессиональной зависти или инстинкту самосохранения – вовлекаются в «общий» поток заказных поношений. А попытки противостоять этому напору с помощью дружных «коллективок» («возьмемся за руки, друзья…»), как всегда, оказываются ненадежными и недолговечными.
В этом, впрочем, мало нового. Мы получили еще одно свидетельство закономерного конца той гласности, в которой экранные и газетные персонажи представлялись лидерами общества, а телевидение было не только «важнейшим из искусств», но и рычагом переворота (отчасти – воображаемого) в массовом сознании. И которая, увы, держалась доброй волей или безразличием высшего начальства, а потому и была обществом не заслуженной, не соответствующей уровню его «гражданственности». Если перефразировать известную формулу, общество получило больше гласности, чем могло (политически и экономически) удержать. В конечном счете независимо от чьих бы то ни было заявлений и намерений именно этот предмет, а не «команда» НТВ, не союз Киселева с Гусинским, подвергся трудному испытанию на прочность. Результаты испытаний – если судить по данным опросов общественного мнения – неоднозначны.
Говорить о массовом равнодушии в данном случае не приходится. В марте этого года 36 % опрошенных по России были обеспокоены наступлением на НТВ. В апреле, уже после перехода канала под газпромовский контроль, 50 % россиян выражали недоумение, тревогу, возмущение, страх и только 5 % (пять!) отметили свое удовлетворение по этому поводу. Более высокий уровень беспокойства демонстрировали москвичи: здесь более половины, 55 %, выказывали тревогу (против 11 % довольных ситуацией вокруг НТВ). Почти половина столичных жителей выразили симпатии митингам в поддержку компании. Да и сам факт проведения столь массовых митингов – явление примечательное. Правда, в данном случае можно говорить лишь о кратковременной вспышке митинговой активности. Когда стало ясно, что дело проиграно, явные признаки общественного протеста как будто исчезли, ушли вглубь.
Давно, очень давно не видели исследователи столь высоких показателей общественной тревожности по внутриполитическому поводу. Еще один важный момент: впервые за последние годы наиболее встревоженными оказались самые молодые. (Кстати, активность молодежи была заметна простым глазом – тоже впервые – и на митингах поддержки.) Развитие событий показало, однако, что «власть» – при всех реверансах в адрес интеллигенции – может спокойно игнорировать мнение наиболее образованной части населения. Во всяком случае, до поры до времени.
Но теперь о другой стороне медали. Почти половина (46 %) опрошенных в апреле (это относится, хотя и в несколько меньшей мере, и к москвичам, и к высокообразованным, и к молодым) приняла на веру «финансовую» версию объяснения ситуации вокруг НТВ, еще 11 % усмотрели источник кризиса в амбициях Киселева, 36 % сочли главными инициаторами скандала Гусинского и Киселева, 20 % – Коха, Йордана, а также Путина и его окружение.
Это значит, что общество наше готово тревожиться в связи с ситуацией вокруг НТВ, но далеко не готово понимать ее. Слишком сильны фобии в отношении «олигархов» и слишком велико доверие к официальным источникам информации, особенно если они освящены авторитетом первого лица.
На уровне деклараций общественное мнение (в большинстве своем) как будто неизменно признает ценность свободы слова и критики, ограничения такой свободы поддерживаются реже, хотя не так уж редко. Так, в нынешнем апреле 53 % опрошенных согласились с тем, что для понимания происходящих событий нужно знать различные точки зрения; по мнению 36 %, «разноголосица сбивает с толку, СМИ должны освещать события с одной, правильной позиции». Отвечая на другой вопрос, лишь 11 % сочли, что пресса должна поменьше пугать людей всякими разоблачениями, а больше говорить «о хорошем, о наших успехах». Но 42 % согласны в том, что следует говорить народу всю правду о нашей жизни, какой бы она ни была, и столько же (41 %) предпочли, чтобы критическая информация была «взвешенной» и «не наносила вреда стране»… Получается, что и свобода слова, и ограничения ее могут найти определенную массовую поддержку. Здесь есть очевидная основа для манипуляции мнениями людей.
В дни самого напряженного – как казалось иногда – общественного противостояния вокруг судьбы НТВ от зарубежных коллег приходилось слышать вопрос-упрек: почему российская публика не действует, как «Прага» (имеется в виду борьба за контроль над чешским государственным телевидением осенью 2000 г.). Ответить можно довольно просто: потому, что не может так действовать, а не может потому, что за плечами «Праги-2000» стояли и «Прага-1989», и «Прага-1968»; нам же школу ответственности общественного протеста проходить не довелось. Сумеем ли мы ее когда-нибудь пройти или будем искать утешение в бессмертном «проекте о введении единомыслия в России» – вопрос открытый и надолго таким останется.
Можно предположить, что торжественный разгром НТВ и других информационных средств «Медиа-МОСТа» на время затруднит публичное выражение сомнений и несогласий во всем корпусе наших СМИ, но вряд ли сможет с ним покончить. Как-никак до всеобщего единомыслия и пароксизма страха нам пока далеко…
Чечня: Буданов и другие
Вялотекущее развитие событий в Чечне и вокруг нее как будто не принесло за последние месяцы ничего неожиданного. Но именно эта почти «привычная» обстановка неумолимо поворачивает общественное внимание к тем сторонам событий, которые до недавнего времени оставались в тени или о которых просто не хотелось думать.
Военные действия или переговоры в Чечне?
(в % от числа опрошенных; N = 1600)
Сначала – несколько цифр из последних исследований. Во-первых, никогда еще за время нынешней чеченской кампании не выражалось так сильно массовое неприятие войны. Вот довольно наглядная картина изменений в общественных настроениях за последний год (распределение ответов на вопрос, как следует поступать в Чечне – продолжать военные операции или вступить в переговоры с противной стороной):
Как, по вашему мнению, завершится конфликт в Чечне?
(в % от числа опрошенных; N = 1600)
Как видим, за год сторонников продолжения военных операций стало почти в два раза меньше, а число сторонников переговоров возросло более чем вдвое.
И, во-вторых, никогда еще не были столь пессимистическими мнения россиян о результатах этой войны.
Комментарии, как говорится, излишни. Замечу лишь, что в полученных ответах речь идет только о непосредственных, «военно-территориальных» последствиях, притом ограниченных рамками собственно Чечни и Северного Кавказа. Между тем видимые сейчас последствия чеченской войны далеко выходят за эти рамки. Объявленное около года назад окончание крупномасштабных военных действий на территории мятежной республики не принесло ей ни мира, ни порядка, но выдвинуло на передний план проблемы экономических, политических, нравственных последствий – притом долговременных. Согласно февральскому опросу, только 15 % надеются, что в ближайшие годы удастся наладить мирную жизнь в Чечне; по мнению 45 %, для этого потребуется много лет; 33 % вообще не видят шансов на мир. По данным апрельского опроса, улучшение положения в Чечне за последние полгода отметили 20 %, ухудшение – 15 %, отсутствие изменений – 55 %.
С самого начала кампании было ясно, что она затрагивает не Чечню только, но всю Россию – уже потому, что с ней связывались политические расчеты и карьеры всероссийского масштаба. Новые измерения этот масштаб приобрел тогда, когда во всех российских регионах стали считать свои людские потери, сталкиваться с проблемами беженцев, положения чеченской диаспоры и т. д. Чисто экономическая цена войны (по данным российско-чеченской администрации, на полное восстановление хозяйства республики требуется около 100 млрд руб., которые можно вычесть только из госбюджета России). Но еще больше не поддающаяся измерениям моральная цена войны, которую приходится и придется платить российскому обществу.
Даже самые последовательные «ястребы войны» не решаются говорить сейчас о скором ее окончании (если, конечно, речь не идет о переименовании «контртеррористической» операции, скажем, в «миротворческую» или какую-нибудь еще). В послании парламенту Путин предположил, что на окончание конфликта потребуется не меньше времени, чем ушло на его разжигание. Начало конфликта, правда, можно отсчитывать по-разному – и с 1994-го, и с 1944-го, а в забытом сейчас договоре Ельцина – Масхадова говорилось даже о 400-летнем противостоянии Чечни с Россией. Важнее представить, что можно было бы считать действительным окончанием конфликта. Для реинтеграции Чечни в РФ (ограничимся этим вариантом исхода) недостаточно установить военно-милицейский контроль над территорией, даже дополненный какой-то авторитетной местной администрацией, восстановить инфраструктуру и хозяйство, обеспечить занятость и нормальный доход населения, вернуть и устроить беженцев и т. д. Надо еще, чтобы чеченцы, а также их дети и внуки (минимум три поколения) считали себя достойными гражданами России, а жители других регионов признавали их таковыми. Сейчас трудно даже представить себе, с какого момента, с какого из будущих поколений можно было бы начать такой отсчет времени.
В марте этого года 58 % опрошенных жителей России соглашались с тем, что чеченцы – «такие же граждане России, как и русские», не согласны с этим были 34 %. К сожалению, у нас нет возможности проверить, какая часть жителей Чечни сейчас готова считать себя российскими гражданами.
Здесь-то и возникает проблема тягчайшего «морального» счета войны, который придется оплачивать нынешним и будущим поколениям. Всякая война закрепляет в людях злобу, ярость, насилие, в том числе неконтролируемые. Это относится и к войнам, которые считаются вынужденными, освободительными, оборонительными. Об этих сторонах той, «большой» войны у нас стали писать лет через 20–30 после ее окончания (Василь Быков, Вячеслав Кондратьев, ранний Валентин Распутин…). Разбираться в нравственных последствиях войны чеченской куда сложнее хотя бы потому, что это война внутренняя, и заниматься этим придется сегодня, завтра и много лет спустя.
Из всех событий, связанных в последние месяцы с чеченским узлом, самым значимым в этом плане представляется не очередная серия взрывов, не переезд временной администрации из одного укрепрайона в другой, не дискуссии в ПАСЕ и пр., а «дело» полковника Буданова и то, что за ним стоит. Массовые страсти вокруг Буданова – и со стороны обвиняющей, и со стороны, защищающей его, – накалены потому, что его поступок (убийство чеченки) никак нельзя считать исключением, выходкой садиста, пьяного и т. п. Бессудная расправа (в ходу более осторожный термин «внесудебное разбирательство») с реальным или предполагаемым виновником – непременная принадлежность накаленной обстановки и соответствующей психологии. Особенно если речь идет о войне партизанской, колониальной, где отсутствуют различения «фронта» и «тыла», воюющего и мирного населения и где, конечно, не действуют никакие законы и конвенции. За историей Буданова стоит сейчас тень массовых расправ с предполагаемыми боевиками и их «пособниками», следы которых обнаружены в Ханкале и других местах Чечни. Осудить сурово одного преступника и не осудить обстановку, которая плодит преступления, нелепо; осудить «мягко» – скандально. Судебная история «дела» Буданова поэтому вряд ли имеет разумную перспективу.
Чрезвычайно показательно, на мой взгляд, распределение мнений россиян о том, как поступить с Будановым (опрос проведен в марте). Только 11 % опрошенных считают, что полковника нужно «осудить по всей строгости закона», 27 % – что следует проявить снисхождение, учитывая «обстоятельства военного времени и боевые заслуги Буданова», 16 % – что он должен быть признан невиновным, «поскольку в борьбе с бандитами оправданы любые средства», еще 24 % полагают, что его просто оклеветали. 22 % затруднились ответить. Чаще всего предлагают снисходительно отнестись к Буданову более молодые респонденты (до 40 лет). За суровое наказание высказываются 19 % имеющих высшее образование и только 9 % с образованием ниже среднего.
А практику «внесудебных разбирательств» (читай: бессудных расправ) с чеченцами, задержанными в ходе «зачисток», считают оправданной более трети, 35 %, неоправданной – 45 %. Причем ни возраст, ни образование опрошенных почти не влияют на распределение суждений: так, у наиболее образованных одобряют расправы 32 % против 51 %.
Напомню, что это мнения «всероссийские»; у распаленных ненавистью участников боев и «зачисток» (а также у жителей соседних российских регионов) уровень одобрения расправ куда выше. И еще одно напоминание: речь идет о Чечне, но кто не знает, что «внесудебные разбирательства» с обвиняемыми и подозреваемыми по разным поводам происходят достаточно часто и далеко от Кавказа? И чаще всего не встречая ни юридического, ни массового осуждения… На этом фоне все официальные отмежевания от недавнего призыва Бислана Гантамирова уничтожать террористов «на месте преступления» кажутся по меньшей мере лукавыми. На наше массовое сознание (да и на официальное тоже) все еще действует доисторическая традиция «око за око», «со злодеями по-злодейски» и т. д. со всеми остановками. Гнойник чеченской войны питает и подкрепляет эту пагубную традицию, вбрасывая в российское общество потоки неутоленной ярости, насилия, бесправия. И оружия тоже. Давно замолкли голоса тех, кто рассчитывал (или делал вид, что рассчитывает) на «возрождение» армии и патриотического сознания в ходе усмирения мятежной провинции.
Конечно, дикие жестокости, насилия, показательные расправы в обстановке войны без правил, подобной нынешней чеченской, совершаются всеми сторонами, и каждая приписывает себе право на возмездие. Такие войны, как показывает опыт минувшего века, выиграть нельзя, их можно только преодолеть, переведя взаимные отношения в иную плоскость. Задача неимоверно, немыслимо трудная, но все же – в дальней перспективе – разрешимая.
В заключение чеченской темы небольшое замечание о международных аналогиях. Можно отыскать немало параллелей между действиями сепаратистов и экстремистов в Чечне, в Афганистане, в Палестине, в Косово, в Македонии и пр., правомерно говорить об очагах опасной напряженности вдоль южных границ «европейского» мира (это, наверное, одна из труднейших проблем всего наступившего века). Но аналогии редко объясняют реальные ситуации и еще реже помогают решению этнополитических проблем. Представлять конфликт в Чечне результатом какого-то «всемирного исламского заговора» – нелепо и заведомо бесперспективно, в том числе для российского федерализма. Экстремистов и авантюристов разных стран правильнее и полезнее разделять, чем соединять в некий воображаемый интернационал. Избавиться от их влияния на массы населения можно лишь с изменением почвы и ситуации, питающих экстремистские течения.
Не лучше обстоит дело и с аналогиями из отечественной истории. С партизанской войной в Западной Украине и в Балтии советские власти справились только к середине 50-х, когда вернули ссыльных и перешли от усмирения к налаживанию мирной жизни. Но заложенная в годы противостояния национально-политическая «бомба» взорвалась в следующем поколении, примерно через 35 лет, – и последствия хорошо известны.
Рейтинги – реальные и символические
Согласно расхожей байке, нынешний обыватель, проснувшись, выясняет три показателя: погоду, курс доллара и рейтинг первого лица; убедившись в их стабильности, поворачивается на другой бок… Торжественно отмечавшаяся годовщина инаугурации Путина дает лишний повод присмотреться внимательнее к оценкам президента в общественном мнении. Здесь на первый взгляд немало странного, даже как будто фантастического.
Самый высокий из регулярно наблюдаемых показателей (рейтингов) – уровень одобрения деятельности Путина на посту президента. За 2000 г. среднее его значение – около 70 % (пик – 80 % в январе, сразу после вступления в должность и.о. президента), за четыре месяца 2001 г. – примерно 73 %. Неодобрение деятельности президента выражают в среднем менее 20 % опрошенных. Заметные (на несколько процентов) колебания этого показателя отмечались редко. В прошлом году катастрофа «Курска» на короткий срок «уронила» президентский рейтинг на 10 %. Апрель принес небольшое снижение уровня одобрения – с 75 % до 70 %, что даже взволновало некоторых комментаторов. Скорее всего, напрасно. Небольшие колебания рейтинга отмечаются каждые два-три месяца и не изменяют общей картины. Прямое влияние «дела НТВ» на отношение населения к президенту сравнительно невелико: на протяжении всей кампании Путин не воспринимался большинством населения как ее активный участник. «Широкие спины» прокуроров и судейских, а также Альфреда Коха, Бориса Йордана и др. в этой ситуации надежно прикрыли авторитет президента. 37 % опрошенных в апреле (против 14 %) оценили его поведение в скандале как «достойное» или «в основном достойное», при том что остальные 49 % затруднились ответить.
Более важными – и в то же время более загадочными – представляются некоторые особенности стабильно высокого одобрения деятельности президента.
Бросается в глаза, что действия практически всех лиц и институтов власти, которые окружают президента, назначены им, реализуют его решения, оцениваются общественным мнением в основном негативно: правительства – 37 % одобряющих против 48 % неодобряющих, прокуратуры – 26 % против 51 %, представителей президента в округах – 30 % против 38 %. Единственное исключение – премьер-министр, на которого как бы отчасти падает тень президента (его деятельность одобряют 42 %, не одобряют 40 %). Позитивно оценивается населением, кстати, и работа «своих» губернаторов (53 % против 37 %). Президент оказывается одиноким на волне общественного одобрения.
Более того, конкретные действия самого президента почти во всех сферах из месяца в месяц получают преимущественно отрицательные оценки в глазах населения. Так, в марте деятельность Путина по наведению порядка в стране за прошедший год сочли успешной 45 %, безуспешной – 50 %, успехи в подъеме экономики и повышении благосостояния людей отметили 31 % против 63 %, в разгроме боевиков в Чечне – 28 % против 65 %, в политическом урегулировании в Чечне – 21 % против 71 %. И только в укреплении международных позиций страны большинство (55 % против 38 %) сочло действия президента успешными.
Подводя итоги за год, 45 % опрошенных (в апреле) отметили, что их надежды, связанные с приходом к власти Путина, оправдались, 49 % – что эти надежды не оправдались или их вообще не было. В большей мере оказались оправданными надежды людей старших возрастов (соотношение мнений 55: 41 у тех, кто старше 55 лет), в меньшей – в средних и младших возрастных группах: 44: 52 среди самых молодых (до 25 лет) и 39: 53 среди 40-летних. Чаще всего выражают свое разочарование высокообразованные (34: 62) и москвичи (25: 63).
В то же время практически во всех общественных группах сохраняется весьма высокий уровень надежд на будущее, связанных с деятельностью президента. Возьму лишь один пример. Успехи Путина в наведении порядка в стране отмечают менее половины (45 %), но в марте 2001 г. надеялись, что президент сможет этого добиться, почти три четверти (73 %) населения. Причем из числа самых молодых – 85 %, из пожилых – 71 %, из имеющих высшее образование – 76 %, среднее образование – 73 %.
Напрашивается предположение: высокий уровень одобрения деятельности президента Путина связан не столько с опытом минувшего года (практически, конечно, более чем полутора лет) его пребывания у власти, сколько с надеждами на будущее. Напомню, что самый высокий рейтинг (показатель одобрения деятельности) Путина пришелся на момент его вступления в должность и.о. президента, когда решающим компонентом массовых оценок могли быть только надежды, притом символические, то есть не опирающиеся на опыт каких-то реальных достижений. Видимо, этим в значительной мере и объясняется «непотопляемость» высокого рейтинга при всех колебаниях общественно-политической атмосферы в стране.
Это – далеко не новое – предположение сейчас можно подтвердить данными об изменении ряда показателей отношения к президенту за последнее время. С октября 2000 г. по апрель 2001 г. показатель «успеха» (средняя величина по серии вопросов о том, как президент справляется с проблемами страны) колеблется в пределах от 33 % до 37 %, показатель «надежд» (тоже средняя величина по серии вопросов) – 64–67 %, уровень одобрения в целом деятельности Путина как президента – 64–70 %. Таким образом, уровень одобрения довольно близок именно к «линии надежд», но не к «линии успеха».
Другое обстоятельство, заслуживающее внимания в этой связи, – изначальная неопределенность программы Путина, которая как будто давала различным политическим направлениям возможность надеяться на то, что президент рано или поздно будет действовать в соответствии с их установками. На первых порах это можно было считать признаком политической неопытности, позже – своего рода военной хитростью, рассчитанной на то, чтобы получить поддержку и правых, и левых, и консерваторов, и прогрессистов, и т. д. И сейчас то, что Путин до сих пор не предложил никакой политической и экономической программы, вызывает беспокойство 56 % опрошенных. Характер действий президентской команды за все эти месяцы не позволяет предположить, что первое лицо государства умеет или хотя бы стремится стоять «над схваткой», выше узкополитических интересов, отстаивая высшие ценности государства и закона; принятую позицию вернее было бы представлять в иных терминах – лавирования, манипулирования, порой просто шараханья и т. п. Но, как и ранее, неопределенность собственной позиции все еще является скорее выигрышной для Путина.
За минувший год в наибольшей мере оправдались надежды на президента у избирателей «Единства» и ОВР (по голосованию на выборах 1999 г.), несколько реже указывают это сторонники ЛДПР и СПС; в основном не оправдались или отсутствовали ожидания в отношении Путина в электоратах «Яблока» и КПРФ. Однако надежду на то, что Путин сможет навести порядок в стране, в электорате «Единства» разделяют 90 %, ОВР – 94 %, СПС – 88 %, КПРФ – 63 %, «Яблока» – тоже 63 %!
И, наконец, едва ли не самым сильным фактором остается отсутствие видимой альтернативы Путину – как политической, так и личностной. В свое время Путин пришел к власти как долгожданная «стилевая» альтернатива Борису Ельцину. (Замечу, что в предыдущие годы взлет популярности таких деятелей, как Александр Лебедь, а потом Евгений Примаков, также был связан со стилем поведения каждого.) Сейчас этот начальный капитал практически израсходован, «путинский» стиль воспринимается массой населения как нечто привычное. Но другой лидерский имидж не предложен никем. Ни в каких опросах никто из действующих политиков даже не приближается к Путину по уровню одобрения, доверия, «избираемости». Не видно не только влиятельных союзников или соратников, с которыми ему приходилось бы считаться, но и серьезных конкурентов или соперников ему на нашем политическом поле. Наконец, не видно сейчас и шансов на «собственную» альтернативу, то есть на «другого Путина», набравшегося нового опыта, освободившегося от влияния «старого» окружения и пр. Это, конечно, особенности самого российского политического поля, его «групповой» структуры.
В этих условиях никакие просчеты правящей команды, никакие разочарования целых групп населения, тем более никакие критические выступления не влияют на символически-высокий уровень рейтингов президента. В воображаемой ситуации близких выборов он без особого труда вновь оказался бы победителем (получив около 40 % голосов от общего числа избирателей; на выборах 2000 г. их было 36 %).
Однако состояние символических рейтингов не дает никаких гарантий реальных успехов и стабильности положения. В практической ситуации постоянных коллизий с различными группами и факторами политической жизни действуют силы, а не символы. Массовые иллюзии и надежды никого не спасают от необходимости маневрировать, уступать, выдвигать и тут же снимать собственные предложения (см. судьбу предложений по внешнему долгу, изменениям в УПК, выводу войск из Чечни…). Если вспомнить историю последнего полувека, нетрудно видеть, что лидеры, стоявшие у власти (Хрущев, Горбачев) или стремившиеся к ней (Лебедь, Примаков), оказывались в трудном положении вовсе не потому, что утрачивали символический ресурс поддержки со стороны общественного мнения. Этот ресурс важен, пока и поскольку он опирается на определенную расстановку властных групп и структур.
* * *
Человек, социальная организация, государство нуждаются в символах, закрепляющих порядок и направление движения, способных сплачивать и вдохновлять людей. Символические аспекты человеческого действия приобретают особое значение в период перемен и потрясений, неопределенности социальных ориентиров и нестабильности ценностных регуляторов. Символическую роль могут приобретать термины, имена, тексты, даты, флаги, ритуалы и т. д. Позитивные (в контексте определенного движения, изменения) символы восполняют разрыв между реальным и желаемым положением вещей, мобилизуют активность, заменяют аргументацию. Негативные – отталкивают, демобилизуют и т. д. Советская эпоха создала, а потом дискредитировала целую череду собственных (часто заимствованных) символов – словесных, изобразительных, ритуальных, праздничных. Эпоха перемен (после 1985 и 1991 гг.) в значительной мере обесценила советскую символику, в том числе идеологическую, но не создала никакой собственной. Попытки придать символически-мобилизующий смысл терминам «перестройка», потом «реформа» давно провалились. Не удалось сделать символом «новой России» (тоже, по существу, дискредитированный термин) Август 1991-го, его надежды и жертвы. Даже введенный в те дни в обиход российский триколор был позже символически перекодирован как принадлежность к петровской исторической традиции. Позднейшее (характерное для ельцинского периода) обращение к российско-монархической символике (орлы, ордена, украшения, «придворные» нравы и т. д.) не привлекло общественного внимания и не играло никакой заметной роли в ориентации настроений и мнений. Другое дело – архаические по своему происхождению, но не утратившие влияния на значительную часть населения символы (в основном словесные) державного величия, национальных интересов, военной мощи, порядка, противостояния «козням» внешних врагов и т. п. Для команды нового президента, пообещавшего, в частности, устранить «разрыв» с прошлым (то есть советским), было естественным обращение к призракам советской госсимволики (военное знамя, музыка и стиль гимна). При выборе между (абсолютно нереальной) русской «Марсельезой» и (тоже нереальным) «Боже, царя храни» государственный и массовый разум солидарно остановились на привычной многим александровско-михалковской «середине». В декабре 2000 г. около 75 % опрошенных одобрили решение о гимне, принятое Думой с президентской подачи.
Эту уже давнюю историю можно было бы считать маловажной страницей в политической игре, попыткой (удачной или не слишком) безболезненной символической консолидации общества, если бы в ней не просматривался характерный признак стиля нынешнего правления – тенденция заменять реальные действия символами. К тому же символами мертворожденными, не способными поднимать людей.
В нашей истории были периоды, когда торжественно праздновались успехи, каждая официальная годовщина служила поводом для рапортов о «свершениях» (действительных или выдуманных). А потом периоды, когда праздновали уже не успехи, а «годовщины», «юбилеи» прошлых успехов. Нынешние майские дни обнаружили несколько странную для нового, как будто еще неоперившегося, стиля правления черту – стремление отмечать даже не годовщины событий, а годовщины церемоний по поводу событий… Еще одна иллюстрация проблемы соотношения дел и символов.
2001Рамки и варианты исторического выбора: несколько соображений о ходе российских трансформаций
1. О терминах
Фразеологический стереотип некоего пути, по которому страна, общество как будто могут «идти» вперед или назад, от «пункта А к пункту Б», обладает, на мой взгляд, сильнейшим дезориентирующим воздействием. «Линейная» метафора исторических процессов (по излюбленной примерно с середины XIX в. железнодорожной модели с такими компонентами, как «путь», «локомотивы истории», «наш паровоз вперед летит», и пр.) давно утратила когнитивный потенциал; возможно, она годится для описания положения в определенной сфере, например технологической, но менее всего – для понимания явлений социетального масштаба. В обществе могут одновременно происходить типологически различные изменения в разных сферах. Между тем терминологические «шапки» всей серии ежегодных симпозиумов «Куда идет Россия?..» выдержаны в духе такой метафоры, а нынешний вариант («Куда пришла…») исподволь подсказывает образ какого-то конечного пункта, станции, гавани, куда страна добралась после долгих странствий. Такая подсказка именно сейчас представляется малоподходящей. Может быть, несколько удачнее выглядел бы иной (тоже ограниченный, метафорический) образ – попытки определить сегодняшние социальные, экономические, политические, нравственные, международные и другие координаты тяжелого и трудноуправляемого корабля, дрейфующего во льдах под ветрами со всех сторон.
Другой терминологический момент, который нередко заводит обсуждение в непродуктивный тупик, – обличение «проекта» реформ и поиски виновников (неудач или, при ином угле зрения, зловредности самих реформ). Но перенесение в социальное знание, притом на социетальный уровень, сугубо технологического и довольно строгого термина «проект» («либеральный проект», «советский проект», «нацистский…», «китайский…») – не более как дань наукообразной моде. Никакие реформаторы, революционеры, преобразователи, как, впрочем, и их противники, никогда ни в одной стране не имели и не могли иметь разработанных «проектов» изменений, которые соотносили бы цели, средства, затраты, прямые и косвенные общественные последствия предложенных действий. В лучшем случае имелись какие-то, например обоснованные чужим опытом, предположения о том, как скажутся данные политические, экономические, технические и прочие акции на положении общества.
Три основных тезиса, которые, как представляется, важны для понимания сегодняшних «координат» российского общества:
1) «всеобщее» стремление к сохранению существующего уровня стабильности, отсутствие линий открытого социально-политического противостояния (подобных тем, что существовали в 1987–1991 и в 1992–1999 гг.);
2) отсутствие долговременных возможностей для сохранения такой стабильности, принципиальная неустойчивость существующего соотношения сил и влияний на всех уровнях;
3) как следствие – едва ли не повсеместно доминирующее вынужденное стремление имитировать стабильность, уверенность, решимость, успехи, высокое общественное доверие в отношении власти (точнее, только одного ее носителя – президента).
Имитация – ключевое слово при анализе действий и оценок в различных сферах и на разных уровнях общественной жизни страны. Имитация означает использование формы, вывески, слов, лишенных реального содержания. Поэтому в одно и то же время можно имитировать какие-то либеральные перемены и отказ от них в пользу государственной монополии, соблюдение демократических принципов и стремление к авторитаризму, уважение к правовым институтам и сохранение «телефонного права», сближение с Западом и отгораживание от него – при довольно малых изменениях в реальном положении «дрейфующего» государственного корабля. Можно наблюдать имитации сильной (или «силовой») власти и активной оппозиции при слабости обеих. Имитация как будто устраивает «всех» в ситуации неопределенности интересов и позиций социально-политических сил. Она может быть более или менее осознанной (и тем самым превращаться в условную игру, фарс, не обязательно легкий) или – редко, может быть, в единичных случаях – приниматься «всерьез».
2. Неоднозначность пройденного
Никто не может отрицать, что в жизни людей и страны за последние 15–18 лет произошли огромные и в принципе необратимые изменения. Общественное мнение, например, в одном из опросов, проведенном в октябре 2002 г., как обычно выносит на первый план болевые точки, утраты (распад Союза ССР, падение жизненного уровня) и отодвигает на дальние позиции в списке такие достижения, как преодоление дефицитарной экономики, экономические и политические свободы. Исследователь, естественно, обязан анализировать более сложную картину, оценивать альтернативы, коридоры возможностей, социально-групповые аспекты, риски и другие компоненты происходящих процессов. Но и здесь особое внимание к незавершенным этапам и нерешенным проблемам вполне оправданно.
Нельзя считать завершенным распад советской системы на ее государственном, общественном, социально-антропологическом уровнях. Мы все еще живем скорее на развалинах «старого дома», чем в каком-то «новом доме». Элементы конструкций, характерных для ушедшей эпохи, продолжают действовать, в том числе в установках и стереотипах массового сознания, которые обнаруживаются в исследованиях. Трудно оспаривать необратимость произошедших перемен хотя бы в их разрушительной части. Нигде и никогда не бывали «обратимыми» изменения исторического масштаба, даже в условиях консервативных перестановок в правящих элитах, реставраций, контрреформ и иных поворотов. Но никаких гарантий плавного развития и рационального выбора вариантов перспективы отсюда не следует.
Если в начальные («перестроечные») годы перемен происходил, условно говоря, выбор между традиционно-советскими и реформированными моделями социализма, а позже – между различными вариантами преодоления этих моделей, то сейчас перед страной более сложный выбор типа политического режима, экономического строя, социальных гарантий, наконец, места в мировом сообществе. Дилемма «план или рынок» утратила смысл, в сегодняшней (и послезавтрашней) повестке дня – вопрос о том, какой тип рыночных отношений утвердится в стране: «дикий» (азиатский, южноамериканский, европейский начала XIX в.) или «цивилизованный», современный, – и о том, насколько реально демократичным будет политический строй, насколько будут сохранятся диктаторские, деспотичные, авторитарные, холопские традиции и т. д.
3. Стабильность как «всеобщая» надежда
Одна из приметных особенностей нынешнего положения в стране – всеохватывающая установка на стабильность. Это не равносильно удовлетворенности существующим положением. Признаки социального недовольства наблюдаются практически во всех слоях – от бизнесменов до военных. Местные выборы последних месяцев на уровне субъектов федерации обнаружили довольно напряженное противостояние сил, с трудом поддающихся воздействию «центра» (президентского). Очагом дестабилизации, конечно, остается Чечня.
Однако в общероссийских масштабах никто, по всей видимости, не хочет и не может добиваться решения своих проблем с помощью открытой конфронтации. Ничего напоминающего внутренний конфликт М. Горбачева с партийными консерваторами в годы перестройки или публичное, провокационное противостояние Б. Ельцина сначала Верховному Совету, потом компартии сейчас не видно. Никакая парламентская оппозиция и вообще никакая политическая сила – ни «левая», ни «правая», ни воинственно-патриотическая – не могут сейчас решиться на прямое противостояние президентскому «центру». Если не считать демонстративных словесных выпадов в адрес власти, видимая на политической верхушке борьба – это борьба за влияние на президента, попытки склонить его на свою сторону хотя бы для получения нужной резолюции, в ином варианте – попытки просто устраивать свои дела «под крышей» администрации. Такая ситуация означает, что все явные или неявные участники политических акций сегодня прежде всего опасаются утратить те позиции и тот капитал, который они получили ранее (места в Государственной Думе или около правящей администрации и пр.). Но и «невлиятельные» силы, то есть масса населения, совокупный электорат, помня о катаклизмах минувших лет, опасаются потери хотя бы существующей стабильности.
4. Факторы неустойчивости
Стабильность «застойной» эпохи закончилась обвалом, а значит, была весьма неустойчивой. (Обвалом, хотя и растянутым во времени, закончилась 50 лет назад и эпоха сталинизма.) Нередко возникающее в современной публицистике уподобление нынешней ситуации временам «застоя» имеет некоторые основания – нефтяная труба в фундаменте экономического благополучия и прочее, – но все же малосодержательно. В основе видимой стабильности брежневского периода – инерция движения сложившегося социально-политического механизма по привычной траектории; нынешняя же претензия на общественную стабильность глубоко конъюнктурна, опирается на вынужденное обстоятельствами согласие нескольких разнородных групп влияния при всеобщей политической апатии. Символическим центром этого – далеко не «сердечного» – согласия является фигура действующего президента. На ближайшую перспективу (месяцы, годы до следующего электорального цикла, например) такое согласие достаточно прочно, поскольку вовлеченные в него силы в этом нуждаются, в более дальней перспективе оно вряд ли может сохранять устойчивость. Ни умеренный экономический рост, собственно воспроизводящий уровни производства и потребления, достигнутые до обвала 1998 г., ни ограничение парламентских, политических и масскоммуникативных «раздражителей» не могут обеспечить существующей социально-политической конструкции стабильной перспективы.
Исследователям давно известно, что непосредственные результаты опросов общественного мнения, как правило, неоднозначны: в массовом сознании, даже в одних и тех же общественных группах, позитивные оценки каких-либо действий, персонажей сопровождаются оговорками, неуверенностью в оценках. Объяснение причин видимых парадоксов представляет одну из самых серьезных проблем социологического анализа общественного мнения. Вот несколько примеров, относящихся к рассматриваемой теме.
Достижения и тревоги. Значительная часть населения России оценила прошедший 2002 г. как в целом успешный для себя. В то же время год показался заметно труднее предыдущего – увеличились опасения потерять работу, усилились настроения растерянности и страха. Можно полагать, что наряду с позитивными изменениями в экономике в уровне доходов на общественные настроения воздействуют такие факторы, как замедление экономического роста в различных отраслях, а также переживания, вызванные крупными террористическими актами, захватом заложников в Москве. Поэтому нотки оптимизма в общественном мнении звучат неуверенно.
Нерешенные проблемы. На протяжении последних лет, в том числе и в 2002 г., в общественном сознании российских граждан постоянно преобладают мнения о том, что правительство не способно справиться с проблемами страны, обеспечить рост экономики, повысить уровень благосостояния, навести порядок в стране, противостоять криминалу.
Отсутствие «порядка». В системе массовых предпочтений требование «порядка», не очень ясно представляемого, занимает одну из ключевых позиций. Действия президента и правительства в наведении порядка население считает скорее неудачными. По мнению большинства опрошенных, уровень коррупции в руководящих эшелонах власти страны за последнее время не уменьшился, а даже вырос. Создание «вертикали власти» с помощью представителей президента в федеральных округах расценивается как неэффективное. Избранные губернаторы неизменно получают доверие большинства, в то время как уровень доверия к назначенным президентом представителям («генерал-губернаторам») остается невысоким.
Экономические преобразования (частная собственность, предпринимательство) в значительной мере принимаются как свершившийся, но скорее огорчительный факт. Довольно малая часть населения (15–20 %) полагает, что выиграла от реформ, более половины, по их словам, вынуждены приспосабливаться к существующему положению, снижая свой статус и уровень запросов. В последние месяцы наибольшее беспокойство вызывает рост цен, в частности на лекарства и медицинское обслуживание, и перспективы реформы ЖКХ.
Чеченская война уже много лет служит источником сложных коллизий в российском обществе и общественном мнении. Большинство опрошенных не доверяют официальным сообщениям по этой проблеме, но готовы принять предлагаемую трактовку событий. Население устало от войны, не видит конца вооруженному противостоянию, обеспокоено неоправданно крупными потерями федеральных сил, угрозой нравственного разложения и дискредитации армии. В то же время оно нередко склонно оправдывать бессудные расправы, «зачистки», поведение таких военачальников, как полковник Буданов, и пр. Уже давно, примерно с осени 2000 г., в общественном мнении заметно преобладают суждения о необходимости перейти от военных действий к мирным переговорам. Эта тенденция была прервана на время после известных событий захвата заложников в Москве, но с конца 2002 г. она снова стала заметной. Ради прекращения военных действий значительное большинство российских граждан готово согласиться даже с предоставлением независимости мятежной республике (в январе 2003 г. лишь 25 % опрошенных решительно возражали против этого).
Проблема чеченской войны играет важную роль в самоопределении компонентов российской политической элиты и механизма высшей исполнительной власти, силовых структур, спецслужб. Причем в нынешней политической ситуации она, по всей видимости, порождает зависимость конфигурации правящих групп от продолжения неразрешимого конфликта. События вокруг трагедии на Дубровке в октябре 2002 г. еще раз с предельной наглядностью показали, что для сложившегося альянса сил во властной вертикали более всего опасен вариант какого бы то ни было примирения с противоборствующей стороной, этим определилось главное направление ударов по «умеренным» фигурам, непослушным информационным каналам и пр.
Международные позиции России – единственная сфера деятельности президентской власти, которую общественное мнение неизменно оценивает как успешную. Значительное влияние на такие оценки имеет, видимо, эффект наглядности многочисленных встреч и показательных договоренностей международных лидеров с участием российских. Правда, демонстративное сближение с Соединенными Штатами, бывшим главным противником, встречает не вполне последовательные и неоднозначные реакции как в общественном мнении, так и в политической и военной элитах, в СМИ. Согласие с общей линией объявленной президентом В. Путиным полной поддержки «антитеррористической» кампании США постоянно размывается то искусственно созданными в начале 2002 г. скандалами околоспортивного патриотизма, то напряженным ожиданием последствий иракской кампании.
Феномен парадоксально высоких показателей (рейтингов) президента В. Путина, сохраняющихся на фоне сдержанных или просто негативных оценок его (и правительства) деятельности в различных сферах, нередко пытаются объяснить то ли «сказочными» традициями российского сознания, то ли изощренностью рекламных политтехнологий, а то и просто недобросовестностью исследователей и т. п. Между тем анализ данных исследований общественного мнения позволяет представить вполне реальные и прозаические механизмы высоких рейтингов в как будто неподходящих условиях. Доверие населения к президенту в 2002 г. 21 % опрошенных объясняли его успешными действиями, 44 % – надеждами на будущие его успехи («еще сможет справиться»), а 31 % – просто тем, что больше не на кого надеяться. Годом ранее были получены аналогичные данные. Таким образом, ключевым словом оказывается надежда, точнее даже – желание надеяться, которое диктует массовому сознанию своего рода направленный отбор поступающих сигналов. Например, заслугой президента считается повышение выплат населению, в то время как вину за рост цен население возлагает главным образом на правительство. Еще один штрих к оценке качества массовых надежд. Стабильный на протяжении 2002 г. показатель одобрения деятельности президента резко пошел вверх после событий на Дубровке, затем снова вернулся к прежним значениям. Это показывает, что действует феномен надежд, вызванных тревожной ситуацией, страхом, растерянностью.
5. Проблема институционального «дефицита»
Слабости, противоречия, нерешенные проблемы неизбежны, особенно в нестабильных условиях. Вопрос в другом – в наличии институциональных средств для цивилизованного, наиболее рационального решения проблем. «Конъюнктурная» примитивность нынешнего общественного устройства побуждает к простейшим, накатанным вариантам – госмонополистическим, запретительным, просто силовым. Сюда можно добавить и дефицит адекватного понимания ситуации. Именно отсюда возникает реальная, в перспективе – возрастающая угроза стабильности государства и общества.
Стабильной правомерно считать общественную систему, способную к воспроизводству, саморазвитию, к сопротивлению разрушительным воздействиям, к преемственности и обновлению человеческого потенциала властных и других институтов.
Как известно, неспособность советской системы к исполнению таких функций оказалась фатальной для нее. Но и нынешнему положению вещей нельзя приписать пока никакие из перечисленных характеристик стабильности. Так, и сегодня конституционно закрепленный механизм ротации и передачи власти фактически работает по давнему советскому образцу: власть имущие выдвигают, народ одобряет. Раньше выдвигала партийно-государственная верхушка, казавшаяся незыблемой, сегодня – верхушка аппарата, которую трудно считать стабильной.
6. Судьба иллюзорных ожиданий
К несомненным достижениям последних лет стоило бы отнести преодоление ряда иллюзий, отработавших свое в начальный момент эпохи перемен. Сюда относится, например, представление о том, что рыночные механизмы способны чуть ли не автоматически обеспечить и экономический рост, и благосостояние населения, и политические свободы, и социальные гарантии, и права личности и т. д., или о том, что выход из международной изоляции уже обеспечивает стране достойное место в системе мировых политических и экономических связей.
В этот ряд несостоятельных, а потому и несостоявшихся ожиданий следует поставить и надежду на появление в отечественном социальном поле нового человека, свободного от наследия тоталитарного прошлого и готового выступать активным фактором созидания новой жизни. Наблюдения и исследования последнего времени показывают, что перед нами не «новый», а «приспособившийся» (или вынужденный приспосабливаться) человек. Доминирует понижающая адаптация человека к изменившимся обстоятельствам, причем это относится не только к экономическому, но и к социальному, статусному положению. Нуждаются в осторожной интерпретации утверждения о том, что успехи и благополучие человека определяются теперь его собственными усилиями. Речь идет скорее об определенном ослаблении расчетов людей на заботу со стороны общества, государства; реальные возможности для того, чтобы собственными силами обеспечить себе достойное место в обществе, имеют немногие.
К показателям «понижающей адаптации» человека к обстоятельствам можно отнести вспышки «авторитарных» иллюзий относительно власти, живучесть, а точнее, усиление этнопсихологических стереотипов и барьеров в массовом сознании. Правда, в исследованиях заметны и некоторые пределы, ограниченность влияния таких факторов. Сейчас ясно, что мобилизационный эффект воинственной политики оказывается недолговечным, феноменальное доверие к лидерам сопровождается существенными оговорками, ретроспективная символика не имеет реального влияния и т. д. Заметные колебания общественных настроений обусловлены тем, что последние не укоренены в убеждениях и установках людей.
7. Перспективы: опасности и ожидания
Нет никаких серьезных оснований ожидать какого-то социального взрыва, разрушительного массового недовольства и подобных акций (или утешать себя отсутствием таковых). XX в. отодвинул катаклизмы такого рода – условно говоря, «баррикады» – далеко на периферию развитых обществ и современных государств. В этом отношении мы к ним приближаемся, поскольку исторические традиции терпения и снижения запросов делают возвращение подобных акций на российскую почву нереальным. Иное дело – исчерпание потенциала того противоречивого альянса сил, который сейчас вынужден (обстоятельствами) отвечать за положение страны. Можно вспомнить, что все происходившие в России в XX в. смены режимов и форм правления были связаны в первую очередь не с нажимом «снизу», а с разложением и беспомощностью пирамиды власти, ее верхушки; массовые выступления протеста, если они и были, играли в основном фоновую и подсобную роль.
Изменение обстоятельств, внутренних или внешних, сложившихся соотношений групп давления, переориентация или смена действующих лиц – значительно более вероятные факторы среднесрочных перемен, чем какой-либо «низовой» взрыв или «верхушечный» путч. К сожалению, сейчас трудно говорить об активной роли образованной элиты, наследующей традиции отечественной интеллигенции. Мы слишком привыкли метаться от увлечений к отчаянию, видеть только верхушки событий и перемен, надеяться только на милости власти и немедленное исполнение желаний. Т. Элиот пророчил: «Мир погибнет не от взрыва, а от нытья» – право, будто в наши воды глядел…
2003Молодежь – новая или «старая»?
Размышления и сомнения, которыми хотелось бы поделиться с читателями журнала «Знание – сила», появились при анализе многочисленных опросов общественного мнения за последние годы. Полученные данные говорят о том, что сегодняшние молодые люди довольны своей жизнью и своим временем значительно больше, чем люди постарше, что они хотят учиться, зарабатывать, видеть мир. И в своей собственной жизни они стараются следовать не столько образцам старших поколений, сколько примеру более удачливых сверстников, в том числе зарубежных, известных по витринам кино и телевидения. Мы видим, что нередко люди поколения родителей начинают подражать «молодежным» образцам в одежде, музыкальных вкусах, привычках проведения досуга и т. п. Все это без особого труда поддается объяснению, а потому может считаться нормальным (что в этом безоговорочно хорошего, а что сомнительно – другое дело, я этого не буду касаться). Но это относится преимущественно к изменениям в бытовой, обыденной жизни. Если же обратиться к жизни социальной и политической, к ее нормам и ценностям, возникает целый ряд недоуменных вопросов, которые можно – скорее, конечно, мысленно – обратить к современной молодежи.
Вот недавний пример. Накануне прошедших думских выборов мы выясняли, как распределяются политические пристрастия среди различных возрастных групп. В частности, интересно было представить, как собираются голосовать те, кто впервые получил такое право (то есть люди 18–22 лет, которые в прошлом избирательном цикле не могли участвовать). Их около 10 % в числе российских избирателей. Оказалось, что 46 % новичков поддержали «партию власти» («Единую Россию»), 20 % голосовали за ЛДПР, 5 % – за СПС, 6 % – за «Яблоко», новообразованная «Родина» в этой группе получила 4 % голосов, КПРФ – 3 %. Получается, что в этой молодежной среде преобладает политический конформизм (стремление поступать «как все», то есть как очевидное большинство), все варианты «протестного» голосования собирают не более трети, причем наиболее привлекательным кажется наигранно-эпатажный (и в конечном счете – неизменно лояльный к власти) «протест» в духе Жириновского. По опросным данным, именно молодые люди сегодня наиболее лояльны власти, особенно президенту.
Таким образом, в массе молодых избирателей как будто не заметно никаких радикальных, экстремистских, экзальтированных тенденций. (Они, правда, присутствуют в малочисленных группах нацистов, лимоновцев, скинхедов, неокомсомольских «леваков» и пр., но это требует отдельного анализа.) В сегодняшней России не существует никаких влиятельных специфически молодежных движений, никаких эмбрионов студенческих «бунтов», которые прокатились по западному миру в конце 60-х. Правда, этого не было и ранее: ожидания и акции «перестроечных» лет были в первую очередь уделом тех, кому было за 40, а то и за 60.
Как представляется, здесь дело в том, что современная молодежь получила все, что только можно пожелать, – возможности для работы, заработка, учебы, в том числе за рубежом, отдыха, развлечений, свободу личных отношений и пр. – без борьбы и усилий, как бы в подарок от судьбы (точнее, как побочный результат перемен в стране). Отсюда политический индифферентизм и конформизм. Отсюда же и хорошо заметный в последние годы «молодежный» карьеризм: посты и должности все чаще занимают сравнительно молодые люди, напрочь лишенные иллюзий и идеалов, готовые ревностно служить начальству (не забывая собственного благосостояния). Это не новая молодежь, а всего лишь моложавая смена старой бюрократии, наследующая все черты и пороки своих предшественников. Они не обновляют обветшалые механизмы аппаратов управления, образования, науки и т. д., а встраиваются в них.
Еще раз обращусь к данным опросов. Многим кажется, что молодые люди, которые ориентированы на современный («западный») образ жизни, должны быть наиболее далеки от предубеждений против «чужих», от псевдопатриотического чванства. Но это не так. Как раз самые молодые оказываются наиболее податливыми к распространенным формам национализма. Они чаще высказывают терпимость к акциям скинхедов, в большей мере, чем старшие, выражают согласие с лозунгами наподобие «Россия для русских» (среди самых юных, 15–18 лет, его склонны поддержать 58 % против 13 %, в целом же по всем опрошенным это соотношение – 53 %: 18 %). 59 % против 21 % в той же молодежной группе полагают, что русские должны иметь преимущества перед нерусскими при приеме на важные должности, а 66 % тоже против 21 % – что переезд нерусских в Россию нужно ограничивать. Еще один небольшой штрих к той же картине. Прошлым летом мы очередной раз попросили опрошенных в рамках большого исследования о современном человеке назвать «самых выдающихся людей» всех времен и народов. В числе других имен 11 % назвали Гитлера. А среди молодых, до 25 лет, таких оказалось 18 %, почти каждый пятый.
Довольно распространенным лет 15 назад было представление о том, что с разрушением советской системы на общественную сцену выйдет новый человек, достойный гражданин свободной страны. Но такой же иллюзией была и надежда на то, что новое поколение, практически не знавшее советской жизни и советского воспитания, легко и просто изменит жизнь к лучшему. Как будто освобожденная (не собственными усилиями) от принудительных шаблонов мышления и привычек молодежь – в заметной своей части – нередко оказывается податливой по отношению к современным соблазнам, в числе которых сегодня на первом месте – национал-популизм и воинствующая ксенофобия. Ни условия рыночной экономики – тем более в ее нынешних формах, – ни современные культурно-досуговые интересы не могут создать иммунитет к таким тенденциям.
Конечно, я имею в виду только массу, возрастную группу молодых людей, статистически заметную в нашем стареющем обществе. Более пристальный взгляд может обнаружить разные лица и группы, в их числе и людей достойных и действительно новых, без страха и упрека. Но потребуется немало времени, чтобы они смогли оказать серьезное влияние на жизнь страны.
2004В какие игры играют толпы Социологические заметки на актуальную тему
По поводу невероятного «футбольного погрома» в центре Москвы 9 июня 2002 г. сказано уже много правильного и печального. Представляется, что подобные явления нуждаются также в профессиональном социологическом комментарии. Кажется важным прежде всего понять, как люди, группы становятся толпой, что ими движет. (Иными словами, по каким правилам «играют» толпы.)
В какой-то мере все толпы похожи друг на друга, но толпа толпе рознь. Небольшая и громадная (десятки или тысячи участников), безумно веселая или безумно злобная, с разными устремлениями. Но обязательно возбужденная каким-то общим порывом – восторгом, страхом, злобой, – причем порывом, который не контролируется никаким расчетом и разумом, индивидуальным или «массовым», если можно использовать этот когда-то модный термин. Согласно точной формуле Э. Соловьева, толпа «единым умом глупа». Умственные способности, IQ отдельных растворенных в толпе человеческих особей не обязательно ниже среднего, но они просто не имеют значения в такой ситуации, становятся неразличимыми, как лица в толпе. И, что особо важно для социологического анализа феномена, «безумие» толпы всегда социально, поскольку означает демонстративную ломку социальных, культурных, нравственных норм, даже священных табу. Когда это происходит, группы мирно гуляющих людей, терпеливая очередь, болельщики на стадионе или публика в кинотеатре могут превратиться в обезумевшую толпу, которая ломает заграждения, громит все вокруг, готова расправиться с кем угодно, способна в ярости или панике растоптать и «своих».
В поведении толпы огромную роль играет подражание, более того, взаимное возбуждение, как бы взаимоиндукция. Но нет взаимовнимания, взаимопомощи. «Коллективно» злобная или испуганная толпа состоит из одиноких и потерявшихся людей. Обычно в толпе нет своих вожаков, организаторов (организованная группа – это уже не толпа), бывают лишь инициаторы – те, кто первый закричал, побежал, ударил и т. п. Дальше действует подражание («делай как все!»). Когда буйствовавших в Москве фанатов спрашивали, зачем они били стекла и поджигали машины, получали именно такие однообразные ответы: «Просто поступал как все…».
Действия людей в толпе часто можно передать в терминах «игры» (если иметь в виду, что игровое поведение бывает чудовищно жестоким). Подростки «играют» во взрослых, которые все могут, взрослые – в недорослей, которым «все позволено». Вектор настроения толпы легко изменяется на противоположный: веселая толпа становится злой, агрессивная – испуганной. Полицейская практика разных стран показывает, что при достаточных силах толпу можно напугать и разогнать. Но вот найти виноватых чаще всего не удается: зачинщиками объявляют первых попавшихся, для протокола. (Похоже, что и московский инцидент завершится тем же.)
Но все эти соображения общего порядка, применимые к разным толпам, стоит напомнить в данном случае для того, чтобы подойти к характеристике тех настроений, тех образцов поведения, которые проявились в нашей ситуации 9 июня (и подобных ей), а также тех социальных обстоятельств, той атмосферы, в которых эти образцы формируются. Ведь никакая толпа не способна выдумать «правила», «язык», «цели» своих действий, она берет их из «воздуха», то есть из наличной общественной атмосферы.
Оставим без внимания такой наиболее «стихийный», наименее зависящий от социальных факторов вид поведения толпы, как паника, которая часто сопутствует катастрофам и прочим случайным бедствиям (недавний пример – трагическая давка в переходе минского метро). Социологический аспект происходящего в таких случаях – ситуативная деградация группового поведения до уровня «спасайся кто может и как может».
А вот погромы – будь то этнические (скажем, против «кавказцев» и прочих «чужаков» на рынках и на улицах российских городов, осквернения синагог и надмогильных памятников и т. п.) или те же, условно говоря, «футбольные» – явления сугубо социогенные, их к низменным страстям толпы не сведешь.
Участниками погромных акций, избиений и оскорблений в адрес «чужаков» чаще всего сейчас оказываются небольшие, как будто не связанные друг с другом группы или просто одиночки, одержимые ксенофобиями. (Панические ожидания организованных выступлений поклонников гитлеризма в минувшем апреле, как известно, не оправдались.) Но общую почву различные выходки современного «ксенобесия», по-моему, имеют, и искать ее следует в некоторых особенностях сегодняшней общественной атмосферы. Именно там живет сейчас явная и скрытая массовая подозрительность в адрес «чужих», которая время от времени переходит в погромные действия, нередко и кровавые. Важно, что совершаются они не только при безразличии, но и при одобрении заметной части населения, и при молчаливом попустительстве властей всех уровней, не умеющих и не желающих видеть ни виновников, ни почвы для погромных выходок. В такой атмосфере осенью 2001 г. почти половина опрошенных нашла оправдания для кровавых погромов на рынках Москвы. А более половины (58 %) полностью или с оговорками поддержали лозунг «Россия – для русских!».
В такой атмосфере «околофутбольные» страсти рождают обезумевшую толпу, которая обращает в бегство стражей порядка и громит центр столицы. Просто потому, что «наших бьют». Омерзительный и опасный прецедент нуждается в серьезных объяснениях. Мне кажется, здесь сошлись два фактора.
Во-первых, доведенный до массового безумия околоспортивный фанатизм – явление, известное во многих странах (в том числе, и даже в особенности, на родине футбола… и современной цивилизации). Это не спорт, не футбол, это совсем иная игра, имеющая свои цели и формы («зрительский спорт»). У нас, как известно, страна футбольная, в том смысле, что зрительские страсти (на стадионе, на площади, перед телевизором) разыгрываются прежде всего «по поводу» этой игры. Согласно одному из опросов (август 2001 г.), 29 % населения России смотрят по ТВ футбол, 20 % – фигурное катание, 17 % – хоккей. (Для сравнения: в США футбол европейского вида, «соккер», увлекает только 2 % телезрителей[478].)
Но что интересует в спортивных стычках «зрительскую» массу? Вот весьма любопытные данные, полученные в разгар зимних олимпийских страстей 2002 г. Оказывается, для 75 % населения России важнее всего «победы российских спортсменов» и лишь для 14 % – «удовольствие от выступлений ведущих спортсменов мира». Возрастные различия между группами при этом не слишком значимы, но чем моложе опрошенные, тем важнее для них только «победа». Итак, успех «своих», причем достигнутый любой ценой, даже с допингом и с пристрастным судейством, – вот что нужно массовому отечественному «фану», что отличает его от «простого» любителя спорта. Иначе говоря, движет им в наших условиях не спортивный интерес, а околоспортивный «патриотизм».
Теперь можно приглядеться и ко второму фактору, который содействует превращению околоспортивных страстей в погромные акции, – это характер государственного да и общественного интереса к таким страстям. Точнее даже, способ использования таковых. В феврале 2002 г., в скандальные недели зимних Олимпийских игр, объединенные усилия «самых независимых» СМИ, всех без исключения ветвей власти и примкнувшего к ней патриархата, стремившихся превратить «игры» вокруг спорта, судейства, допингов и пр. в повод для общенациональной истерики (возможно, потребовавшейся для совсем иных целей, например для изменения внешнеполитического курса), вызвали в общественном мнении весьма благоприятный отклик. За считанные дни проамериканские симпатии, вспыхнувшие после 11 сентября 2001 г., уступили место закаленной в горниле «холодных» и «горячих» войн схеме «они против нас» – «мы против них». Уступили, потому что готовность следовать привычной модели сохранялась в глубинах души народной (и в стратегических запасниках государственных ведомств) даже в моменты демократических иллюзий. И готовность превращать спортивные коллизии (как, впрочем, и научные, литературные, музыкальные и пр.) в конфликты государственного и политического уровня. Не стоит ли вспомнить, в какие годы, задолго до ТВ и политтехнологий, внедрялись в массовое сознание установки вроде «Эй, вратарь, готовься к бою!».
Дело в том, что противопоставление «наших» и «не наших» всегда служило опорой самого примитивного, самого низкого, а потому и самого устойчивого уровня всякого патриотизма, от уличного или клубного до государственного, того, который именуется «военным» или «воинственным», который оправдывается тем, что «чужое» всегда хуже «нашего». Как показывает опыт, власти хватаются за это оружие, когда не знают других средств сплочения народа, когда нет ни достижений, ни даже иллюзий, ни целей, ни идей. В таких сумерках и спортивные страсти годятся для патриотической мобилизации.
Впрочем, есть основания судить о том, что мы – как страна, как народ и его общественное мнение – от примитивных моделей жизни и самоопределения несколько удалились, а если и увлекаемся ими, то не совсем всерьез и ненадолго. По данным опроса жителей крупных городов России в июне 2002 г. (N = 1200 человек), 12 % расценили выступления российских футболистов на чемпионате мира как «национальный позор, унижение России», 20 % – как «досадную спортивную неудачу», 25 % – как результат ошибок тренеров, 42 % сочли, что «результат соответствует нынешнему уровню российского футбола», и только 7 % склонны искать «сговор иностранных организаторов и судей против российской команды». Общественное мнение способно вполне здраво судить о многом, если его носители не превращены в толпу…
2002Неюбилейные размышления о перестройке
Современный интерес к судьбе социально-политического перелома, начатого около 20 лет назад, связан не столько с условно «круглой» датой (строго говоря, начало перемен датируется скорее 1987 г.), сколько с обострением общественного внимания к современному значению и возможным перспективам реальных последствий этого события. Поэтому целесообразно выделить две различные, хотя и взаимосвязанные плоскости изучения названной проблемы. Во-первых, «субъективная» (представленная в общественном сознании и отраженная в исследованиях общественного мнения память о событиях перестройки). Во-вторых, «объективная память», то есть реальное наследие перемен в общественной реальности, в социальных отношениях, процессах, институтах.
Обратимся сначала к памяти общественного мнения. Еще с 1994 г. мы задавали вопрос: «Было бы лучше, если бы все в стране оставалось как до 1985 г.?». Согласных с таким мнением в 1994 г. было 44 %, в 1999 г. – 58 %, в 2003 г. – 44 %; не согласных – соответственно 34 %, 27 % и 35 %. В ходе опроса, проведенного в январе 2005 г., около половины опрошенных (48 % против 40 %) соглашались, что было бы лучше, если бы все в стране оставалось как было до начала перестройки (до 1985 г.). Распределение мнений по возрастным группам представлено в табл. 1.
В поддержку своей позиции респондентами приводились следующие аргументы. Позицию «мы были сильной, единой страной» выбрали 37 % в 1999 г. и 26 % в 2003 г.; позицию «в стране был порядок» – соответственно 32 % и 26 %; «отношения между людьми были лучше» – 22 % и 17 %; «у людей была уверенность в завтрашнем дне» – 43 % и 24 %; «цены были невысокими и стабильными» – 30 % и 20 %; «больше заботились о культуре, об образовании, о науке» – 7 % и 4 %; «жить было интереснее, веселее» – 10 % и 6 %. О том, как сторонники этих аргументов распределились в разных возрастных группах, можно судить по данным табл. 2.
Таблица 1
Было бы лучше, если бы все в стране оставалось как до начала перестройки? (в % по столбцу)
Таблица 2
Аргументы согласных с тем, что было бы лучше, если бы в стране все оставалось как до 1985 г. (в % по столбцу)
Ее данные свидетельствуют, что на распространенность различных доводов прежде всего влияет многократно отмеченный барьер 40-летия. Апелляции к «сильной, единой стране», «порядку», «уверенности в будущем» и «низким ценам» значительно чаще встречаются в старших группах, а ослабевают преимущественно у молодых. Кроме того, как следует из табл. 3, в 2005 г. согласие с тем, что до 1985 г. жизнь в стране была лучше, чем сейчас, четко коррелирует со степенью приспособленности семей к переменам. Вполне логично также, что среди согласных, что до 1985 г. было лучше, чем сейчас, больший процент тех, кто убежден, что страна идет по неверному пути.
Таблица 3
Вы, ваша семья уже приспособились к переменам, произошедшим в стране в течение последних 10 лет?
(в % к количеству опрошенных по столбцу)
В то же время более странной на первый взгляд кажется корреляция, обнаруживаемая в табл. 4, где приведены данные опроса 2005 г. Получается, что одобряющие деятельность нынешнего президента в основном не согласны с тем, что до 1985 г. было лучше, а неодобряющие (как известно, это в основном сторонники компартии), напротив, скорее согласны с этим. В. Путин и его режим выглядят как будто «наследниками» перестройки. Такой вывод был бы неоправданно примитивным, «коротким замыканием» концов и начал перемен последнего двадцатилетия.
Перестройка открыла определенный набор, пучок неоднородных возможностей развития, которые в дальнейшем использовались разными силами в различных направлениях. В таком смысле и нынешняя ситуация использует один из появившихся вариантов.
Таблица 4
Одобряете ли вы деятельность В. Путина на посту президента России?
(в % к количеству опрошенных по столбцу)
Обратимся теперь к аргументации противников ностальгии по ситуации «до 1985 г.». Об этом можно судить при сопоставлении данных табл. 5 и 6, в которых представлены ответы на два вопроса, отражающие разные аспекты темы. Данные показывают, что только у самых молодых одинаковы доли положительно и отрицательно оценивающих реформы; во всех других возрастных группах преобладает отрицание. Примечательно, что даже среди симпатизирующих демократам мнения о роли реформ делятся практически поровну (41: 39). Интересно и то, что эти «общие» оценки реформ перестройки существенно отличаются от оценок конкретных перемен. В большинстве случаев они давно и устойчиво признаются положительными! (см. табл. 7).
Возможно, мы сталкиваемся здесь с такой же методологической аберрацией, которая видна в «общих» и «конкретных» оценках, например, деятельности Путина (только с обратным знаком). Напомню, что при ответах на вопросы о деятельности президента общие оценки высоки, конкретны, по отдельным направлениям – негативны. Видимо, в оценках разного уровня люди пользуются различными критериями.
«Общие» оценки в большей мере зависят от установок СМИ, «конкретные» – от собственного (или знакомого) опыта. Кроме того, в общественном мнении, вероятно, отсутствует или не развито представление о связи событий разного плана. Странно хвалить отдельные свободы и порицать реформы, которые сделали их возможными. Как будто действует тот же механизм, который отображен в старых баснях: не все понимают, на каком древе произрастают приятные плоды…
С моей точки зрения, для того чтобы оценить, как преломилась перестройка в отечественном общественном мнении, важны данные ответов на следующие вопросы. Прежде всего о том, какие события, произошедшие в те годы, люди сегодня считают наиболее значительными, и о том, как они относятся к М. Горбачеву. Об этом мы спросили их в январе 2005 г. (см. табл. 8, 9). В целом анализ социологических опросов позволяет высказать несколько соображений.
Таблица 5
Почему вы не считаете, что было бы лучше, если бы все в стране оставалось как до 1985 г.?
(в % по столбцу; 2003 г.)
Таблица 6
Какую роль сыграли в жизни нашей страны реформы, начатые в 1985 г. М. Горбачевым под флагом «перестройки»?
(в % по столбцу; 2005 г.)
Таблица 7
Чего больше принесли России реформы?[479]
(в % по строке в соответствующем году замера)
Таблица 8
Какие события, изменения, произошедшие в годы «перестройки», вы считаете наиболее значительными?
(в % по столбцу)
Таблица 9
Как вы сейчас в целом относитесь к Михаилу Горбачеву?
(в % по столбцу)
Если рассматривать перестройку в целом как перелом в жизни страны, а не как совокупность отдельных, более или менее удачных шагов и деклараций, то можно выделить две принципиальные функции этого перелома – разрушительную (она же высвобождающая) и конструктивную. Результаты их реализации существенно различны. Основные успехи перестройки, в том числе, как следует из вышеприведенных данных, отмечаемые общественным мнением, – это разрушение советской модели, освобождение жизни, политики и мышления от стереотипов (единомыслия, непогрешимости, противостояния всему миру и др.).
Одно из условий относительной легкости разрушительной работы перестройки – претензия советских идеологических структур на целостность (интегризм), для которой любая, даже самая благонамеренная и осторожная попытка изменения каких-то деталей конструкции оказывалась разрушительной. Для исполнения «разрушительных» функций на первых порах еще годился старый партийно-государственный механизм. Гораздо более сложными оказались конструктивные задачи: для их эффективного выполнения не нашлось ни соответствующих интеллектуальных ресурсов, ни необходимых средств. Отсутствие способов закрепить достигнутые перемены – необходимых социальных институтов и механизмов массовой поддержки – постоянно питало неуверенность в успехе перестройки.
Изначально перестройка, как показывают многочисленные свидетельства, задумывалась как серия действий с помощью существующих партийно-государственных структур, официально подчиненных Горбачеву. Но использование такого механизма для совершенно не свойственных ему функций неизбежно вело к его дискредитации и саморазрушению. Хотя почти до самого конца своего правления Горбачев и его команда направляли критические атаки не на социализм, КПСС, а как будто только на «застой» и сталинизм, подспудно происходил и подрыв «основ». Получалось, что Горбачев «сжигал мосты» перед собой!
Более серьезное и опасное испытание выпало наследию перестройки уже в последние годы (после 1999 г.). В частности, потому, что носителями реверсивных тенденций выступают не просто представители «старой» элиты, а структуры и силы, воплощающие более глубокий распад «советского» материала, использующие определенные достижения перемен времени перестройки и последующих реформ (в сочетании с советскими и досоветскими традициями державности, произвола, личной власти и пр.). В конечном счете любая эпоха оставляет за собой не только следы собственных успехов и неудач, но также продукты распада (или «полураспада») эпох предшествующих. В такой ситуации разрушительное наследие перестройки просто недостаточно.
Когда-то У. Черчилль упрекал Н. Хрущева, говоря, что тот-де пытался «перепрыгнуть пропасть в два прыжка». Подобный упрек можно было бы адресовать и Горбачеву, конечно, лишь в порядке шутки. Говоря всерьез, никаким смелым «прыжком» пропасть между страной, которая досталась в управление Горбачеву, и тем, что считается «нормальным» обществом, преодолеть нельзя. Но нет такой пропасти, через которую – при соответствующей затрате времени и усилий – нельзя было бы проложить «мост». Исторические примеры таких сооружений хорошо известны: в некоторых бывших колониях (например, в Индии) на сложном пути к современной жизни заранее сооружались необходимые правовые, государственно-политические и прочие институциональные «переходы». Начинания перестройки такую роль играть не могли, потому что как раз обязательных институтов не содержали.
Главным и общепризнанным завоеванием, делом перестройки, как мы видели (см. табл. 8), явилась «гласность» – высвобождение Слова, ранее скованного или запретного. Этим пьянящим Словом и заполнились политика, публицистика, литература и массовая информация тех лет. С этим связано небывалое внимание к телевидению и печати, публичной (и зрелищной) политике. Слово, неожиданно ставшее публичным, не только казалось, но и было Делом. Более того, оно оттесняло на второй план, а то и подменяло практические дела. Решения насущных проблем нередко подменялись разговорами о них. Понятно, что социальный ресурс такого Слова довольно быстро, примерно за два года, оказался исчерпанным.
«Освободительные» перемены времен перестройки не были результатом напряженной борьбы каких-то общественных сил или организаций. Вне зависимости от того, какая добрая воля или какая внутренняя коллизия в правящей верхушке служила тому побудительным толчком, «свободы» воспринимались людьми как дар свыше, а тем самым обесценивались в общественном мнении. «Платить» за подаренное пришлось значительно позже, когда достижения перестройки оказались под угрозой. Гласность как будто стала привычной, довольно высоко ценится и сейчас. Но практически никто не готов не то что «выйти на площадь», но хотя бы заявить о несогласии с травлей независимых СМИ, как и с наступлением на всеобщие выборы и т. д.
Один из самых ярких и показательных моментов перестройки – Съезд народных депутатов СССР, проходивший в прямом эфире телевидения. (В 1989 г. опрошенные назвали это самой интересной телепрограммой года, сейчас, как видно из табл. 8, мало кто это захватывающее зрелище вспоминает.)
Образ открытой публичной политики представлялся полной противоположностью всему стилю «кабинетной» политики предшествующих лет. На деле съезд был не столько властной, сколько декоративной структурой, происходили лишь публичные разговоры вокруг общественно-политических проблем, состязались ораторы (впервые страна видела блестящие образцы публичной риторики и целую плеяду ораторов, умеющую работать «на публику»), а не политические лидеры. Как известно, призыв А. Сахарова объявить съезд высшей властью в стране не нашел отклика. Съезд остался зрелищем, где «публика» (и та, что была в зале, и та, что сидела у экранов телевизоров) следила за актерами на «сцене» (на трибуне), а «серьезные» решения принимались, как и прежде, за кулисами. Позже Б. Ельцин наследовал и эффективно использовал зрелищность политических жестов (публично подписанный указ и т. п.), что скорее дискредитировало, чем утверждало действительно публичную политику…
Как всякий общественный перелом, перестройка вывела на общественную сцену ряд своеобразных личностей со своими амбициями, вкусами, фобиями и пр. (что резко отличало стиль бурных лет перемен от тягучего времени безликих функционеров), занявших те ролевые ниши, которые сформировались на политической сцене, например «консерваторов», «радикалов», «смутьянов» и пр. По сути, нашумевшие узлы личных противостояний (М. Горбачев – Е. Лигачев, Б. Ельцин – М. Горбачев) были скорее функциональными оппозициями таких позиций, чем собственно личными конфликтами.
Как уже приходилось отмечать, отвергая «устаревшие» средства решения социальных проблем, перестройка не создавала собственных адекватных средств. В результате постоянно появлялись «тупиковые» проблемы, не имевшие решения. Это относится к межнациональным конфликтам и национально-государственным претензиям. Власть, по сути, не решалась прибегать к испытанным в прошлом средствам массированного насилия (если их, следуя традиции, и применяли в нескольких ситуациях 1989–1991 гг., то как будто стыдливо и скрытно). Новых и адекватных средств (например, продуманных планов, рассчитанных на опережение ситуации, переговорных механизмов и пр.) у Горбачева не было, как не было желания их отыскать.
Главный успех перестройки – провал консервативного заговора («путча») в августе 1991 г. Страна, вооруженные силы и даже партийные структуры оказались неспособными последовать за заговорщиками. Но этот успех означал в то же время крушение самого «партийного» механизма перестройки, а вместе с тем и конец политической деятельности «главного механика» – Горбачева. Перестройка завершилась не поражением в противостоянии с консервативными оппонентами или с необузданными авантюристами, а исчерпанием собственных ресурсов. Впрочем, так же решались и судьбы предыдущих периодов нашей истории (не только «застоя»).
Возвращаясь к оценкам перестройки в общественном мнении, приходится признать, что состояние последнего сейчас исключает не только исторически справедливую, но и хотя бы более или менее взвешенную оценку перелома. Два фактора могут со временем изменить положение: во-первых, реальные позитивные перемены в жизни большинства, во-вторых, изменения в системе исторического и социального воспитания населения. В ближайшем будущем этого, к сожалению, ждать не приходится.
2005После империи
Происходящие в Украине события служат предметом пристального внимания и напряженных дискуссий среди политологов, социологов, социальных психологов, специалистов по международным отношениям. Если в конце 2004 г. в фокусе находились прежде всего электоральные ожидания, надежность результатов экзитполов и другие показатели текущей ситуации, то сейчас очевидно, что в обстоятельном социологическом анализе нуждаются сам социальный механизм общественно-политического поворота, его истоки и последствия.
Для России украинские события 2004–2005 гг. – как бы «зеркало», дающее общественному вниманию увеличенное отражение общих для обеих наших стран проблем и в то же время показывающее принципиальные различия в отношении к этим проблемам.
В социально-политических переменах в Украине и подобных им явлениях в разных точках «постсоветского» политического пространства – от России до Центральной Азии (Балтия не в счет) – действуют аналогичные факторы исчерпания и разложения «первоначальных» ресурсов – тех временных институциональных и персональных вариантов организации, которые повсеместно использовались после развала советской системы. Постсоветские властные механизмы повсюду конструировались из наличного материала – фигурально выражаясь, из «гнилых досок», скрепляемых «ржавыми гвоздями», то есть из остатков обветшавших социальных институтов, организационных и кадровых (партийно-хозяйственных, силовых и пр.) ресурсов прошлого строя. Результатом стало формирование ряда более или менее авторитарных, псевдодемократических или «полуазиатских», имитирующих исторические образцы восточных деспотий, режимов, в разной мере отмеченных чертами личной власти, сращивания политических структур с «приближенным» крупным бизнесом, региональными и родственными кланами, при неизбежной коррумпированности всех звеньев государственного механизма. Нынешние «оранжевые» и т. п. потрясения, окружающие Россию, независимо от своих национальных форм, степени организованности, успешности и пр., подтверждают неизбежность замены всех этих «времянок» социально-политическими конструкциями, ориентированными на стабильные современные образцы. С этими тенденциями связаны и требования перемен в правящих элитах.
Другая и не менее важная сторона той же проблемы выражена в исчерпании ресурсов переходной (временной, наспех сколоченной по обветшалым шаблонам) постимперской системы межгосударственных отношений – как политических, так и экономических, социальных, в значительной мере и межкультурных[480]. Как представляется, главным фактором разложения советской имперской конструкции была слабость ее центральных, то есть партийно-политических, структур, их крушение сделало невозможным формирование эффективных межгосударственных образований наподобие Британского (постимперского) содружества или Европейского сообщества (союза). Вряд ли могут быть удачными последние попытки в срочном порядке заменить проржавевшие политические скрепы энергоресурсными («газопроводными»), собственно говоря, попытки компенсировать утрату лидирующих позиций наделением России функцией энергосырьевого придатка бывшей имперской «периферии».
Надежды и иллюзии, связанные с украинскими и подобными им переменами последнего времени, приводят к реабилитации романтического восприятия революционных переворотов, основательно дискредитированного переосмыслением событий советского периода. Любой акт несистемного социального насилия, независимо от намерений его вдохновителей и участников, всегда и повсеместно приводил к тяжелым социальным потерям, не говоря уже о человеческих жертвах, разрушениях и пр. Один из давно известных уроков истории состоит в том, что предотвратить революционные катаклизмы со всеми их социальными издержками можно, лишь вовремя проводя назревшие изменения с помощью эффективных реформ. В принципе на перемены такого рода ориентированы современные общества и государства, в которых соперничество политических сил и представление социальных интересов различных групп происходят в легитимных рамках. Там, где этого сделать не удается из-за отсутствия соответствующих институциональных средств, «революционные» усилия в каких-то формах могут стать неизбежными. Ни в одном из государств, действующих на развалинах советской державы, не сформированы механизмы для «плавного» (парламентского, электорального) выхода из постимперского тупика.
Произошедшие или назревающие на постсоветском пространстве потрясения дают пример различных вариантов организованности и идеологизированности социально-политических перемен и массового участия в них. Во всех случаях совершенные изменения легитимизированы постфактум – парламентскими узаконениями, судебными решениями, всеобщими выборами. На одном полюсе оказывается «оранжевое» движение в Украине, почти предельно цивилизованное, тщательно подготовленное, подчинявшее факторы национального самоутверждения модернизационным ориентирам; на другом – переворот в Киргизии, где смена власти сопровождалась взрывами массовых страстей, контролируемых на традиционных или групповых уровнях.
Российское политическое руководство, за последние 14 лет не сумевшее и не пытавшееся всерьез стать лидером назревших прогрессивных перемен на постсоветской территории, в последнее время прилагает усилия для спасения даже наиболее одиозных и репрессивных режимов от «оранжевой» опасности. Такая позиция, несомненно, усиливает «антимосковские» компоненты в оппозиционных движениях. Но сегодня Россия не решается и не способна выступать в роли «жандарма» на постсоветском пространстве (каким был бывший СССР в бывшем соцлагере).
Принципиальное отличие сегодняшнего положения России от предкризисного состояния Украины, Грузии, Киргизии и др. – в отсутствии поляризации, слабости центров и авторитетов оппозиции, что делает нереальной, по крайней мере в ближней перспективе, «протестную» национально-политическую мобилизацию общества. Пока «оранжевая» символика остается атрибутом различных протестных выступлений, особенно молодежных. Более существенный показатель влияния соседних потрясений на российскую политическую поверхность – раздражение и даже панический, отчасти искусственно нагнетаемый страх российской политической верхушки и ее политтехнологической обслуги перед «оранжевой» опасностью. Вряд ли власти решились бы столь быстро уступить социальным протестам начала 2005 г., если бы не опасались политизации массового недовольства.
В российском общественном мнении комплексы постимперского сознания изживаются медленно. В ноябре 2005 г. (N = 1600 человек) 81 % опрошенных полагал, что русские, украинцы и белорусы – это «три ветви одного народа», а почти две трети (63 % против 32 %) не считали Украину «заграницей». Это значит, что направленная работа всей батареи главных отечественных СМИ находит довольно благодатную массовую почву. Полученные плоды, правда, не совсем соответствуют использованным семенам, так как доверие к СМИ в данном случае невысоко. То, что украинские события в российских медиа освещаются «объективно и добросовестно», полагают всего 17 %, что это делается «предвзято и необъективно» – 24 %, «скупо и непонятно» – еще 40 %. Отсюда и невнятность суждений.
События конца 2004 г. в Украине как «борьбу за власть между различными группами политиков и олигархов» оценивают более половины респондентов (54 %), как «заговор, организованный политиками и спецслужбами западных стран», – 18 %, но как «массовое возмущение, направленное против коррумпированной власти, нечестных выборов» – еще реже (15 %). Эти перемены принесли самой Украине «больше плохого», считают 55 % опрошенных, а что пострадали отношения между Россией и Украиной – 57 %. Современные векторы украинской жизни в ноябре 2005 г. представляются так: постепенное сближение с Россией отмечают всего 10 % респондентов, сближение со странами Запада – 49 %, нарастание «хаоса, беспорядка» – 27 %.
По данным опроса, проведенного в июле 2005 г., лишь 23 % респондентов полагали, что Россия должна поддерживать демократические силы и прогрессивные перемены в странах СНГ, но еще реже (14 %) высказывалось предложение «стремиться сохранить у власти нынешних лидеров, какими бы они ни были, если они выражают лояльность России» (нетрудно заметить, что именно этот вариант, кстати разделяемый преимущественно в старших возрастных группах и среди коммунистического электората, наиболее близок к официальной линии). Чаще всего (55 %) упоминалась формула нынешнего изоляционизма – «соблюдать собственные экономические и политические интересы и не вмешиваться в дела соседей». Еще 30 % напоминали о противодействии опасному влиянию зарубежных стран (США, Китая, Турции и др.) на постсоветские государства. (Поскольку отвечавшие могли указать более одного варианта мнений, сумма ответов превышает 100 %.)
При оценках украинских перемен в общественном мнении как в Украине, так и в России на первом плане сейчас часто оказываются слабости и неудачи движения, конфликты в верхах, массовые разочарования и иные спутники любого крутого общественного поворота, особенно заметные в его революционных вариантах, при слабости институциональных механизмов и гипертрофированной роли социально-психологических, групповых, личностных факторов. Но за «деревьями» нельзя терять из виду «лес», то есть сам сложный процесс общественных перемен, значение которых далеко выходит за национально-государственные рамки. То, что на инертно-послушном общественном фоне, доминирующем на постимперских просторах, стала возможной массовая политическая мобилизация, способная стать фактором необратимых перемен, дает богатую пищу для изучения, а в какой-то перспективе, возможно, и поучительный пример.
2005Общественное мнение в политическом зазеркалье
Трудно указать сферу общественной жизни, которая в массовом сознании столь плотно была бы «заселена» иллюзорными, фантомными конструкциями и персонажами, как политическая, при том что политические, точнее считающиеся таковыми, факторы прямо или косвенно пронизывают разные стороны жизни людей в современном российском обществе. Процесс отделения государства от общества, произошедший в странах европейского типа еще в XIX в. и обеспечивший юридические контуры современных правовых государств, в России остается проблемой будущего. Поэтому ни общественное мнение («гражданское общество»?), ни государство (институты – учреждения) не способны рассматривать друг друга «со стороны». Кроме того, собственный практический опыт «массового» человека менее всего пригоден для реалистического представления государственно-политических феноменов. Поэтому с подачи массмедиа и направленной политрекламы (PR) «зеркало» общественного мнения отображает на матрице привычных стереотипов скорее наведенные иллюзии и разочарования, связанные с определенными событиями и персонажами, чем оценки реальных действий (и в еще меньшей степени – институтов).
Некоторые стороны подобных трансформаций показывают результаты недавнего массового исследования[481]. В статье использованы также данные других опросов (ссылки на них оговариваются особо).
Нераздельность государства и общества – не только сохраненная, но активно реконструируемая – характерная особенность современной российской социально-политической сцены, дополняемая вполне последовательными акциями по ликвидации всякого разделения властей – и «вертикального», и «горизонтального», и «функционального», в том числе независимости законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Неизбежным следствием является не только прогрессирующее превращение законодательных и судебных инстанций в придаток исполнительной власти, но и дискредитация самой исполнительной «вертикали». Продуктом «полураспада» тоталитарной системы господства оказалась обновленная административно-бюрократическая иерархия. Тенденция низведения государства до знаменитого в позднем Средневековье принципа «государство – это я» (l’état c’est moi) не придает властным структурам ни эффективности, ни прочности, особенно в ситуациях политических переходов.
Другая сторона той же ситуации – неразвитость или сворачивание «поля» гражданских институтов, а вместе с этим и возможности для гражданской ответственности и гражданской позиции человека. Отсюда – фиктивная деятельность псевдообщественных организаций, исполняющих традиционные для советской эпохи функции «рычагов» или «приводных ремней» власти, поддерживавших видимость массового соучастия в государственной деятельности. (Такие фикции в общественном мнении не находят поддержки. Так, в феврале 2006 г. только 19 % опрошенных допускали, что новообразованная Общественная палата сможет играть важную роль в обществе. Но фиктивные конструкции рассчитаны не для общественного мнения, а для самооправдания административной системы управления.)
В такой ситуации рутинный набор вопросов об участии/неучастии граждан в политической жизни, наличии интереса и возможности для такого участия и т. п. выводит исследователей на грань соотнесения массового воображения с миром фиктивных псевдополитических образований и категорий. Для того чтобы понять значение полученных результатов, требуется на каждом шагу выяснять, что в современных условиях (и в сегодняшнем общественном мнении) значит «политика» или «политическая деятельность», в чем выражается или может выражаться массовое в ней участие и т. д., при том что в распоряжении общественного мнения не существует критерия реального политического участия, отсутствуют и соответствующая институциональная база, и массовый опыт какого-либо участия.
Для большинства опрошенных независимо от их политических симпатий власть ассоциируется преимущественно с конкретными высшими государственными лицами – президентом, правительством, местными чиновниками (табл. 1).
Таблица 1
«Персонализация» власти: истоки и последствия
Когда вы говорите «власть», то кого вы прежде всего имеете в виду?
(в % от числа опрошенных в каждой возрастной группе, N = 1600 человек)
Весьма редко на первый план выступают деперсонализованные институты («государство», «закон»). Имеющие высшее образование чаще других (70 %) указывают как носителей власти президента, его окружение и администрацию, а также силовые структуры и СМИ. Государство в этой группе упоминают 19 %, тогда как среди малообразованных – 12 %.
«Эффективное управление» или «служение народу». Треть опрошенных (34 %) считает, что страной должны руководить «эффективные управленцы», более половины (57 %) – что это должны быть «люди, посвятившие себя служению народу».
Стремление видеть во главе страны эффективных чиновников больше выражено у лояльных нынешней власти (из числа одобряющих президента – 36 %, из неодобряющих – 30 %), а романтические представления о пафосном служении народу скорее разделяют в оппозиционной среде (из числа одобряющих В. Путина – 55 %, из неодобряющих – 66 %). Среди полагающих, что дела в стране идут в правильном направлении, соотношение таких мнений составляет 43: 49, среди встревоженных «неверным путем» – 27: 66. Если рассматривать мнения симпатизирующих различным политическим силам, оказывается, что в наибольшей мере стремление видеть руководство, воодушевленное идеей служения народу, заметно у сторонников коммунистов (27: 68), несколько слабее – у демократов (38: 54), еще слабее – у поддерживающих «партию власти» (41: 52).
Нынешнее руководство страны представляется опрошенным более успешным в качестве «управленцев», чем в плане «служения народу». Средняя оценка людей действующей власти как управленцев по десятибалльной шкале составляет 4,89, как служащих народу – 3,99.
Сопоставление суждений о типах руководства приоткрывает весьма существенную грань сегодняшней персонализации власти – ее неразрывную связь с тенденцией к обезличиванию, деперсонализации самих носителей этой власти. На всех ее иерархических уровнях действуют исполнители бюрократических функций (или начальственных указаний), а отнюдь не приверженцы каких-то идеалов и принципов. Поэтому говорить о «харизматичности» тех или иных политических (государственных, партийных, политрекламных и т. п.) функционеров можно лишь метафорически – как о способности оказывать личное психологическое давление на своих сторонников или поклонников. Между тем понятие «харизма», использовавшееся при изучении типов господства М. Вебером, предполагает не просто исполнение, а создание волей и талантом лидера социально-политических функций и структур. Нити бюрократической зависимости, в том числе личной, не рутинизируются, трансформируясь в инстититуциональные связи, а ветшают и разрушаются в ходе системных кризисов. Отсюда, в частности, и вызовы политических переходов, на которых мы остановимся ниже.
Понятно, что такое распределение мнений объясняется слабой институционализацией социально-политических отношений в постсоветской России. Последствия неоднозначны. С одной стороны, заметная часть населения выражает готовность одобрять или по меньшей мере принимать как меньшее зло тенденции «личной» власти и свойственного ей «вертикального» произвола. В современных условиях такие тенденции, как известно, выражаются в приватизации властных институтов и функций группами приближенных к первому лицу. В то же время в общественном мнении явно утверждается стремление противопоставить фигуру популярного президента фактически всей властной элите, от ближайшего окружения главы государства до чиновников на местах. Высокий уровень одобрения В. Путина как бы уравновешивается весьма критическими мнениями о всех других носителях властных полномочий. Механизм такого распределения оценок отчетливо показан в регулярных исследованиях последних лет: общественное мнение постоянно приписывает президенту заслуги осуществления позитивных сдвигов (повышение зарплат и пенсий), а правительству и местным чиновникам – ответственность за негативные явления (рост цен и тарифов).
Выбор между «достойными людьми» и «действующими законами». На протяжении ряда лет, отвечая на вопрос, что может лучше обеспечить благополучие народа, большинство респондентов отдают предпочтение варианту «надежные реально действующие законы», около трети полагают, что «достойные люди в руководстве».
Заметна разница во мнениях различных возрастных групп. Если среди самых молодых (18–24 года) «достойных людей» предпочитают 36 %, а «действующие законы» – 60 %, то у пожилых (55 лет и старше) соотношение таких позиций 42: 50. Среди сочувствующих демократам – 35: 64, у сторонников «партии власти» – 40: 50.
То, что в последние годы роль «достойных людей» отмечается несколько чаще, чем в 1990-е гг., видимо, обусловлено существующим уровнем доверия к президенту, но общая тенденция сохраняется (табл. 2). На первый взгляд это противоречит отмеченному ранее стремлению к персонализации власти. Но тогда речь шла о реальной нынешней власти, а в приведенной табл. 1 – о желаемой, идеальной ситуации. На представления о ней, несомненно, оказывают влияние, во-первых, распространенные оценки сегодняшней роли законов (далеко не все из них могут относиться к «реально действующим»; с такими мнениями мы еще встретимся), а во-вторых, представления о сегодняшних носителях власти.
Таблица 2
Что, скорее всего, может обеспечить благополучие народа?
(в % от числа опрошенных в соответствующем году)
Люди у власти. Приведем распределение ответов на вопрос: «С каким высказыванием о людях, которые сейчас стоят у власти, вы бы, скорее всего, согласились?» (в % от числа опрошенных; N =1600 человек; сумма ответов превышает 100 %, поскольку респондент мог дать несколько вариантов ответа):
Только 16 % опрошенных считают, что для стоящих у власти более важно процветание страны, 72 % – что это «незыблемость и укрепление собственной власти».
И опять-таки различия между сторонниками и критиками нынешнего положения России мало влияют на суждения. Мнения о том, что власть имущие озабочены только своими привилегиями и доходами, разделяют 50 % уверенных в «правильном пути» страны, 51 % одобряющих деятельность президента, 61 % считающих этот путь «неверным» и 70 % критиков В. Путина (не одобряющих его действия). 66 % одобряющих президента и 89 % не одобряющих согласны в том, что для людей, стоящих у кормила, важно преимущественно укрепление собственной власти.
«Власть портит…» С этим полностью согласны 45 % опрошенных, скорее согласны с тем, что «власть портит людей» (надо думать, тех, кто властью пользуется), еще 38 %, с этим не соглашаются всего 13 %, затрудняются ответить 4 %. Подобное распределение мнений почти без изменений сохраняется на протяжении ряда лет: в марте 1998 г. оно выражалось показателями 81: 13, в июле 2000 г. – 69: 8, сейчас (в целом) – 83:13. Никакого роста облагораживающего влияния власти не замечено. Причем из числа одобряющих действующего президента с таким мнением о власти согласны сейчас 81 % против 14 %, а из неодобряющих – 86 % против 10 %.
«Интерес» без «участия». Среди опрошенных «очень большой» интерес к политике выразили только 5 %, «большой» – 10 %, «средний» – 37 %, «в малой степени» – 27 %, «совершенно не интересует» – 20 %[482].
Наименьший интерес к политике высказывают молодые граждане, с возрастом этот интерес явно повышается (табл. 3).
Как и следовало ожидать, более образованные значительно чаще декларируют интерес к политическим проблемам: из имеющих высшее образование отмечают большой интерес 26 %, малый – 28 %, среднее образование – 13 % и 49 % соответственно, ниже среднего – 11 % и 57 %. Среди мужчин большой интерес к политике проявляют 21 %, малый – 43 %, среди женщин – 12 % и 51 % соответственно.
Таблица 3
В какой степени вас интересует политика?
(в % от числа опрошенных в каждой возрастной группе, N = 1600)
Примечание 1[483]
Примечание 2[484]
Менее очевидными представляются данные о соотношении уровня интереса к политике с оппозиционными настроениями и тенденциями. Из тех, кто считает, что дела в стране «идут в правильном направлении», большой интерес к политике декларируют 15 %, а из полагающих, что «страна движется по неверному пути», – 19 %. Из одобряющих деятельность В. Путина как президента о большом интересе к политике заявляют 13 %, о малом – 48 %, из не одобряющих – 20 % и 40 % соответственно. Таким образом, политический интерес граждан заметно связан с критическими оценками современной власти.
Следует отметить, что во всех выделенных группах опрошенных преобладает слабый (или «нулевой») интерес к политической жизни. Как мы увидим из следующих данных, этот интерес имеет преимущественно пассивный («зрительский») характер и мало связан с реальным или даже желаемым участием в политической жизни.
Разумеется, чаще всего читают и смотрят материалы на политические темы высокообразованные (часто – 58 %, редко – 41 %), реже всего – имеющие образование ниже среднего (36 % и 64 % соответственно).
«Зрительскому» интересу к политическим темам вполне соответствует склонность обсуждать их с другими. В целом этим часто занимаются 33 %, редко – 67 %, среди самых молодых – 20 % и 78 %, у пожилых – 41 % и 57 % соответственно. Среди имеющих высшее образование часто говорят о политике 47 %, редко – 52 %, со средним – 31 % и 68 %, с неполным средним образованием – 25 % и 73 % соответственно.
Из одобряющих деятельность В. Путина часто читают, смотрят политические материалы 31 %, редко или никогда – 58 %, из неодобряющих – 38 % и 51 % соответственно.
Часто обсуждают с другими людьми политические события 31 % одобряющих президента, редко – 68 %, из неодобряющих – 40 % и 58 % соответственно. Здесь опять просматривается отмеченная выше особенность: интерес к политике выше у тех, кто к ней относится критически, и ниже у тех, кто скорее доволен нынешними политическими реалиями.
Политическое участие: возможности и желания. Только 15 % опрошенных полагают, что они (определенно или в какой-то мере) могут «влиять на принятие государственных решений в стране», 82 % такой возможности не видят. Примечательно, что в данном случае молодые граждане демонстрируют несколько более высокую степень оптимизма (или наивности?): из них 21 % против 77 % допускают свое влияние на политику; у самых пожилых такие мнения распределены в соотношении 10: 87. Среди имеющих высшее образование возможность в какой-то мере оказывать влияние на государственную политику усматривают 27 % (отрицают такую возможность 73 %), среди низкообразованных 9 % против 88 %. Думают, что могут влиять на принятие решений в своем регионе, городе, районе, 23 % против 75 % опрошенных.
Как и следовало ожидать, весьма низким остается и уровень готовности российских граждан к более активному политическому участию (табл. 5). Здесь, однако, возрастное распределение позиций выглядит иначе, чем в предыдущей табл. 4: заявленная готовность к политическому участию – как показатель соответствующих иллюзий или претензий – выше всего у молодежи и неуклонно снижается с возрастом.
В группе высокообразованных чаще заявляют о готовности к политическому участию (32: 66), в группе со средним образованием – значительно реже (19: 77), среди не имеющих среднего образования – еще реже (9: 86).
О своей возможности влиять на государственные решения в масштабах страны говорят 16 % одобряющих В. Путина и 13 % тех, кто его действия не одобряет. Невозможность такого влияния отмечают 82 и 86 % соответственно. Готовы к более активному политическому участию по 19 %, а не готовы, по их словам, 76 % и 78 %, то есть практически в равной мере сторонники и оппоненты президента. Показатели «одобрения» первого лица никак не связаны с политической активностью.
Таблица 4
Как часто вы в последнее время читаете о политике в газетах и журналах, смотрите политические передачи по телевидению?
(в % от числа опрошенных в каждой возрастной группе, N = 1600 человек)
Примечание 1[485]
Примечание 2[486]
Таблица 5
Готовы ли вы лично более активно участвовать в политике?
(в % от числа опрошенных в каждой возрастной группе, N = 1600 человек)
Примечание 1[487]
Примечание 2[488]
Свое нежелание более активно участвовать в политических делах, ссылаясь на то, что «все равно ничего изменить нельзя», объясняют 25 % опрошенных, «политика – не для рядовых граждан, ею занимаются власти», – 22 %, нет времени для политики, поскольку они заняты «своими повседневными делами» – 19 %, «ничего не понимают в политике» – 17 %, «политика – грязное дело» – 11 %, «не хочется выделяться среди других людей» – 3 %, а преследования со стороны властей опасаются 2 % респондентов.
Примечательно, что среди имеющих высшее образование из-за занятости «своими делами» не намерены участвовать в политике 27 %, а из-за того, что политикой занимаются власти, – 18 % опрошенных. У среднеобразованных самые распространенные доводы в пользу своего неучастия – «ничего изменить нельзя» (26 %) и «ею занимаются власти» (23 %).
И сторонники (одобряющие) действующего президента, и его оппоненты чаще всего оправдывают нежелание участвовать в политике тем, что «ничего изменить нельзя» (24 % и 28 % соответственно) или что «политикой занимаются власти» (23 % и 30 %), о «грязном деле» говорят 10 % одобряющих и 17 % неодобряющих.
Такое распределение суждений показывает, что за годы социально-политических перемен в России не сформировались и не получили признания (как официального, так и массового) институты эффективного политического участия граждан в государственной жизни. Это в ситуациях всплесков социальной напряженности вынуждает граждан ограничиваться пассивными («ворчливыми») выражениями недовольства или примитивными, «уличными» средствами общественной активности. Последние были заметны в начале 2005 г. в ходе массовых протестов против монетизации льгот. Приведем распределение ответов на вопрос: «Почему граждане России в большинстве своем не контролируют действия властей и не оказывают на них существенного влияния?» (в % от числа опрошенных, N = 1600 человек; сумма ответов больше 100 %, поскольку респондент мог дать несколько вариантов ответа)
В ответах этой группы общественное мнение подходит к реально действующим факторам массового политического неучастия.
На первое место среди причин неучастия людей в политической жизни выходят оценки нынешнего стиля деятельности властных структур в России: чиновники оглядываются только «наверх» (по линии властной «вертикали») и не несут ответственность перед гражданами. Одобряющие президента чаще указывают на то, что «людей мало заботят действия власти» (19 % против 15 % у неодобряющих), «люди надеются на заботу власти» (18 % против 12 % соответственно). Критически настроенные по отношению к президенту несколько чаще (52 % против 47 % у более лояльных) отмечают отсутствие у чиновников интереса к нуждам граждан, скудную информацию о работе властных органов (31 % против 28 %) и, конечно, уменьшение роли голосований и дискуссий (36 % против 25 % соответственно).
Человек, отстраненный и отстранившийся от государства. Принципиальную основу всего комплекса установок российских граждан по отношению к деятельности властных структур (отсутствие интереса, нежелание участвовать, возможность обмана и др.) составляет укоренившаяся отстраненность обычного человека от государственных дел.
Уместно сопоставить полученные данные с некоторыми результатами исследований прошлых лет (по программе «Советский человек»).
За последние годы заметно более распространенным стал вариант «требовать большего», уменьшилось стремление «помогать» государству, упали надежды на то, что государство можно «заставить служить» гражданам (табл. 6). Доминирующей остается установка «разочарованного патернализма»: люди не могут и не решаются чего-то требовать от государства, но ждут от него «отеческой» заботы и, разумеется, жалуются на недостаточность таковой.
Еще одно подтверждение такой позиции – представления о принципах «идеального» общественного устройства. Для 68 % опрошенных в таком строе «власть должна заботиться о людях», для 28 % – «люди должны иметь возможность добиваться от власти того, что им нужно».
Обратимся к такому признаку отчужденности между гражданами и государством, как динамика показателей «моральной ответственности» (табл. 7).
После разрушения советской модели (в опросе 1989 г. она еще присутствовала) «безусловное» отрицание моральной ответственности человека за власть и страну неизменно и значительно преобладает над «безусловным» ее принятием.
«Лукавая» взаимозависимость. Опросные данные показывают, что не все граждане в одинаковой мере испытывают зависимость от государственных институтов и чиновников. Чаще всего отмечают ее люди в старшем возрасте и имеющие высшее образование. Одобряющие президента чаще говорят о значительной зависимости от власти (51: 45), у неодобряющих соотношение позиций прямо противоположное (45: 51). В данном случае «зависимость» оказывается почти синонимом «причастности».
Таблица 6
С каким из следующих мнений по поводу отношений с государством вы бы скорее согласились?
(в % от числа опрошенных в соответствующем году, N = 1600 человек)
Таблица 7
Несет ли человек моральную ответственность…
(в % от числа опрошенных в соответствующем году)
Существенная «качественная» ограниченность взаимоотношений граждан и власти обнаруживается данными, представленными в табл. 8.
Таблица 8
В какой мере выполняют свои обязанности…
(в % по столбцу, N = 1600 человек)
Примечание 1[489]
Примечание 2[490]
Из числа одобряющих деятельность В. Путина 37 % против 31 % считают, что граждане выполняют обязанности перед государством, а 11 % против 48 % – что государство выполняет обязанности перед гражданами. По мнению тех, кто не одобряет деятельность президента, граждане выполняют обязанности в соотношении 32: 29, а государство – 27: 69. Как видим, и те и другие адресуют упреки прежде всего государству.
Более детальную картину представлений о взаимоотношениях государства и граждан дают следующие показатели, полученные в ходе исследования (табл. 9).
Неудивительно, что сторонники действующего президента в большей мере, чем его оппоненты, акцентируют внимание на активности власти («контролирует…»), но расхождение во мнениях относительно невелико. И те и другие практически сходятся в главном: контроль над властью и взаимный контроль власти и граждан упоминаются редко, взаимный обман – наиболее часто. В результате и зависимость граждан от государства оказывается в значительной мере показной, «лукавой».
Чего же мы заслуживаем? Вне связи с оценками современной ситуации и нынешнего руководства опрошенные чаще склонны считать неверным гегельянское по духу утверждение о том, что «люди всегда имеют такую власть, какую они заслуживают»[491]. В 1998 г. с этим тезисом соглашались 36 % против 51 %, сейчас – 39 % против 52 %. У одобряющих президента соотношение суждений – 38: 54, у критиков – 44: 55. Можно предположить, что критически настроенные как будто скорее готовы признать ответственность народа за «такую (столь нехорошую) власть».
Таблица 9
Какое из следующих утверждений больше подходит нынешней России?
(в % по столбцу, N = 1600 человек)
Если применять более прозаическую терминологию, можно сказать, что каждая страна в определенное время вынуждена переживать тот режим, которому не находят альтернативы, и до того момента, пока не окрепнут силы, способные эту альтернативу реализовать. Пока этого не происходит, массовый выбор обычно действует в пользу более «привычного зла».
«Демократия» и «хаос»: о нынешней ситуации в России. Почти одинаково распространены представления о «становлении демократии» и об «утрате порядка» (каждое разделяется примерно третью опрошенных), но четверть населения затрудняется определить, что происходит (табл. 10).
Одобряющие деятельность президента чаще среднего отмечают развитие демократии (39 %) и реже – нарастание беспорядка (24 %).
Таблица 10
Какое из следующих утверждений наиболее точно описывает ситуацию в стране?
(в % от числа опрошенных в каждой возрастной группе, N = 1600 человек)
О признаках демократии. Как водится, всякое массовое обсуждение проблем российской демократии сталкивается с принципиальной и исторической неопределенностью исходных терминов (табл. 11 и 12).
Таблица 11
Что такое, по вашему мнению, демократия?
(в % от числа опрошенных в каждой группе; сумма ответов больше 100 %, поскольку респондент мог дать несколько вариантов ответа)
а) группы по возрасту
б) группы по образованию
Среди одобряющих президента доля уверенных в существовании демократии (5 %) почти не отличается от средней, но только 15 % признают, что ее значение снижается (это замечают 35 % неодобряющих).
Дефицит политических прав: кто его замечает. Данные обсуждаемого опроса сопоставлены с результатами исследований по программе «Советский человек» в табл. 13.
Таблица 12
Существует ли в сегодняшней России демократия?
(в % от числа опрошенных в каждой группе)
а) группы по возрасту
б) группы по образованию
Как видим, на протяжении всех лет абсолютно доминирующим в общественном мнении остается представление о нехватке материальных благ. Улучшения в экономике страны и жизненном уровне населения не только не ослабляют, но как будто даже обостряют такое ощущение. С ростом уровня жизни (особенно при низких стартовых показателях такого роста) растут и усложняются запросы людей. Кроме того, явно возрастает значение такого показателя, как отсутствие уверенности. Привлекают внимание выросшие в текущем году показатели недостатка нравственных принципов и политических прав (табл. 14).
Наибольшую озабоченность положением с политическими правами обнаруживают молодые люди. Это единственная явно возрастно-зависимая позиция. Среди одобряющих действия президента недостаток политических прав усматривают реже (12 %), среди неодобряющих – чаще (19 %). Из сочувствующих демократам – 21 %, из приверженцев «партии власти» – 9 %. Такая зависимость в особых комментариях не нуждается.
Таблица 13
Чего в первую очередь не хватает сегодня человеку в России?
(в % от числа опрошенных в соответствующем году; сумма ответов больше 100 %, поскольку респондент мог дать несколько вариантов ответа)
Чаще отмечают оба главных дефицита имеющие высшее образование: 35 % из них – слабость нравственной атмосферы в обществе (из малообразованных это замечают 23 %), 17 % – дефицит политических прав (10 %).
По мнению респондентов, два факта, скорее всего, могут убедить людей в том, что власть действует в их интересах: улучшение материального положения (70 %) и реальное соблюдение прав и законов (47 %). На сегодняшней стадии социального и политического развития российского общества самым болезненным дефицитом для огромного большинства населения остается нехватка материальных благ. В такой ситуации главным доводом в пользу существующей власти, естественно, служит повышение уровня жизни граждан. Но существенно, что на втором месте по частоте упоминаний, при поддержке почти половины опрошенных, оказывается соблюдение законов и прав. Тем самым значительная (и более молодая) часть общества выражает беспокойство в связи с тем, что эти социальные предпосылки нормального развития общества должным образом не действуют.
Таблица 14
Чего в первую очередь не хватает сегодня человеку в России?
(в % от числа опрошенных в каждой возрастной группе, 2006 г., N = 1600 человек; сумма ответов больше 100 %, поскольку респондент мог дать несколько вариантов ответа)
Испытание переломом. Как и для любого слабо институционализированного общества, переход власти от одной правящей группировки к другой в отечественной истории последних десятилетий оказывается тяжелым испытанием, которое обнажает и ставит под угрозу всю конструкцию властных отношений. Сейчас, когда проблема «наследования» верховной власти превращается в центральную тему российской общественной жизни, «переломный» кризис все явственнее находит свои отражения и в «зазеркалье» политически сфокусированного общественного мнения.
В феврале 2006 г. выяснилось, что 70 % российских граждан озабочены (половина из этого числа «серьезно озабочены») тем, что произойдет в стране после окончания срока президентских полномочий В. Путина в 2008 г. Поскольку ни персональный, ни политический расклад участников будущего электорального процесса пока неясен, уместно принять во внимание довольно устойчивое соотношение трех групп будущих избирателей: готовых поддержать любого кандидата, на которого укажет В. Путин («наследника», их около 30 %), принципиальных противников такого варианта (примерно 17 %) и неопределившихся (более 50 %, в их числе те, кто собирается сделать свой выбор в зависимости от обстоятельств, и затрудняющиеся ответить).
В марте 2006 г. «наследника» готовы были поддержать 38 % из одобряющих деятельность В. Путина, 10 % из неодобряющих, 52 % из числа неопределившихся.
«Баланс» успехов и неудач. Итоговые оценки достижений и упущений президента за все годы его пребывания у власти выглядят довольно жесткими (табл. 15).
Неприкосновенность или ответственность? В заключение стоит остановиться на полученном в марте 2006 г. распределении мнений о целесообразности предоставить неприкосновенность действующему президенту и его окружению после окончания конституционного срока. За предоставление неприкосновенности В. Путину высказались 39 % опрошенных (в том числе 45 % из одобряющих его действия и 52 % из «продолжателей»), против этого – 48 %, остальные 13 % воздержались. В отношении ближайшего окружения президента соотношение мнений – 17: 67. Напомним, что в 2000 г., после отставки президента Б. Ельцина, большинство опрошенных выражали недовольство избавлением его от судебной ответственности. Понятно, что речь шла тогда не только о личности лидера, которому пришлось пережить утрату массовой поддержки еще во время пребывания у власти, но и о традиционном для отечественной истории «сведении счетов» с каждым предшествующим политическим периодом, его идеологией, стилем, деятелями и т. д.
Таблица 15
Что вы назвали бы главным достижением В. Путина за годы его президентского правления? А в каких областях его действия были наименее удачными?
(в % от числа опрошенных)
Примечание 1[492]
Примечание 2[493]
В приведенном выше раскладе суждений можно усмотреть некоторую, возможно, пока не осознаваемую, предварительную внутреннюю подготовку российского общественного мнения к очередной «переходной» переоценке ценностей, в ходе которой вскоре вслед за ритуалом уважительных проводов ушедшей эпохи разворачивается кампания по ее разоблачению. Смена «караула» на высших государственных постах оказывается так или иначе, по крайней мере символически, связанной со сменой «спецконтингента» в отдаленных местах, в библиотечных хранилищах, портретных галереях и т. д. Оба компонента исторического прощания взаимосвязаны и используются – не всегда успешно – для самоутверждения нового политического поколения, каким бы оно ни оказалось. Мнимые отражения в зеркалах массового сознания тоже имеют свои судьбы.
2006Особые люди
В советском новоязе трудно найти другой специфический термин, сравнимый по экспансивности с понятием «особый» (обособленный, отличный от других). Особый режим, особый порядок, особо важный, особо опасный, особо секретный, особые отделы, особые совещания (пресловутые «тройки»), особые папки – вплоть до особых магазинов и продуктов, сортов колбасы, пайков и т. д. Видимо, столь широкое использование меток «исключительности» свидетельствует о характере разобщенного, «разгороженного» языкового пространства. Социологически это пространство господства привилегий, льгот, разрешений, запретов, ограничений, репрессий. Именно в таком пространстве возникает жупел «вседозволенности» – кошмар сломанных перегородок.
Сами перегородки приобретают таинственно-сакрализованное значение. Попытки их объяснить выглядят столь же рискованными, как и попытки их преодолеть. Сама апелляция к «особому» считается объясняющей. Особая, исключительная судьба, история России, особый человек живет в России.
Проблема соотнесения «своего» человека с «иным», «чужим» в современном мире существует в России примерно три столетия и обостряется каждый раз в моменты очередного «рывка» модернизации и в периоды разочарований в результатах такого «рывка». На особого русского человека, казавшегося верным слугой монархии и православия, в свое время возлагали надежды отечественные консерваторы. Но на особого русского человека, способного ломать закономерности и сроки исторических перемен, уповали и все отечественные социалисты XIX и XX вв. Все русские «западники» от А. Герцена до В. Ленина использовали концепции «особого» человека и «особого» его пути к мировым универсалиям.
Перемены и события последних лет придали новую остроту извечной проблеме. Падение множества официальных и традиционных перегородок поставило нашего человека лицом к лицу с западным миром, сделало неизбежным постоянное практическое сопоставление, сравнение, влияние исторически разделенных миров, в том числе на человеческом, социально-антропологическом уровне. Это испытание часто оказывается шоковым. Вблизи стали очевидны масштабы реальных, уже не декларативных различий не только в факторах экономического роста и значении социальных институтов, но и в сложившихся установках и притязаниях человека.
На всех уровнях – от массового до официального – и не без солидных интеллигентских усилий с различных сторон и с новой энергией реанимируются лозунги вредоносности западного влияния, недопустимости чужого вмешательства во внутренние расправы и т. д. Как и прежде, попытки нового отгораживания от внешнего мира, нового изоляционизма служат средством самоутверждения (на «своем» уровне) и самооправдания («не получилось»).
В 1994 и в 2003 гг. мы просили опрашиваемых согласиться или не согласиться (полностью согласен, скорее согласен, скорее не согласен, полностью не согласен) с несколькими высказываниями о нашей «особости»: «За 75 лет советской власти наши люди стали другими, чем в странах Запада, и этого уже не изменить»; «Не думаю, что люди в России отличаются от людей в других странах»; «Россия рано или поздно пойдет по пути, общему для всех цивилизованных стран». Теперь мы можем оценить, какие сдвиги в общественном мнении на этот счет произошли за последние 9 лет.
В целом изменения позиций невелики. Это позволяет считать, что мы имеем дело с довольно устойчивыми установками массового сознания и с устойчивыми их сдвигами в одном направлении. Согласие с тем, что «люди в России не отличаются…», уменьшилось.
Представления о характерных особенностях «нашего» человека за 9 лет практически не изменились: по-прежнему большинство наших собеседников считают (согласны и скорее согласны), что человек у нас привык «довольствоваться самым малым и не гнаться за успехом и богатством», «делать же сообща» и не терпеть тех, кто «ставит себя выше коллектива», что «в России люди привыкли относиться друг к другу по-свойски, не думая о выгоде».
Заметно возросло согласие с утверждением «привыкли относиться по-свойски» в средних статусных группах, примерно в той же степени оно уменьшилось в высших, в низших осталось без изменений. Но именно в средних (численно преобладающих) группах более всего людей, чьи стремления к успеху, к повышению своего статуса не удались. В высших эти стремления чаще привели к успеху, в низших таких стремлений просто нет. Как видим, представления о «недостижительности» нашего человеческого образца связаны с оценками собственных успехов.
Не изменился (чуть сгладился) главный парадокс этого опроса: подавляющее большинство опрошенных согласилось с двумя противоположными по смыслу утверждениями: как с тем, что россияне «стали другими» по сравнению с людьми Запада, так и с тем, что они «не отличаются» от жителей других стран. Как это понять?
Вероятно, эти позиции находятся в разных смысловых плоскостях и потому не пересекаются в массовом сознании.
Утверждение, что «люди стали неисправимо другими» – универсальное оправдание неумения и нежелания двигаться в сторону более цивилизованного существования, объяснение неудач демократических экспериментов и прикрытие новейших ретроградных тенденций. Все доводы в пользу такой позиции были достаточно полно выражены в прежних опросах, результаты которых выявили эту самоуничижительную (и одновременно самооправдывающую) формулу человека-«совка».
А представление о том, что наши люди «не отличаются» от других, относится скорее к плоскости надежд и устремлений, в том числе и многократно подтвержденной исследованиями установке на то, чтобы «жить как все», «не хуже других». Некоторое «мирное сосуществование» различных и имеющих каждая свою логику, свои функции плоскостей обеспечивает человеку гибкость, способность приспосабливаться к неоднозначной ситуации.
И еще одно сочетание противоречивых позиций: из числа согласных с тем, что у нас «люди привыкли относиться друг другу по-свойски, не думая о выгоде» большинство (в 1994 г. – 65 %, в 2003 г. – 55 %) считает, что люди в России не отличаются от других. Из числа несогласных – соответственно 61 % и 54 %. Почти также распределились мнения склонных считать, что мы привыкли «довольствоваться самым малым» (вполне консервативный образ человека), и одновременно уверенных, что Россия пойдет по «общему пути» (чисто либеральная установка).
Эти взаимоисключающие позиции, очевидно, отнесены к разному социальному времени и потому опять-таки сочетаются, не пересекаясь. Представления об «общем пути», равно как и об общем типе человека, относятся к некоей неопределенной перспективе (формула «рано или поздно» фактически означает «когда-нибудь в будущем»). А консервативный («консервирующий» сложившиеся стереотипы) образ человека практически значим в повседневной социально-политической реальности. Для сравнения стоит припомнить, что в общественном мнении преобладают «правильные» установки относительно того, что врать, веровать, уклоняться от налогов вообще-то нехорошо. Но «здесь и теперь», поскольку «все» так поступают, это считается отчасти допустимым.
Действует, по-видимому, и разграничение «декларативности» и «практичности» установок. Декларативные установки служат для того, чтобы сделать действия легитимными, для оправдания поступка, практические – собственно для действия, для учета практических интересов и обстоятельств. Можно было декларировать ценности равенства, устанавливая иерархический режим. И можно утешаться концепциями собственной исключительности, стремясь к «западным» благам.
И носители консервативного образа российского человека, и сторонники либеральных позиций по большей части склонны к культурному изоляционизму, причем разница в преобладании таких настроений у тех и у других сравнительно невелика. Чуть больше четверти и «консерваторов», и «либералов» согласны с утверждением, что «России нужно активно включаться в мировую культуру, ориентироваться на западные стандарты жизни», зато почти половина – с тем, что «России нужно бороться с чуждыми русскому народу западными влияниями, возродить самобытный уклад жизни русского народа».
Резкое отрицание «чуждого» культурного влияния, как показывают исследования, доминирует в общественном мнении уже давно. В нем сходится разное: массовое «консервативное» неприятие нравственных ценностей современной цивилизации, опасения правящей элиты, что распространятся «западные» представления о политических и гражданских правах, наконец, отсутствие сложившихся рамок восприятия современной массовой культуры в разных ее проявлениях. В результате даже вполне либеральные декларации, которые не согласуются с усвоенными ценностями, меркнут и гаснут перед конкретными, осязаемыми «угрозами».
Это как раз та ситуация, в которой уверенность в существовании, допустим, болезни (или таланта, богатства, беды, счастья и т. д.) может быть важнее «реального» наличия таких обстоятельств или качеств. Массовое, да и элитарное, обоснованное теологически и религиозно-философски, убеждение в исключительности национального характера неизменно служило оправданием косности, консервативного изоляционизма, с одной стороны, и радикального авантюризма – с другой. Концепция «особости» питала убеждение в том, что народ «все стерпит», и расчеты на то, что с ним можно «сделать все». Кроме того, ссылки на особые качества человека обычно подменяли серьезное изучение исторической, экономической, психологической, социальной природы этих качеств.
В последнее время наблюдается консервативный сдвиг в массовых представлениях об особом характере человека. В том же неоконсервативном (в «советском» смысле) направлении сдвигается и официальная идеология: налицо нечто похожее на «единство власти и народа». Причем происходит это в ситуации, когда вхождение в современный цивилизованный мир для страны как будто стало практической, правда, трудной и не скоро решаемой исторической задачей. Никакие контакты, встречи и договоренности по частным вопросам сами по себе не приближают ее решения. Более того, попытки войти в современный мир с грузом старых притязаний на исключительность, а также со старыми имперскими амбициями создают новые опасные тупики на пути продвижения к этому миру.
Как видим, большинство россиян соглашаются с тем, что страна «рано или поздно» пойдет по общему пути цивилизации. Но это скорее декларация. Реальный выбор во времени – это уже выбор между «поздно» и «еще позже». Но более важен выбор места в том едином и разнообразном мире, который как будто начал формироваться с конца прошлого века. Допустим, это может быть место в ряду множества своеобразных, больших и малых стран, имеющих общие ценности и прозрачные для взаимного влияния рубежи. Или место изолированного анклава, который другие вынуждены просто терпеть из опасения катастрофических коллизий. Второй вариант условно можно назвать «китайским». Считается общепринятым, что исключительность такой позиции не нуждается в доказательствах.
Россия и в наступившем столетии все еще стоит перед выбором пути. И это стимулирует попытки превратить реальные и мнимые особенности собственной истории, включая пороки и слабости, в идол. В предмет поклонения.
Пока такое положение будет сохраняться, будут, видимо, существовать и парадоксальные сочетания либеральных деклараций с консервативными иллюзиями.
2006Альтернативы: обретенные и утраченные[494]
Фантом «безальтернативности» в общественном мнении. Характерная черта сегодняшней российской общественно-политической жизни – гнетущее ощущение отсутствия иных (и «конкурентоспособных») вариантов, форм, способов существования, кроме тех, которые получили социальное признание в различных слоях населения страны (в значительной мере – и в международном сообществе).
Несколько ниже мы попытаемся выяснить, насколько условной является сама категория «безальтернативности» применительно к социально-историческим ситуациям. Но, подобно иным фантомам, она играет заметную роль в ориентации (или дезориентации) общественного мнения.
Особенно болезненной становится эта ситуация с приближением очередного политического перелома, формально связанного с президентской «проблемой 2008 г.». Демонстративное единомыслие ведущих СМИ, закрепившаяся «единопартийность» и почти полное преодоление чуждого отечественным традициям разделения властей обозначили окончание наметившегося с конца 1980-х гг. слабого плюрализма, искусственно насаждавшегося в ходе «перестроечных» экспериментов. Для успеха политических технологий намеренного искоренения всех несогласных, неугодных, отклоняющихся от «линии» и т. п. в окрестностях властных вершин требовалась готовность принять их со стороны значительной части населения, а также отсутствие способности и даже желания сопротивляться выравниванию политического поля со стороны приверженцев других позиций. В «программу безальтернативности» как бы встроен механизм самооправдания: отсутствие видимых и даже воображаемых политических, групповых, персональных конкурентоспособных вариантов питает иллюзии неизбежности существующего положения. Очередной пример: в марте 2006 г. (N = 1600) массовое доверие В. Путину респонденты чаще всего (41 %) объясняли тем, что «люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться», представления о достигнутых или возможных успехах президента имели второстепенное значение. (Аналогичное распределение суждений наблюдалось и в предыдущие годы.)
Распространенные трактовки склонности отечественного мироустройства и сознания к моноцентрическим образцам, возлагающие вину на «особые свойства» власти, народа, элиты, оппозиции, геополитического положения страны, ее «судьбы» и пр., объяснительным потенциалом не обладают и в конечном счете служат лишь оправданию каждого существующего положения и примирению с ним. Принципиальное и актуальное значение имеет анализ структуры процессов и обстоятельств, которые формируют – и разрушают – конкретные ситуации «безальтернативности» на различных исторических поворотах.
События «неизбежные» и необязательные. Обратимся к существующим в общественном мнении представлениям о неизбежности ряда событий ХХ в., то есть о том же стереотипе «безальтернативности», опрокинутом в прошлое (табл. 1).
Таблица 1
Как вы полагаете, были ли неизбежными следующие события?
(в % по столбцу, апрель 2006 г., N = 1600 человек)
Таким образом, уверенное (разделяемое большинством) представление о событиях как «неизбежных» относится только к трем моментам прошлого века: к революции, ко Второй мировой войне и к становлению нынешнего политического режима в России (правда, в отношении последнего из этих событий наблюдается наибольший уровень отказа от оценки).
Можно полагать, что опрошенные склонны признавать «неизбежными», то есть не имевшими альтернативы, во-первых, события, прочно занявшие место в социальной памяти ряда поколений, а во-вторых, события, оцениваемые как положительные. Здесь перед нами тот же массовый (действующий в массовом сознании) феномен безальтернативности. И механизм исторического выбора он так же мешает видеть, как механизм (структуру) выбора социально-политического. Ожидать от общественного мнения сколько-нибудь ясного и объективного понимания таких механизмов, конечно, нельзя. Задевающий его (судя по тому, что доля отказавшихся отвечать довольно мала) вопрос о «неизбежности» событий недавней истории – примерно в рамках живой памяти трех поколений – на деле служит испытанием современных массовых пристрастий и массового воображения. Выяснять механизм (факторы, условия, альтернативы, набор действующих сил и т. д.) произошедшего и непроизошедшего приходится специалистам и аналитикам разных направлений[495].
Понятно, что самой общей предпосылкой объективного рассмотрения исторических и современных событий должен быть отказ от привычной или идеологически навязанной иллюзии «неизбежности» какого бы то ни было варианта, поворота, перелома. Правомерно говорить о разной вероятности определенных направлений, масштабах влияния разных факторов и т. д. В данном случае обратиться к оценке исторических альтернатив имеет смысл для того, чтобы представить возможности актуального выбора.
Октябрьскую революцию чаще всего считают неизбежной пожилые люди, 55 лет и старше (62 % против 25 %), реже всего – молодежь 18–24 лет (47: 33). Из питающих симпатии к коммунистам неизбежность революции признают 71 %, не признают 19 %. А наличие или отсутствие лишенной всякой идеологической основы приверженности действующему президенту практически не сказывается на суждениях о неизбежности революции: среди одобряющих В. Путина мнения делятся в пропорции 54: 31, среди не одобряющих – 53: 33.
В начале рокового для России 1917 г. имелся довольно обширный набор возможных выходов из кризисной ситуации, вызванной неэффективной государственной системой и неудачной войной; выбор между реформистскими и радикальными путями зависел от развития общеевропейского конфликта, политики монархических и парламентских сил и пр. К осени того же года поле выбора сузилось до предела: выбирать осталось лишь того, кто сумеет обуздать или оседлать радикализованную массу. (Радикализм любого толка всегда упрощает, примитивизирует ситуацию выбора. Но не придает варианту, который оказался хотя бы номинально реализованным, качества «неизбежности». Тот же «октябрьский» выбор неоднократно висел на волоске, зависел от случайных и личных обстоятельств.)
Вторая мировая (поначалу – европейская) война, видимо, стала практически неотвратимой только после злополучного «пакта» 23 августа 1939 г. (что, кстати, вполне адекватно представляет российское общественное мнение), в предыдущие пять-шесть лет существовал и не был использован ряд вариантов радикального изменения хода событий. В последний период войны (в 1944–1945 гг.) просматривались различные варианты развития отношений между союзниками по коалиции, политического устройства Европы и всего мирового сообщества. Последующие события в значительной мере свели послевоенные альтернативы к имитации предвоенных; преодолеть соответствующую расстановку сил и оценок не удается до сих пор. Вторая мировая война представляется неизбежным событием скорее молодым (60: 30), чем пожилым (56: 32).
Истоки и последствия «перестройки» остаются предметом напряженных споров и крайних оценок на всех уровнях российского общественного сознания, от массового до элитарного и политического. По данным февраля 2006 г. (N = 1600 человек), значение реформ М. Горбачева положительно оценивают 22 % респондентов, отрицательно – 55 %, считают, что их роль незначительна, 12 %. Преобладают мнения о том, что без этих перемен жизнь в стране становилась бы лучше, удалось бы избежать тяжелых конфликтов. Только 17 % допускают, что без реформ СССР мог погибнуть под тяжестью социальных и межнациональных противоречий.
Невнятность суждений о горбачевском периоде обусловлена, видимо, отсутствием серьезного анализа попыток реформирования или стабилизации советской общественно-политической системы с середины 1950-х гг. Провозглашение «перестройки» представляется плодом невероятно редкого, чуть ли не чудесного сочетания системных, генерационных и личностных факторов. Проще представить хрупкость, кризисы и неудачи иллюзий и планов «перестройки», предпосылки которых с самого начала были как бы заложены в ее основание. Привлекательность и одновременно слабость представленной перестройкой альтернативы «советскому» варианту общественной деградации связаны с тем, что изменения зависели от расстановки сил внутри политической верхушки страны. Эффективные правовые рамки реформ, организации их массовой поддержки и международной интеграции не сформировались; в ходе последующих катаклизмов это дало фору наиболее примитивным и консервативным альтернативам.
В суждениях о «перестройке» фактор возраста наиболее заметен: среди самых молодых ее неизбежность признают 37 % против 49 % (причем в этой группе больше всего затруднившихся ответить – 14 %), среди пожилых – 21: 73, при 6 % затруднившихся.
Из последствий перемен, начатых «перестройкой», тяжелее всего населением России переживается развал Союза ССР. Именно эта перемена привычных государственных рамок чаще всего кажется результатом «заговора» или «сговора». К экономическим переменам привыкло-«приспособилось» около 70 %, к падению политической системы большинство относится довольно спокойно. Мнения о неизбежности распада Союза явно зависят от возраста респондентов: у молодых его считают неизбежным 33 % против 53 % при 14 % воздержавшихся, у пожилых – 16: 80 при 5 % уклонившихся от ответа.
Условия падения и альтернативы существовавшей до 1991 г. государственной конструкции остаются за пределами внимания общественного мнения. Между тем эта группа проблем остается болезненно актуальной в современной обстановке. Нетрудно представить, что разрушение Союза могло быть предотвращено либо массированными насильственными акциями (по образцу, использованному в зависимых государствах в 1953, 1956 и 1968 гг.), либо своевременной реализацией какого-то взаимоприемлемого конфедеративного проекта. Для первого варианта у горбачевского руководства не хватало самоуверенности, для второго – дальновидности (и времени). А поскольку «силовой» исход тогда уже опоздал, «договорный» – еще не созрел, осуществился наиболее вероятный, простейший вариант государственного распада. Так или иначе, решающую роль играл не столько потенциал национального или регионального сепаратизма, сколько возможности и ограниченности «центральных» государственных структур (физические, интеллектуальные, моральные). Последнее обстоятельство важно иметь в виду при оценке сегодняшних угроз.
При обсуждении, в том числе в общественном мнении, опасности «распада» страны в последнее время на первом плане оказывается – тоже в силу своей примитивности – модель пространственного («географического») разделения регионов и субъектов нынешней федерации. Опыт всех ситуаций распада надгосударственных образований в ХХ в. с его «горячими» и «холодными» войнами показывает, что решающей предпосылкой гибели империй или постимперских конструкций служила неспособность нормального функционирования их центральных регулятивных механизмов (если использовать органическую метафорику – нервных, эндокринных и прочих подсистем). «Внутренний» распад государственных организмов предшествует «внешнему», поэтому сугубо локальные на первый взгляд трещины государственной структуры получают универсальное значение. Так, территориально ограниченные проблемы Нагорного Карабаха или республик Балтии в конце 1980-х гг. немедленно стали важнейшими показателями и факторами кризиса всего государственного устройства Союза. Аналогичным образом положение и политика руководства России на Северном Кавказе за последние 12–15 лет стали ключевыми факторами всей российской жизни, определяющими «политическое лицо» и механизм деятельности ее режима.
Как видно из данных приведенной табл. 1, приход к власти В. Путина и его «команды» по массовому восприятию «неизбежности» (разность между показателями двух столбцов) уступает лишь такому событию, как Вторая мировая война. Приход к руководству страной нынешнего президента чаще всего считают неизбежным самые молодые (55: 24), наибольшие сомнения в этом заметны в следующей (25–39 лет) возрастной группе (48: 29), среди пожилых их несколько меньше (49: 27). Как и следовало ожидать, одобряющие деятельность В. Путина, скорее всего (56: 21), относят его выдвижение к неизбежным событиям, среди неодобряющих преобладают противоположные мнения (37: 42).
Понятно, что представление о неизбежности существующего устройства подкреплено опытом последних восьми лет безраздельного и практически никем не оспариваемого руководства одной строго централизованной группы. На протяжении этих лет административные, судебно-прокурорские, медийные и «политтехнологические» ресурсы последовательно используются для вытеснения с политического поля любых возможных конкурентов. Отсутствие каких-либо идеологических или нормативно-ценностных ограничений позволяет победителям без труда присваивать лозунги своих оппонентов – от «западнических» до национал-патриотических и от демократических до сталинистских. Тем самым конструируется видимость «всепоглощающего» устройства действующей власти, как будто способной удовлетворять запросам самых разных сил и слоев. Демонстративная простота и традиционность стиля государственного руководства все еще способствуют поддержанию его популярности.
Наибольшее – и потому, видимо, наиболее поучительное – разделение мнений по поводу неизбежности текущей войны в Чечне (оценки предыдущей кампании в данном случае оставим в стороне, отметив лишь, что «первая чеченская» представляется общественному мнению еще менее оправданной, чем вторая). Менее всего склонны считать эту войну неизбежной самые молодые (14: 71; стоит напомнить, что в этой возрастной группе наблюдается наиболее высокий уровень одобрения действий президента и доверия к нему), несколько чаще признают неизбежность войны пожилые (17: 69). Из числа одобряющих действия В. Путина только 22 % против 66 % полагают, что эта война была неизбежной, у неодобряющих соотношение мнений – 14: 76, среди сторонников продолжения военных акций в Чечне соотношение оценок – 30: 62, среди выступающих за мирные переговоры – 18: 71. Из числа считающих неизбежным приход во власть В. Путина только 20 % против 71 % относят к неизбежным событиям и вторую войну в Чечне. Примечательно, что и среди сторонников политики президента, и у поддерживающих военные действия суждения о неизбежности войны разделяются явным меньшинством. Чеченская политика неизменно представляется респондентам наименее успешной областью действий нынешнего президента. Еще одно свидетельство тому – вынужденные поиски опоры федерального контроля за регионом среди определенных групп чеченского населения, причем не среди «умеренных» сепаратистов, непрочным соглашением с которыми 10 лет назад завершилась первая чеченская кампания, а среди вчерашних воинственных боевиков, демонстрирующих сейчас лояльность Москве.
Особенности механизма российских альтернатив. За последние 20 лет страна пережила три принципиально важных политических перелома – от «застоя» к «перестройке» (М. Горбачев), от «перестройки» к «радикальным реформам» (Б. Ельцин), от «реформ» к «стабилизации» (В. Путин). Каждый перелом выступал как некий выход из кризиса предыдущего периода. Поэтому каждый новый период представлялся отрицанием предшествующего (другой вопрос, в какой мере это действительно происходило; в данном случае нас интересует только имидж периода в общественном мнении). Именно такие переломы и служили преимущественной зоной предъявления обществу и политической сфере альтернативных вариантов их существования. «Внутри» каждого из этих периодов альтернативные установки и направления если и были заметны, то не получали возможности открытого и влиятельного выражения. В позднесоветские 1970-е гг. обозначились, но не стали влиятельной силой демократические, национал-патриотические, консервативно-партийные течения – в основном как направления критики существующего положения. М. Горбачеву пришлось выдерживать растущее давление со стороны внутрипартийных консерваторов и в меньшей мере со стороны демократов. Особая проблема – требования региональных и национальных сил, на которые власть просто не могла ответить. Президентский срок Б. Ельцина отмечен постоянным, временами крайне ожесточенным противостоянием власти с коммунистами и бывшими «своими», а также придворным соперничеством за влияние на президента, например в ситуации вокруг выборов 1996 г. Во всех случаях предметом спора служили не конкурирующие варианты и программы будущего страны, а сохранение или перехват государственной власти. Ни в одном случае не действовали противоречия направлений, которые способны стимулировать развитие, или споры, в которых может «рождаться истина». Каждый политический перелом означал не победу одной из сторон конфронтации, а смену «игрового поля» и действующих фигур. Поэтому внимание политических игроков и общественного мнения приковывали сам факт или возможность перехода (смены «поля»), а не противостояние каких бы то ни было альтернативных вариантов. (Если воспользоваться ресурсом братского языка, можно сказать, что работала формула «хоч гiрше, та iнше» с лукавой надеждой на то, что в свое время перемены войдут в желаемое русло.)
Нынешний политический период («второй путинский»), судя по многочисленным заявлениям его действующих лиц, а также по реально преобладающему политическому стилю, простейшим образом устранил корни всякого разномыслия и разнодействия на всех уровнях государственного устройства. Представляется, однако, что внутренние пороки и слабости предшествующих режимов не ликвидированы, а скорее собраны воедино.
Правомерно допустить, что некоторые компоненты описанного механизма «альтернативной» смены времен сохранят свое действие при назревающем политическом переходе. Вся политрекламная подготовка к решению «проблемы 2008 г.» явно направлена сейчас на то, чтобы обеспечить простое продолжение курса, стиля и команды сегодняшнего образца. Более вероятно все же, что следующий период независимо от того, какими лицами он будет представлен на разных ступенях властной иерархии, вскоре станет не столько продолжением, сколько отрицанием существующего, попыткой (успешной или нет – другое дело) преодолеть сложившиеся кризисы и переоценить нынешние средства и стиль политических акций.
С большой долей уверенности можно полагать, что на очередном повороте утратят смысл многие факторы и приемы, характерные для переходных моментов прошлого.
Прежде всего это касается надежд на героя-спасителя с диктаторскими замашками, способного избавить общество от самоорганизации и ответственности, и, конечно, надежд на героя, выходящего «из тумана», с неопределенными устремлениями, в котором каждый может усмотреть воплощение собственных иллюзий. Наконец, представлений о достаточности «негативного» плана действий («против»).
Все задействованные в поворотных ситуациях порывы, никогда не становившиеся программами, были направлены на разрушение отжившей, надоевшей, утратившей эффективность и пр. системы, но никогда не содержали концепции строительства нового порядка (не утопического, а практического, некой «дорожной карты»). Предполагалось, что желаемое устройство «само пойдет». Скорее всего, для успешного выхода из очередной тупиковой ситуации рано или поздно потребуется набор разработанных в принципиальных узлах концепций, взаимодополняющих или альтернативных.
Позиция и потенциал общественного мнения. Как в своих лоялистских («верноподданных») ожиданиях, так и в протестном возбуждении массовое сознание преимущественно консервативно, то есть ориентировано на привычные образцы, взятые, как правило, из идеализированного прошлого. (За минувшее столетие можно, пожалуй, отметить только два момента «всеобщего» отвержения прошлого и ожидания неопределенного обновления: в начале 1917 г. и в начале перестройки.) Упрекать массовое сознание в этом было бы нелепо: альтернативные образцы в нашем «однополярном» политическом поле либо никогда не появлялись, либо никогда не были предъявлены общественному мнению. А кроме того, история показывает, что консервативный по происхождению образец отнюдь не тождествен попятному движению. Как известно, исходной точкой общественного возбуждения в России 1905 г. было шествие 9 января с самыми верноподданническими просьбами. Если обратиться к современным примерам, придется напомнить, что массовые выступления против монетизации в 2005 г. и протесты против реформы ЖКХ годом позже происходили под консервативными по своему происхождению требованиями сохранения системы льгот советского типа. Напугавшая власти «оранжевая» угроза политизации массовых протестов не реализовалась, в частности, потому, что никакие представители либерально настроенной элиты не смогли (и не попытались) показать возмущенным людям, что надежды на достойный уровень заработков, пособий, жилья осуществимы только в рамках эффективно действующей либеральной экономической системы.
«Пустые» альтернативы? В последнее время при очевидной деградации всех испытанных в России вариантов партийно-групповых противостояний обсуждаемые или ожидаемые общественно-политические альтернативы сводятся (по крайней мере на поверхности) к выбору между «Путиным» (не как конкретной личностью, а как символом определенного типа и стиля правления) и «не-Путиным». Сейчас значительная часть российских граждан полагает наиболее приемлемым (или наименьшим злом) то ли продолжение президентского правления В. Путина, то ли приход к власти указанного им преемника. В мае 2006 г. 59 % опрошенных (N = 1600 человек) выразили определенную готовность одобрить изменения в Конституции РФ, которые позволили бы действующему президенту избираться на следующий срок, а 43 % поддержали бы того кандидата, который будет им указан. По мнению половины (49 %) респондентов, будущий президент должен продолжать политику В. Путина, только треть (33 %) высказывается за ее радикальное изменение (апрель 2006 г., N = 1600 человек). Получается, что на уровне общественного мнения альтернативы как будто отчетливо обозначены, но не наполнены ни персонально, ни политически. Неизвестен публике не только гипотетический оппонент политики и стиля, утвердившегося при В. Путине (его личность, программа, опора, возможности), но и гипотетический «верный ученик и продолжатель» его далеко не однозначной линии. Даже если, вопреки многократным «декларациям о ненамерениях», таким продолжателем окажется сам В. Путин, никто еще не представляет, какую роль и в какой маске ему придется играть в гипотетическом следующем сроке пребывания на вершине власти.
Противостояние «пустых» альтернатив иллюстрируют данные опросов за ряд месяцев, приводимые в табл. 2.
Таблица 2
Возможности поддержки альтернативных кандидатов на президентских выборах 2008 г.
(в % от числа опрошенных в каждом замере, N = 1600 человек)
Примечание 1[496]
Примечание 2[497]
Соотношение видимых «альтернативных» (при всей их анонимности) сил оставалось почти стабильным. Позиции 1а и 1б («путинские» варианты) поддерживают в значительной мере одни и те же люди; всплеск интереса к указанию «наследника» в мае 2006 г. (1б), видимо, связан с тем, что после очередного послания президента к Федеральному Собранию многие сочли этот способ сохранения существующей расстановки сил в руководстве страны наиболее реальным. Предпочитающие такие варианты не нуждаются сейчас и вряд ли будут нуждаться к моменту выборов в разработанных программах, поскольку на их стороне все политические, административные, медийные и технологические ресурсы действующей власти, не говоря уже о привычке и надеждах значительной части населения. Проблема разработки, обоснования, предъявления потенциальным сторонникам альтернативных программ (а также их политическое и персональное «наполнение») значима преимущественно для тех, кто выбирает вариант 2 и кто заинтересован в его поддержке определенной частью воздержавшихся (позиции 3 и 4).
Уровень поддержки каких бы то ни было альтернативных вариантов зависит от наличия таковых, от степени их разработанности и способа предъявления обществу. Разумеется, имеет серьезнейшее значение и отношение потенциальных избирателей к лицам и организациям, поддерживающим определенный вариант.
2006Бремя мнимого выбора
Заведомая псевдоальтернативность предстоящих президентских выборов – вполне логичный итог долголетних процессов формирования «вертикали» власти и влияния. Бремя выбора, точнее отбора, депутатов разных уровней, губернаторов, сенаторов и т. д. практически полностью лежит на центральной власти (на тех или на том, кто от ее имени выступает). Теперь это касается и выбора президентского «преемника». Разумеется, речь идет не о выборе кандидата, а о выборе «победителя».
Как бы по умолчанию допускается, что избиратели в массе своей примут как неизбежность и сам прием «назначения» «наследника», и того неизвестного пока фаворита, которому эта роль будет уготована. (Правда, сами усилия властных и околовластных структур по созданию нужного социального фона и «климата» для успеха предстоящей процедуры выдает напряженность и некоторую, пожалуй, даже растущую неуверенность в среде ее разработчиков.) Сейчас представляется очевидным, что заметные или возможные в отмеренные сроки (год с небольшим) расхождения и колебания общественных предпочтений решающего влияния на исход электорального мероприятия не окажут. Это отнюдь не лишает смысла внимательное рассмотрение динамики массового сознания за предстоящий период. Во-первых, перед нами поучительный процесс очередного направленного давления на все сферы и механизмы общественного мнения, наглядно демонстрирующий его ресурсы и слабости. А во-вторых, те оговорки и сомнения, которые, видимо, будут сопровождать принятие российскими избирателями предложенный (навязанный) им результат «верхушечного» выбора, надолго определят качество общественной поддержки «преемника» и его окружения.
Сложность упрощения. Все более очевидная в обществе, особенно на государственных высотах, суетливая напряженность вокруг «проблемы 2008 г.» на первый взгляд совершенно не соответствует предельной простоте ситуации как сегодняшней, так и наиболее вероятной на момент предстоящей массовой электоральной процедуры с гарантированным результатом. Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить, что видимая простота обманчива. Далеко не простыми являются и сам социально-политический (на деле – административно-технологический) механизм подготовки заготовленного избирательного действа, и его последствия, причем не столько ближайшие, сколько отдаленные. Некоторые стороны этих проблем отражают недавние исследования российского общественного мнения.
Согласно апрельскому опросу 2006 г. (N = 1600 человек), на президентских выборах 2008 г. «будет происходить реальная борьба между кандидатами», считают 33 %; «будет создаваться видимость борьбы, а президентом все равно признают того, на кого укажет Путин» – 51 % респондентов. Примечательно, что чаще других «реальную борьбу» допускают в потенциальном электорате «Единой России» (45 % против 43 % предугадывающих «видимость борьбы»). Более циничную ситуацию ожидают сторонники КПРФ (31: 59), а еще более реалистичны жириновцы (28: 62). Трудно предположить, что сегодняшняя партия власти и ее патроны действительно опасаются каких-то сильных конкурентов сегодняшнему президенту или его фавориту. Скорее всего, дело в том, что именно группе приближенных («допущенных к выбору», если пользоваться удачным образом Ф. Искандера) приходится выбирать не столько персону «наследника», сколько механизм его легитимации как в узких «опорных» группах, так и в глазах фантомной общественности, не говоря о «внешнем имидже», то есть важнейшем и даже наиболее успешном факторе поддержания имиджа «внутреннего» в наличной ситуации многозеркальных отражений.
Вот несколько из трудносовместимых вариантов, которые волей-неволей приходится перебирать в поисках хотя бы приближенных решений таких задач.
Во-первых, желательно поддержать некоторую видимость легитимности (или признанности?) переходных процедур при очевидном отрицании буквы и духа соответствующих законов, международных прецедентов и т. д.
Во-вторых, при неизбежных перетрясках в ближайшем окружении первого лица требуется сохранить в неприкосновенности «вертикальную» опору (реперный административно-политический механизм) власти и соотношение конкурирующих групп влияния в ее верхних эшелонах.
В-третьих, приходится заботиться о личной и групповой (карьерной, статусной и пр.) безопасности круга причастных к принятию решений.
В-четвертых, остается болезненной проблема сочетания сугубо ситуативных акций, рассчитанных на немедленный эффект, с учетом минимальной перспективы.
В-пятых, нужно придать видимость какого-то «обновления» курса, стиля, кадрового состава при стремлении по мере возможности сохранить неизменными сложившиеся за последние годы тенденции и нравы в политике, соотношения между различными группами в верхних эшелонах и т. п. (здесь показательны непрерывные перестановки в правительстве и администрации, а также «прокурорская» перетряска (июнь – июль 2006 г.)
Такой перечень каверзных проблем можно, видимо, продолжать довольно долго.
Судить об их значении позволяют напряженные и все более заметные за последние месяцы поиски конструкции и условий запуска «передаточного механизма», пригодного для того, чтобы с наименьшими рисками осуществить сочленение несовместимых вариантов. К такому типу акций, очевидно, относятся публичные обсуждения возможности «третьего срока» В. Путина (не стихающие при том, что действующий президент многократно отвергал такой вариант), откладывания выборов, замены прямых выборов косвенными (скажем, через Государственную Думу или Совет Федерации), продления президентского срока до 5–7 лет, повторного выдвижения кандидатуры В. Путина через срок, то есть в 2012 г., пожизненного президентства на восточный, например туркменский, манер и т. п. Общественное мнение России, судя по опросам, более или менее готово принять, причем эта готовность шаг за шагом возрастает, лишь два варианта – «Путин-3» и «назначенный наследник». По июльскому опросу 2006 г. (N = 1600 человек), оба варианта получили равную потенциальную поддержку – по 40 % от числа опрошенных, что соответствовало бы примерно по 60 % участвующих в голосовании.
Параллельно, примерно с того же времени и с такой же поспешностью, происходит формирование определенного квазиидеологического и эмоционального «фона» предполагаемой «передаточной» процедуры. К значимым шагам в этом направлении относятся реанимация концепции «враждебного окружения» страны, придание официального статуса представлениям об «особом» пути России («суверенная демократия») и соответствующие трактовки правопорядка, гражданских институтов, свобод и т. д. В отличие от партийно-советской модели нынешняя властная система с ее предельно прагматичными ориентациями не претендует на идеологичность и не нуждается в апелляциях к какому-либо идейному комплексу, сакрализованному «учению» и т. п., довольствуясь квазиидеологическими инструментами: призывами, слоганами, заклятиями ad hoc, которые вводятся в оборот в конкретных аварийных или мобилизационных ситуациях. По аналогичным образцам происходит и формирование дополнительных организационных средств поддержки властной вертикали, в частности создание сети молодежных движений – клакерских и воинствующих.
«Партизация» как мост к выборам 2012 г.? Недавно (в июне 2006 г.) общественному вниманию была предложена идея вступления президента В. Путина в «Единую Россию». Понятно, что речь идет не просто о членстве, а о лидерстве в партии. (Что при существующей государственно-политической системе поставило бы эту организацию в позу «руководящей и направляющей силы» общества, имитирующей претензии былых времен.) Можно предположить, что позиция партийного лидера позволила бы В. Путину уверенно привести на президентскую должность в 2008 г. свою креатуру, сохранив в собственных руках (при помощи того же близкого окружения, но уже в масках партийных функционеров) всю полноту реальной власти и гарантию законного возврата на высший пост в 2012 г. – на следующие два срока. Как известно, жесткий партийно-государственный механизм в ХХ в. дважды (в начале 1920-х и в начале 1950-х гг.) оказался способным обеспечить преемственность властных структур в напряженных ситуациях смены лидеров и превратностях политического курса. Сомнительно, чтобы нынешняя властная вертикаль и квазипартийые структуры «единороссов» смогли бы исполнить аналогичные функции, а общество – принять это как должное. Пока общественное мнение (июль 2006 г., N = 1600 человек) явно не готово к «партийному проекту»: лишь 21 % против 62 % опрошенных поддерживают членство президента в партии, а избрание В. Путина лидером «Единой России» одобрили бы 34 % против 43 %, что незначительно (на 2 %) улучшило бы массовое отношение к этой партии и более заметно (на 7 %) ухудшило бы отношение к самому В. Путину. Конечно, пока перед нами не электоральные прогнозы, а только оценки текущих общественных настроений: в реальной предвыборной ситуации, когда будут задействованы колокола «громкого боя» и орудия массового политического поражения, распределение мнений может оказаться иным.
Кстати, как можно судить по утечкам информации с государственного «верха» на конец июля 2006 г., согласия по поводу «партизации» президентской должности там нет.
В настоящий момент перед нами исключительная, как будто невероятная ситуация: в условиях донельзя персонализованного на вершине механизма власти – относительно краткий промежуток полной обезличенности будущего первого лица – носителя «главной» маски государства. Предстоящие поиски «черного кота в темной комнате» (где он, по утверждению действующего президента, уже находится) акцентируют общественное и исследовательское внимание не на персоналиях, а на принципах и механизмах назревающего политического перехода. Ключевая его проблема не смена лиц, а смена (или отсутствие смены) социально-политического режима нынешнего образца. Тем самым характер предстоящего выбора как будто предельно упрощен и в то же время предельно обобщен, притом в сугубо прагматическом плане: речь ведь идет не о выборе (предполагаемом, обсуждаемом, возможном или маловероятном) между лицами, идеями, программами, партиями и т. д., а «всего лишь» между сохранением и сменой существующего в стране режима. (Другое дело – когда и как этот выбор станет реальным.) Сторонникам нынешней властной системы продолжение ее существования неизмеримо важнее ее личностного воплощения. Кстати, это обстоятельство, видимо, относится и к «другой стороне» того же процесса – оппонентам режима, независимо от их собственной готовности это воспринять и признать. Во всех системах персонализированного правления любой решающий выбор в значительной мере зависит от произвола, прихоти, сиюминутных симпатий – антипатий и других факторов, которые могут быть лишь предметом гаданий, интуиции, воображения, при том что предметом исследования неизменно остаются социальные условия и рамки действия подобных факторов. А кроме того, даже сокровенные тайны власти выходят наружу в ее метаниях и срывах, за которыми кроются комплексы неуверенности, неполноценности, мании преследования и утраченного величия.
В дальнейшем изложении ограничимся некоторыми аспектами персональных ожиданий. На протяжении последнего года в общество один за другим вбрасываются варианты сугубо условного выбора между «Путиным» (вариантом продления срока деятельности нынешнего президента), «другим Путиным» (назначенным наследником) и «не-Путиным» («принципиально другим» кандидатом, оппонентом действующего). Если общество, общественное мнение не могут знать, «кто» предназначен (волей власти, околовластных интриг и пр.) занять главную должность, то они имеют основание представить, каким может быть и каким, скорее всего, если использовать метод исключения, не может быть засекреченный «наследник». Как мы увидим далее, не лишены интереса и распространенные в обществе мнения на этот счет.
Между прочим, сам факт строжайшего засекречивания имени уже подготовленного, по утверждению В. Путина, «престолонаследника» – весьма интересный показатель характера существующего режима и происходящих в нем процессов (на решающей, «подковерной» плоскости). Логично допустить, что ореол «совсекретности» в данном случае не просто результат господской прихоти, а необходимое условие деятельности сегодняшней властной системы. (Без «тайны» у подобной системы, пользуясь терминологией известного персонажа Ф. Достоевского, не остается ни «чуда», ни «авторитета».) Тем более что в критической «передаточной» ситуации предание хотя бы полугласности имени «преемника» немедленно превращает этого человека, кто бы им ни был, в объект жесточайшей внутренней конкуренции и беспредельных опасений, прежде всего со стороны действующего «первого лица»[498]. Сохранение в глубокой тайне фигуры «наследника» означает поэтому не только полнейшую уверенность «верха» в готовности подданных принять «втемную» любого назначенца, но и нескрываемый страх перед превращением избирательной процедуры в предмет публичного выбора.
Откуда придет «преемник»? Выбор «желаемый» и выбор «ожидаемый». Данные недавнего опроса позволяют сопоставить пожелания респондентов о том, из какой среды следовало бы избирать президента в 2008 г., и их предположения относительно того, из какой среды В. Путин выберет своего «преемника» (табл. 1).
Таблица 1
Из какой среды выбирать следующего президента России?
(в % по столбцу, май 2006 г., N = 1600 человек)
Приоритеты собственных предпочтений и ожиданий относительно действий В. Путина во многом, хотя и не полностью совпадают: почти треть опрошенных принимает как должное «преемника» из «ближайшего окружения» нынешнего президента, более половины полагает, что именно этим кругом и ограничится его выбор. Как видим, для общественного мнения фактически имеют значение только два источника, из которых может появиться «преемник» нынешнего президента: окружение В. Путина и некие (скорее воображаемые) «независимые политики». Все остальные перечисленные группы заметного внимания не привлекают. Но у В. Путина, по общему мнению респондентов, круг выбора оказывается еще более узким: собственное окружение и значительно реже – чиновники из правительства, еще реже – из ФСБ. Никаких надежд на то, что президент в поисках «преемника» может обратиться к партийным лидерам или независимым авторитетам, не просматривается. Если учесть, что показатели «игры» массового воображения (а оба столбца в приводимой таблице описывают эти феномены) в определенной мере отражают распределение общественных ожиданий, приходится признать, что мы имеем дело с признаками поистине уникальной («суверенной»?) социально-политической ситуации, аналоги которой трудно обнаружить и в отечественной, и в мировой практике.
Как известно, в партийно-советской традиции кадровый резерв высшего уровня составляли прежде всего региональные партийные лидеры, «хозяева» областей, республик (по траектории «периферия – центр» двигались в свое время С. Киров, А. Жданов, группа «ждановцев», Н. Хрущев, Л. Брежнев, Ю. Андропов). Лишь однажды, в условиях глубокой деградации режима, главный пост ненадолго достался сугубо аппаратному чиновнику (К. Черненко). В устойчивых западных демократиях на первые роли чаще всего выдвигаются либо региональные деятели (губернаторы штатов, мэры крупных городов), либо парламентские и партийные трибуны. (Неустойчивые латиноамериканские, азиатские варианты не в счет.) В сегодняшних российских условиях никакой из этих путей продвижения на высоты практически нельзя даже вообразить. Принципиально важно, что это признается как общественным мнением «в целом», так и всеми его политическими «фракциями» (партийными электоратами). За последние годы регионам, парламентским институтам и допущенным к власти политическим партиям пришлось утратить все признаки самостоятельности, превратившись в обезличенное, если не обезглавленное продолжение центрального административного аппарата. Привлекавшие общественное внимание фигуры парламентских ораторов и экранных героев отошли в сферу памяти о «ранней» перестройке. Реальный, то есть не декоративный, кадровый ресурс высшей правящей группировки как будто ограничен ее собственными рамками. В последнее время отрабатывается механизм горизонтальных перестановок в герметично замкнутых кругах администрации, правительства, судебно-прокурорской сферы. Показательной можно считать прокурорскую «рокировку» июня – июля 2006 г. (В. Устинов – Ю. Чайка). Допуск какой бы то ни было новой фигуры в замкнутую сферу «своих» нежелателен хотя бы потому, что может привлечь общественное внимание к теневым сторонам деятельности властных институтов и лиц разных уровней.
Критерии отбора «преемника» – «желаемые» и «ожидаемые». Обратимся к следующему ряду данных того же исследования (табл. 2).
Таблица 2
Чем необходимо руководствоваться при выборе следующего президента России?
(в % по столбцу, май 2006 г., N = 1600 человек)
Здесь расхождения между массовыми пожеланиями, с одной стороны, и представлениями о том, как будет действовать В. Путин, с другой, разительно отличаются по всем без исключения пунктам, чем, конечно, и интересны. Самое показательное: в общественном мнении главными критериями выбора «преемника» являются его моральные качества, но от В. Путина обращения к таким критериям ожидают вдвое реже. Примерно такой же разрыв (в два раза) между распространенностью пожеланий и ожиданий по таким пунктам, как способность «наследника» быть лидером и уважение к нему населения. Зато критерий доверия со стороны нынешнего президента в суждениях о действиях В. Путина указывается вдвое чаще, чем в представлениях о том, как следует поступать, а «нынешняя близость к президенту» – вшестеро чаще.
Приведенные данные уместно рассмотреть более подробно, в разрезе различных социальных и политических групп (табл. 3).
Таблица 3
Критерии выбора преемника В. Путина в зависимости от возраста респондентов
(в % по строке)
Значительная разница между представлениями о «должных» и «ожидаемых от В. Путина» действиях (критериях выбора) наблюдается во всех возрастных группах. Масштабы такого расхождения в различных группах почти одинаковы. Прагматические критерии (квалификация, работа с людьми, лидерство) чаще по душе более молодым, в зрелом и старших возрастах больше значения придается ценностным критериям (моральным качествам, независимости, уважению со стороны населения). Как младшие, так и старшие не придают большого значения таким показателям «фаворитизма», как доверие президента и близость к нему.
Высокообразованные респонденты придают наибольшее значение квалификации, моральным качествам «преемника», а также его лидерским способностям. Заметно (в полтора-два раза) реже, но все-таки чаще, чем менее образованные, они надеются, что такие критерии использует и нынешний президент. Критерии «фаворитизма» никто высоко не ценит, но значительная часть во всех группах (от четверти до трети) признает, что именно этот критерий использует В. Путин (табл. 4).
Таблица 4
Критерии выбора преемника В. Путина в зависимости от уровня образования респондентов
(в % по строке)
Примечательно, что на первый план выдвигают прагматические критерии (и даже надеются, что они будут задействованы) скорее в демократической оппозиции (табл. 5).
Моральные качества представляются важнее сторонникам коммунистов и «единороссов», но ни те, ни другие (здесь важно обратить внимание на позицию «президентского» электората «Единой России») почти не питают надежд на то, что такими критериями будет пользоваться президент. К тому же и этот электорат не склонен явно одобрять принципы «фаворитизма».
Создается впечатление, что массовая готовность вынужденно (за отсутствием иных вариантов) принять выбор В. Путина не означает готовности принять критерии такого выбора.
Время выбора: «процедурного» и «исторического». Запланированная на март 2008 г. электоральная процедура, скорее всего, не принесет никаких серьезных неожиданностей ни ее организаторам, ни массовым участникам и сторонним наблюдателям. Но столь же ясно, что эта процедура независимо от ее персональных или эмоциональных компонентов может означать лишь момент в подготовке неизбежных, назревших, наболевших перемен «большого», социально-исторического масштаба. В подобных ситуациях «ближний» выбор (лица, близкого окружения, стиля, отчасти и курса) обычно сохранял свое значение до тех пор, пока не оказывались исчерпанными накопленные ранее ресурсы доверия, надежд, терпения (для пояснения ситуации годятся аналогии с нынешней ресурсно ориентированной экономикой). На это время постэлекторальная ситуация выглядит непосредственным продолжением ныне существующей («предэлекторальной»), инициатива и риски «выбора» безраздельно принадлежат «верху» (независимо от напряженности и коллизий на этом уровне), «низам», как мы уже видели, приходится принимать заготовленный результат. (Фигурально выражаясь, массовое участие в этой процедуре упрощено до роли легендарной праматери в своем брачном выборе, правда, в ее случае не приходилось задумываться о последствиях и нельзя было ссылаться на возможность «худшего» варианта.) Но самое нагруженное звено в общественной «цепи» неизбежно оказывается и самым слабым, что, по общему правилу, определяет слабость всего устройства. Это важно иметь в виду, поскольку «ближние» перемены не снимают накопившихся проблем, а лишь перекладывают их на другие плечи. Более значимый, «дальний» выбор (социально-политического строя, режима), предполагающий изменение самих проблем и средств их решения, неизбежно растянут во времени.
Таблица 5
Критерии выбора преемника В. Путина в зависимости от принадлежности респондентов к партийному электорату[499]
(в % по строке)
Правомерно допустить, что переход от «ближнего» выбора к «дальнему» в определенной мере изменяет соотношение «верхушечных» и «массовых» функций. Вернуться к иллюзиям «массовых» переворотов XIX в. невозможно, но структуризация общества при нарастающей слабости «верхушечных» его уровней в перспективе может создать почву для более современных образцов двусторонних зависимостей.
2006Человек недовольный?
Один из очевидных парадоксов современной российской действительности – широко распространенное, практически всеобщее недовольство происходящим в стране и собственной жизнью при сохраняющемся высоком уровне заявленного гражданами оптимизма и одобрения государственного руководства, притом недовольства, которое, как правило, не переходит в протест, тем более в активный. Чтобы разобраться в этой ситуации, нужно рассмотреть характер и функции «недовольных» настроений в обществе (табл. 1 и 2).
Таблица 1
Если говорить в целом, в какой мере вас устраивает жизнь, которую вы ведете?
(в % от числа опрошенных, 2006 г., сентябрь, N = 2100 человек; не приводятся ответы: 1) отчасти да, отчасти нет; 2) затруднились ответить)
Примечание 1[500]
Примечание 2[501]
Таблица 2
В какой мере вы удовлетворены тем, что происходит сейчас в стране?
(в % по строке, 2006 г., сентябрь, N = 1600 человек)
Примечание 1[502]
Таким образом, во всех возрастных группах за минувшее пятилетие уровень удовлетворенности положением в стране возрос, но во всех группах явно доминирует неудовлетворенность.
Несколько более сложная картина в оценках пути движения страны (этот показатель относится к надеждам и ожиданиям на перспективу).
На протяжении ряда лет преобладали представления о неверном, тупиковом пути (в среднем за 1994–2006 гг., по исследованиям типа «Экспресс»/«Курьер», соотношение мнений о пути страны составило 30: 54), но в последние месяцы распространенность позитивных и негативных суждений почти сравнялась (табл. 3).
Таким образом, неправильным представляется движение страны пожилым людям, менее обеспеченным, малообразованным, сторонникам коммунистов консервативно-популистской оппозиции (коммунистам, «патриотам»). Кажущаяся на первый взгляд странной позиция «симпатизирующих демократам» объясняется нынешней размытостью самого определяющего термина: из относящих себя к указанной группе 40 % намерены голосовать на будущих выборах за «Единую Россию», то есть привержены демократии с «примечаниями» – суверенная, президентская и т. п.
Таблица 3
Как идут дела в стране?
(в % по строке, 2006 г., сентябрь, N = 1600 человек)
Наблюдается понятная, даже банальная корреляция между оценками собственной жизни и направления движения страны: 49 % среди тех, кого устраивает своя жизнь (против 22 %), усматривают правильный путь страны, а из тех, кого своя жизнь не устраивает, такую позицию разделяют 27 % (против 38 %) (2006 г., сентябрь, N = 2100 человек). Уверенно судить о направленности причинно-следственных связей трудно, можно лишь допустить, что состояние ущемленности, тревожности находит свое выражение в оценках ситуации различного социального уровня.
В свое время официальная догматика приучала к представлению о том, что носителем возмущения и протеста, а потому и главной «преобразующей силой» в обществе должен быть «передовой» класс, то есть общественная группа, связанная с перспективными формами производства, организации, идеологии. Оставим в стороне проблему исторической обоснованности такого тезиса, возможно, соответствовавшего определенным реалиям и надеждам, например, в период подготовки двух российских переломов, происходивших в начале и в конце минувшего ХХ в., когда усилия наиболее продвинутых и просвещенных групп подготовили крушение отживших государственных систем. Однако сегодня ничего подобного в российской ситуации не наблюдается: общественное недовольство и протесты сосредоточены преимущественно в наиболее консервативных слоях и имеют скорее традиционалистский, чем авангардистский характер.
Таким образом, единственная позиция, где безусловно и неизменно преобладает неудовлетворенность, – материальное положение семьи (табл. 4).
Таблица 4
Главная сфера недовольства – материальное положение[503]
(в % от числа опрошенных в каждом замере)
Примечание 1[504]
Дополнительным подтверждением может служить распределение мнений в ответах на регулярно задаваемый вопрос о том, чего не хватает человеку в нашей стране (табл. 5).
Таблица 5
Чего в первую очередь не хватает сегодня человеку в России?
(в % от числа опрошенных в каждом замере)
Неудовлетворенность уровнем собственного благосостояния преобладает во всех без исключения группах по возрасту, образованию, доходу, политическим симпатиям (табл. 6).
Преобладание «материалистических», в терминологии Р. Инглхардта, интересов иногда объясняют существующим уровнем жизни населения, не достигающим не только уровня современных развитых стран, но и показателей советского строя конца 1980-х гг. Такие объяснения утешительны, поскольку неявно содержат предположение, что при достижении некой ступени благосостояния как бы автоматически изменятся интересы и ценности большинства граждан. Но подобные связи в ходе общественного развития, не только отечественного, не бывают ни простыми, ни автоматическими. Уже приведенные данные, как и многие экономические индикаторы последних лет, показывают, что уровень благосостояния сам по себе не определяет ценностные ориентации и предпочтения людей; это относится и к общественным группам, народам. В современном многообразном мире распределение уровней экономического развития и благосостояния далеко не соответствует распределению установок и ценностей. (Кроме того, сейчас стало очевидным, что количественные показатели роста недостаточны для определения его «качества» или социально-исторического типа: решающее значение имеет не размер национального или семейного богатства, а способ его использования, характер запросов, им стимулируемых, и т. д.) Ценности современной цивилизации, в том числе свободы и права человека, «выращиваются» в русле культурных традиций и закрепляются, поскольку служат необходимыми условиями экономического роста и социального развития.
Таблица 6
Чего не хватает сегодня человеку в России? (группы по возрасту, образованию, доходу, намерениям голосовать)
(в % от числа опрошенных в каждой группе, 2006 г., февраль, N = 1600 человек; приводятся только два варианта ответов)
Доминирующее на отечественном социально-политическом поле предпочтение компонентов «материального достатка» является не только показателем общей экономической бедности страны (включая ее наиболее состоятельные группы, по уровню доходов – и запросов – далеко отстоящие от мировых стандартов), но и признак бедности, даже убожества ценностных горизонтов общества.
Такая ситуация, разумеется, создает определенную базу для спекуляций «левого» и популистского типов, что отнюдь не тождественно успехам соответствующей политики. В российском политическом калейдоскопе практически нет места левизне в ее европейском понимании (организованная борьба наиболее активных групп за политические и экономические интересы труда, меньшинств, социально слабых и т. д.), а под маской «левых» выступают люди и группы, ориентированные на консервативно-советские порядки, при которых никакой «борьбы за права» просто не существовало. Нынешние же призывы к повышению окладов и пособий, носящие скорее характер пожеланий и просьб в адрес властей, чем каких-либо требований, как и вполне естественное стремление людей к более обеспеченной жизни, к «левым» идеологиям и практикам отношения не имеют. Вопрос в том, кто и как эти обычные для современности стремления может реализовать. Ни «левопопулистская» демагогия, ни демонстративные «государевы» подачки на это не способны. Как показывает мировой опыт, единственно надежный, хотя и нелегкий путь к нормальному благосостоянию большинства может обеспечить только развитая либеральная экономика и соответствующая разумная социальная политика. Приходится констатировать, что эта далеко не новая истина не пользуется пока большой поддержкой в обществе, в том числе и на его демократическом фланге.
От недовольства до протестов: дистанция и преграды. Согласно данным опроса типа «Мониторинг» за сентябрь 2006 г. (N = 2100 человек), 35 % полагают, что страна движется в неправильном направлении, 29 % – что их не устраивает собственная жизнь, 60 % не верят, что правительство может в ближайшее время изменить к лучшему положение в России. Могли бы, по собственным утверждениям, принять участие в выступлениях с протестами экономического характера – против падения уровня жизни и пр. – 25 % опрошенных в целом. Если бы такое намерение превратилось в реальные действия, это создало бы на российском социально-политическом поле гигантскую (четверть опрошенных соответствует примерно 25 млн взрослого населения страны) протестную силу (табл. 7 и 8).
Следует иметь в виду, что приведенные данные характеризуют не возможное участие в акциях протеста, а лишь распространение деклараций о протестных намерениях. Вспомним ситуацию весны 2005 г., в разгар массовых выступлений против скандальной монетизации социальных льгот. Тогда одобряли эту реформу 39 %, не одобряли 49 % (2005 г., март, N = 1600 человек), а направление движения страны считали правильным всего 20 % против 42 % при 38 % затруднившихся ответить (2005 г., март, N = 2100 человек). Тогда к акциям протеста относились с одобрением или с пониманием 76 % опрошенных (неодобрительно – 16 %). Готовность принимать участие в акциях протеста выражали 27 % против 57 %. Но реально участвовало в них по всей стране в 100 раз меньшее число людей – около 200 тысяч, то есть примерно 0,2 % взрослого населения, или 0,3 % сочувствовавших протестным выступлениям. К тому же в подавляющем большинстве случаев такие выступления имели характер призывов и просьб, обращенных к правительству и отнюдь не направленных против политики и власти в целом. Использовавшиеся кое-где «крайние» средства типа блокирования возмущенными пенсионерами улиц (современный аналог баррикад прошлого) не нарушали общей картины. Впрочем, и этого оказалось достаточно для того, чтобы власть пошла на уступки, в частности отложила напугавшую многих реформу ЖКХ.
Таблица 7
Если массовые выступления протеста против падения уровня жизни… состоятся в вашем городе/районе, примете ли вы в них участие?
(в % от числа опрошенных в каждой группе, 2006 г., сентябрь, N = 2100 человек)
Таблица 8
Если массовые выступления протеста против падения уровня жизни… состоятся в вашем городе/районе, примете ли вы в них участие?
(в % от числа опрошенных в каждой группе, 2006 г., сентябрь, N = 2100 человек)
Определенный социально-экономический («потребительский») успех был достигнут: наиболее острые углы монетизации сглажены, накал протестов ослабел, власть стала более осторожно относиться к массовым настроениям (пока это позволяют денежные ресурсы). Но о переменах на социально-политическом поле говорить не приходится. Не появилось даже зародышей «протестной» самоорганизации населения. Остались практически незамеченными робкие попытки соединить массовые социальные требования с общедемократическими. Не оправдались распространенные в общественных настроениях первой половины 2005 г. предположения о предстоящих новых волнах массового протеста. В общем «ситуация недовольства», фигурально выражаясь, вернулась к своему классическому отечественному образцу, поэтически описанному в позапрошлом веке: «И пошли они, солнцем палимы, повторяя: “Суди его Бог!”, разводя безнадежно руками…». Стоит отметить некоторые особенности современного существования этого образца.
Массовое недовольство как специфический феномен российской жизни. В нынешних условиях широко распространенное общественное недовольство не имеет определенного «адресата»: оно не направлено ни против власти, режима, конкретных политических деятелей, ни на утверждение или защиту определенных институтов, прав, достигнутого ранее уровня возможностей и т. п.
Отсутствие организованности («канализированности») настроений массового недовольства создает основу для манипулирования ими со стороны власти и ее политрекламной («технологической») обслуги. Характерный пример – разделение ответственности за экономические удачи и провалы, выводящее из-под удара «президентскую» команду. В 2005 г. общественное возмущение реформой льгот было отведено и от экономического блока правительства, в начале 2006 г. аналогичный прием обесценил критику военного ведомства, вызванную разоблачениями внутриармейских порядков. Но это все же манипулятивные приемы, относящиеся к ситуации с отдельными лицами и ведомствами.
Более существенны ситуации, когда в «технологических» акциях используются давно (исторически) проложенные каналы ориентации общественного недовольства и возмущения, скажем, против «чужих» и «чуждых». По такому образцу строятся кампании государственно-организованной ксенофобии – от несколько приевшейся уже чеченофобии до периодически возрождаемой западофобии и новомодной грузинофобии и т. д. По потенциалу своего воздействия подобные кампании явно превосходят попытки направить массовое возмущение против сверхбогатых «олигархов».
Еще одна примечательная черта отечественного массового недовольства (прежде всего социально-экономического, но не только его) – размещение «позитивной» точки отсчета в мифологизированном прошлом. Уровень запросов, а потому и мера их удовлетворения определяются обращением не к перспективным, а к пройденным образцам. С этим связана, естественно, живучесть консервативно-ностальгических стандартов в общественном мнении. Кроме того, и сегодня даже важнее, что в ситуации нарастания кризисных признаков в разных сферах средствами самооправдания властных структур все чаще становятся не обещания грядущих успехов, а «пугающие» аргументы (типа «может быть хуже»).
Неорганизованность и неопределенность направления современного общественного недовольства вынуждают его носителей адресовать свои просьбы к властным инстанциям, преимущественно к высшим из них (в некотором смысле – ремейк известного шествия с хоругвями столетней давности). В общественном воображении закрепляется тем самым ситуация вынужденного псевдопатернализма. Между тем демонстративные подачки некоторым категориям населения от переполнившей свои закрома нефтедолларами власти столь же далеки от патерналистских моделей общества, как и государственно-мифологическая забота «отца народов» о своих подданных.
Функции и перспективы «смиренного» недовольства. Как представляется, их не стоит сводить к функциям некоего универсального «фона» (как бы театрального задника) происходящих в обществе процессов любой направленности. Рассеянное и беспомощное массовое недовольство на деле служит средством нейтрализации и обесценивания протестного потенциала, а в более широком плане – средством оправдания сложившейся системы государственного произвола и общественной беспомощности. Вынужденная апелляция недовольных групп к власти предержащей усиливает их зависимость от правящей бюрократии.
Преодоление этой парадоксальной ситуации, по всей видимости, возможно лишь с изменением ее компонентов. Пока перед нами существующие структуры управления и подчинения, трудно представить появление «нормальных» путей общественного недовольства, обеспечивающих повышение уровня массовых запросов и формирования институциональных средств их удовлетворения. Новая, даже многократно усиленная волна массового недовольства образца 2005 г. вряд ли смогла бы изменить характер и уже известные нам судьбы такого недовольства. Никакой перебор сегодняшних компонентов общественной жизни, в том числе с помощью массовых опросов, не способен обнаружить ни в озабоченных «низах», ни в более удовлетворенных «элитарных» слоях реальных «ростков» иной системы отношений между человеком, обществом и государством, которая может и должна быть сформирована с изменением обстоятельств и в результате целенаправленных усилий.
2006Проблема элиты
Проблема интеллигенции в современной России
Как известно, проблема интеллигенции стала одной из центральных для истории, культуры и политики в России примерно полтораста лет назад. Еще Пушкин определил основные два измерения этой проблемы: «поэт и царь», «поэт и народ» (предполагается широкое понимание функции «поэта», но также и других вершин «треугольника»). Эта проблема всегда имела многообразные актуальные измерения. События последних дней (результаты выборов в Госдуму 12 декабря), как мне представляется, имеют самое прямое отношение к процессу изменения места интеллигенции в нашем обществе.
Вопрос о том, что происходит с интеллигенцией, не нов, уже несколько лет он ставится, например, в такой форме: что случилось с так называемой «перестроечной» интеллигенцией? Куда исчез тот голос, тот колокол, который пять – семь лет назад гудел, гремел, пробуждал – как казалось – страну? Остались те же люди, иногда они выступают, пишут, часто сами недоумевают по поводу происходящего – а голосов как будто не слышно. Многие из тех, кто будоражил и формировал общественное мнение во второй половине 80-х, говорят, что все пошло не так, не туда, хотя никто не может объяснить, почему так получилось. Перед нами кризис интеллигентского самосознания и самоопределения, кое в чем подобный наблюдавшемуся в 1909 г., в период знаменитых «Вех». Но кризис более глубокий, а значит, имеющий отношение к глубинным пластам нашего исторического и культурного существования. Или, иными словами, кризис, обнажающий фундаментальные устои общества. В прессе, на поверхности общественной жизни, сейчас почти такой же набор критических символов и иллюзий, что и 80–90 лет назад: западники, почвенники, отрыв от народа, бездуховность и т. д. Но нет надежд на простые решения – они скомпрометировали себя.
Позволю себе использовать – только как иллюстрацию, как стимул для беспокойства и размышления – некоторые данные наших исследований. В чуть более спокойное время, в сентябре 1993 г., перед респондентами был поставлен вопрос: выражает ли сегодня интеллигенция интересы большинства народа? И мы (ВЦИОМ) получили ответ значительного большинства опрошенных, притом во всех социальных группах: «Нет, не выражает». Интересно, что такой ответ дают и слои, которые принято считать социальной базой интеллигенции (наиболее образованные), а особенно часто выражают такое мнение молодые люди, учащиеся. Несколько реже – наименее образованные люди. Так что здесь смешаны и критика, и самокритика, и отмежевание, а если брать самые общие оценки, то речь идет о негативной оценке, о девальвации самого термина «интеллигенция». Значит ли это, что прошли не только времена романтической героизации, но и времена идеологической (классовой, почвенной) критики интеллигенции; что пришло время «всенародного» отмежевания от нее?
Чтобы от примера перейти к более глубокому анализу проблемы, нужно очертить ее исторические рамки. Широко признано, что интеллигенция – исторический феномен российской жизни (в том числе, что очень важно подчеркнуть, российского общественного самосознания и самоопределения) XIX–XX вв., но никак не извечная категория социального устройства. В определенном смысле интеллигенция присутствует во всех модернизирующихся обществах, выступает как важный агент модернизации. Различные страны были захвачены этими процессами в неодинаковых условиях, на различных этапах своего собственного развития. Россия была вовлечена в процессы модернизации на свой лад – сейчас неуместно разбирать это подробнее, – и это создало основу для появления особого, уникального феномена российской интеллигенции. Его никак не объяснить в терминах социальной структуры, как социальную группу с такими-то характеристиками и функциями – образование, просвещение, творчество и т. д. Феномен интеллигенции предполагает и морально-психологическую «нагрузку» (совесть, ответственность), и превращение социальной функции в миссию, почти сакральную: не просто обучать каким-то знаниям и ремеслам, но «нести свет», «хранить идеалы» и т. п. Реальные (объективистские) характеристики не существуют здесь без определенного способа интерпретации, понимания, приписывания, как, впрочем, это бывает почти всегда с социальными феноменами.
Я уже упоминал, что тот контекст, в котором существует или может восприниматься феномен российской интеллигенции, – это треугольник (в определенном смысле «магический треугольник»): власть – народ – интеллигенция. В нем все вершины связаны друг с другом и просто не могут существовать одна без другой: они заданы некоторым общим представлением. Все это не «реальности» как таковые, а конструкты, компоненты определенного мировосприятия, и каждой вершине предписана миссия, без которой нет ни вершины, ни самого «треугольника», а значит, и остальных вершин. «Власть» наделялась мистическими чертами всемогущества, миссией универсальной заботы и универсального ключа ко всем социальным проблемам. «Народ» тоже ведь понимался как некая сакрально-социальная категория, как объект заботы, поклонения и страха. На интеллигенцию в этой схеме возлагалась функция хранения, распространения и трансляции универсальных культурных образов. И вот эта мыслительная схема – конечно, имевшая свои глубокие исторические корни, – задавала рамку движения всех основных направлений российской философско-социальной и философско-политической мысли (западнической и почвенной, критической и апологетической, монархической и советской) в течение примерно полутораста лет. Именно в этих рамках интеллигенцию то осуждали, то оправдывали, то превозносили, то проклинали. И то, что называлось проблемой интеллигенции, на самом деле всегда было проблемой всего «магического треугольника» России, модернизирующейся и сопротивляющейся модернизации.
Сегодня, как мне представляется, эта история закончена, то есть рамка «треугольного» восприятия социальной действительности утратила силу. Это не осуждение, не оценка, это просто элемент анализа. Когда нынешние не вполне законные наследники почвенников пытаются судить интеллигенцию, а современные интеллигентные сторонники прогресса законно этим возмущаются, – спор продолжается на старом поле, в рамках того же «магического треугольника». Задача в том, чтобы из него выйти, поскольку рамка изжила себя.
Собственно говоря, «треугольник» был практически преодолен давно, на заре советского периода, в первое его десятилетие, хотя классическая мыслительная схема (или мифологема) существовала и даже порождала иллюзии относительно возможности вернуться к старым рамкам. Были прекрасные, достойные, интеллигентные люди, но не было интеллигенции как особого феномена и особого фактора социального действия. То, что официально именовалось интеллигенцией – то ли слой образованных специалистов, то ли допущенная к вершинам славы верхушка этого слоя, – фактически оставалось придатком и оружием государственного механизма. Как в тоталитарном обществе не существовало и «власти», обособленной от социальной иерархии. Как не было и «народа» как особого субъекта существования. Интеллигенция наряду с двумя другими вершинами «треугольника» продолжала лишь воображаемое, фантомное существование. Когда-то В. Белинский горевал: у нас есть литераторы, но нет литературы. Можно было сказать (и повторить сегодня вновь), что у нас еще оставались интеллигенты, но не осталось интеллигенции.
Притеснения, о которых много написано, и приспособленчество, о котором пока сказано мало, сыграли свою роль в том, что была прервана нить традиции. Но решающим, конечно, был другой фактор: исчерпала себя роль просветителей, культуртрегеров. Соответствующие функции приобрели массовые обыденные, институциональные формы (массовая школа, а потом и средства массовой коммуникации).
На советскую, фантомную интеллигенцию (согласно «треугольной» мыслительной схеме) возлагалась функция привнесения более цивилизованных форм в отношения «власть – народ», хотя, скорее всего, достигалась лишь видимость цивилизованности, притом в интересах власти. «Треугольник» никогда не был равносторонним: во все периоды отечественная интеллигенция, служилая и оппозиционная, оказывалась близкой власти, зависимой от нее и заинтересованной в том, чтобы с помощью хамской и нецивилизованной власти защититься от еще более хамской толпы. Знаменитая фраза М. Гершензона (из «Вех») о том, что «мы», интеллигенты, вынуждены быть благодарны власти за то, что она с помощью своих штыков ограждает нас от народа, сохранила свое значение и в последующие времена.
Сейчас, по понятным причинам, много тревожного говорят о политическом популизме, одна из сторон которого всегда и везде состоит в том, чтобы натравить разъяренную толпу на интеллигентные группы, на институты цивилизации. Этот популизм был присущ советской, большевистской политике и идеологии во все ее времена – и в начале 30-х, когда провозглашалось общее наступление на «чуждые» элементы, и позже, в годы более селективных репрессий и поощрения «полезной» образованной прослойки. В советском варианте насилие «от имени народа» неизменно служило прикрытием насилия над народом.
Чем дальше от нас период разрушения этой системы – годы гласности и перестройки, – тем важнее разобраться в его реалиях и иллюзиях. Это годы взлета надежд и самообмана, в частности и не в последнюю очередь – относительно интеллигенции и ее роли. В некотором смысле гласность оказалась лебединой песней советской интеллигенции. Здесь, как мне кажется, было три главных иллюзии, или «пучка» иллюзий.
Во-первых, о том, что наконец появилась долгожданная разумная и добрая власть – надежда всех отечественных мечтателей, в том числе и критически настроенных (диссидентов, например). Воплощением этой широко распространенной иллюзии был М. Горбачев, особенно в 1987–1989 гг.
Во-вторых, иллюзия о том, что в такой стране, как наша (СССР – Россия) возможны разумные, плавные, хорошо запрограммированные перемены. Прямое их продолжение – современная полемика вокруг «шоковых» методов реформ.
И в-третьих, иллюзия относительно собственной (интеллигентской) роли в происходящем. Казалось, что «вольноотпущенная» интеллигенция может стать советником власти, соучастником принятия решений, автором спасительных программ и т. д. Этого не получилось. И не только потому, что вчерашних вольнодумцев использовали не столько как советчиков, сколько как декорацию власти. Никаких программ не существовало, а благими пожеланиями и честными намерениями их нельзя было заменить. Где-то к 1990 г. стало ясно, что «разумная» перестройка зашла в тупик вместе со всем набором своих иллюзий. Началась эпоха кризиса интеллигентского духа, эпоха нарастающего разочарования и даже отчаяния. События шли своим чередом, массовые настроения испытывали какие-то волнообразные колебания, а кризис духа нарастал практически непрерывно. Его ступени можно обозначить тремя датами: конец 1991-го (конец Союза) и дважды в 1993-м (сентябрь и декабрь).
В золотые годы гласности на гребне волны была небольшая группа – несколько десятков, может быть, сотня-другая – людей, как будто способных зажигать залы «клубных» собраний и питать воображение читателей прогрессивных журналов. Если перечитать сегодня статьи и сборники, которые играли самую возбуждающую роль в те прекрасные времена, видно, что дело было не столько в таланте авторов и богатстве их идей, сколько в состоянии общественной атмосферы. Атмосфера изменилась, иллюзии угасли. Пресса, недавно будоражившая общественное мнение, заполнена тоскливыми ламентациями, которые формируют не слишком приятный общественный фон. Сами по себе они, правда, не слишком заметны: нет ни изданий, ни авторов, выступления которых – с самой резкой критикой или самыми пылкими призывами – могли бы вызвать взрыв общественного интереса, как это бывало семь-восемь лет назад. Упадок тиражей и интереса к печатному слову, отсутствие «властителей дум», духовных авторитетов – признаки того, что кончилась эпоха общественных иллюзий, как старых, так и обновленных ожиданиями перестройки.
Одна из составляющих этого в общем-то неизбежного процесса – изменение рамок движения общественного мнения и переоценка той «треугольной» схемы, о которой шла речь выше. События последних недель (потрясения, связанные с новым парламентом и новым кризисом реформаторского движения) можно рассматривать именно в этом плане: интеллигенция больше не способна формулировать универсальный образец ориентации, власть больше не делает вид, что претворяет в жизнь этот универсальный образец, а народ больше не делает вид, что следует за мудрым руководством. Это значит, что все вершины «треугольника» утратили свое содержание, и схема лишилась смысла. Об этом можно сожалеть или не сожалеть, но придется понять, что произошли существенные и необратимые изменения. Как бы ни оценивать иллюзии и реалии прошлого, вернуться к ним, по-моему, уже нельзя. Как ни далеко нам до «европейской» модели общества, как ни сложны переходные или фальшивые модели, между которыми нам, по всей видимости, придется долго плутать.
В «европейской» общественной модели нет пресловутого «треугольника» и соответствующей ему мифологии, в том числе и интеллигентской. (Потому и специфична российская интеллигенция.) Западного интеллектуала отличает от нашего (не забудем, фантомного) интеллигента прежде всего независимость: он не из обслуги государства, а из независимого слоя, стоящего на собственных ногах, опирающегося на капитал своего знания, квалификации, таланта. Во-вторых, этот слой очень престижный и в смысле своих доходов, и в смысле статуса в обществе. И, наконец, это слой людей глубоко специализированных; это профессионалы своего дела, а не просто «интеллигентные люди», не просветители и не учителя жизни. В начальных классах школы бывают «учителя вообще», они же воспитатели, носители неисполненных родительских функций и пр.; в старших нужны специалисты.
Все это вещи известные, банальные. Не менее банальны и доводы в духе того, что это «не для нас» – по причине либо недоступности, либо бездуховности, безнравственности и пр. Не место и не время дискутировать в такой плоскости, тем более при помощи отдельных примеров. «Взрослая» модель общества всегда сложна, в частности потому, что не допускает перенесения нравственной ответственности на «старших». Хотим мы того или нет, примерять придется какую-то из моделей «взрослого» общества с его разделением государственных функций и перенесением нравственной ответственности на уровень личности.
Драма российского общества и драма тех, кто считают себя интеллигентами, разворачивается на мучительно долгом переходе от инфантильности к зрелости.
Это относится и к сдвигам, которые стали очевидными в последние месяцы и проявились во время парламентских выборов. Голосование 12 декабря 1993 г. отличалось от голосования 25 апреля того же года не только результатами, но, как мне кажется, и характером действующих сил. В апреле еще сработала традиционная «советская» схема массовой поддержки власти со стороны народа (и не без помощи прогрессивной, то есть поддерживающей реформы, интеллигенции). Надежда и привычное послушание суммировались в положительном для президента результате. Ориентация на эту схему, надо сказать, подвела нас и других исследователей, которые полагали, что колебавшаяся часть населения ко дню выборов расшевелится и проголосует вслед за авангардом. Этого не случилось, произошло иное – мобилизация заметной части молчаливого большинства населения вокруг лозунгов радикального национал-популизма с фашизоидными «чертами лица». Критическая, даже агрессивная мобилизация – феномен новый, невиданный в нашей политической истории после 1917 г. В ее основе – разрыв того традиционно-советского и державшегося до последнего времени механизма массовой мобилизации, который когда-то называли «морально-политическим единством советского общества». В этот разрыв проникает новая угроза, новая социальная сила – агрессивно-организованная толпа. Нечто, подобное «восстанию масс», о котором писал Х. Ортега-и-Гассет.
Насколько серьезна и насколько долговременна эта угроза? В значительной мере это зависит от того, кто и что ей противостоит, как уравновешиваются общественные силы. Мы знаем, что в более или менее устойчивом, сбалансированном обществе 10–20 % голосующих за каких-то экстремистов, авантюристов – довольно обычное явление, ничего страшного в этом нет. У нас же нет устойчивых социальных институтов, а те политические силы, которые как будто должны перевесить всякую «жириновщину», оказываются в состоянии растерянности и раскола. Это стало очевидно сейчас, но в действительности это не новое явление. В некотором смысле мы сейчас столкнулись с тем, чего заслужили, – неумением, неорганизованностью, растерянностью и, хуже того, податливостью в отношении очень опасных тенденций. Одна из них – квазипатриотическая. Интеллигенцию в России всегда считали носителем универсальных ценностей цивилизации, ее бранили (и в 1909 г., и в 1949 г., и позднее) за космополитизм, отрыв от почвы. Сейчас мы наблюдаем, что дух обиженно-агрессивного патриотизма получил очень широкое распространение в обществе, в том числе среди наиболее образованных его слоев, среди молодежи, учащихся. И нет такой элитарной среды или группы, которая взяла бы на себя смелость громко предупредить общество о том, что это опасно. Соблазн «этнических чисток», соблазн силовых решений в обществе – во всех его группах, буквально во всех нынешних политических блоках – весьма силен. Это особая проблема, которая требует своего анализа. Понятно, что дезориентация тех, кто именует себя демократами, открывает двери самым темным и авантюрным силам. Если демократия не имеет своей культурной и нравственной элиты, она вырождается в охлократию, в диктатуру политического авантюризма, который использует и мобилизует толпу.
1994Знакомое «новое корыто»
Принято считать, что «человек ищет, где лучше» – будто желания его ненасытны, а их направление определенно. На самом деле человек, судя по нашим исследованиям, чаще всего «ищет» (или пытается сохранить) ситуацию, которая представляется ему относительно удобной, привычной, спокойной, менее рискованной, соответствующей некоторому заранее заданному образцу. При этом у каждой стабильной социальной группы свой уровень притязаний на социальные и экономические блага, статус и ресурсы, соотносимый с уровнем допустимых «рисков».
Уже ряд лет наши опросы демонстрируют удивительно стабильное соотношение между реальным и желаемым («чтобы жить нормально») уровнями доходов. Так, в докризисном 1997 г. «нормальный» доход превышал реальный в 3,2 раза, в 1998 г. (до августа) – в 3,4 раза, а после кризиса – в 4,3 раза, в 1999 и в 2000 гг. – в 3,9 раза.
Если бы в распоряжении опрошенных (1997 г.) оказалась «крупная сумма денег», каждый третий просто потратил бы ее на текущие нужды, немного меньше – на покупку дома, квартиры, каждый пятый – на лечение, 14 % предпочли бы купить дорогие вещи, 13 % – автомобиль; по 9 % опрошенных отметили расходы на образование и на развлечения, отдых. При близкой постановке вопроса («если бы у вас было достаточно денег…») список открывают телевизор, холодильник, стиральная машина (около половины опрошенных), а завершают компьютер и неистово пропагандируемые пластиковые окна.
Как видим, полет массового воображения даже в прожективной ситуации, без денежных ограничений, не слишком отрывается от «земных» реалий. Первым, что просит человек у счастливого случая, оказывается хорошо знакомое «новое корыто», которое сейчас называется автоматической стиральной машиной.
Впрочем, что мы все о материальном… Летом 2000 г. мы выясняли, какой уровень образования человек считает для себя достаточным. Выяснилось, что знаменитое социологическое «правило Матфея» («имущему дастся»… – в том смысле, что запросы растут по мере их удовлетворения) тут не работает: удовлетворенность растет в прямой пропорции с полученным образованием (люди с дипломом вуза и не хотели бы большего – например, получить еще одно образование, специальность или квалификацию), неудовлетворенность – в обратной пропорции. Есть тут некий предел желаемого, для большинства это среднее образование, школа. Кстати, в последние годы большинство в нашей стране училось 11 лет, и эта цифра не подвержена колебаниям.
Предел ощущается не только в запросах, но и в «предложении», в готовности работать с определенным напряжением. Большинство опрошенных неизменно утверждают, что работают не в полную силу, и лишь немногие в последние годы стали работать интенсивнее. В 1994 г. 39 % (против 11 %) утверждали, что сами могли бы работать «больше, лучше, чем сейчас»; в 1997 г. это соотношение составило 67 % против 14 %.
Вряд ли стоит сводить объяснение этого к ссылкам на дурную национальную генетику и трудную историю (хотя в 1997 г. более половины наших собеседников назвали «лень» главной отрицательной чертой россиян). Вот ключ к более реалистическому объяснению: только 3–4 % опрошенных в нескольких исследованиях последних лет указали, что их заработки зависят от собственного труда, остальные ссылались на государство, правительство, начальство, положение предприятия и т. д. Отсюда и стабильность установки на небольшой, но гарантированный заработок, который неизменно оказывался более предпочтительным, чем хорошо оплачиваемая, но напряженная работа или риск ведения собственного дела.
Так возникает заколдованный круг нереализованных возможностей. Вынужденные – скорее обстоятельствами, чем привычкой – предпочитать скромные гарантии и невысокие доходы (таких 60–65 %) составляют массовую опору заколдованного круга и консервативной ностальгии. «Ограниченная» отдача (работа средней интенсивности) закрепляет ограниченность запросов. И отсюда – «достаточный» уровень фактической удовлетворенности людей своей работой, зарплатой, жизнью в целом. На словах, по данным опросов и согласно обыденным наблюдениям, доля людей, отмечающих, что их вполне или в основном «устраивает жизнь, которую они ведут», невелика – 3 % в 1994 г., но уже 18 % – в 2000 г. На деле же она гораздо больше, так как доля тех, кто реально рискует, стремясь изменить жизнь, то есть что-то предпринимающих в этом направлении, весьма мала.
Какие цели ставят перед собой современные семьи: выжить, пусть на самом примитивном уровне? Жить не хуже или лучше большинства сограждан? Жить так, как живет средняя семья в Западной Европе, США? Лучше, чем средняя семья на Западе?
Несколько последних лет варианты распределяются весьма стабильно. Около половины хотят жить просто не хуже окружающих; каждый пятый (пенсионеры, люди с низким образованием, из мелких поселений) ориентирован на выживание. На западные образцы равняются, наоборот, самые молодые, образованные, жители крупных городов.
Удивительно другое: и предприниматели, и руководители, и служащие нередко сводят свои цели к выживанию, как и пенсионеры; видимо, они вкладывают в это понятие разные смыслы. И еще: предельными амбициями отличаются вовсе не предприниматели, как можно было бы ожидать (только 3 % из них хотели бы «жить лучше западных семей»), а руководители (почти каждый десятый).
По тому, как люди оценивают свой социальный статус и материальное положение, можно выделить достаточно резко обособленные три группы: высшую (8 %), среднюю (60 %) и низшую (32 %). Средний статус наиболее динамичен (наибольшие ожидания перемен, в основном к лучшему) и все последние годы остается доминирующим. Только не следует забывать: речь идет о субъективной оценке движения статусов, масштабах и устойчивости ориентации на «средний уровень». Это никоим образом не «средний класс» или «средний слой», это просто определенный тип самой массовой ориентации, сводящейся к стремлению быть «как все» или «не хуже других».
Стремление повысить свой общественный или потребительский статус обычно предполагает не просто отталкивание от «середины», но равнение на некоторый повышенный образец (интересов, благосостояния и т. д.). Носители такого образца – либо отечественная элита, либо – особенно когда происходит модернизация – влиятельная западная «середина».
Наша элита не способна задать образцы, которые были бы востребованы обществом, прежде всего потому, что она (по крайней мере ее массовая часть – «социальная элита») действует в том же «заколдованном круге», что и общество в целом. А элита «высокая» (оторвавшаяся от среднего уровня по претензиям, возможностям и доступу к благам) уже по одному этому положению вызывает скорее массовое раздражение, чем желание следовать ее образу жизни. А когда такое раздражение еще и подпитывается, и прямо организуется властью, оно довольно легко переходит в агрессию против «новых русских», «олигархов», «расхитителей народного достояния». Агрессивный популизм всегда служил надежной опорой и питательной средой для авторитарных режимов. Развитие ситуации на российской политической сцене в последнее время это еще раз подтверждает.
Богатым завидует большинство (и само признает это в опросах). Казалось бы, это нормально. Но какая именно зависть? Ближе всего к богатству как предмету зависти по частоте упоминаний оказывается удача, а дальше – высокий статус. Можно полагать, что перед нами скорее «зрительская», чем деятельная («белая») зависть. И почему-то очень редко завидуют умным, сильным или свободным, независимым – должно быть, тоже потому, что это деятельные ценности. А «зрительская» зависть легко превращается в агрессивную, «черную».
Достаточно чуть изменить формулировку вопроса (например, добавить нечто, заведомо не вызывающее симпатии: «недавно разбогатевшие» и «во главе банков, фирм»…), и зависть попадает в ряд с резко негативными оценками: каждый второй скажет, что эти люди вызывают раздражение, гнев, возмущение.
Между «простыми» и «продвинутыми», элитарными группами – высокий, почти непроходимый барьер. Более или менее современные формы богатства, благосостояния, свобод не выросли на родной почве, а как бы свалились на голову человеку, привыкшему к иной общественной иерархии. Даже став более или менее привычными, эти феномены остаются чужеродными и сомнительными.
В различных типах обществ у элит разные функции. Элита традиционного общества (старого русского, старого китайского) поддерживает статические образцы порядка и ценностей иерархии. В этой роли, да и по своему воспитанию и способу организации элита смыкается с правящей бюрократией или сословной системой власти. В условиях «догоняющей» модернизации какая-то часть элиты (а если модернизацией руководит государство, то вместе с бюрократией и даже под ее началом) внедряет и адаптирует новые, заимствованные извне образцы поведения и ценностей. В обществах, которые принято относить к развитым, социальная модернизация не становится особым типом деятельности, а элита обеспечивает многообразие и обновление этих образцов. Обособленность и миссионерская роль элиты (в частности, интеллектуальной) теряют смысл.
Одна из особенностей современной России в том, что элитарные группы постоянно пытаются совмещать функции модернизирующих и традиционных элит в условиях, когда подобное сочетание стало бесплодным. Иными словами, российская элита больше не может предложить обществу образцы, которым оно захотело бы следовать, в том числе и в потреблении.
С «чужими» образцами тоже не так все просто. За последние 10 лет люди в нашей стране узнали о внешнем мире, многие – на собственном опыте, больше, чем за предыдущее столетие. И большинство относится к этим переменам весьма одобрительно.
В то же время исследования показывают, что настороженность, опасения, иногда и прямая враждебность к правительствам, деловым кругам, массовой культуре западных стран сохраняются и даже по некоторым позициям усиливаются. Продолжают действовать стереотипы времен холодной войны по отношению к НАТО, например; к этому добавляется недовольство займами, кредитами, недоверие к иностранным бизнесменам, фирмам, банкам, благотворительным фондам. Так парадоксально сосуществуют тенденции сближения и отгораживания от остального мира. «Западный» образец виден простым глазом, но не пробуждает массового желания ему подражать.
Информационная «витрина» европейско-американского образа жизни стала доступной еще советскому обывателю во второй половине 80-х гг., после падения железного занавеса. В начале 90-х гг., после падения Берлинской стены и всех перемен, за этим последовавших, нашему человеку стал доступен и «прилавок» сегодняшней мировой цивилизации с ее выбором товаров, услуг, комфорта. Но никоим образом не «кухня», не «фабрика» (я имею в виду прежде всего «социальную фабрику», то есть ту систему общественных отношений, которая делает возможным современный уровень производства и потребления, в том числе и современный уровень культуры труда, запросов). Надежды на то, что с открытием двери в мир удастся без проблем сразу перенести на родную землю не только привлекательные «плоды», но и способы их выращивания, не оправдались. Более того, именно близкое знакомство с чужим образом организации жизни показало, сколь высок «барьер», реально отделяющий нас от мира сегодня. Отсюда – шок, раздражение, комплекс неполноценности, новые попытки самоизоляции…
Примерно то же произошло в общественном мнении и по отношению к «западным» институтам и ценностям. Прямые связи (визиты, знакомства) с этими институтами – при демонстративном принятии парламентских «лейблов» – опять-таки показали масштабы разрыва между реально действующими политическими механизмами «здесь» и «там».
В последнее время общественное мнение как будто довольно легко поворачивается от симпатий к демократии к поддержке авторитарного популизма. Этот сдвиг представляется легким потому, что он давно был подготовлен. Демократические тенденции и лозунги никогда не были закреплены ни массовым участием в политической жизни, ни организованностью политических сил, ориентированных на демократические ценности. Демократическая модель, «вброшенная» в массовое сознание в конце 80-х гг., оказалась слишком сложной, а потому и «чужой» для большинства населения. После десятилетия «ельцинских» перемен и кризисов это большинство жаждет порядка и покоя – в тени «сильной руки». При всей смутности массовых представлений о содержании желанного «порядка» одна его черта очевидна: это порядок, наводимый «сверху», при пассивной покорности большинства и при отсутствии деятелей и движений, которые были бы способны предложить иной, собственно демократический образец порядка. Мнения о полезности диктатуры в 2000 г. разделились почти поровну: 40 % «за» при 43 % «против».
Авторитарный, в том числе и авторитарно-популистский, порядок всегда проще, примитивнее, ниже по уровню организации по сравнению с демократическим. Он сводит управление к командованию, подменяет политический авторитет простым насилием (судебным, полицейским, военным). Готовность – пока, впрочем, вполне декларативная – принять подобное упрощение составляет сегодня важнейший признак ограниченности, «потолка» человека и времени.
2002Власть, элита и масса: параметры взаимоотношений в российских кризисах
Характеристики структурных компонентов происходящих в стране процессов остаются в фокусе исследовательского внимания и публичных дискуссий. Существует соблазн обособленного анализа и оценки указанных компонентов, когда упреки (или надежды) адресуются какому-либо одному из них – «власти», «элите», «народу», а взаимосвязи этих феноменов как бы остаются в тени. «Морализаторская», нормативная трактовка таких связей («кто чего заслуживает») заведомо неплодотворна; более эффективным представляется анализ функциональной взаимообусловленности феноменов.
К элитарным компонентам общественных процессов правомерно относить более продвинутые (образованные, опытные, функционально дифференцированные, обладающие влиянием и властью) группы, организации, институты. За общим термином «элита» уже по определению не может стоять какая-то однородная и сплоченная общность, если, конечно, не иметь в виду варианты примитивных социальных организаций, для современной российской действительности давно не характерных. Элитарные слои и структуры в сферах (подсистемах) управления, культуры, бизнеса, просвещения, коммуникации, социальных услуг и т. д. специализированы и разобщены, это их «нормальное» состояние. В экстраординарных ситуациях общественной мобилизованности, возбуждения, эмоционального напряжения и т. п. формируются или активизируются консолидирующие механизмы (структуры), способные действовать «поверх» функциональных и «элитарных» барьеров.
Как известно, в ходе исторического развития многих обществ функции носителя нетрадиционных социокультурных образцов исполняли специфические (инородные в том или ином смысле, вплоть до пришельцев и завоевателей) группы. В России в такой роли с XVIII в. выступала имперская бюрократия, а с середины XIX в. также и конкурировавшая с ней интеллигенция. С этими группами преимущественно связывались и представления об исторической (модернизационной, в сегодняшней терминологии – глобализаторской) «миссии» отечественной элиты. В советский период на такую «миссию» претендовала уже другая, государственно-организованная бюрократия, пользовавшаяся услугами всех элитарных структур, в том числе и бывшей интеллигенции.
Важнейшая характерная особенность всех российских элитарных групп – их этатистская, государствоцентристская ориентация, будь то позитивная (надежды на власть предержащую) или негативная (демонстративно антигосударственная). Единственно значимой точкой отсчета оставалась государственная власть, причем более высокий («элитный») статус неизменно означал не столько более высокую профессиональную квалификацию и репутацию, сколько бóльшую приближенность к власти и бóльшую зависимость от нее, притом всестороннюю – от сохранения статуса до личной безопасности. В такой ситуации статус измеряется не удаленностью от «низших» ступеней профессиональной и т. п. специализированной иерархии, а приближенностью к условно-обобщенной неспециализированной «верхушке» социальной системы.
Ни социально-политические кризисы, ни смены режимов не внесли принципиальных изменений в такое положение вещей. Лишним подтверждением может служить довольно быстрое и практически беспроблемное восстановление государственного («корпоративного», в терминологии А. Илларионова) контроля за различными сферами экономической, административной, интеллектуальной и культурной деятельности в стране.
Отсюда и специфика кризисов российских социально-политических систем и режимов на протяжении сотни лет – с начала ХХ в. до начала XXI в. Ни один из них не может быть представлен по хрестоматийным схемам раскола и противостояния между «массой» и «элитой» или «элитой» и «властью», «массой» и «властью». Во всех ситуациях пережитых политических переломов и переходов главным действующим фактором оказывалась неспособность данной конфигурации правящих групп сохранять свое господство и порожденные такой ситуацией расколы и конфликты внутри самой конфигурации; «желания» или интересы нижележащих общественных слоев значимой роли не играли. В экстраординарных ситуациях социального возбуждения эмоциональный фон массовых ожиданий и иллюзий мог служить лишь дополнительной поддержкой господствующих структур.
Консолидация: фантом и проблема. Изложенные соображения, как представляется, дают возможность подойти к часто возникающей в социально-политических дискуссиях последнего времени теме «консолидации» российского общества или его структурных компонентов.
Проблема консолидированности в зоне самих властных структур требует обращения к персонализированным и окказиональным факторам, а потому в ограниченной мере доступна социологическому анализу; пока оставим ее за рамками рассмотрения.
В «элитарной» зоне, как отмечено выше, наблюдается скорее пониженная, по сравнению с условно «нормальными» образцами или «мировыми» стандартами, степень самоопределения и дифференциации специфических интересов отдельных групп. В то же время налицо избыточная, по сравнению с теми же стандартами, консолидированность элитарных и властных структур. В результате не может эффективно исполняться одна из важнейших функций элитарных структур – артикуляция различных общественных позиций и проблем. Получается, что и элита, и общество страдают не от недостаточной консолидированности, а от недостаточной определенности различных интересов и позиций. Доминирующей тем самым становится примитивная (по Э. Дюркгейму, «механическая») солидарность однородных, как бы извне, «сверху» организованных или «построенных» единиц. Между тем для развитых социальных систем характерно эффективное взаимодействие самостоятельных, разнообразных и взаимодополняющих субъектов действия («органическая солидарность»).
В зоне отношений между элитарными структурами и «массами» на протяжении уже не 100, а примерно последних 300 лет можно было наблюдать смену привычных и (в переломные периоды) непривычных форм противостояния, причем элита практически неизменно выступала как опора и проводник влияния власти (протестующие элитарные течения в конце XIX в. или столетие спустя скорее действовали как «контрэлита»).
Приходится констатировать, что ситуация не изменилась и после политического перелома начала 90-х гг. прошлого века. Различные по глубине и долговременности перемены на властных и элитарных уровнях не привели к принципиальному пересмотру взаимоотношений и взаимных оценок элитарных и массовых слоев. После недолгого всплеска «всеобщих» надежд реформы 1991–1992 гг., а тем более их инициаторы, воспринимаются общественным мнением преимущественно негативно.
Древняя формула – требование «хлеба и зрелищ» – в исторической прагматике давно расчленена на неравнозначные компоненты: одна часть общества нуждается в «хлебе насущном» – средствах удовлетворения повседневных массовых запросов, другая – в «зрелищах», к которым у нас, как известно, относятся также свободы и демократия, допущенные в российскую обитель как предмет зрелища, а не реального массового участия…
Небольшой пример. 76 % имеющих высшее образование и 78 % с образованием ниже среднего, то есть практически «все» в равной мере, опасались, что в 2006 г. в России произойдет рост цен, падение благосостояния населения. А «закручивания гаек», ограничения прав и свобод опасались 15 % высокообразованных и 6 % низкообразованных – здесь уже опасения явно разделены. Примерно такую же картину получим, рассматривая суждения по статусным группам (десятиступенчатая шкала статусов сведена к трем группам): ростом цен обеспокоены в равной мере все (76–78 %), а «закручиванием гаек» – 12 % в высшей статусной группе и только 5 % в низшей (январь 2006 г., N = 1600 человек).
Вряд ли можно допустить, что в ближайшем или обозримом будущем эти интересы сомкнутся на элитарных высотах. Более вероятен все же иной вариант «консолидации» интересов и сил, если возвышенно-либеральные ценности и демократические механизмы будут задействованы как средства обеспечения «хлеба насущного», то есть достойного качества массовой жизни. Этого не произошло ни в годы переломных реформ, ни в месяцы подъема социальных протестов начала 2005 г.
Ограниченная в своих возможностях и претензиях сегодняшняя оппозиционная контрэлита заметной массовой поддержки не получила. Фатальной для нее оказалась неспособность (нерешительность и нежелание) артикулировать массовый протест против экономической политики власти начала 2005 г. Наличие «незаработанных» страной средств, оказавшихся в распоряжении власти, позволило ей в очередной раз использовать популистские настроения («восстание масс» на российский лад) для укрепления регрессивных тенденций в экономике и политической системе.
За все годы последних перемен и потрясений на отечественном социально-политическом поле сохраняется явное расхождение интересов и опасений «элитарного» и «массового» уровней.
Для российской социально-политической сцены ситуации массового, условно-«всеобщего» эмоционально-политического возбуждения оставались до сих пор редкими исключениями. Одна из них наблюдалась, видимо, весной 1917 г., вторая – в конце 1980-х гг. Сходные признаки обеих ситуаций – крушение и дискредитация «старой» системы господства, взвинченные ожидания, неопределенность перспективы, неизбежно непрочная, рыхлая и кратковременная консолидация разнородных сил и интересов на основе общего отрицания «старого» строя («негативная консолидация»).
В последнее время некоторые аналогии такой структуре социально-политических процессов дают перипетии «цветных» революций в ближнем зарубежье. Позитивная консолидация, то есть консолидация «за», на массово-эмоциональной основе вряд ли могла складываться, для нее требуется некоторая определенность ориентации и организации действующих сил, а вместе с тем и разграничения между их активистами, сторонниками, «попутчиками» и т. п. Стоит заметить, что при отсутствии атмосферы массового возбуждения оппозиция действующей власти вынуждена искать способы «позитивной» консолидации своих потенциальных сторонников, выдвигая привлекательные программы, лозунги, фигуры лидеров.
Опросы последнего времени представляют существенные особенности массовых установок в отношении российской власти различных эпох. Приводятся результаты однотипных опросов 1998, 2001 и 2005 гг.; в каждом из них респондентов просили указать (в предложенном списке) черты, характерные для власти советской («застойного» периода) и современной российской (табл. 1).
Таблица 1
«Качества» власти
(в % от числа опрошенных в каждом году)
Фактически по всем позитивным качествам (законность, честность, близость людям, прочность, справедливость и др.) показатели, приписываемые советской власти, значительно выше, чем соответствующие признаки нынешних властей. А по негативным характеристикам (коррумпированность, слабость, удаленность от народа и др.) нынешняя система правления в общественном мнении далеко опережает прошлую. Единственное, не очень значимое исключение – по уровню «образованности, интеллигентности» нынешняя власть не уступает «старой».
Примечательны колебания некоторых оценок российской власти за последние годы. Так, распространенность представлений о коррумпированности власти, о ее непрофессионализме, об удаленности от народа в 2001 г. заметно снизилась по сравнению с 1998 г. (скорее всего, это было связано с надеждами на новый порядок В. Путина), но к 2005 г. вернулась к прежнему уровню и даже превзошла его. По контрасту с современной властью ее советская предшественница стала казаться опрошенным более законной, сильной, компетентной, уважаемой. В то же время власть нынешняя стала представляться части опрошенных более привычной, авторитетной, сильной, хотя и менее законной. По представлениям о бюрократичности она догнала и перегнала советскую.
Для дальнейшего более подробного анализа ограничимся рассмотрением только тех позиций из списка «качеств» власти, которые привлекли наибольшее внимание респондентов (табл. 2 и 3).
Таблица 2
Качества власти
(группы по возрасту, в % от числа опрошенных в каждом году)
Таблица 3
Качества нынешней власти
(группы по отношению к В. Путину, в % по столбцу)
В глазах молодых людей (до 25 лет) образ советской власти несколько улучшился: она теперь кажется им более законной, прочной, справедливой, менее бюрократической, чем казалась около восьми лет назад. А у старших возрастов, напротив, представления о достоинствах советского режима по ряду позиций ухудшились: он стал казаться более коррумпированным, менее привычным, более слабым и далеким от народа.
«Лояльные» и «нелояльные»: консолидация мнений? Оценки качеств советской власти в электоратах современных политических сил имеют явно выраженный идеологический характер. Так, эту власть считают законной 43 % потенциальных избирателей КПРФ, 35 % электората «Родины», 27 % – «Единой России», а коррумпированной – лишь 8 % сторонников КПРФ, 13 % избирателей «Единой России», 14 % – «Родины». Близкой к народу видят советскую власть 62 % электората КПРФ, 30 % – «Единой России», 39 % – ЛДПР, 26 % избирателей «Родины».
Пожалуй, более интересны данные об отношении тех же электоратов к нынешней власти. Ее законность отмечают всего 9 % коммунистического электората, что вполне объяснимо. Но и среди сторонников государственной «партии власти» на эту черту обращает внимание не более 14 %. Близкой к народу эту власть видят 2 % сторонников КПРФ и 6 % – «Единой России». Точно так же распределяются в этих группах мнения о близости власти к народу (2 % и 6 %). В то же время власть считают коррумпированной 73 % избирателей КПРФ и 61 % избирателей «Единой России», далекой от народа – 49 % и 38 %, бюрократической – 36 % и 38 % соответственно. Получается, что суждения о власти избирателей непримиримой оппозиции и правящей партии не слишком отличаются друг от друга. Это значит, что власть не имеет сколько-нибудь прочной «идейной» опоры в собственном электорате.
Если взять характеристики нынешней власти у групп, отличающихся мерой надежд на правительство, получим следующую картину. Законность нынешней власти отмечают 11 % среди тех, кто надеется на способность правительства улучшить положение в стране, и 4 % среди не имеющих такой надежды, справедливость власти усматривают 4 % и 3 % соответственно, коррумпированность – 57 % и 66 %, отдаленность от народа – 40 % и 46 %, бюрократичность – 40 % и 46 % соответственно.
Аналогичное распределение, точнее почти полное однообразие суждений о власти, получается при сопоставлении мнений представителей разных мнений о том, как идут дела в сегодняшней России. Из считающих, что дела идут в «правильном направлении», на законность действующей власти обращают внимание 6 %, из тех, кто с этим не согласен, – 5 %. Называют эту власть близкой народу 4 % и 3 %, коррумпированной – 68 % и 58 %, «своей», привычной – 3 % и 2 % соответственно.
Наконец, обратимся к оценкам власти устами одобряющих и не одобряющих деятельность президента В. Путина (см. табл. 3).
Таким образом, уровень демонстративно критических оценок сегодняшней власти весьма мало связан с выражениями лояльности по отношению к ее институтам и носителям. Как можно объяснить столь странное на первый взгляд сочетание лояльности и критичности? Скорее всего, тем, что противоречивые оценки имеют разные основания и исполняют различные функции в структуре массового сознания. Показатели демонстративного «одобрения в целом» являются высокими только по отношению к деятельности президента (при том что полностью одобряют его действия 16 %; январь 2006 г., N = 2100 человек) и означают безальтернативность «последней надежды» населения. Негативные оценки всех прочих властных институтов в значительной мере прагматичны, то есть обусловлены реальным жизненным опытом людей в обстановке неудовлетворенности и неуверенности в будущем. Как видно из ряда полученных ранее опросных данных, резко критические суждения о власть имущих перекладывают ответственность за все беды и трудности с высшего должностного лица на его окружение и нижестоящих исполнителей. Кроме того, в российском общественном мнении явно или скрыто присутствует противопоставление нынешних порядков советским, преимущественно в пользу последних: в январе 2006 г. 43 % против 45 % (N = 1600 человек) предпочли бы сохранение положения, существовавшего до «перестройки».
Страх вместо доверия? В заключение темы обратимся к данным о доверии и страхе в отношении нынешней власти, полученным в одном из опросов декабря 2005 г. (N = 1600 человек). 8 % опрошенных сообщили, что они «определенно доверяют» нынешней власти, еще 38 % – «скорее доверяют» ей, 49 % выразили недоверие, в том числе 16 % – «определенно». Общее соотношение доверяющих и не доверяющих власти составило, таким образом, 46: 49. Среди самых молодых, до 25 лет, уровень доверия власти наибольший (55: 38), среди тех, кому 40–54 года, – наименьший (44: 51).
«Боятся» власти, по собственному признанию, 14 % опрошенных (лишь 2 % «определенно» боятся), скорее и определенно не испытывают страха перед властью 80 %. Чаще всего отмечают страх перед властью в старшем возрасте, 55 лет и старше (16: 76), реже всего подвержены ему 25 – 39-летние (11: 83). Процентные различия в данном случае не слишком значимы, подавляющее большинство, очевидно, страха перед властью не имеет. Согласно другому декабрьскому опросу, 58 % против 30 % сочли, что за последние годы в стране стало «больше страха». Но сам этот страх, скорее всего, можно понимать как неуверенность, как опасения (нежелательных событий, неверных действий и т. п.), а не как прямую угрозу жизни и безопасности людей со стороны власти. Этой характерной для тоталитарных режимов опоры российская власть в настоящее время не имеет.
2006Элитарные структуры в постсоветской ситуации: возможности исследования, предварительные замечания
В многочисленных дискуссиях о современном положении и перспективах развития российского общества неизменно присутствует «проблема элиты». Анализ обширного эмпирического материала, полученного в ходе исследования, целесообразно предварить хотя бы кратким обсуждением некоторых методологических аспектов постановки этой проблемы и соответствующих дефиниций. Как правило, общественный и публицистический интерес сконцентрирован в данном случае на ответственности нынешней (условно говоря, постсоветской) элиты за кризисы исторического развития страны и поисках выхода из сложившейся ситуации. Социальные и исторические рамки «элиты» как категории исследования общества редко становятся при этом предметом внимания. Между тем при использовании такой категории важно представлять, какие «реальные», эмпирически наблюдаемые группы (социальные слои, типы) к ней могут быть отнесены в определенных условиях, какие функции (задачи, роли) правомерно связывать с деятельностью таких групп в различные периоды. Не углубляясь в методологические тонкости, ограничимся некоторыми необходимыми замечаниями.
В принципе понятие «элита» – не эмпирическая, а, пользуясь известной терминологией М. Вебера, «идеально-типическая» категория, то есть конструкт, используемый для исследовательских целей. Для определения общественных слоев и групп как элитарных существенны такие признаки, как социальные ресурсы (обладание специальными знаниями, благами, возможностями влияния, доступом к власти), обозначенная обособленность от других групп (престиж, «избранность»), характер деятельности, функции (поддержание порядка, репродукция образца, адаптация или сопротивление изменениям).
При рассмотрении сегодняшних элитарных групп нередко происходит перенесение (проекция) характеристик структур традиционных обществ (сословий, каст, орденов, лож, тайных обществ, «света»), что допустимо в меру понимания условности, метафоричности таких аналогий. Следует принимать во внимание, что механизмы и функции замкнутости, консолидации, рекрутмента («отбора»), высокостатусности современных элит принципиально иные, чем были у средневековых, восточных и прочих их аналогов. И, разумеется, необходимо избегать соблазна – скорее публицистического – приписывать элитарным группам такие антропоморфные признаки, как обладание сознанием, волей, желаниями, миссией. В дефиниции «элитарности» наиболее важен не «кадровый состав» соответствующих групп, а способ их действия с его нормативно-ценностными и символическими компонентами, «кумирами» и мифами («автомоделями», на языке отечественной семиотики времен Ю.М. Лотмана).
Типы элиты в российской исторической традиции
Практически все современные трактовки и проблемы элитарных групп, барьеров, функций непосредственно восходят к советскому периоду. Принятая пока как единственно уместная характеристика российского общества со всеми его социальными институтами и группами как постсоветского адекватна, поскольку общество, государство и граждане доселе обитают не в «новом» доме, а на развалинах «старого» (советской институциональной и социально-групповой структуры). Более древние конструкции вместе с соответствующим человеческим «материалом» как будто полностью уничтожены после 1917 г. (заметные сегодня натужные воздыхания по былой аристократии и «венценосцам» скорее обозначают отсутствие места соответствующих феноменов в реально значимой социальной памяти). Тем не менее заслуживают внимания некоторые «фазовые» сходства структур, способных воспроизводиться при радикальной смене условий и «материала». Отметим некоторые моменты.
Короткие ряды традиции
Российское историческое время сложено из относительно коротких – по меркам других обществ – отрезков, каждый из которых как бы начинает историю (институциональную традицию и память) заново, «с чистого листа». Каждый период обычно находит свое «оправдание» в отрицании предыдущего правления и расправах с его элитарными структурами. Функции отсутствующей исторической традиции (как инструмента легализации и поддержки существующего порядка) восполняются квазиисторической мифологией.
«Назначенные» элиты
На разных этапах прерывистой монархической истории России наибольшую роль в качестве опор трона, военачальников, наместников почти всегда играла не традиционная знать, выводившая свои привилегии от «Рюриковичей», а «назначенные» элитарные группы и фигуры (дворяне, приближенные, чиновники). В одном из писем князю Курбскому Иван IV утверждал, что перед богоданным самодержцем все – холопы, независимо от звания и рода. Как известно, и спустя столетия этот принцип не только постоянно использовался, но и, что не менее важно, с готовностью воспринимался как должное на разных ступенях государственной иерархии – вплоть до последнего времени. Социальная категория «пэров» (равных по знатности) практически никогда не работала.
Самозванчество и цареубийство как атрибут наследования власти
Легитимный механизм наследования царских полномочий утвердился в России за 100 с небольшим лет до падения монархии, после повторявшихся периодов дворцовых переворотов, цареубийств и самозванчества (как «верхушечного», так и «низового», наиболее яркие примеры XVIII в. не нуждаются в напоминании). Притом, в соответствии с архетипической моделью, изученной Дж. Фрэзером (а еще ранее описанной Шекспиром), причастный к убийству с необходимостью получал корону, менее значимый приз не годился для оправдания злодейства.
От милостей до казней
В структуре самодержавного произвола (царского и последующих периодов) наиболее эффективным инструментом статусного взлета всегда оказывалось благорасположение первого лица, достаточно легко переходящее в подозрительность и гнев (если не со стороны «самого», то со стороны его преемников). Такие карьерные повороты становились практически неизбежными, когда фавориты предъявляли завышенные претензии, например на роль соперников или наследников. Столь же неизбежно «мотором» карьерного продвижения постоянно, во все времена и при всех режимах, служили клановые интриги, лоббизм, доносы и т. п. Критерием сохранения статуса «назначенной» знати оказывалась не эффективность исполнения ею своих функций, а доверие со стороны вышестоящих; тем самым определялись принципиальные различия между «лояльной» бюрократией и ее «рациональными» моделями (по М. Веберу).
Два «модернизационных» мифа XIX века
Первый из них использовал Пушкин, называя правительство Николая I «единственным европейцем», то есть агентом модернизации в духе Петра и его чиновников. «Крестьянский» кризис середины XIX в. – не преодоленный и полстолетием позже – показал пределы показной (в основном военно-технической) модернизации без изменения институциональной структуры общества. Еще раньше стала очевидной безнадежная коррумпированность бюрократии в малограмотном и не обладающем правовой культурой обществе. От героизации фигуры Петра просветительская литература перешла к жесткому обличению самодержавно-бюрократических опытов модернизации («История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина). К концу века государственной власти пришлось отказаться от претензий на роль единственной или главной движущей силы европеизации. Проводниками материально-технических компонентов этого процесса выступили бизнес и связанный с ним слой технических специалистов – групп, избежавших славы и претензий на элитарные роли. В значительной мере это обусловлено тем, что в годы, когда – после Крымской войны и реформы 1861 г. – Россия довольно широко открыла двери (уже не «окно») в Европу, промышленная модернизация там испытывала первые тяжелые кризисы, а различные варианты моральной и эгалитаристской критики прогресса находили благодатную почву. В этой ситуации сформировался второй российский модернизационный миф XIX в. – «интеллигентский».
Миссия русской интеллигенции – воображаемая и реальная
В собственных и широко распространенных представлениях отечественная интеллигенция брала на себя миссию слома идейных основ патриотического консерватизма («православия – самодержавия – народности») и трансплантации на российскую ниву лучших плодов европейского прогресса и просвещения без его «вредных привычек» (индивидуализма, цинизма). Преданность своему делу, готовность к самопожертвованию, а потом и ореол мучеников «за правду» давали основания придавать деятельности этой специфической социально-нравственной группы ауру вдохновенных неофитов религиозного возрождения. Если оценивать реальные, исторически значимые результаты деятельности интеллигенции за время ее активной жизни (то есть примерно за 50 лет в конце XIX и начале XX в.), приходится признать, что разрушительную часть своей миссии она (и ее кумиры) практически выполнила. Н. Бердяев однажды причислил к «духам русской революции» Гоголя, Достоевского и Толстого как разрушителей устоев традиционной России. А со сменой общественно-политической ситуации в стране к концу века нравственные максималисты были вынуждены уступить роль «лидера мнений» не лучшим из собственных учеников – куда более практическим и куда менее нравственно обремененным адептам радикального терроризма, сначала индивидуального, а потом и массового. И тем самым создать условия для последующего собственного уничтожения – ликвидации интеллигенции как особого социально-исторического феномена и условий ее существования.
Отметим некоторые особенности этого феномена, необходимые для дальнейшего анализа интересующей нас темы. Его носителей никоим образом нельзя представить как профессиональную группу работников какой-то отрасли «интеллектуального труда» («мыслящий пролетариат», в воображении Д. Писарева) или поставить в один списочный ряд с античными жрецами, придворными мудрецами восточных цивилизаций или специалистами новейшего хай-тека – слишком уж разнятся способы и функции использования интеллектуальных «ресурсов» в различные эпохи. К тому же трудно приписать профессионализм и узкую специализацию в какой-либо конкретной сфере вдохновенным интеллигентам, блеснувшим на переломе XIX и XX вв. Специфика – даже уникальность – интеллигентского феномена в принципе объяснима особенностями расстановки сил и мнений в российском обществе в период напряженного выбора варианта модернизации. Положение высокообразованной (по чужим, европейским меркам), оторванной от традиционной «почвы», прямо или косвенно противостоявшей власти и не имевшей даже надежды на массовую поддержку интеллигенции побуждало ее взяться за невыполнимую задачу (и уже попутно разбираться в тонкостях души человеческой). Некоторые аналоги, вероятно, можно найти в модернизационных катаклизмах восточных, африканских, латиноамериканских обществ с существенно понижающим ситуацию коэффициентом: миссию модернизирующих элит там чаще всего берут на себя группы, не прошедшие европейской цивилизационной школы и потому готовые ограничиться соединением нахватанного радикального эгалитаризма (или исламизма) с полученным по случаю стрелковым вооружением и элементами тоталитарных форм государственной организации.
В качестве элитарного фактора русская интеллигенция представляла себя антиподом чиновничества по всем ориентирам (служение – служба, творчество – исполнение, свобода – послушание, мир символов – иерархия начальников, исторический «отбор» – назначение власть имущими и т. д.; нередкие случаи пересечения групп на личном уровне не имели принципиального значения).
Правомерно говорить о противостоянии двух моделей модернизации – бюрократической и интеллигентской (и, соответственно, двух «мифов» русского XIX в.). Ни одна из них не была осуществлена до конца, что и создало условия для серии катаклизмов последующего столетия. Это противостояние удалось устранить советской эпохе, формально зачислившей бывшую интеллигенцию в госслужащих.
Русская интеллигенция – классический пример элитарного феномена, не связанного с какой-либо социально-групповой структурой, членством, организационными связями и т. п. Она могла привлекать последователей в разных слоях и сословиях тогдашнего общества, не принадлежа ни к одному из них. В принципе элитарная группа «интеллигентского» типа консолидирована вокруг символов, а бюрократическая – вокруг должностей. В функции интеллигенции входила консолидация действий и «теченья мыслей» вокруг символических структур, кумиров, «учителей» (притом не только «своих»: когда Ф. Достоевский писал, что у русских «две родины – Россия и Западная Европа», под «русскими» имелись в виду тогдашние интеллигентские просветители). В этой среде выделялся «высший» – символически – слой (знаменитые литераторы, публицисты, художники) и ориентированная на него довольно широкая масса «низовых» последователей (врачи, учителя, земские активисты). Они не пытались «вести за собой» страну или влиять на государственную политику, но реально влияли на нравственную атмосферу в обществе. (Известен разговор двух весьма консервативных по убеждениям литераторов, Достоевского и Суворина, в конце 1870-х гг. на крайне острую тему поднявшего голову революционного терроризма. Осуждая его акции, оба собеседника уверяли, что ни в коем случае не стали бы доносчиками, еcли бы узнали о готовящемся покушении. Напрашиваются сопоставления с позднейшими ситуациями и состоянием общественной атмосферы, когда подобные суждения стали принципиально невозможными.)
Крушение «старых» российских элит
Со сменой эпох (после 1917 г.) прекратили существование все элитарные феномены российского общества, причем это произошло еще до того, как были уничтожены соответствующие социальные группы, классы, сословия. Значительная часть носителей элитарных функций была физически истреблена Гражданской войной и волнами массового террора, некоторые ушли в эмиграцию, но все же главным фактором крушения элитарных структур была ликвидация их функций («места») в обществе, соответствующих ожиданий, символов, мифов. По мере того как советская система создавала свои элитарные вертикали и средства их поддержки, все «старые» конструкты оставались не у дел и утрачивали смысл. Судьба же человеческого («кадрового») состава этих структур оказалась более сложной – немалая их доля с переменным успехом попыталась (или была вынуждена) адаптироваться к новым обстоятельствам.
На протяжении 70 с лишним лет партийно-советского господства элитарные структуры и группы пережили ряд существенных трансформаций.
От революционной элиты к бюрократической номенклатуре
Главная ось всей социальной организации (и, если так можно выразиться, главное социальное изобретение советской эпохи) – всепроникающий механизм партийно-советской номенклатуры, то есть жестко построенной вертикали власти, влияния и контроля во всех областях жизни общества, опиравшейся на назначенных «сверху» и ответственных только перед ним, «верхом», порученцев. В отличие от иных иерархических социальных систем (например, феодальных), самый верхний уровень господства имел возможность непосредственно проводить свои требования на любом уровне вертикали. Формально в стране были задекларированы несколько якобы автономных вертикальных иерархически-властных линий – партийных, советских, «общественных» (профсоюзных, научных, а также специализированных в хозяйственной деятельности, военной, охранительной и пр.), но реальное значение имела лишь одна, именовавшаяся «партийно-государственной» (при том что «госпартия» политической партией не являлась, а «партгосударство» не было государством в собственном смысле этого слова). Все же прочие линии использовались как источник ресурса для поддержки и прикрытия универсальной «оси».
В период захвата и первичной организации власти в качестве революционной элиты выступала группа, консолидированная общими символами и кумирами, энергией разрушения и унаследованной от «второго эшелона» радикальной интеллигенции готовностью жертвовать чужими и собственными жизнями во имя предполагаемых возвышенными целей. На протяжении ряда последующих переломов эта элита, практически полностью сменившая свой персональный состав, трансформировалась в разветвленную систему все более коррумпированной номенклатурной бюрократии.
В некоторых аспектах («назначенство», контроль сверху, коррумпированность) советская номенклатура выглядела преемником традиций старого чиновничества, но уже по масштабам численности, претензий, самоуверенного цинизма и безграничного страха перед начальством значительно его превосходила. В отличие от своих предшественников, «новая» номенклатура не имела ни своей истории и традиций, ни возможности для консолидации, ни малейших гарантий от постоянно грозивших ей «чисток» и расправ. Полностью беспомощная перед произволом верхов, она не способна была поддерживать сплоченность собственной корпорации или сохранять какие-то привилегии. Не обладая сколько-нибудь цивилизованными нормами внутригрупповых отношений, номенклатура в этом плане вынуждена была довольствоваться примитивным регламентом волчьей стаи или криминального сообщества. Доминирующим оставался корпоративный страх («все из-за одного», «каждый за себя») и т. п., стимулировавший массовое доносительство и отречение от «захромавших уток», а тем самым и постоянно возрождавшуюся ситуацию корпоративного заложничества.
Существенный момент длительной эволюции постреволюционной номенклатуры – прагматическое «приземление» претензий и уровня самих функционеров. За несколько десятилетий произошел переход от героического образца подвижников мировой революции (Сталин сравнивал партийные кадры с орденом меченосцев) до мелко-суетливых столоначальников разных уровней, заинтересованных в благорасположении начальства и сохранении своих привилегий. В период «застоя», старческого угасания системы господства вышли на поверхность обыденные (корыстные и статусные) интересы иерархии номенклатурных функционеров. Ориентации на «европейские» рационально-бюрократические стандарты в этой среде никогда не просматривалось. А нагловато-хамский стиль отношений с нижестоящими или «недопущенными» к привилегиям власти постоянно служил прикрытием комплекса собственной неполноценности.
Чтобы поддерживать собственную (по меньшей мере воображаемую) устойчивость, вертикаль власти нуждалась в ресурсах поддержки разного рода, прежде всего институциональной.
Такой «ближайший» к власти ресурс неизменно поставляли силовые и карательные институты (армия, службы безопасности, суд – прокуратура – ГУЛАГ), чьей функцией было поддержание мобилизационной напряженности в обществе. Но приближенность к власти, оплачиваемая набором привилегий, никогда не означала самостоятельного участия силовых структур в принятии властных решений. Иерархии военного, полицейского и тому подобного управления действовали при властной вертикали. Пресловутые сталинские «чистки» верхушек военных и карательных ведомств были направлены на то, чтобы держать их в таком же состоянии неуверенности, экзистенциального и статусного страха, в котором жила вся номенклатурная бюрократия. (Легенда о попытке карательного ведомства подчинить себе госпартийную вертикаль была пущена в ход Н. Хрущевым, чтобы отвести эффект разоблачения сталинизма от партийной вертикали – и от самого себя.)
Демонстративным апофеозом номенклатурной милитаризации явилась начатая в разгар войны, в 1943 г., затея с переодеванием всей высшей партийной элиты в генеральские мундиры (главнокомандующего – в маршальский). Несколько лет спустя, в конце 40-х, была торжественно введена табель о рангах, мундирах, погонах и пр. уже для целого ряда профессий (от георазведки до почтовой службы).
На поверхности официальной общественно-политической жизни советского времени постоянно (особенно, кстати, в канун очередных ее переломов – в последние годы правлений Сталина, Хрущева, Брежнева) кипели «идеологические» страсти, обличались отступники, провозглашались требования сохранять верность учениям отцов-основателей и – что всегда было более важным – очередным руководящим установкам. Многочисленная армия идеологических надзирателей на всех уровнях властной вертикали (в партаппарате, СМИ, образовательных и ученых заведениях) призвана была следить за соответствием принятым стандартам написанных, произнесенных, даже воображенных текстов. Чиновники общественных наук, активно участвовавшие как в тайных расправах над неугодными, так и в показных мероприятиях, претендовали на статус «идеологической» элиты, для которой в номенклатурной системе не было места. Функционеры идеологического профиля, как правило, занимали второстепенные позиции во властной иерархии («третьи секретари» в парткомах разного уровня). Формально, согласно официальным декларациям, режим опирался на «научную идеологию», на деле же использовал ссылки на «классические источники» в соответствии с конъюнктурными нуждами. Поэтому не вполне адекватна распространенная в советологической литературе характеристика партийно-государственного правления как «идеократии». Апелляции к идеологическим формулам нужны были для самооправдания властной вертикали, а также для поддержания атмосферы единомыслия в обществе (особенно среди его более активной и молодой части).
Каждый шаг по устранению одиозных черт сталинского режима, нормализации отношений с Западом и пр. неизменно происходил под страхом общей катастрофы системы. И наступления ответственности ее лидеров за преступления прошлых лет. Отсюда постоянные акции «сдерживания» критики (показательна череда событий знаменательного и трагического 1956 г.). Ослабление политических репрессий пытались сбалансировать укреплением «идеологической дисциплины» (выражение В. Ягодкина, московского идеологического погромщика начала 1970-х), борьбой с «ревизионизмом», «формализмом» и пр. в среде художников, литераторов, экономистов, философов, социологов и т. д. В сталинские годы все и всяческие прегрешения, приписываемые неугодным, объявлялись политическими преступлениями – со всеми положенными последствиями. А в менее жестокие времена на поверхность выступали идеологические мотивы проработок. Реальная функция карательных акций, массовых или избирательных, оставалась той же – поддержание атмосферы послушного страха и трепета в обществе.
Приложением к «цеху» идеологической поддержки примерно с конца 1920-х гг. служили такие насквозь идеологизированные дисциплины, как официально признанные философия, история, политэкономия и пр., со своей иерархией чинов и званий и деятельностью, слабо напоминающей старомодно-академические области знания. Доминирующими занятиями в этой среде были непрерывные клятвы на верность руководящим силам, а также нескончаемые садистски-сладострастные обличения уклонистов, отступников и прочих супостатов в собственных рядах. Обычной практикой было возвеличивание и ниспровержение временных авторитетов (то есть лиц, таковыми назначенных), превращаемых в мальчиков для показательного битья. После того как поводы и методы подобных акций были преданы забвению, главным плодом долгой (два-три «рабочих» поколения) деятельности такого рода оказалась относительно многочисленная группа тогдашних выдвиженцев на влиятельные (вплоть до сегодняшнего дня) посты в различных учреждениях социально-научного профиля.
Фантом интеллигенции
В первые советские годы, примерно до середины 30-х, интеллигенция (точнее, люди и традиции, оставшиеся от устаревшей структуры) нарочито третировалась как «чуждое» явление, профессорских детей не хотели принимать в комсомол и ограничивали при поступлении в институты, «интеллигентские привычки» (даже ношение галстуков) высмеивались. Провозглашена была ставка на формирование «своей», рабоче-крестьянской литературы, «красной профессуры» и т. д. Серия карательных акций против «чуждой интеллигенции», начатая в 1921–1922 гг. (из опасений, как бы нэп не стал могильщиком режима), увенчалась травлей технических специалистов (после сфабрикованного «дела Промпартии»), научных кадров («академические» процессы начала 1930-х) и, наконец, приведением к общему (государственному) знаменателю разнообразия стилей и организаций литераторов, художников и т. д. Со второй половины 30-х гг. прямые репрессии и угрозы (политика «кнута») дополняются политикой «пряника» – снятием ряда ограничений для выходцев из интеллигентской среды, установлением высоких гонораров, доступом к дефицитным благам (квартиры, дачи, автомобили, зарубежные поездки и встречи – разумеется, под бдительным контролем соответствующих органов, цензуры и спецподразделений в самих «творческих» организациях). Ценой признания рудиментарной интеллигенции со стороны власти явился полный отказ от свободы творчества и мысли в пользу «служения» интересам властной вертикали (точнее, выслуживания перед ней). Чем бы ни оправдывалось (субъективно или публично) такое отречение от ценностей, консолидировавших некогда «старую» российскую интеллигенцию, – интересами спасения ценностей культуры, стремлением цивилизовать отношения между властью и народом, просто желанием выжить, – оно означало полную идейную и моральную капитуляцию, сделавшую невозможным существование интеллигенции как социального феномена. Фактическое превращение «творцов» в государственных служащих покончило с историческим противостоянием интеллигенции и бюрократии. (Стоит напомнить, что требование посадить людей «творческих» профессий на казенное жалованье, дабы не допустить опасного вольнодумства с их стороны, прозвучало из уст Хрущева в 1963 г., и газеты уже начали публиковать поток восторженных откликов, но затея оборвалась на полуслове – как и породившая ее противоречивая эпоха.)
«Свободно парящий разум» (die freischwebende Intelligenz К. Маннгейма), или творческий дух, был недопустим в системе тотального господства. Но некий «интеллигентный» фасад режиму требовался – для самоутверждения и в какой-то мере для международного имиджа. Поэтому властная вертикаль нуждалась не только в постоянном восхвалении своих достижений и вождя (то есть в клакерских аплодисментах, которые обычно обеспечивала «творческая» обслуга среднего уровня с помощью «массовой» литературы, музыки, песен, репродукций и пр.), но и в символической поддержке (или хотя бы лояльности) со стороны мастеров культуры высшего класса. Последним приходилось исполнять функцию ампирного фасада режима.
Специалисты и ученые: под колпаком и на содержании у власти
Положение научного сообщества и ученых («научных кадров») в партийно-советской системе – особая и весьма болезненная проблема. Востребованными были преимущественно прикладные разработки, дающие непосредственный эффект для ВПК, конкурентоспособные и экономически выгодные; «чистая» (фундаментальная) наука и ее творцы почти всегда оставались в загоне. Избирательно поощряя «нужных» специалистов, власть имущие не допускали самоорганизации и взаимной поддержки в научной среде, тем более коллективного сопротивления произволу (можно вспомнить постыдную кампанию 1967–1968 гг. против «подписантов»). Время от времени устраивались идеологические набеги на различные научные отрасли – от математики до биологии, физики, технической кибернетики и пр., причинившие огромный вред целым сферам научного знания и целым поколениям их работников. Глубоко оскорбительным для достоинства серьезных ученых было приравнивание к ним (по статусу) далеких от науки активистов и надсмотрщиков от «общественных» дисциплин. Жесткий бюрократический контроль приводил к тому, что в роли ученых мужей нередко выступали чиновники от научных ведомств, организаторы престижных проектов и просто шарлатаны (типичный, но далеко не единственный пример – «лысенковщина» 50 – 60-х гг.). «Академический» статус науки и ученых – даже в той ограниченной мере, в какой он сохранялся в советское время, – неоднократно в 30-е, 60-е, да и в последние годы оказывался под угрозой.
Необходимость постоянно приспосабливаться к идеологическому прессу и бюрократическому контролю всегда создавала почву для коррумпирования самой среды людей интеллигентных профессий – как нравственного, так и денежного. В принципе, «заказной» отзыв на диссертацию и «заказной» судебный приговор – феномены одного порядка, так как делаются вопреки закону, нормам профессиональной грамотности и этики, за вознаграждение или под страхом наказания. Все более распространенная в последние годы практика денежного подкупа соответствующих функционеров подготовлена нравственной деградацией их цеха в прошлом.
«Демонстративная элита» советского образца
Приметная черта наглухо закрытой или просто отсутствующей общественно-политической жизни советского времени – списки «знатных людей» из различных слоев (академиков, спортсменов, музыкантов, передовиков труда и т. д.), которые заполняли президиумы, награждались орденами, становились депутатами и лауреатами, по мере надобности выступали от имени «общественности» с горячим одобрением или с гневным осуждением тех, кого следовало в данный момент одобрять или проклинать. Никаких реальных действий или собственных мнений от этих людей, конечно, никто не ждал. Списки «знатных» (в позднейшей иронии – «сталинских соколов») контролировались и изменялись в соответствии с конъюнктурой.
Объяснить эту сугубо показную суету в рамках каких-либо рациональных моделей общественной жизни нельзя. Это компонент театра масок, в подлинность которых никто не верит, но почти все согласны с тем, что «так нужно». Со сменой исполнителей и технических средств (ТВ + Сеть) многие роли и приемы того театра продолжают существовать, например, под вывеской казенно-общественных учреждений: потребность в показной поддержке власти показной элитой сохраняется.
Массовое сознание и элита советского времени
По косвенным свидетельствам можно составить лишь приблизительную картину восприятия населением назначенных элитарных групп тех лет. Политическая верхушка, узкая и как будто тесно сплоченная группа «приближенных», явленная народу в повсеместно тиражируемых портретах и списках, представлялась бесконечно удаленной от повседневных забот людей и от образов поведения «обычного», знакомого людям низового начальства (характерное впечатление от внезапного падения Л. Берии: «стены закачались…»). Созданный в середине 1930-х культ верховного вождя, по всей видимости, эмоционально воспринимался на среднем уровне активистов, допущенных к власти, и довольно безразлично – на массовом, потому и прощание с ним прошло спокойно.
На протяжении полутора-двух десятков лет общество воспитывали в духе всеобщего убогого эгалитаризма, презрения не только к богатству, но и к жизненному комфорту. В поисках действенных стимулов к труду в 30-е гг. шаг за шагом внедряются различные (символические и материальные) меры поощрения «ударной» работы и «выдающихся» достижений. (Шоковый шаг: установление размера сталинских премий I степени в 300 тыс. рублей при средней зарплате менее 100 рублей – пролог к созданию значимой иерархии привилегий в самой вертикали власти.)
Массовая зависть населения к знатным («назначенным») и богатым не перешла в какие-либо активные установки отторжения от пирамиды привилегий, но подпитывала готовность участвовать в кампаниях доносительства и травли, направленных против ее уже поверженных функционеров.
Некоторые итоги: неустойчивость советских «эрзац-элит»
За семь десятилетий своего существования партийно-советский режим не создал ни эффективных институциональных структур, ни устойчивых социальных конструкций, пригодных для исполнения опорными элитами своей роли. Произвол и «назначенство» (иерархия временщиков и самозванцев на вертикали власти) обрекали на непрочность практически любые, даже благие намерения и метания. Приближенность к власти или относительно высокий потребительский статус (допуски к благам) не могли создать «настоящую» элиту (традиционную, «достижительскую» или рационально-бюрократическую), консолидированную и уверенную в своем статусе и престиже. В лучшем случае можно было говорить о подобии элит или заменителях, эрзац-элитах власти и различных сфер. Разлом и крушение советской системы за последние 15–20 лет обнаружили ограниченность этих структур со всей очевидностью.
Расцвет и крушение иллюзий «перестройки»
Главная иллюзия инициаторов, а отчасти и сторонников «перестройки» – представление о возможности коренным образом изменить общественно-политическую систему страны «сверху», то есть с помощью госпартийного механизма. По сути дела, речь шла о бюрократической модели преобразования (косвенный ремейк старой модели бюрократической модернизации). Как стало ясно уже примерно за год до августа 1991 г., влияние М. Горбачева на этот механизм оказалось слишком слабым, а сам механизм – совершенно непригодным для выполнения такой задачи. В годы гласности получили известность интеллигентские движения и клубы, выступавшие за «демократическую», или «радикальную», перестройку, они пользовались некоторым благорасположением власти, но значительного влияния не имели. Горбачев опирался на сравнительно небольшую реформаторскую группу из высшего партийного руководства, не решаясь вырваться из пут партийного аппарата и пойти на создание движения, партии или системы реально действующих государственных институтов демократического типа.
Конкурентные выборы и открытая трибуна депутатских съездов обозначили высшую точку «гласности», но не создали новой системы власти или новой расстановки сил на социально-политическом поле. Публичный характер приобрели околополитические дискуссии в СМИ и на тех же съездах, но не принятие политических решений.
Вторая иллюзия «перестройки» – мелькнувшее было в конце 80-х представление о формировании во взбудораженном обществе новой элитарной структуры на основе коалиции «реформаторской» части партийной верхушки с демократически настроенной интеллигенцией (а также с некоторыми движениями за национальные права и свободу вероисповедания). Вскоре, однако, стало понятно, что значение и прочность такой коалиции сомнительны. Интеллигентская демократия была не у власти, а только при власти – в качестве публицистов, ораторов, реже советников или консультантов, а кроме того и сверх того – в качестве демократического прикрытия бюрократических, а потом и диктаторских способов действия. Позже эти функции обесценились. Как известно, в моменты романтического увлечения «перестройкой», чтобы снискать славу демократов, было достаточно ярких публицистических выпадов против партийной монополии на власть, разработанные программы и платформы не требовались. (Должно быть, во всех известных истории радикальных поворотах во всех странах уровень имевшихся надежд значительно превышал уровень средств для их реализации…)
В ситуации политических кризисов «перестройки» (примерно с 1990 г.), а в дальнейшем – кризисов наследовавших ей властных структур (1993–1994 – 1996 гг. и т. д.) «верхи» все чаще и откровеннее обращаются за поддержкой и опорой уже не к либерально-интеллигентским группам, а к силовым институтам, то есть к тем, кто в наибольшей мере сохранил свою организацию и направленность после падения советского государства. А либерально настроенным интеллигентам, так и не сумевшим организоваться в самостоятельную общественно-политическую силу, приходится с трудом убеждать самих себя в неизбежности – во избежание худшего – хотя бы условно поддержать какие-то инициативы или кандидатуры от существующей власти. Самый наглядный и поучительный пример – ситуация вокруг президентских выборов 1996 г., фактически проложившая дорогу к смене политического режима после 1999 г.
Новая обстановка: элитарные группы при вертикали власти
Определившаяся в последние годы (ко второму президентскому сроку В. Путина) ситуация в российском обществе суммирует и как бы собирает в один узел накопившиеся проблемы, не решенные ранее. Сдвиги в экономическом положении страны, обусловленные конъюнктурой мирового энергетического рынка, позволили снизить уровень напряженности в ряде болевых точек первых «переходных» лет (невыплаты зарплаты, высокая инфляция) и повлиять на рост оптимистических настроений и ожиданий в обществе, прежде всего в его элитарных слоях и группах.
Общественное недовольство и потенциал протеста сосредоточены преимущественно в менее продвинутых сегментах населения (пожилые, менее образованные). Более активные слои общества, в какой-то мере преуспевшие в годы перемен, оказываются и более лояльными к существующей власти и ее носителям.
Неудивительно, что в таких условиях значительная часть представителей элитарных групп связывает свои надежды с государственной властью и государственной экономикой, с государственной поддержкой науки, образования, здравоохранения и т. д., почти не смущаясь тем, что само государство шаг за шагом утрачивает демократические претензии и приобретает черты абсолютистского деспотизма. Ожидание милостей от власти и страх их утратить по-прежнему разобщают и губят российские прогрессивные элиты.
Заметные перемены в последнее время наблюдаются не столько в соотношении социальных групп, сколько в их составе и генеалогии. В годы перестройки и первоначальных реформ (при Горбачеве и Ельцине) у власти находилась группа выходцев из высших эшелонов партийно-советской номенклатуры, под влиянием обстоятельств вынужденная более или менее радикально изменять свои общественно-политические ориентации. Сейчас эта группа практически полностью покинула политическую сцену, ее место заняли представители другого поколения, лишенные необходимости переживать (или демонстрировать) свой разрыв с советскими стереотипами поведения и сознания. Демонстративный идеологизм партийно-советских времен и последовавшие поиски «идеологии перестройки» при Горбачеве и «национальной идеи» при Ельцине уступили место столь же показному универсальному прагматизму (под прикрытием которого, впрочем, нередко выступают глубоко укорененные установки великодержавности, мирового противостояния, «партийного» единомыслия и пр.). Наиболее подходящими носителями такой «антиидеологической» идеологии выступили кадры менее всего затронутых веяниями перемен исполнительских служб старого госаппарата, принесшие с собой профессиональные атрибуты – стиль спецопераций, агентуру, маски, скрывающие лица, неограниченные силовые приемы и т. д.
Изменения внутри элитарных (высокостатусных, высокообразованных) групп также в значительной мере связаны со сменой поколений и стиля деятельности. Уходят или отодвигаются на второй план люди, которым приходилось выдерживать идеологические и бюрократические «накаты» советского периода, а в начале новых времен разделять демократические надежды. Выдвигаются люди, не знавшие такой общественно-политической школы и связывающие свое статусное и материальное возвышение уже с прагматическими обстоятельствами пореформенных лет.
После ликвидации зачатков публичной политики значимые перемены произошли в функциях СМИ и деятельности групп, относимых к медиасообществу: место обличительной публицистики заняли шоу и политреклама, провозвестники перемен вытеснены цинично-технологическими манипуляторами новой формации.
При отсутствии «госпартийной» монополии на кадровую политику чиновникам околовластных структур (свите, обслуге) приходится дилетантски, «вручную» распределять привилегии и тумаки во всех углах государственного хозяйства, в том числе и по отношению к элитарным группам. Как и в «добрые» старые времена, жесты внимания и адресные подачки одним сочетаются с усилением контроля над всеми, а также с установками на практическую (согласно новейшей моде – и на экономическую) эффективность. Наглядный показатель унизительного презрения власть держащих к «высоколобым» – использование их в составе декоративных прикрытий (например, «Общественной» палаты).
Вряд ли можно сегодня – и в обозримом будущем – ждать сенсационных поворотов в настроениях элитарных (как и прочих) групп российского общества. Повторно вступить в бурный поток «перестроечных» надежд никому не удастся. (Условного «нового Хрущева» ждали 20 лет, «нового Горбачева» как будто не ждет никто.) Факторами изменения обстановки могут стать эрозия нынешних массовых надежд, исчерпание материальных и моральных ресурсов существующей расстановки общественных сил. Обстоятельное изучение динамики общественных настроений важно для понимания тенденций назревающих перемен и готовности к ним различных социальных групп.
2006Воспоминания
«Научная жизнь – была семинарская жизнь»[505]
– Если говорить о моем пути в науку, то никакой особой подготовки, никакой школы у меня не было. И я не уверен, что исходные данные что-нибудь освещают. Я провинциал, приехал из Винницы учиться в Московский университет. Приехал с наивной надеждой, что на философском факультете действительно станешь философом.
– Юрий Александрович, из какой вы семьи, кем были ваши родители?
– Мать журналист, отец литератор. Интерес к философии – наивный интерес, просто из домашней библиотеки. У нас были тома истории философии; первый я прочитал в девятом классе, но на Аристотеле запутался – не сумел разобраться в его категориях. Однако было представление, что в МГУ чему-то научат.
Надо сказать, что к учебе на философском факультете меня побудила вовсе не любовь к философии. Просто было тогда – странное, мальчишеское – представление, что есть места, где должны говорить «настоящую правду». Было ощущение того, что газеты, школа, пропаганда врут, но делают это потому, что так «надо», а вот где-то и кто-то должен знать подлинную правду. Кто именно? Как мне тогда казалось – либо дипломаты, либо философы. Вариант поступления в международный вуз высмеял один старый друг семьи, причастный к этой сфере. Остался вариант философского факультета, туда я и подался летом 1947 года. Разочарование в том, чему, кто и как нас учил, пришло довольно быстро – но не в самой студенческой жизни. В те годы через факультет проходил «сильный пучок» интересных людей – ни раньше, ни позже, кажется, такого «парада планет» не было. Но со многими я сходился значительно позже.
– В силу особенностей характера?
– Беда моя была в том, что у меня не было связей в московских интеллигентских кругах. Первоначально я жил в общежитии, там в большинстве были ветераны. В наше время примерно половина набора состояла из демобилизованных из армии. У них был свой стиль, свое отношение к жизни. Это влияло и на меня.
Меня восхищали простые прямые парни, прошедшие фронт и где-то увлекшиеся тем, что тогда называли философией марксизма. Это мне долго мешало самостоятельно думать и сомневаться в том, в чем давно сомневались другие.
– А каков был круг ваших интересов?
– Интересовался я социально-политическими вещами, философия в чистом виде меня не заинтересовала и даже наоборот – породила отвращение (правда, через много лет я сам к ней стал обращаться). А во время учебы я практически занимался проблемами социальных изменений.
– Какие это годы?
– Университет я кончал в 1952 году, аспирантуру – в 1955-м. В конце обучения стал интересоваться Китаем (там тогда были перевороты), наполовину выучил язык и писал диплом и диссертацию об особенностях китайской революции, китайского общества. Это свело меня с проблемой азиатского общества, и через Карла Витфогеля я попал к Веберу. Вот такие были у меня выходы в теорию. Влияние каких-либо философских школ я не могу заметить, потому что чистой философией, повторю, не любил заниматься. Кое-что урывками слышал о социологии, которой нас не обучали, и никакой специальной литературы у меня не было.
Конечно, интересы и позиции формировали не ученье и не научные занятия, а прежде всего потрясения 1953–1956 годов – «оттепель», потом XX съезд, мелькавшие надежды и неосуществимые ожидания. Я не скоро понял, что подлинной правды, за которой пришел в Москву, ни у кого и нет. В 1948–1949 годах мне казалось важным и интересным следить за происходящим в «странах народной демократии», чтобы понять, как и что было или могло быть у нас. Потому и появился интерес к Китаю.
Позже я работал в Институте китаеведения (был тогда такой институт)[506], поехал в Китай и там впервые пытался заняться социологическими исследованиями. Правда, массовые обследования мне проводить не позволили, но некоторые самодельные (примерно на десяти предприятиях) я сделал. Дальнейшая работа по Китаю стала невозможна из-за обстоятельств внешнеполитического плана. В 1960 году я перешел в Институт философии и поначалу занимался социологией религии. На эту тему у меня была диссертация и книжка «Социальная природа религии» (1965).
Потом стал организовываться осиповский отдел[507], образовали сектор методологии – и я туда перебрался. Вот это и есть начало более серьезной работы в социологии и собирании людей, с которыми я и сейчас работаю. На базе отдела создали ИКСИ, там нас в секторе теории было примерно 12–14 человек (с аспирантами), и мы старались тогда развивать традиции самостоятельного анализа социологии, а также смежных дисциплин.
– Обстановка в институте способствовала такому самостоятельному анализу?
– ИКСИ того первоначального периода – странное явление на фоне казенно-академических заведений типа институтов философии, истории, экономики и т. д. Там служили, исполняли планы, писали отчеты, а тут (не все, но все же актив) что-то искали. Правда, разное. Кто-то – чины (в те времена пробиться к титулу какого-нибудь членкора было трудно и казалось почетным). Кто-то видел в новом институте инкубатор для выращивания прогрессивно-политических (по тем временам, то есть партийно-либеральных, умеренно-рыночных и пр.) концепций. Я тогда в политический прогресс на нашей ниве не верил и рассчитывал только на то, чтобы развить интерес к серьезному социальному знанию, – полагая, что оно пригодится через 30 или 50 лет будущим поколениям. Были тогда (и позже, в другие времена) споры с коллегами и приятелями о том, стоит ли заниматься книжными премудростями зарубежного происхождения, которые даже самое либеральное начальство не поймет. Думал (и думаю), что стоит, хотя бы для того, чтобы не повторять чужих пошлостей. Но, наверное, я недооценивал тогда перспективы перемен, которые потом свалились на голову.
В те же времена, с осени 1966 года, начался наш регулярный семинар на темы социальные, теоретико-экономические, семиотические, культурологические, исторические и прочие, который с различными перипетиями продолжался довольно долго. Это был не некий «теневой» семинар, а вполне обычный, нормальный. Скорее, это была главная форма жизни сектора – еженедельно, иногда и чаще собираться для обсуждения тех или иных проблем. Семинар имел достаточно большой авторитет, потому что у нас бывали практически все, кто считался в те годы наиболее яркими людьми. Скажем, Пятигорский, Аверинцев, Гуревич, Баткин, Иванов, Шляпентох, Щедровицкий…
– У Щедровицкого в то время был свой семинар?
– Да, я скажу об этом позже. Я немного участвовал в его семинаре и отчасти взял за образец саму идею, что научная жизнь – это семинарская жизнь. У меня семинар никогда не был административными заседаниями, хотя был вполне официальной структурой (в отличие от неофициального у Щедровицкого). По сути, он стал как бы продолжением семинара, существовавшего еще в Институте философии (по философии истории).
Работа эта к концу 60-х годов затруднилась по обстоятельствам общего порядка, для меня довольно случайным. Случайным, потому что я был приглашен в университет читать лекции по социологии на факультете журналистики (где-либо еще таких лекций не читали).
Меня это заинтересовало. Примерно года четыре я читал там курс лекций собственного изобретения – довольно примитивный, популярный. Так бы, видимо, это и продолжалось, если бы не пришла в голову мысль его издать. Издали в виде двух книжечек с помощью ИКСИ (уже в 1969 году)[508]. И очень скоро (тем же летом) это вызвало скандал; собственно, стало формальным началом шума. Сами по себе эти вещи такого шума не стоили, я им особого значения никогда не придавал. А шум получился, потому что в течение трех-четырех лет (тогда и можно было работать) в стране было междуцарствие, некий свободный промежуток, когда то ли не до того было, то ли власти еще не определились – один (Хрущев) ушел, второй (Брежнев) еще не отстоялся у власти; а в 69-м, после Чехословакии, власти, собственно, определились, и началась серия зажимов в разных областях, в частности волна дошла и до ИКСИ. Им очень не нравилось, что во главе института стоял главный либерал тех времен [А.М.] Румянцев и что там можно было работать, спорить, думать. Само по себе – ничего особенного, но отличавшееся от принятых тогда стандартов.
– Лекции стали поводом?
– Да, «им» надо было прикрутить всякую чуть-чуть либеральную мысль и прикрутить ИКСИ, который вообще не нравился нашим официозным философам. Считалось ведь, что нет никакой социологии, отличной от философии; философия – это истмат и диамат, и ничего другого быть не может и не должно, все будет извращением. Потому и история с лекциями стала столь скандальной и приобрела довольно странный характер. Ко мне приходили люди, вроде бы мои добрые начальники и просто приятели и говорили: «Ты, главное, веди себя спокойно. Иначе всем будет плохо. Что-то признай, в чем-то покайся. Тогда мы останемся жить, сохраним институт, вместе будем работать дальше, все перемелется».
Все это искажало картину, потому что, с одной стороны, нельзя было не считаться с людьми, дело ведь было не во мне лично; с другой стороны, – не пойдешь и против себя. Поэтому я вел себя тогда, к моему сожалению, достаточно сдержанно. Очень мало отвечал по существу, хотя отвечал. Было несколько попыток сказать, что в конце концов решительно ничего злодейского в лекциях нет. Есть некоторые методические недочеты, что-то недостаточно отредактировано, есть двусмысленности, может быть. Например, была одна популярная лекция на тему о сложности личности и примитивности общества (грубо говоря, так). И там содержалась фраза, которая жутко «цепляла», вела к скандалу: что в наше время личность подвергается разного рода давлениям – со стороны власти, массового общества, рынка, и танками пытаются ее задавить…
Фраза эта была сказана в 1966 году и не заключала политического смысла. Но в 1969 году она была расшифрована как «чехословацкая» фраза, и отсюда шло многое. Потом стали говорить, что я допустил идеологические и политические ошибки. Или была в этой книжке страница, где сравнивались Гитлер и Сталин, причем достаточно сдержанно. В основном обыгрывалось одно высказывание, которое почти буквально совпадало у обоих: что человек – ничто, а масса, народ – все, «народ бессмертен». Не знаю, кто первый это произнес или «позаимствовали» друг у друга, важна сама мысль. Еще что-то, видимо, «цепляло», но критиковали ведь не за то, что имели в виду, а за другое.
– Юрий Александрович, говорят, что главным инициатором этого шумного обсуждения был В.Н. Ягодкин. Или кто-то еще за ним стоял?
– Да, Ягодкин. В то время он был секретарем парткома МГУ и наводил на весь университет много страха. Известно было также, что он пользовался поддержкой властей, потому что начал делать карьеру (он стал московским идеологом) не без такого момента, как именно критика моей деятельности. Ну, последовал целый ряд взаимосвязанных и друг друга подогревающих событий. Устроили обсуждение лекций в разных местах. Главным было – в Академии общественных наук осенью 1969 года. В течение недели велась «операция» с множеством народа и большим шумом. В основном обвиняли в том, что мы протаскивали всякие «отклонения»[509]. Я еще работал в университете, Ягодкин поднял скандал, много чего навесил на декана факультета журналистики Я.Н. Засурского (он и сейчас декан), заставил обсудить всю эту историю на парткоме. Само собой разумелось, что я должен уйти из университета. С некоторым сопротивлением, но мне пришлось принять тогда все эти условия. Потом было обсуждение у нас в институте, высказывались всякие упреки, наше руководство признавало, что оно недоглядело, «навесили» выговоры – на меня тоже.
– Партийный?
– Да, партийный выговор. Он у меня есть в коллекции. Вот создали такую шумную историю. А дальше… Дальше мы продолжали работу. Сектор сохранился, только печататься не давали.
– Это было официальное распоряжение или негласное – никто не решался печатать?
– Я никогда не слышал, что было какое-то распоряжение. Просто боялись. В «Вопросах философии», самом таком дружеском по отношению к нам органе, главным редактором был Иван Фролов, тогда молодой и считавшийся прогрессивным. Он сказал, что ни строчки против Левады не напечатает, но и его самого тоже печатать не будет (или не сможет). И сдержал оба эти обещания. А больше и негде было печататься. Были предложения изобразить какое-то покаяние. Я этого не делал никогда, с начальством сохранялась некоторая напряженность. Но непосредственно трогать нас в институте не решались – пока не ушел Румянцев. В 1971 году он ушел, фавор его в ЦК закончился – Суслов его невзлюбил, и Румянцев очень обиделся. Какое-то время был промежуточный период – исполняющим обязанности директора стал [Н.И.] Лапин. Но он ничего не решался делать: пакостить не хотел, а выкрутиться из положения не мог. Летом 1972 года пришел [М.Н.] Руткевич. Тогда он имел и славу, и силу главного погромщика социологии, он на этом делал карьеру, для чего специально и приехал из Свердловска. Стало ясно, что нам тут не жить, надо уходить. Я ушел. Потом все те, кто работал со мной, тоже разошлись в разные места.
– Юрий Александрович, а были какие-то конкретные причины, чтобы уходить? Или это назревало медленно, постепенно?
– Нет, все происходило довольно быстро. Ну, я знал о настроении, поведении Руткевича и сразу ему сказал, что думаю уйти. Он ответил, что уже договорился с [вице-президентом АН СССР П.Н.] Федосеевым о том, что я уйду. Сказал это с привычной ухмылкой, по-моему, с большим наслаждением. Поскольку за мной была слава злодея и висел выговор, уйти мне было не так просто, в некоторые места отказались брать. Потом помогли устроиться старшим научным сотрудником в ЦЭМИ, к Н.П. Федоренко (в частности, помог С.С. Шаталин, он тогда был заместителем директора). Первоначально со мной должны были перейти еще несколько человек, мне это обещали. Но потом не дали даже секретаря. Велено было, чтобы я был сам по себе. И вот так «сам по себе» я работал там 16 лет, занимался чем-то вроде социологии экономического развития, смотрел за тем, что делают экономисты. И все это время работал наш семинар. Каждые две недели где-нибудь мы собирались. Семинар был то узкий (помещался в одной комнате), то вырастал до нескольких сот человек. Тогда происходил какой-нибудь скандал, приходилось менять место. В ЦЭМИ нас то терпели, то боялись. Федоренко как-то сказал: «Один институт из-за вас чуть не разогнали. Пожалуйста, поосторожнее».
– А кто посещал семинар?
– Семинар был для своих людей, тех, что работали вместе и сейчас тоже работают вместе. Но временами, когда мы «разбухали» и появлялось помещение, набиралось 200–300 человек. Самые разные люди из старых знакомых, из новых, экономисты, историки, техники, физики. Были разные варианты семинара – узкого, широкого, «квартирного» типа. Работа его практически продолжалась непрерывно. Что обсуждали? Тогда, в 1970-е годы, говорили, что существуют второе искусство и вторая наука. Второе искусство (неформальное искусство) – это театры-студии, малопризнанные писатели, поэты. Теперь все их имена известны. О второй науке можно говорить не строго, но в какой-то мере это существовало. Были направления окологуманитарной науки, которые не поощрялись. Политических течений там не было – просто были течения, отличавшиеся от признанных. Прежде всего, конечно, их представлял Щедровицкий. Семинарскую работу он начинал где-то в начале 1950-х годов, сначала это называлось «Теория деятельности», потом «Система деятельности». У него был несколько меняющийся актив, но большой круг людей, которые вдохновенно работали много лет. Кто-то приходил, кто-то уходил. В начале 1960-х годов я столкнулся с ним (мы когда-то учились на соседних курсах, но в то время не общались), стал ходить на этот семинар, пару лет ходил, потом мы разошлись по методологии. Но сохранили добрые отношения. Щедровицкий иногда приходил к нам, людей присылал на работу, в аспирантуру (было немало интересных людей из того круга, с которым он работал). Очень часто в разных формах он излагал свою концепцию как историю своего кружка.
Были и другие направления. Скажем, течение диалектиков – на самом деле это круг Э.В. Ильенкова, но организатором был Г.С. Батищев, у него много лет работал семинар. Были отдельные кружки – в основном связанные с формальной лингвистикой, долго не признаваемой, и семиотикой. И были не то чтобы цельные, но во всяком случае большие стремления развивать полупризнанную историческую культурологию (А.Я. Гуревич, Л.М. Баткин и некоторые другие). Наше течение продолжало традиции: приглашали самых разных людей, на перекрестке интересов строили представление, некую попытку культурно обоснованной социологии (до последних лет от эмпирической социологии я был очень далек, никогда ею не занимался).
– В какой мере это могло быть второй наукой, кружковой?
– В малой, наверное. Не могу преувеличивать, но, вероятно, какуюто нагрузку все это несло. Официальная общественная наука, официальная философия были дохлые (и сейчас, по-моему, являются таковыми), поэтому был интерес к нормальным, не идеологизированным в принципе, на западный манер исследованиям. Во всяком случае, была необходимость исследовать реальность человеческого поведения, духа, метода, мысли философии. Я сейчас встречаю людей, которые говорят, как это было тогда для кого-то полезно. Конечно, было чрезвычайно много ограниченного и наивного, не было заранее заложенного проекта. Сам я старался начитываться вместе с людьми, с которыми работал, в некотором смысле своими учениками. Что читал? В основном теоретическую социологию – Дюркгейма, Вебера, Парсонса – с какой-то примесью культурологии и иногда семиотики, больше нашей. Я не упомянул, но вы знаете, что была семиотическая школа, имевшая ответвления по стране. У нас с ними были очень близкие отношения, мы обменивались идеями, докладами. И она сыграла тогда большую роль в формировании людей, знающих и умеющих думать оригинально. Но особой науки, по-моему, не создали. Вот, собственно, все по поводу атмосферы того времени.
Дальше начались у нас политические перетряски, стало интересно следить за актуальным развитием. Появилась надежда, что удастся его как-то изучать. В 1988 году соблазнили меня перейти в только что организованный ВЦИОМ, чтобы заняться там теорией общества и общественного мнения. Я собрал тех людей, которые были близко, с которыми мы работали, включая последнее время. Так появился отдел теории ВЦИОМа. Ситуация развивалась бурно, нам, как я думаю, удается заниматься теорией очень мало: приходится щупать пульс у больного. И это довольно интересно.
– Но если вернуться к той, «семинарской жизни», не могли бы вы подробнее рассказать о тематике ваших семинаров, содержании докладов?
– Я называл некоторых докладчиков. Мы «выращивали» своих людей, но, к сожалению, многим из них пришлось уехать. Это был период, повторю, неофициального развития, когда из социологии нас разогнали. Мы собирались, где удавалось. Тогда, в начале – середине 70-х годов, началась большая эмиграция. У нас было выражение: «Такой-то человек записался в докладчики». Значит, он собирался уезжать. На семинаре выступали Пятигорский, Янов, Шляпентох – все они сейчас далеко (с разной степенью преуспевания). Был у меня такой сверхталантливый аспирант – Д.Б. Зильберман, самое яркое явление, удивительно широкого объема знаний и способностей человек. Я такого никогда ни раньше, ни позже не видел. Он мог уверенно говорить обо всем: о социологии, фрейдизме, индийском мышлении. Он уехал в Америку – здесь работы для него не было – хотя уезжать не хотел. Года четыре там проработал и погиб – его задавил автомобиль, когда он ехал на велосипеде.
Практически все наши заседания рано или поздно приводили к тому, что я спорил со всеми докладчиками. Это была атмосфера всеобщих споров. Но было интересно, и никто не обижался. Сказать, что мы что-то открыли, не могу. Была атмосфера свободного разговора на любые темы. Политической тематики у нас тогда не было, и мы ею не занимались, по крайней мере на семинарах. В этот период имели место другие движения – диссидентское, эмигрантское, правозащитное. Прямо в круг этих людей мы не входили, но среди нас было очень много лично связанных с ними.
– Не сохранились материалы тех докладов? Вы их не публиковали?
– Мы очень много записывали тогда на магнитофон. А расшифровкой занимались мало, многое не перепечатывали. Некоторые рукописи оставались, велась хроника. Секретарем сектора, а потом семинара постоянно был Лев Гудков (сейчас он заведует моим бывшим отделом). Тогда он собирал материалы, и у него много чего есть. Я толком не знаю, что именно, потому что, когда мы опять собрались вместе, времена пошли такие, что оглядываться назад было неудобно, надо было смотреть дальше, делать что-то новое. Во ВЦИОМе мы занялись новым для себя делом, влезли в него достаточно глубоко и поминать старые события просто не готовы.
– Хотя вы несколько скептически смотрите на свою деятельность в тот период, тем не менее ваш семинар был местом общения, образования социологов.
– Наверное. Я думаю, что мы собирали всех, кто пытался самостоятельно думать, знать положение дел в социальных науках. Были и такие, кто приходил просто из любопытства. Это неизбежно – двери у нас были открыты. А смотрю я на это, как вы говорите, скептически, потому что чего-то оригинального и серьезного создано не было. И весь круг идей – в основном идеи просветительские в области социологии, культурологии. Я думаю, что это было интересно не как открытие, а как движение, как способ общения, организации, вдохновения людей. Если смотреть современными строгими глазами, то здесь и наивности было много, и недостаточно образованности, потому что ведь наше поколение никто серьезно не учил. Мы сами учились всем этим предметам – плохо и мало.
Семинар, который нам удавалось вести более 20 лет, с небольшими перерывами, а точнее, трансформациями, был, как мне сейчас представляется, принадлежностью своего времени – времени старения общественно-политической системы, либеральных надежд, первых попыток прямого сопротивления, разложения официальной общественной науки. С середины 1960-х годов расцвела неофициальная или полуофициальная разновидность интеллектуального общения – семинары, чтения, конференции. Общими приметами были нетрадиционность тематики, междисциплинарность, открытость обсуждения. Отсюда и притягательность для многих. Такие семинары действовали в Москве, Ленинграде, Новосибирске, еще в нескольких центрах.
Наш семинар не был строго социологическим, да и представления о строгих границах социологического знания не было, были попытки сочетать подходы современной теоретической социологии с новыми веяниями в культурологии, психологии, семиотике и т. д. Притом чаще любительские, чем профессиональные. Там культивировалось скорее «клубное», чем «лабораторное» общение.
Для своего времени это было и естественным, и важным. «Семинарский» период, во-первых, помогал создавать новую атмосферу в социальных науках, расшатывать монополию казенной догматики, а во-вторых, собирать людей, которым хотелось серьезно и свободно думать о социальной действительности. Позже, как мне представляется, традиция неофициальных семинаров сыграла свою роль в появлении неформальных кружков и семинаров «перестроечного» типа, которые, в свою очередь, породили первые ростки нашего плюрализма, и так далее.
Некоторой параллелью может служить тогдашнее политическое движение (те же диссиденты). Если рассматривать его с точки зрения существа вопроса, то требования были очень ограниченные, сформулированные не всегда в удачной форме; но как движение оно имело огромное значение. Некоторая аналогия здесь есть – не больше.
– Вы следили за тем, что было в социологии на Западе?
– Мы читали литературу. Реального обмена не было. Реальных людей с Запада мы почти не видели. И они на нас не смотрели. Мы даже не могли предположить, что дверь откроется так широко, как сейчас.
– Какие социологические персоналии фигурировали в ваших обсуждениях тех лет?
– Вся социологическая классика. И, кроме того, современные течения типа современной культурологии, структурной антропологии. Это Леви-Стросс, Мердок, Миллер; немного психоанализа, хотя увлечения последним не было; немного лингвистики, в основном структурного плана; немного истории и теории религии. Здесь А. Пятигорский и школа Э. Гофмана к нам были более или менее близки. И школа В.В. Иванова – В.Н. Топорова, учеников Ю.М. Лотмана. Тогда была попытка организовать структуралистское движение во всех областях. Возможно, вы знаете, что в 1962 году был симпозиум по знаковым системам в Москве, вышла маленькая книжечка материалов[510]. Но на самом деле это был манифест, так как он декларировал создание новой социальной науки, построенной на точном семиотическом анализе. Было стремление и даже попытка создать институт семиотики. Все это потом забылось, а тогда было очень интересно. По тем временам каждый шаг в сторону от официальной идеологии казался чем-то значительным и интересным – одним и, конечно, опасным – другим. Сегодня посмотреть – ну, вроде бы не очень серьезно, на Западе это знают, переворота не получилось. Но люди, которые шагнули в сторону, в стороне остались. Это было полезно. Разных людей могло вдохновлять разное. Вот такое было время.
– А Мамардашвили участвовал в семинаре?
– Ходил много раз. Он не был постоянным участником, но был очень близким нашим другом. Несколько раз, например, мы обсуждали его концепцию превращенных форм (есть такая его статья в «Философской энциклопедии», она вошла в его сборники[511]). Мы тогда спорили, я не соглашался с ним (и сейчас не соглашаюсь). Но это было удивительно интересно, как и все, что делал Мераб.
Сейчас, насколько я знаю, неформальных семинаров такого типа, какие были в 60 – 80-х годах, просто нет, их время прошло, потенциал такой формы интеллектуальной жизни исчерпан. Наш семинар замер и перестал действовать вскоре после того, как его ядро получило возможность совместно заняться профессиональной работой в отделе теории ВЦИОМа; все попытки возродить семинар оказались неудачными.
Это тоже, по-моему, черта времени. Семинарская жизнь, расцветавшая в «полутьме» (полудозволенность, полузапретность, полупрофессиональность и т. д.), утратила смысл в новых условиях, когда стало возможным практически свободно работать, организовываться, публиковаться на «свету». Беда в том, что мало кто сумел – да и захотел – реально этими возможностями воспользоваться. Это уже вопрос и психологии людей, и профессиональности, и экономических, и прочих обстоятельств. Но в то же время это вопрос о судьбах определенной общественной группы, целого слоя («прослойки»). Притом не только в социальных науках, но и в литературе, культуре, публицистике, прессе – во всех традиционных видах интеллигентской активности. Это большая и серьезная проблема, ее в двух словах не изложить. Очень трудным оказался переход от периода расшатывания идеологической монополии, расширения кругозора, осторожных намеков или дерзких выходок – все это принадлежности времени, которое, в частности, было отмечено как «семинарское», – к периоду практической работы, научной, гуманитарной, да и политической тоже.
Оглядываясь назад, могу видеть множество слабостей, упущений, упрощений и прочее. Но что-то все же удавалось сделать или хотя бы обозначить «тогда», а главное же, по-моему, удалось нащупать переход к пониманию того, что происходит с нами «теперь». Мне кажется, что в последние годы мы с давними и недавними коллегами смогли описать и объяснить некоторые тенденции развития общества и человека, используя обильные эмпирические данные опросов, но также и тот мыслительный, методологический материал, который был проработан «тогда».
1996«Военную интервенцию как способ присоединения Украины население России не поддержит…»: (интервью Валентину Пустовойту)
– Разгром социологии в брежневские времена можно сравнить с разгромом генетики и кибернетики в сталинские?
– Нет, раз при Брежневе социологию «допустили» до некоторого существования. Но в конце концов встал вопрос: а вдруг люди с ее помощью научатся самостоятельно думать о том, что у нас в стране происходит? Это было бы опасно. Правда, не сажали, как при Сталине. Просто решили слишком непослушных людей от социологии «отставить».
– А в чем обвиняли социологию как науку вообще и ваших коллег в частности?
– Социологию – в стремлении быть самостоятельной наукой, которая выйдет за рамки того, что тогда считалось марксизмом-ленинизмом. А нас – в стремлении самостоятельно думать и нежелании «вкладываться» в разные директивы. Впрочем, очень скучная история, и мне ее неинтересно вспоминать.
– Хорошо, оставим. А как это выглядело лично для вас? Из института вас уволили?
– Коллегам начали угрожать, что, если они от меня не отделаются, Институт конкретных социальных исследований закроют и всех разгонят. Меня поставили в неудобное положение: понятно, что я не хотел, чтобы из-за меня пострадали другие люди.
– Они на шантаж не поддались?
– Я тогда получил выговор, но еще два года работал в институте. Было трудно публиковаться. А потом вместо [А.М.] Румянцева, который был первым директором, к нам прислали большого специалиста по разгрому – Михаила Руткевича. Я ушел. И целый ряд людей, не обязательно связанных со мной, просто серьезных ученых – ушли. А формально институт не закрыли – его переименовали в Институт социологии, решили издавать журнал «Социологические исследования». Но он потерял тогда – не из-за меня, а из-за многих ушедших людей – большую часть творческого потенциала.
– Как это сказалось на социологии как науке?
– Она стала более «тухлой». Ею начали заниматься люди, которых надо было бы держать от нее подальше. Кстати, сегодня наблюдается вторая такая волна – после разгрома научного коммунизма все эти кадры хлынули в социологию. В том числе и ее бывшие враги.
– Вы сказали, что после разгрома социология стала более «тухлой». Занимаясь ею, нужно было зажимать нос?
– Все зависело от людей. Были ученые, которые пытались серьезно работать. Да и разгром не был таким уже сокрушительным – не те были времена. Правда, кто-то уехал, кто-то приспособился, а кто-то занимался своим делом. Я пошел в Центральный экономический институт, 16 лет занимался экономической социологией. Было интересно, но это уже другая история.
– Американский драматург Лилиан Хеллман вспоминала, что после того, как ее вызвали в комиссию сенатора Маккарти, которая занималась расследованием антиамериканской деятельности в 50-х годах, многие из ее давних знакомых перестали ей звонить. И она им тоже больше никогда не позвонила. Имена многих людей исчезли из вашего личного телефонного списка в те годы?
– Во-первых, у меня тогда телефона не было. Да и квартиры тоже. С теми, с кем общался – с теми и общался. По работе, естественно, меньше. Но такого, чтобы коллеги боялись со мной контактировать, я почти не замечал. Люди просто относились к этому довольно наплевательски. По крайней мере, большая часть людей. Это, кстати, один из признаков времени 70-х годов. В сталинские времена пикнуть боялись против.
– А были среди коллег-ученых люди, которые повели себя мужественно и благородно?
– Да, были. Борис Грушин тогда на одном из обсуждений моей книги вел себя очень резко. Кстати, он один из основателей изучения общественного мнения в нашей стране. А вообще, вся эта история раздута, перетолкована. Ходила даже легенда, что на самом деле меня убрали за то, что я помогал Сахарову получать социологические материалы из нашего института. Но я тогда не был еще знаком с Андреем Дмитриевичем.
– А когда познакомились?
– Когда он вернулся из ссылки. Была создана «Московская трибуна» – политический клуб интеллигентов. Это был 1988 год. Мы там собирались, и Андрей Дмитриевич был членом бюро нашего клуба. В частности, обсуждали горбачевский конституционный проект.
– Кстати, как Сахаров относился к Горбачеву? И ваша оценка: Горбачев искренне пытался перестроить страну или просто не понимал, что делал?
– И то, и другое. Если бы он был неискренним, то понимал бы, что делал. А раз он был искренним, то не видел, что творил. Он хотел спасти положение, спасти себя, спасти партию и ее перестроить. Оказалось же, что это была такая конструкция, где тронешь один кирпичик и все обваливается. Под этим обвалом он сам и оказался.
Отношения с Сахаровым у них были сложными, об этом Андрей Дмитриевич говорил так: он меня выдвигал и он же меня одергивал; на его месте всякий поступил бы так же. Потом, когда Сахаров умер, мы провели специальное исследование о том, как люди его оценивали. (Кстати, к каждой годовщине смерти мы часть анкеты повторяем.) В частности, там был вопрос, как Горбачев относился к Сахарову. Большинство людей достаточно правильно оценили ситуацию: Горбачев старался Сахарова использовать, при этом он его побаивался, и фактически они были сложными союзниками.
– Как гонения на вас сказались на вашем отце – известном украинском писателе Александре Леваде? Кстати, как он вообще прореагировал на всю эту историю?
– Не знаю, многое ли он знал в деталях. И хотя в политических взглядах мы с ним расходились, он отреагировал спокойно: «Подумаешь, кого только не ругали».
– Что вы чувствовали, когда казалось, что райкомы партии будут существовать вечно? Не было ощущения, что впереди для вас только мрак?
– Нет. Я решил, что я должен делать свое дело. Многие мои знакомые отсюда уехали. Я их провожал, но мне это не нравилось. У меня никогда не было такого желания – мое дело там, где я есть. И смысл его в том, чтобы сделать для науки, для будущих поколений что-нибудь. Я не думал, что при моей жизни обвалятся райкомы и все прочее. Но я надеялся, что вырастут люди, которые научатся их не бояться. Мне казалось: после Брежнева будет второй, третий, пятый Брежнев. Но надо делать свое дело. А дальше… А дальше это было неожиданно! Причем я не сразу в это поверил. Горбачеву долго не верил.
– В каком смысле? Совсем?
– Вообще не верил, что Горбачев сделает нечто значительное. Вы же помните, как он с водкой боролся.
– Если не возражаете, вернемся к науке. Что вы чувствуете сегодня? Есть ощущение, что вы оставили след в ее истории?
– Ой, вы знаете, как говорил Пастернак, «другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь…». Заниматься размышлениями об истории – это занятия графомана. Неинтересно. Закопают – пусть думают.
– Вы возглавляете одну из самых авторитетных социологических служб России. Что такое Жириновский как социально-политический феномен: примитивный демагог, случайно попавший в струю, или талантливый политик, который умело пользуется популистскими приемами?
– Два слова о ВЦИОМе. Я возглавляю его последние шесть лет. Мы стараемся – во всяком случае, я прилагаю для этого все усилия – заниматься не только получением информации, но и ее осмыслением. Стремимся научиться понимать, что из этого получается. Так вот, по поводу феномена Жириновского. Впервые, когда он, человек с отвратительными привычками, выскочил на президентских выборах 1991 года, получив 6 %, – это была сенсация. Вероятно, на следующих выборах его партия пройдет в парламент. Президентом ему не быть, но, оказывается, для него есть место в нашей политике, и он его занимает. Сначала был испуг, что это чуть ли не победа фашистов. Гайдар написал статью: «Ставка на негодяев» по поводу успеха Жириновского. По-моему, это ловкий человек, который хорошо видит, по какому течению нужно плыть. И он оказался совершенно незаменимой принадлежностью нашего парламента. Одним из немногих людей, которые лично привлекают внимание. Над ним смеются, о нем кричат, но слушают. В критический момент он всегда поддерживает правительство и перестает быть оппозиционером. На своем ковре Жириновский задает некоторый стиль публичного политика. Политика, который берет демагогией. И сегодня ряд политиков у него учатся.
– А генерал Лебедь?
– Пока не ясен. И его будущее зависит от того, с кем он сумеет сотрудничать, кто у него будет советником. Любопытная фигура, своеобразная, решительная. Но ограниченная солдатским мышлением. Это сообразительный солдат. Но даже не полковник. Солдат с юморком, с махорочкой, с сапогами. Юмор с некоторым цинизмом. Больше ничего. Довольно трудно представить себе, чтобы с таким вот уровнем человек мог стать главой государства. Хотя одно время он был жутко популярным.
– Кого из российских политических деятелей можно считать талантливыми политиками?
– У нас почти нет политиков, потому что очень долго не было нормальной политики. Есть мастера дворцовой интриги. Они были и гораздо раньше, но раньше они боролись вокруг уха главного человека. Это было и при Сталине, и при Хрущеве, и особенно при Брежневе. Это наблюдается и сейчас. Кроме того, есть борьба интересов, борьба кланов, которые сейчас вылезли на первый план под разными именами. Для нормального общества это не политика, а возня, но она существенна и имеет вид политики.
– Какова, на ваш взгляд, вероятность реставрации коммунизма в России?
– Мне кажется, не очень велика. Если даже на выборах победит кандидат в президенты от коммунистов, то они будут не в состоянии и даже не захотят реставрировать брежневскую систему, не говоря уже о более ранней. У них для этого нет ни сил, ни желания. Более того, во время выборов, когда была борьба между Ельциным и Зюгановым, мы много раз слышали из различных источников, включая и самих коммунистов, что они опасаются прийти к власти. Они не знают, что делать со страной.
– А есть ли в России политическая партия, которая знает, что делать после прихода к власти?
– Я думаю, демократические силы более или менее представляют себе, что делать и как.
– Скажите, насколько, по вашему мнению, нынешние российские коммунисты являются ортодоксальными последователями своих исторических предшественников в области международной политики? Можно ли ожидать, что, придя к власти, они поступят так же, как большевики, пославшие в 1918 году на Украину трехсоттысячную армию под командованием Муравьева, которая свергла законное социал-демократическое правительство Украины – Центральную Раду?
– Я не думаю, что кто-нибудь из российских политиков будет воевать с Украиной – этого вообразить нельзя. Из нынешних, будущих, каких угодно. Только я бы этим не утешался. Потому что есть проблемы экономические, торгово-финансовые… Будет давление с помощью и газовой трубы, и массы других вещей. Именно тут идет сложная игра. И в последние дни и недели также идет. В том числе и в вашей газете об этом пишут.
Что касается ортодоксальности. Кто из большевиков и когда был ортодоксален? Каждое поколение их на самом деле было ревизионистами и изменниками по отношению к предыдущему. Ленин совершил революцию только потому, что поступил вопреки Марксу. По Марксу, нельзя было в одной стране, да еще такой, делать что-либо подобное. Ленин сделал. Верхом на крестьянстве, верхом на армии. Сталин понял, что ничего не получается из ленинских замыслов, повернул все иначе. И начал строить новый порядок в одной стране. Он и потом поворачивал не раз. Его последователи также. Кто из них в чем ортодокс?
– Ну а нынешний лидер коммунистов – Зюганов?
– Зюганов больше националист, чем коммунист. Он сам об этом говорит, и все это знают. Многие в его собственной партии его сильно не любят из-за этого. У него очень большой заряд русского национализма с такими православными и ксенофобными корешками. Ну а других – нету их!
– Скажите, если бы такие политики нашлись, какая часть русского населения поддержала бы идею прямой военной интервенции как способ третьего присоединения Украины к России?
– Да никакая. Никакая не поддержала бы интервенцию ни в какую из бывших частей бывшего Союза.
– Это ваше личное мнение?
– Нет, это вывод из многократных исследований. Мы много раз спрашивали: «Что бы вы делали в случае отделения республик от России?». Сегодня этот вопрос актуален. Но силовые приемы не поддерживаются даже здесь. Кроме того, есть опыт Чечни, или, точнее, позорной войны, которую Россия в отношении маленькой Чечни проиграла. Я надеюсь, что этот урок научит.
– В своем выступлении на недавнем международном семинаре в Киеве «Общественное мнение и политика» вы сказали, что половина голосовавших за Ельцина в 1996 году его не поддерживала. Это что, еще одно чудо в стране чудес Лени Голубкова?
– Нет. Эту мою фразу следует закончить. Голосовали не за Ельцина, а против Зюганова. Половина голосовала в поддержку Ельцина, а половина проголосовала за него только для того, чтобы не допустить к власти Зюганова. Не симпатизируя ни лично Ельцину, ни его политике. Это было неизбежно, потому что другого выбора не было. Люди в массе своей действительно не хотели прихода к власти Зюганова.
– А каким был бы исход президентских выборов в России, если бы они проводились сегодня? Кто бы из тогдашних претендентов победил?
– Вы знаете, на сегодняшний день, думаю, победил бы все равно Ельцин. Потому что другого лидера пока нет у некоммунистов и влияние их не усилилось. Поэтому, хотя это было бы трудно, но каким-то образом произошло бы объединение вокруг нынешней власти. А что дальше – пока вопрос.
– Борис Березовский в интервью различным газетам рассказал о том, какую роль сыграла новейшая российская буржуазия в деле мобилизации средств массовой информации для победы Ельцина. Действительно СМИ были использованы квалифицированно?
– Они были мобилизованы до предела и, я думаю, работали даже несколько избыточно. То есть в этом плане никакого равенства возможностей не наблюдалось. Все государственное телевидение, все каналы были взяты под контроль штабом Ельцина. Все крупные газеты, кроме оппозиционных – те работали сами по себе, но их влияние было ограниченным, – прекратили критиковать Ельцина и дудели только в одну дуду. Главным образом они взяли не тем, что хвалили Ельцина, сколько тем, что запугивали народ. Причем запугивали грубо и необъективно. Мне не очень были симпатичны эти приемы, я не знаю, насколько напрямую они подействовали, но в какой-то мере подействовали.
– Можно сейчас назвать наиболее реального претендента на президентское кресло на будущих выборах в России?
– Пока довольно темная ситуация. Реально, наверное, все сведется к соперничеству между тремя фигурами: красной, правительственной и параллельной. В красных другой кандидатуры, кроме Зюганова, на сегодня нет.
– Кто может быть от правительственного лагеря?
– Ельцин как-то намекал на Немцова. Действительно Немцов самый популярный человек, но популярность его снижается, он, видимо, не очень эффективен как государственный деятель. А кроме того, скандал, разразившийся недавно вокруг команды реформаторов, сильно подкашивает все возможности людей из этого лагеря. Хотя Немцов прямо не причастен к скандалу, Жириновский валил всех в одну кучу. Поэтому остаются более «средние» фигуры. Таких две – Черномырдин и Лужков. Они могут быть союзниками, но здесь есть проблемы. Пока ситуация эта самая неясная.
– В наших странах социальные структуры интенсивно трансформируются. Что представляет из себя бывший советский человек, если судить по результатам ваших исследований?
– Основные параметры не меняются. Привычка не очень активно работать и надеяться на помощь государства как была, так и есть. Раньше было больше доверия к власти, теперь меньше, но это недоверие пассивное, не стремление ее свергнуть. Моя хата с краю – так и живут. Но потихоньку избавляются от идолов того времени, переоцениваются люди. Выдвигаются на место советских символов русские, исторические: Петр I – это главный герой России. Он сыграл противоречивую роль в истории России, об Украине и говорить нечего. И все-таки выдвигается на роль идола.
– А какие новые черты приобретает постсоветский человек?
– Есть деловитость, есть самостоятельность, есть интерес к тому, где учиться, как учиться, кем быть, как быть. Это среди молодежи прежде всего. Молодежь у нас наиболее активная, больше всех поддерживает все перемены. Это единственный слой, который считает перестройку положительным явлением – все остальные считают, что это была беда.
– Скажите, если судить по метаморфозам, которые фиксируют ваши исследования, куда вообще движется Россия?
– Я думаю, что через пень колоду и очень медленно Россия все же движется к нормальной жизни.
– Да, но к какому государству?
– Государство у нас будет разобщенным, отчасти демократическим, отчасти деспотическим, отчасти анархическим – как сейчас.
– Вы как-то сказали, что 45 лет занимаетесь социологией. Сколько из этих лет, учитывая травлю, были так называемыми вырванными годами?
– Да не было. Ну, были годы, когда мне нужно было уйти из Института социологии и работать с экономистами. Думаю, что это были полезные годы, потому что я работал с хорошими людьми.
– Из социологии практически не уходили…
– Да нет. Она у меня в голове сидит, в книжном шкафу стоит. Никуда я от нее не уйду.
– А как вы вообще попали в эту науку?
– Мне это было интересно. В мои юные годы в этой стране не было никакой социологии. И слов таких не было. Я пошел учиться на философский факультет МГУ – думал, меня чему-то интересному научат. Но увидел, что ничего интересного там нет. А философия тогда меня занимала мало, даже и древняя. И я не нашел для себя ничего более интересного, чем заниматься проблемами социальных изменений. На самом разном материале. И никогда не разочаровывался.
– Вы из Киева в Москву поехали?
– Нет, я в Киеве не жил, я из Винницы. Я винничанин по происхождению, окончил там школу. А дальше уже – москаль.
– Работа, дружба, любовь, слава, семья, женщины, застолья… Какое место все это занимало в вашей жизни раньше и занимает теперь? В порядке приоритетности.
– Застолья я не люблю, шумных занятий – также. Я человек довольно замкнутый, вожусь с одной и той же группой людей, работающих со мной. А группа у меня 30 лет одна и та же. И это мне нравится, работать с ними мне интересно. Когда были маленькие дети – любил возиться с детьми и собаками. Но всему свое время.
– А любовь, женщины?
– Ну, это на старости уже трудно обсуждать.
– Мне кажется, женщины – довольно интересный объект для наблюдений.
– Достаточно скучны, за редким исключением. Впрочем, никогда их не коллекционировал.
1998Это было уникальное, историческое явление[512]
Для чего мы вспоминаем шестидесятников? Для того, чтобы представить себе, при каких условиях это может повториться.
Мне кажется, что это было уникальное, историческое явление, ознаменовавшее собой период общественного пробуждения – мучительного, непоследовательного, но имевшего очень большое значение. Кто были эти люди? Я повторю определение, которое дал мой старый приятель и одногодок Юра Карякин: «Это те люди, которые своими глазами видели 37-й год, которые пережили войну и видели ее и достаточно разумными и почти взрослыми увидели XX съезд». Потом им еще удалось многое повидать, но это уже были другие времена.
Конечно, перелом начался не с XX съезда, а с марта 53-го, хотя мы оценили это позже. Помню, в наших тогдашних газетах напечатали высказывание Черчилля: «С его [Сталина] смертью кончилась эпоха». Принять это было трудно: как может кончиться эта великая эпоха? Один вождь умер, ему на смену придет другой. Потом мы поняли, что Черчилль был глубоко прав. А когда 6 апреля появилось сообщение о реабилитации врачей, впечатление было такое (в первый раз! Падение Берии было вторым потрясением основ), что затряслись стены. Стало ясно, что все россказни о процессах, врагах, борьбе – все это лажа.
Как в докладе Хрущева трактовалась формула «культ личности»? В появившихся летом 1953 года тезисах ЦК КПСС к 50-летию Второго съезда партии (1903 год, начало большевизма) приводились слова Маркса о том, что они с Энгельсом против «суеверного культа личности», понимая под этим преувеличенное внимание к лидерам. Нас же, с подачи XX съезда, на 10 лет заняли вопросом, кто был виноват, Сталин или Ленин, а вот то, что тоталитарный режим куда сложнее и страшнее, чем славословия Сталину, не обсуждалось.
Главное потрясение XX съезда – вслух было сказано то, что люди из моего круга знали, но не думали, что когда-нибудь в жизни услышат об этом с высокой трибуны. Услышали, но с очень серьезной оговоркой: «обсуждению не полежит», «спору не подлежит». А с теми, кто говорил, что виноваты все лидеры, сама партия, стали расправляться уже через неделю после съезда. Была в «Правде» большая подвальная статья с такими словами: «Партия не потерпит в своих рядах антипартийных высказываний». Дальше волнения в Польше, восстание в Венгрии и т. д. Главный пафос официальных суждений сводился к тому, чтобы ограничить влияние разоблачений Сталина, спасти систему. Даже зародыша самоорганизации общества не было, надежды и ожидания были обращены только наверх – как в стихах Некрасова о «царе-освободителе»: «Славься, народу давший свободу». Надежды возлагали на «Хруща», который не испортился до конца, хотя натворил много глупостей.
Мариэтта Чудакова:
Он все-таки немножко испортился.
Юрий Левада:
Ну, портиться он начал с самого начала, он просто был недалек и неглубок.
Шестидесятые годы начались именно в 1956-м (фактически чуть раньше) и закончились конечно в 1968-м, дальше начинаются 70-е, другой период, именно тогда появляется самиздат, после процессов Синявского – Даниэля и преследования подписантов. Тогда произошел раскол между властью и людьми, начались попытки самоорганизации – моральной, идейной и в какой-то степени организационной (правозащитные группы).
Людмила Алексеева:
Это в 70-е годы, но участвовали в этом шестидесятники.
Юрий Левада:
В большой степени участвовали те люди, которые проснулись в 60-е.
Людмила Алексеева:
Ну, которые постарше.
Юрий Левада:
Были и помоложе. Был Солженицын, которому в 1963-м чуть было не присудили Ленинскую премию, а в 70-х он уже самиздатовский автор.
Период преодоления и выдавливания из себя рабского духа был очень тяжелым. В заключение один факт, что называется, из жизни. Я в начале 60-х работал с одним очень симпатичным человеком, иностранным коммунистом, коминтерновцем, который 20 лет просидел, потом вышел таким же, каким сел. Он был наивный человек и прямолинейный. И он рассказывал, как они в лагере собирались на партийные собрания, отдельно от всяких там меньшевиков, которых терпеть не могли, и обсуждали, почему Сталин уничтожает партию и Коминтерн? И пришли к единодушному выводу – он делает это по заданию английской разведки. Они знали, как работает полиция в разных странах, и думали, что на такие наглые, хитрые действия способны только англичане.
Людмила Алексеева:
Если я не ошибаюсь, вы в годы, которые мы обсуждаем, вели знаменитый на всю Москву семинар…
Юрий Левада:
Да, начиная с конца 60-х, когда меня выставили из Румянцевского института (ИКСИ). Тогда семинар не был откровенно диссидентским, это скорее была попытка сохранить свободное думанье, но у нас были люди из диссидентов.
Людмила Алексеева:
Что вы обсуждали?
Юрий Левада:
Все, что угодно. Жизнь, общество, историю, культуру…
Людмила Алексеева:
А где собирались?
Юрий Левада:
В разных местах.
Людмила Алексеева:
В квартирах?
Юрий Левада:
Нет, нас было слишком много для квартир, правда, квартирный вариант семинара существовал, и с ним связана своя история, в том числе история предательства. А большой, публичный семинар обычно проходил там, где я работал, – в ЦЭМИ. Иногда народу набивалось до трехсот человек, и начальство начинало беспокоиться. Как-то вызвали в дирекцию и говорят: «Из-за вас один институт разогнали, хотите, чтобы и нас тоже закрыли? Будьте аккуратны». Но это отдельная история, и к сегодняшней теме она не относится.
Людмила Алексеева:
Нет, относится. Я вот помню, как мне про ваш семинар говорили и я очень хотела на него попасть, только не знала, куда идти.
2006Юрий Буртин: человек и время
Время дано, это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем. Н. КоржавинЯ был знаком с Юрием Григорьевичем Буртиным около 20 лет, но моментов, когда случалось сходиться близко, очно или заочно, было немного. У меня почти нет поэтому права на личные воспоминания. Попробую лишь очертить фигуру Юрия Григорьевича, как я ее представляю, в рамках тех переломов судеб и времен, в которых мы все оказывались за эти годы. Это фигура человека удивительно чистого и цельного, человека, в котором смена или «переменка» эпох (далеко не чистых и не цельных, исполненных мути и катаклизмов) отразилась очень четко.
Юрий Григорьевич, как известно, формировался как новомировец, «твардовец», притом один из самых горячих и последовательных. Чтобы отстаивать эту позицию на трудном переломе «постоттепельных» 60 – 70-х, требовались стойкость и последовательность – такие, какие были у Юрия Григорьевича.
«Новый мир» тех времен наследовал недолгую традицию «оттепельной» публицистики, в определенном смысле заложил основы диссидентской и перестроечной идеологии (если ее так можно назвать). Со всеми ее достоинствами и противоречиями. При всей своей критичности, при всем вызове официальной «линии», журнал Твардовского был глубоко компромиссным; не только в смысле неизбежных уступок «внешним» давлениям со стороны партийного и цензурного начальства[513], но и – что куда более существенно – в смысле внутреннего, идейного компромисса. Ведь А.Т. Твардовский и, видимо, многие окружавшие его люди были совершенно искренними сторонниками более гуманного и порядочного социализма, более умного и мягкого партийного руководства и т. д., – того, что когда-то в Праге назвали «социализмом с человеческим лицом». Попытка облагородить власть, надежда на «нового Хрущева» как единственный фактор перемен обрекала интеллигентную демократию на беспомощность. Не знаю, как тогда понимал эту ситуацию Юрий Григорьевич, но он шел в этой струе.
(Был и другой узел противоречий в «Новом мире» – западники и «деревенщики», неопочвенники. Юрий Григорьевич, судя по всему, был далек от последних. Да и не было это все же главным.)
Роль «Нового мира» и близких к нему явлений (например, в российском и грузинском кинематографе тех лет) была огромной – в пробуждении интеллекта и гражданственности целого поколения, в воспитании людей, которые искали альтернативы тупику, в котором оказалось общество. Но сама позиция последовательной не могла быть, и при любом варианте развития событий в стране, который только можно вообразить, она, как мне кажется, была бы взорвана.
И наш, и чехословацкий (1968), и прочий опыт показал невозможность придать человеческое лицо принципиально бесчеловечной системе. (И дело здесь не в репрессиях и массовом терроре, которых могло быть больше или меньше, дело в безоговорочном подчинении человека-«винтика» – якобы ради его же блага – государственной машине.) Но никакой другой позиции тогдашняя, скажем так, «протодиссидентская» интеллигенция не имела не только в «Новом мире», но и в среде осторожных тогда экономистов-«рыночников», и в группках коммунистических романтиков (мечтавших о возвращении к досталинским порядкам, идеям Н. Бухарина и пр.).
Отсюда – сочетание восторга и растерянности, с которыми наша интеллигенция, в большой мере «Новым миром» воспитанная, восприняла горбачевскую перестройку. С одной стороны, как будто именно то, чего так долго ждали, попытка сделать режим более гуманным; «рабство, падшее по манию царя». С другой стороны, постоянный страх, что завтра все кончится, так как только от благоволения «царя» все и зависит. Ни своей роли, ни своей позиции у демократической (по тогдашним настроениям) интеллигентной публики не было. Она надеялась на Горбачева, прикрывала его, старалась не дышать на него, боялась внутрипартийных твердолобых.
…В 1988 г. в кругу близких тогда людей вынашивался план издания «нормального» журнала в поддержку демократических перемен (один из вариантов названия – «Трибуна перестройки»). Замысел был довольно скромным: собрать вместе тогдашних «забойщиков» обновления, расширять рамки гласности, публиковать архивные документы и т. д. В русле этой инициативы мне нужно было заручиться поддержкой тогдашних «звезд» публицистики. Никто, как помнится, не отказывался, хотя некоторые колебались и выясняли, будет ли затея одобрена «сверху». Юрий Григорьевич согласился поддержать, не раздумывая, сказав при этом: «Журнал – хорошо, а газета была бы лучше, особенно ежедневная…» Должно быть, он хотел возобновить добрую, восходящую к началу XX в. (вовсе не только к радикальной российской социал-демократии) традицию политической газеты как организатора.
Из журнальной затеи ничего не вышло, она утонула в попытках осторожных согласований. В следующем году «все» журналы стали «борцами за перестройку», затея утратила смысл. (Да если бы и удалось ее реализовать – провала было не избежать, это определялось и характером среды, и характером тогдашних либеральных активистов.) Возможна ли была газета? Серьезная, большая, влиятельная – какую, видимо, и имел в виду Юрий Григорьевич? Но такая газета должна быть выразителем и организатором серьезного и самостоятельного направления. Его-то и не было, мешало его появлению и то, что перестройка была официально устроенной, и то, что демократические настроения никто и не пытался организовать. Трагическая беда нашей демократии последних лет (да и более давних лет тоже) – неспособность сплотиться, стать влиятельной силой.
Кстати, тогда, на заре «гласности», экономическая составляющая прессы как будто не была заметна. Все издавалось за государственный счет, что и было само собой разумеющимся: никаких других источников средств не существовало. Государственный контроль был, но слабел, особенно после отмены цензуры. Сегодня о такой ситуации часто можно жалеть, прежде всего потому, что въелось в сознание и практику фальшивое представление, будто государственное принадлежит власть имущим чиновникам и должно ими контролироваться, а свободное, независимое – это негосударственное, коммерческое, частное. Но государство не должно принадлежать чиновникам. Государство – это граждане, налогоплательщики, избиратели всех направлений. А значит, свою долю госбюджетной поддержки вправе получать все законные средства печати, каналы, программы – и оставаться свободными в своих взглядах.
Через несколько лет, в 1993-м (в первой его половине, смутной, но еще не кровавой) появилась газета «Демократическая Россия», одним из руководителей которой был Юрий Григорьевич. Была она демократической и критической по направлению, небольшой, сравнительно малозаметной и существовала недолго (кажется, меньше года). Видимо, кончились деньги, но более важным было отсутствие серьезной политической поддержки.
Как мне кажется, Юрий Григорьевич в смутные годы наших перемен и катаклизмов остался как бы человеком «из другого поколенья», с другими нравственными критериями и ожиданиями. «Стойкие» шестидесятники не нашли своего места в 90-х примерно так же, как не нашли его вернувшиеся из ссылки декабристы или народовольцы, освобожденные из Шлиссельбурга в 1905-м. Убедить себя в том, что экономические обвалы при авторитарно-анархическом царствовании когда-нибудь приведут к спасению общества, он не мог. Пользоваться «коммерческими» выгодами (гранты, поездки) – не умел. Не годилась для него и модная позиция критического самолюбования («что я говорил…»).
Несколько лет назад мне случилось спорить с ним публично. После президентских выборов 1996 г., когда приходилось, зажав нос, выбирать между плохим и худшим (или привычным и непривычным злом), Юрий Григорьевич напечатал в «Новом времени» восторженную заметку о тех, кто голосовал против обоих[514]. Ему казалось, что эти 3 % (то есть около 3 миллионов российских избирателей) – те самые твердые, смелые, чистые люди, на которых могут опереться надежды отечественной демократии. К сожалению, Юрий Григорьевич ошибался. У нас тогда были опросные данные с характеристиками различных групп избирателей, и получалось, что голосовавшие «против всех» – это либо аполитичные люди, либо сторонники национал-патриотов, Жириновского, от идеалов демократии весьма далекие. Мою реплику с такими замечаниями опубликовали в журнале. Как воспринял ее Юрий Григорьевич, я не знаю…
2001«Я считал, что было бы неестественно вести себя как-то иначе» (интервью Д.Н. Шалина с Ю.А.Левадой и Е.С.Петренко)
Шалин: Сегодня у нас восьмое февраля 1990 года, я разговариваю с Юрием Левадой и Еленой Петренко[515], которые работают сейчас… как называется ваш институт?
Левада: Всесоюзный центр изучения общественного мнения.
Шалин: Прекрасно. Как вам казалось, в 60 – 70-е годы, особенно когда вы были официально в опале, была у вас возможность говорить то, что вы думаете?
Левада: Вы знаете, мне кажется, существуют преувеличенные представления по этому поводу, в частности насчет меня. Возможно, я вас в чем-то разочарую, но я могу сказать только то, что могу сказать. Никаких особенных внутренних переживаний я не испытывал. Внешнюю канву этих событий вы знаете. В 69 – 70-м была попытка расправиться с социологией. Предлогом была одна моя книжка, я думаю – только предлогом. Сама книжка особого значения не имела и не имеет, я так всегда думал. Ну а в результате всех тех событий было тогда новое руководство социологией, работать с ним было заранее невозможно. И когда я узнал, что придет Руткевич, я понял, что надо уходить – мне и всем людям, которые со мной работали. Пришлось уйти мне первому, но была подготовлена договоренность о том, кто куда уйдет, и практически все ушли.
Шалин: Но вы это сделали еще до того, как на вас нажали, вы сами ушли.
Левада: Видите ли, когда я сказал… ну, это уже детали не очень важные… на меня не было прямого нажима, чтобы я ушел. Я проявил вроде бы инициативу сам, но, когда я сказал Руткевичу, что я собираюсь уйти и вовсе не собираюсь с ним здесь устраивать споры, он улыбнулся своей кривой улыбочкой (есть у него такая бесподобная) и сказал: «А я об этом давно договорился с [П.Н.] Федосеевым». Я не стал говорить о том, почему он мне сразу об этом не сказал. Ну, не важно. Он во всех отношениях нехороший человек и… все делал как-то не прямо… Но это неинтересно, меня это совершенно не волновало. Единственная проблема, которая меня действительно волновала, и мне к этому пришлось адаптироваться некоторое время, состояла в том, что я имел очень хороший коллектив людей, с которыми любил работать, и представить себе, что я должен с ними расстаться, мне было очень больно. На первых порах, когда я уходил (а я договорился уйти в ЦЭМИ), я договорился с начальством о том, что они возьмут всех. Я выговорил у [Н.П.] Федоренко десять мест, причем при очень активной, превосходной помощи Арона Каценеленбогена. Но потом оказалось, что это было невозможно по вине и из-за вмешательства начальства. Они взяли на работу только меня, без какой-либо компании. Когда-то обещали одного сотрудника, я пытался взять Леву, конечно.
Шалин: Леву Гудкова?
Левада: Ну, неважно сейчас, кого. Вот этот процесс, поскольку он был для меня несколько неожиданным – я все-таки думал, что нам удастся уйти группой и продолжать жить, – то это было несколько тоскливо и болезненно. Однако фокус состоял в том, что мы не распались, а продолжали свою совместную научную жизнь все годы. У нас был регулярно работающий – в среднем раз в две-три недели – семинар на разные темы… Но он собирал и других людей.
Шалин: Встречались на дому?
Левада: Нет, обычно нет… на дому немножко отдельная программа. Мы встречались обычно либо там, где я работал, либо еще на какой-нибудь другой почве. В основном там, где я работал, там у нас и проходил семинар. У нас помещения долго не было… Несколько раз его [семинар] пытались запретить, [мы] меняли название, меняли крышу и продолжали жить практически непрерывно. Поэтому с теми людьми, которые были, связь не терялась. Может быть, она не всегда была достаточно удачная, но продолжала линию свободного научного мышления в социальной области и была непрерывна. Присутствующая здесь Елена была свидетелем и участницей этих событий.
Петренко: В одной из последних частей.
Левада: В одной из последних частей… Ну там у нас было больше десятка мест, но делали это практически непрерывно.
Шалин: То есть интеллектуальное ядро и жизнь сохранялись неизменно…
Левада: В нашей компании сохранялись…
Петренко: Но, видимо, они все равно одним организмом оставались…
Левада: Были некоторые утраты. Одни чисто внешнего порядка, связанные с эмиграцией, другие связанные с отчуждением и даже с перерождением людей, но таких было немного. Это было не очень приятно, но был такой факт, наверное, неизбежный в любой подобной компании. Это раз. Второе, в обстановке, в которой я был, а я работал среди экономистов, я находил для себя много полезного, потому что я впервые увидел людей, увлеченных практическим делом, – они пытались реформировать наше планирование и даже экономическое мышление, – сравнительно молодых, активных, бойких. У них я многому научился – и понимать экономику, и представлять себе атмосферу бодро работающих коллективов. Поначалу это было так. Потом там кое-что ухудшилось, потому что реформировать эту экономику никак нельзя было… Но там были люди, которые сидели в пятницу и субботу до полуночи, с диким восторженным криком обсуждая очередную проблему… Я не мог этого делать, я был там немножко сбоку. Но это было для меня очень приятно, приятно смотреть, это было интересно очень. Сам я там был несколько в особом положении, не полностью включенным в дело, и это меня немножко беспокоило, к сожалению. Но это было неизбежно. Я имел возможность читать книжки и заниматься тем, чем мне хотелось. Конечно, сложно было печататься, потому что с социологами я порвал или [больше] не собирался с ними. Среди экономистов я был чужой, в экономических изданиях специальных я не мог и не хотел бы со своими непрофессиональными вещами выходить, но ряд вещей напечатал, в том числе и тех… В общем, никто не заставлял меня ни разу делать то, что мне не хочется.
Шалин: Когда стали вас уже печатать?
Петренко: Текст про игру был… потом еще три текста были…
Шалин: Как скоро после официальной опалы разрешили…
Левада: Видите ли, в чем дело, никто формально мне ничего не запрещал.
Шалин: Ни из какой партии не выгоняли…
Левада: Нет, меня недовыгнали, то есть строгач у меня висел, который очень затруднял переход с работы на работу, ну и поездки куда-либо, но это меня и не интересовало, и переходить я никуда не собирался, ибо мест таких не было, куда бы стоило переходить по тем временам. Вот, а в остальном это никак на меня не давило, не мешало, не беспокоило. Ни угрызений, ни переживаний у меня по этому поводу не было. Я понимал, что делается в мире, что делается в стране, я видел людей, которые боролись, которых сажали, всем это было очень больно, и на этом фоне заниматься мне [своими] переживаниями было нелепо.
Шалин: А можно на этом месте заостриться? Вы говорите, что видели людей, которых выгоняли, на которых давили… Есть такая история, я натолкнулся на нее в мемуарах Вернера Гейзенберга, где он говорит о своей жизни в [гитлеровской] Германии, о том, как постоянно приходилось ему видеть его коллег, откуда-то выгоняемых. Он приводит историю из Вильгельма Телля, где тот отказался поклониться шапке наместника и в наказание должен был стрелять в яблоко, поставленное на голову сына. Он спрашивает, а прав ли был Телль? Может быть, это была бесчеловечная попытка, может быть, этически, вместо того чтобы подвергать смертельной угрозе жизнь своего сына или близких людей, нужно было поклониться? Где тот компромисс, он [Гейзенберг] спрашивает, на который нужно пойти, если ты хочешь жить… и в какой момент этот компромисс перестает быть компромиссом порядочного человека? Вы смотрели на своих друзей и учеников, которым было очень больно, которым, может быть, больше не повезло, чем вам, по разным причинам – как вы это себе представляли? Вы знали, что не можете открытым текстом сказать, что вы думаете по поводу таких людей, как Руткевич…
Левада: Ну, почему нет? Что-то я ему говорил. Но, вообще говоря, он меня никогда не интересовал лично. У меня нет отношений личной мести и вражды к кому бы то ни было. Руткевич – это общественное явление. Меня он волновал постольку, поскольку он мешал работать другим людям. Сам по себе он просто неинтересен. У меня есть древняя привычка, я делю людей на хороших и неинтересных. С первыми я вожусь, и они со мною водятся, вторые мне просто неинтересны. Ну, мало ли что… как общественная функция, конечно, он значимый, мог что-то делать, но как человек – абсолютно никакого интереса и чувства к нему у меня нет. [Теперь] проблема компромисса. Меня упрекали… Тут я перейду от фактологии, которая тогда ничем особенно была неинтересна… Я подчеркну, что не собираюсь и не могу сравнивать какие-то там мои перипетии и трудности научные с тем, что действительно испытывала активная часть людей, – это всегда было перед глазами, это было очень важно, но была такая штуковина. В целом это ведь были не 30-е годы. Годы были другие. В эти годы не существовало тотального всеохватывающего страха – страха за жизнь и свободу практически не было. Но те люди, которые шли на риск, они знали, на что шли. Там были свои счеты. А тут была такая ситуация, [которая] имела свои, не личные, а социально-компромиссные стороны. Было много людей, которые говорили: конечно, все дурно, но в общем-то жить можно, и лучше на рожон не лезть, потому что может быть только хуже.
Шалин: Вы согласны были с этим мнением?
Левада: Нет, мне это не нравилось, хотя я считал, что я должен вести себя просто естественно, так, как я могу вести себя, а не так, как не могу. И все. Мне ужасно претила и претит позиция нарочитого лазания на рожон для того, чтобы себя показать, и прочее. Ну, в общем, все неизбежно на свете, и психологический тип поведения разнообразен. Я никак не хочу осудить людей, не имею ни малейшего права, ни оснований… Я немножко представляю себе эту типологию, биографические и еще какие-то причины, но мне претило это. Я не хотел и не хочу торчать. По мере возможности – раньше, теперь и впредь – всегда хотел бы занимать такую позицию, чтобы она никем, ни мной самим не воспринималась как то, что я хочу выкрикнуть напоказ, или скрыться напоказ, или вытащить кукиш из кармана, чтоб знали они все… Ну, вы представляете, тут можно целый ряд таких уловок перечислить, разные люди к ним прибегают, но мне не хотелось. Поэтому я думал, что я… собственно, и думать тут не приходилось, поскольку я полагал, что веду себя естественным образом. Может быть, когда-то я допускал какие-то тактические ошибки, я не могу припомнить, в какой ситуации, не могу корчить из себя безгрешного, но в принципе думаю, что я более или менее выдерживаю эту линию. И компромисса психологического практически не было. Повторяю, меня никто не заставлял делать то, что я не хочу, и я думаю, что я никогда не стал бы это делать, но и делать что-либо нарочитое я не стал бы. Положим, заниматься публичной критикой тогдашней социологии не было возможности. Никакой охоты не было, просто ни малейшей…
Шалин: То есть вам был ясен ужас положения в социологии, но также было ясно, что вещать об этом всему миру…
Левада:…Ну велика ли важность, в конце концов, была в этой социологии. Я не мог ее преувеличивать тогда и не могу ее преувеличивать сейчас. Она не спаситель мира, и не на ней сходился свет. Была определенная драма всей страны, всей интеллигенции. Социологическая [ситуация] была частью этого, потому что постоянные скандалы и разгоны были и в истории, и в экономике, и в философии, где только не было. При этом, повторяю, не было всеобщего страха. Но были люди, которые говорили, что надо быть осторожными. У меня было несколько разговоров такого типа… люди, не очень далекие от меня, говорили, что я всех подвел, что я высунулся. Надо было быть осторожными, надо было то ли почитать, то ли печатать, то ли говорить, то ли вести себя так. Вот меня, допустим, всегда упрекали, почему я не признаю…
Шалин: Ошибок?
Левада: Да-да-да. Тут вот была длинная такая история… Когда начали меня подъедать, то институт [еще] стоял, Румянцев еще сидел, и он и все его замы держали меня за руку и уговаривали, чтобы я не скандалил, потому что дело не во мне, а в том, чтобы остался институт, и если я буду говорить всякие пакости, то всех подведу.
Шалин: Борис Раббот был тогда среди…
Левада: Борис Раббот был. Он был наперсником Румянцева как раз. Он с внушительным видом, действительно, ходил вокруг него и вокруг нас, уверял, что он влияет на события, что он что-то может и чего-то не может, надувался как пузырь, знаете, что за тип.
Шалин: Вы знакомы с ними были…
Левада: Ну, как же я мог быть не знаком. Мы тогда были на близком [?]
Шалин: Он, кстати, в Нью-Йорке сейчас.
Левада: Знаю, знаю. Я слышал, что он ищет встречи, но я как-то не очень стремлюсь к этому. Ну, неважно. Вот эта ситуация была несколько неприятной… Действительно, я не хочу, чтобы из-за меня страдали другие люди…
Шалин: Но субъективно вы не ощущали, что были неправы…
Левада: Нет, нет, нет, нет. Был достигнут такой словесный пакт о том, что я признаю, что я плохо подготовил к печати лекции. Я об этом публично говорил, что я сожалею, что не проверил, не подготовил, не указывая ничего конкретно.
Шалин: Вы можете сказать, что кривили душой в этот момент?
Левада: Нет, он [?] действительно, честно говоря, не вычитал стенограмму. Надо было быстро напечатать. Я не придавал особого значения этому делу. Была ли эта случайная штуковина…
Шалин: Просто была уступка…
Левада: Отговорка была, надо было. Видите ли, если бы это дело было чисто мое, то я бы досадовал, что, ежели уж едят, так было бы хоть за что. Если бы я должен был быть в таком дурацком положении, то я бы сказал о них все, что я думаю, – кто загубил все науки в стране. Но мне в этой ситуации как-то невозможно было это сделать, а потом уже, задним числом, бессмысленно… Вот [еще один] тип упреков – подвел других, не надо было высовываться. Причем мне это говорил однажды человек вполне пристойный, далеко от нас тогда стоящий, тоже социолог, что вот нельзя было, надо осторожно, понемногу воспитывать людей, приучать их к терминологии, и так понемножку они привыкали бы…
Шалин: Звучит в чем-то, как Игорь Кон.
Левада: Нет-нет. Нет-нет-нет-нет. Игорь никогда ничего подобного не говорил. Никогда. Он относился совершенно с симпатией, он решительно все понимал… Вообще, люди из числа тех, которые знали меня близко, морали не читали, отчасти потому, что они понимали ситуацию, отчасти потому, что они знали, что я очень был непредсказуемый… Эти мне морали не читали. Здесь было такое чисто прагматическое поведение. Мораль старались читать более далекие люди… Потом в связи с семинарами, разными трудностями… Был однажды такой разговор косвенный, когда мне один важный чиновник говорил: «Вы развалили один институт, вы хотите развалить еще один?» Но я мог только посмеяться…
Шалин: Я вот слушаю вас, и мне кажется, что вы можете сказать или кто-то мог о вас сказать, что вы жили не по лжи, вы по существу, как думали, так и говорили. Я немножко утрирую, но…
Левада: Думаю, что да. Я не могу припомнить ни одной ситуации, когда бы я говорил, или писал, или заявлял то, чего я не думаю…
Шалин: Хотя и молчали по поводу определенных вещей.
Левада: Во-первых, я просто не участвовал в социологических прочих вещах. Во-вторых, в это время развернулась политическая жизнь на уровне диссидентства.
Шалин: Вы, кстати, не считали себя диссидентом?
Левада: Нет. Видите ли, в чем дело. Я знал людей многих, которые с этим были связаны, в какой-то мере помогал. Никаких ни угрызений, ни опасений по этому поводу не было, но специального участия в работе я не принимал.
Шалин: А в части подписания [коллективных писем]?
Левада: Я был готов на начальных фазах подписаться, подписал бы немедленно. Но случилось так, что [Л.А.] Седов до меня не донес это письмо, с которого все началось.
Шалин: А если бы донес, то, возможно, подписали бы?
Левада: Подписал бы немедленно…
Шалин: Это какой год?
Левада: Это 67-й год, первая волна подписантства… Меня практически не звали. Почему-то получилось так…
Петренко: Потому и не звали.
Шалин: Секундочку, а почему не звали?
Петренко: Потому что имидж такой был, а имидж точно соответствовал тому поведению, которое…
Шалин: Что он кошка, которая гуляет сама по себе?
Левада: Ну, не совсем.
Петренко: Абсолютно. Абсолютно. И все равно это немножко политическое дело, дело тут чуть-чуть в бантике, а кошке этой бантик никакой никогда не привяжут.
Левада: Я бы несколько иначе сказал. У меня было такое представление, что как-то само собой развивалась собственная ниша для существования, не моя личная. Еще там было много людей, которые около этого дела вертелись. Я думал, что это вещь довольно важная, довольно интересная, которая должна существовать. Мне казалось, что вокруг этих семинаров все черти ходили. Там были все эмигранты, все диссиденты, все шпики, все корреспонденты, все это было. Но это было по внешнему кругу так… в этой части ничего не скрывалось. Была и другая серия заседаний, которые не подлежали оглашению. Об этом мало кто знает. И было у меня, и, по-видимому, у других такое ощущение, что не нужно втягиваться в другие дела.
Шалин: То есть ваше дело, которым вы прямо занимались, – семинар, теоретические обсуждения, воспитание молодежи – это достаточно важное дело…
Левада: Что-то в этом роде. Это никогда специально не проговаривалось… Это было естественно. Для человека, скажем, который занимал какое-то положение, это было бы естественно, и при нормальном развитии событий нормально выступать в роли такой прикрышки и покровителя разного рода действий, а не прямого в них участника. Кстати говоря, это было видно, когда мы работали вместе, потому что какое-то влияние на работу ИКСИ я мог оказывать в тот период, в те три-четыре года, когда мы там работали. И по должности, и так просто по каким-то там воздействиям. Я не стеснялся того, что я занимал там партийную должность, потому что это немножко связывало руки таким людям, как [Г.В.] Осипов, и немножко помогало что-то делать. И я тогда мог бы чуть-чуть похвастываться, хотя и ничего особенного, что ни в какие трудные времена у нас не только не уволили ни одного подписанта и ни одного еврея, а наоборот, изо всех сил брали на работу.
Шалин: Глядя в прошлое, вы видите причину этого отчасти в собственной позиции?
Левада: Это нужно было делать, это было совершенно естественно. Я прилагал к этому руку прямо, когда мог… Недаром у меня в секторе было двое подписантов, потом уехавших было трое. Такая ситуация людей определенного типа была. Если бы я, предположим, считался официально благополучным, я изо всех сил и дальше старался бы продолжать [это]. Когда я стал меченый, то, естественно, я не мог никого ни брать, ни рекомендовать. Наоборот, я отказывался это делать, отказывался оппонентом быть, потому что я мог подвести людей. И тогда сама собой оказалась за мной эта ниша. Я знаю одну-две обиды… не хотел бы называть людей, я их очень уважаю, были моменты, когда надо было что-то подписать. Были отчаянные моменты, когда мало кому можно было подписывать… Кстати, мы пытаемся сделать книжку на эту тему, посмотрим, насколько она удачная, с [В.Л.] Шейнисом. Ну и здесь была пара обсуждений, стоило ли идти прямо бросать [вызов]. Мне казалось, что более естественно продолжать работу.
Шалин: Какая была мотивация?
Левада: Мотивация состояла в том, что то, что я делаю, вряд ли другие сделают. То, что они делают, они делают. Им надо молчаливое соглашение и такое разделение труда. Оно было всегда. Были отчаянные диссиденты. Вы знаете, это был замкнутый круг. К сожалению, дело свелось к тому, что они защищали не права граждан, а права друг друга. Их сажали, они друг за друга боролись, тех сажали, и так далее. Эта организация так вот специфически работала. Были и покровители у них, ряд академических людей, Ростропович там, которые помогали то деньгами, то давали убежище. Чуковский, Паустовский, все их знали… Они занимали важные официальные позиции, их не могли или не хотели трогать, и они всячески содействовали другим. Возможно, были еще какие-то варианты поведения со стороны властей… А у меня была другая позиция…
Шалин: То есть, глядя в прошлое, вы можете сказать, что вы видели свою задачу – в общественном смысле слова – в том, чтобы делать свое дело, маленькое или большое, создавать круг людей, где преобладала интеллектуальная атмосфера… Вот хочу вам рассказать такой эпизод. Когда я уезжал [из России], я разговаривал с Виктором Шейнисом, и он мне рассказал такую историю, которую, кстати, в одной из моих заметочек, которые я вам дал, я описал. Он сказал, что в Советском Союзе сейчас официально дважды два – двенадцать. Это то, что всем полагается знать и говорить. «Если ты человек смелый, ты можешь говорить, что это десять, может быть, восемь. Я в своих лекциях рассказываю студентам, что это шесть, а пара людей, таких как ты, Дима, они узнают от меня, что дважды два на самом деле четыре. Я вижу свою задачу, почему я и остаюсь в этой стране, чтобы таким, как ты, дать возможность сохранить эту искру и передать ее из поколения в поколение. В этом я вижу смысл своего существования». Я помню, что я ему тогда ответил: «Я хорошо вас понимаю, но согласны ли вы провести свою жизнь так, чтобы в конце ее провозгласить с кафедры, что дважды два – четыре?» Ведь есть же еще алгебра, есть интегральное исчисление, есть много проблем другого порядка, и я не уверен, что в конце своей жизни я был бы готов сказать, что я посвятил себя тому, чтобы передать эту искру… То, что я слышу от вас, подпадает под эту рационализацию, это объяснение… Я правильно вас понял, что возможность сохранить…
Левада: Может быть, хотя это такая поздняя рационализация. Никаких особых размышлений мне не приходилось делать, потому что все шло естественно. Естественно было так себя вести. Даже, предположим, когда начался уезд, то было естественно пожелать всякого добра людям, которые уезжали.
Шалин: А был когда-то момент сомнения, что, может быть, пора уезжать?
Левада: У меня не было, ни разу.
Шалин: Лена, а у вас?
Петренко: Я думаю, у меня совсем не было…
Шалин: А вы можете себе представить такие условия в Советском Союзе – тогда, сейчас, в будущем, – когда вы бы всерьез задумались, что, может быть…
Левада: Сказать, что мне нужно было бежать от преследования, я не имел права. Сказать, что я чувствую интерес к лучшей жизни, я никак не мог, она меня не интересовала и не интересует сейчас. Я говорил с Игорем Семеновичем, когда был массовый уезд. Мы с ним частенько встречались тогда. Он изложил очень ясно свою позицию, сказал, что очень сочувствует и помогает тем, кто уезжает, в частности, про вас мне сказал, про связи, которые он помог вам тогда наладить.
Шалин: Да, он тогда связал меня с [Робертом] Мертоном.
Левада: Ну, да, это было на старте. Но он сказал, что сам не видит для себя такой возможности, потому что в Союзе людям он рассказывает то, чего они не знают, что полезно, – социологию, психологию или потом сексологию он нашел, то, что на Западе на самом деле известно. Поэтому он не представляет себе, что бы он такого мог рассказать там, чтобы кому-то это было нужно. В принципе он прав, хотя, конечно, он мог бы…
Шалин: Хотя вы знаете, что было время, когда он изменил свою позицию…
Левада: Может быть, но этого я не слышал.
Шалин:…когда он активно старался уехать из СССР, – это я говорю вам конфиденциально. В конце 70-х годов, когда просто задыхались люди…
Левада: Я думаю, это было во время…
Шалин: Во время социологического конгресса в Упсале в 77 году, в 76-м [конгресс в Упсале был в 1978 г.] тогда он думал о возможности остаться там и даже предупредил о такой возможности свою маму. Но, тем не менее, он не остался, в основном по сентиментальным соображениям. Мысли о необходимости эмиграции приходили к нему и позже. В начале 1980-х был такой момент, когда он стал задыхаться до такой степени, что подумал, что, может быть, сделал ошибку… Но у вас не было таких колебаний.
Левада: Нет, не было.
Шалин: Отчасти это могло быть связано с тем, что возможность заниматься интеллектуальной деятельностью сохранялась.
Левада: Она на самом деле у всех есть. Если кто захотел бы, она бы сохранялась, потому что сплошной завесы не было, стена была дырчатая. Люди по-разному относились к ситуации… Был период, когда хорошо знакомые, видные и даже приличные люди, вот, скажем, зайдя в эту комнату и увидев, что я сижу за столом, обходили стол так, чтобы со мной не поздороваться… Они ко мне очень хорошо относятся, и я бы им об этом тоже никогда не напоминал.
Шалин: А вы бы назвали их порядочными людьми?
Левада: Ну, не хочу, не надо.
Шалин: Меня не интересуют в данном случае конкретные личности…
Левада: Есть люди, которых охватывал очень большой страх, раздутый вокруг каких-то моих действий, который в невероятное количество раз превосходил сами эти действия… Для самого себя я это выражал такой формулой: они из меня сделали бóльшую бяку, чем я был на самом деле, но я ж не мог им доказывать, что я не такой бяка. Я мог сделать только одно – тянуться за тем, чтобы действительно стать уж таким бякой, чтобы…
(Смех.)
Шалин: Вам оказали такое доверие, и надо было…
Левада: Ну почему, какого черта! Я в принципе это и делал. Но называть людей не надо…
Шалин: И все же, если можно, я хотел бы заострить внимание на этом моменте. Когда можно сказать, что определенный тип поведения – это уже не просто самосохранение. Ну, не просто человек уходит, чтобы не поздороваться, чтобы не видели его с вами, а вот где он уже пересекает границу, за которой вопрос возникает о порядочности… Например, Солоухин…
Левада: Ну, я могу сказать, что этот человек не очень смелый. Одно время люди эти побаивались. Потом, осмотревшись, что я себе спокойно живу, а я вообще старался вести себя естественно, не избегать никаких контактов… Я вам расскажу такую сцену из этого времени. Не знаю, знаете ли вы лично, но по литературе, наверное, знаете Сашу Зиновьева. Саша Зиновьев что-то написал, стал предельно скандальным человеком, собирался уезжать, но его поначалу не очень отпускали… Я у него в это время бывал и книжку его читал, с ним разговаривал на всякие темы, не спорил, но любопытствовал. Он мне был любопытен тогда. Тут возник такой психологический казус, который, возможно, ему для какого-то самоутверждения был нужен. Как-то он меня пошел по улице провожать из своего дома, и было это недалеко от ИНИОНа, в сторону библиотеки. Вот мы себе идем с ним, разговариваем, вдруг навстречу идет хорошо нас знающий человек, которого я знаю как человека довольно осторожного. Он старается быть приличным, но он не очень знает критерии… потому что внутренне он и сейчас… ну, сейчас все развалилось, вся пирамида ценностей, которая была. Ну, он считал, что надо быть осторожным, но в то же время надо делать серьезное дело. Я забыл уже, какое у него было положение, но чего-то он был начальником. Ну, вот идет он нам навстречу, в десяти шагах. Я Саше говорю: «Давай сделаем вид, что мы его не видим, чтобы он сам выбирал, захочет он нас узнать, не захочет, чтобы не ставить человека в неловкое…»
Шалин: Чистый эксперимент такой.
Левада: Ну, неудобно. Я знал стиль Зиновьева, несколько вызывающий, и то, что он мог бы публично броситься на шею или как-то еще по-другому себя… а того [человека] это могло шокировать. Чтобы избежать этой ситуации… «Ну и пройдем мимо него, – я говорю, – тем более что мы тут заговорились и не очень замечаем, пускай как хочет…» Но встречный не захотел играть в такую игру – увидел, признал, скрыл смущение эффективно… [И говорит: ] «Вот идут как ни в чем не бывало», то-се…
Шалин: Хороший человек.
Левада: Постояли несколько минут, поговорили как ни в чем не бывало, солнце светит…
Шалин: Какой год был примерно?
Левада: Это было в середине 80-го… Но я не про него сейчас говорю, говорю про себя. Мне казалось, что я вел себя естественно. Мне естественно было прийти к Зиновьеву, узнавши, что он написал книжку, и, прочитавши ее, естественно было идти с ним по улице, ну просто потому, что, если бы я стал от него бегать, было бы неестественно и я бы испытывал какую-то колючку, боль оправдания. Или другая проблема. Положим, уезжали люди, я их провожал, из-за этого были скандалы – не со мной. Почему-то меня бог миловал… Я считал, что было бы неестественно вести себя как-то иначе. Я переписывался и перезванивался со всеми, с кем мог, хотя некоторые этим смущались на первых порах…
Шалин: Из некоторых имеется в виду советских?
Левада: Из очень хороших, очень уважаемых… Вот у меня был разговор с одним из знакомых вам социологов. Называть его не хочу. Как-то встретились, спрашивал он, что и как, спрашивал про тех людей, которые уехали. Я стал рассказывать, один – так, другой – так-то. А он меня спрашивает: «А откуда у тебя такие подробные сведения?» Я говорю, я письма получаю…
Шалин: Мне Володя [Шляпентох] говорил, что вы с ним переписывались почти все время.
Левада: Да, когда была охота. И вдруг возник такой момент, который я совершенно не ожидал. Этот сидящий со мной на скамейке, на лавочке, на солнышке человек сказал: «А ты не боишься?» Я очень удивился, а он аж побледнел. Я: «Ты чего?» – «Ну а вдруг что-нибудь…» Я не помню продолжения разговора… Вот такая была коллизия. Я мог предполагать, что какие-то пакости… Ну а что мне надо – я не начальник, я не выезжаю куда-нибудь кататься на конгресс и не хочу этого делать. Не хотел до тех пор, пока не стало возможно это делать в собственном плане…
Шалин: Я пытаюсь себе прояснить, может быть, люди, которые боялись, которые осторожничали… это были люди, которые еще не порвали с системой, которые, возможно, ни во что не верили уже, но хотели сохранять возможность повышаться, чтобы стать начальником, поехать за границу…
Левада: Конечно… Но это меня все не очень интересовало. Все, что я хотел узнать, я мог прочитать. Я слышал такую аргументацию: «Но мне же надо играть полезную роль, я тем-то и тем-то руковожу»… Ну, вроде бы надо. «Ну, мне же надо не потому, что я люблю там куда-то ездить. Надо профессионально знать»… Таких же очень много оправданий существует.
Шалин: То есть общественная повестка дня, она заставляет человека быть осторожным…
Петренко: Но, с другой стороны, народ весь дивился на мою карьеру. Я себе позволяла все и все время как будто росла, росла… Беспартийная…
Шалин: А что вы себе позволяли?
Петренко: Со Шляпентохом, как только он уехал, когда нас погнали, и разговаривали, и встречались… И я все время росла…
Левада: Ей ведь пришлось уйти из социологии примерно в то же время, когда и я…
Шалин: И никаких проблем, никто никогда не вызывал на ковер?
Левада: Ну, тут, видите ли, две вещи. Во-первых, она человек способный и активно работающий.
Петренко: Потом я женщина, беспартийная.
Левада: Во-вторых, она просто никогда не смущалась своего положения.
Петренко: Не раз слышала: «Она же безумная женщина. Неужели вы не понимаете, что…»
Левада: Она была близкой ученицей Володи Шляпентоха. И этого было достаточно, чтобы заставить ее уйти из института…
Петренко: Нет, они меня еще хотели оставить, а Таньку [Т.М. Ярошенко] они прогнали…
Шалин: Вы принимаете объяснения этих людей, которые говорят…
Левада: Видите ли, Дима, ведь каждое время дает не одну позицию, а спектр разных позиций разного типа, наверное, любое время – и нынешнее, и завтрашнее, и вчерашнее… Не знаю, как насчет морализации, я этим не люблю заниматься, с социологической точки зрения нужно видеть весь спектр. Теперь, в каком плане не допустят, просто фактично, и как их можно оценивать, как нормальные, уклоняющиеся, досточтимые… Как их градуировать? Я не знаю точно. По-прежнему я представляю, что я вел себя естественным образом…
Шалин: Естественным для вас. Люди, которые осторожничают, тоже ведут себя естественно.
Левада: Да, но для того положения, в котором я… я за себя благодарил судьбу, за то, что я, будучи…
[Конец первой стороны пленки]
Левада:…даже возможности поставить вопрос, надо ли мне что-то сделать, чтобы мой доклад куда-то приняли [не было]…
Шалин: Значит, вы поставили крест на соображениях конъюнктуры?
Петренко: Да не ставили никакого креста, он просто жил…
Левада: Они [эти вопросы] сами по себе куда-то девались и меня не интересовали. И я думаю, что это хорошо. Я посмотрел на этих, скажем так, маневрирующих моих добрых приятелей, и я им ни в какой степени не завидовал. Им же приходится то ли мучиться, то ли избавляться от каких-то регуляторов. Тут тоже завидовать нечего, [им нужно было] бегать, светиться, изображать из себя и в меру критичных, и в меру верноподданных, чтобы понравиться, скажем, таким, а с другой стороны, не порвать с этими. Ну зачем это? Хорошо, что у меня само так получилось, что я стою в стороне.
Шалин: Люди эти не переставали быть друзьями?
Левада: Вы знаете, я довольно одинокий волк всю жизнь. У меня много добрых приятелей, но я очень затрудняюсь называть людей слишком близкими друзьями…
Шалин: Вы всю жизнь гуляли сами по себе в каком-то смысле, хотя было много детей вокруг вас…
Левада: Знаете, не только. У меня были детишки, и еще был такой все эти годы величайший амортизатор всех переживаний, душевных волнений. Амортизатор был большой, лохматый, у него был большой хвост, это был… собачище.
Шалин: Хорошо, а напрямую вас просили подписать что-нибудь или никогда…
Левада: Вы имеете в виду протесты?
Шалин: Да.
Левада: Было один-два раза, когда мне говорили, не стоит ли мне также подписать, вот есть тут такое-то… Это был период, когда протесты уже были недействующими… Это было во второй половине 70-х.
Шалин: То есть уже не в чехословацкие времена?
Левада: Нет, нет, гораздо позже.
Шалин: В чехословацкие времена никто вас…
Левада: Я вам мельком сказал, что самое знаменитое подписантство было в 67 году. Если бы мне принесли текст – и я, собственно, обижался на приятелей, что они не принесли его, – я бы его непременно подписал… Но получилось так, что до меня его не донесли. Потом мне Седов говорил, что он это нарочно сделал, чтобы на меня не навлекать [гонений], потому что… я не знаю там… Короче, если бы я увидел текст, который подписали два-три хорошо мне известных человека, положим, [Вяч. Вс.] Иванов, [А.М.] Пятигорский, Седов, то подписал бы тут же. И даже не особенно внимательно бы прочитал, зная, что там написано то, что нужно. Кстати, большинство так и делало тогда, потому что не ожидали последовательность [событий]… Но это прошло мимо, и тогда я какие-то малозначащие вещи, из-за которых не поднимали шума, подписал. Но это к делу специально не относится. А дальше были частные такие ситуации… были полуобиды. Причем в тот период… на самом деле, там не было прямой преемственности событий. В конце 70-х диссидентское движение было разгромлено, уехало, пошло на спад… Были такие люди, которые пытались сочинять письма в защиту того или другого, но это уже не имело резонанса ни за рубежом, ни здесь, и казалось, что что-то должно быть иначе. Как-то вот передрались люди. В этой ситуации я то ли один раз, то ли два раза не стал участвовать в коллективных протестах. Они потом и не вышли…
Шалин: А резон, как вы его тогда видели…
Левада: Мне казалось, что это практически не имеет смысла и выбьет меня из той ниши, которая у меня есть. И как-то это тоже, если хотите, принято считать, что первая реакция бывает наиболее оправданной и естественной. Естественна была такая. Мне в деликатной форме показали список людей, причем ненавязчиво, можно было понять, что неплохо бы… но прямо мне не сказали. Потом уже, когда я это прочитал и как-то там оценил, но подписывать не стал, я заметил на лице человека, который со мной говорил… тень огорчения.
Шалин: Не презрения…
Левада: Нет, нет. Мы с ним сохранили хорошие отношения. Ну, не было ничего явного… Поскольку вы задали такой вопрос, то я примерно вспоминаю, а ничего другого больше вспомнить прямо не могу… [Всегда была] возможность думать о том, что происходит, читать, писать… Но я мало что писал, потому что охоты не имел. Кроме того, нужно было выбирать некоторую плоскость, в которой я мог бы построить свои интересы… Нельзя было публиковаться по социологии, но она меня не так стала интересовать в чистом виде… Нашлись такие интересные пересечения, культурология, еще чего-то.
Шалин: Касаясь вопроса о печатании: еще в 60-е годы и позже, когда вы стали печататься в других областях, была проблема внутренней цензуры, когда вы знали, что это важный вопрос и нужно было бы правильно сказать так-то, но это было невозможно. Был ли внутренний цензор или опять-таки вы естественно говорили то, что хотели говорить…
Левада:…Такая штука. Когда я добрался до более или менее абстрактной культурологии, которой я отчасти занимался, то тут все было только во мне, потому что других выходов не было вовне, нечего было цензуровать… Лучшее из того, что я напечатал всерьез, по-моему, это статья об игровых системах… она была давненько…
Шалин: Simulation games?
Левада: Нет, нет, нет, нет. Это проблема игрового поведения… Это было написано в «Системных исследованиях», в 84 году опубликовано, и называлось оно «Структура игрового поведения в социальных системах» или что-то в этом роде[516]. Тогда мне казалось, что это наиболее серьезное, в смысле теоретическом.
Шалин: Это связано с [Грегори] Бейтсоном, идеями Виктора Тернера?..
Левада: Я вам ее пришлю…
Шалин: Ну, это сейчас неважно… Было такое ощущение, что, когда вы пишете, вы что-то недосказываете или выбираете тематику…
Левада: Конечно, в какие-то времена кое-что недосказывал. У меня вчера был разговор с нашим Эрихом Гольдхагеном, которому я сказал… я увидел, что он пишет о фашизме, интересуется им, и я ему сказал, что я когда-то очень занимался этим делом и написал одну статью, в энциклопедии она «Философской»[517]. Она довольно большая и в свое время мне нравилась, а потом… Он меня спросил: «Это написано в духе времени?» Вопрос, на который довольно трудно ответить. Мне самому кажется, что вряд ли совсем в духе времени, хотя и не ясно, что такое дух времени… Вы знаете, что главой редакции «Философской энциклопедии» был академик [Ф.В.] Константинов, который не все читал, но он меня знал хорошо и статью взял читать. На полях верстки он сделал надпись: «Это про них или про нас?»
Шалин: Тут-то вы и поняли, что написали нечто хорошее.
Левада: Нет, это я, простите, заранее знал, тут мне особенно не надо было на него опираться, мне единственное надо было, чтобы он не мешал. Тогда редактор, достаточно приличный и достаточно хитрый человек, в нескольких пунктах написал слово «буржуазный», то есть это не просто такая организация, а «буржуазная»…
Шалин: Сам написал или это Константинов…
Левада: Нет, Константинов – это совершенно особый разговор. Насколько я его знал в те годы, это был человек, который на самом деле все понимал.
Шалин: То есть он был не без маленького царя в голове.
Левада:…Выверт такой психологический – он знает, что он делает пакости, и поэтому он делает их еще больше. В отличие от таких людей, как [М.Т.] Иовчук и Федосеев, которые всегда думали, что они делают то, что надо, что это и есть истина.
Шалин: А [М.Б.] Митин?
Левада: Митина я меньше знаю. Он, скорее всего, был, по крайней мере, в последние годы жизни… ему было на все начихать. Он был поэтому либерал, ничему не мешал, лишь бы не вспоминали, чем он был раньше… Она [статья] была написана еще до скандала, но вышла уже позже, в 70 году. И с тех пор я печатался в 70-м, 71-м, 73-м, в 76-м. Там вышел большой скандал из-за довольно безобидной статьи в «Знании – сила», когда Руткевич с помощью Суслова чуть не разогнал журнал из-за моей статьи. Они испугались… ну, неважно. Потом был какой-то перерыв. Мне не попадалась возможность [написать] что-то любопытное, а чего попало я никогда не старался писать. А потом где-то с 80-х я написал в «Системные исследования» пару статей… Потом в 82-м, в 83-м в труды ВНИИ системных исследований (небольшие сборнички) ставили…
Шалин: Это то, что [А.И.] Каценеленбоген начинал?
Левада: Нет, это институт [Д.М.] Гвишиани[518], [дикое?] заведение, в котором, однако, отсиживались какие-то люди и можно было кое-что писать… Писали то, что думали, но там была система шифровки, старались не договаривать до конца. Статья об антропологии Маркса, о том, как понимал Маркс человека, написанная к столетию с его смерти[519]. Статья была, по-моему, вполне ничего себе… Я думаю, что там было все достаточно спокойно. То есть я думаю, представление Маркса о человеке принципиально неверное, идущее из XVIII века, а вместе с этими представлениями все остальное тоже неверно… Была возможность написать, я считал уместным написать и написал. Потом какие-то кусочки где-то использовал, но сейчас это неважно. Период этот, кстати, был не очень простой. Этот переходник, о котором еще напишут, у него были разные возможности развития.
Шалин: Переходником вы называете период между Брежневым и Горбачевым?
Левада: Да. Там были разные штуковины. При Андропове было провозглашено обострение идеологической борьбы. Были созданы во всех институтах, включая ЦЭМИ, где я тогда был, комиссии по контрпропаганде, было специальное решение такое. Появился именно тогда сейчас уже почти забытый антисионистский комитет[520], известно кого собиравший, – не при Брежневе, не при Сталине…
Шалин: При патроне Горбачева.
Левада: Да. Это сложный такой полупатрон был. И когда все уже, как я могу себе это задним числом представить, трещало и разваливалось, была попытка схватиться не за личность – личности не было, а вот создать такой ореол вокруг идеологии, которой тоже уже на самом деле не было, помимо всеобщих словес… Тогда была попытка бороться с чемто, причем с чем именно, было не определено, потому что практически никого за хвост не хватали.
Шалин: Хотя диссидентам при Андропове досталось.
Левада: Диссидентов прижимали…
Шалин: Если я вас правильно понимаю – и это опять-таки не ваша терминология, – вполне можно было жить в конце 70-х – начале 80-х, видеть Сахарова, сосланного в Горький, не подписывать письма, не выступать открыто и быть человеком… ну, назовите его порядочным или любым другим словом… Быть молчаливым свидетелем не значит быть соучастником…
Левада: Видите ли, сложно оценивать проблему соучастия.
Шалин: И ответственности. Это моральная проблема…
Левада: И ответственности. Ее нельзя подводить под чистую [формулу]. А моральные проблемы не существуют вне социальных рамок. Сравните эпохи 30-х годов, конца 50-х годов, когда был XX съезд, 70-х годов… Они разные. Эпоха 30-х – самая тяжелая пора тотальной системы, тяжелая, потому что возможности средних выборов нет. В этих условиях, когда люди единодушно голосовали, одобряли, требовали, – а вы знаете, что все писатели, все ученые [так тогда поступали], и трудно найти имя, которое осталось бы в стороне…
Шалин: Хотя Каверин отказался явиться на собрание [где осуждали Бориса Пастернака], сказался больным…
Левада: В каком году, простите?
Шалин: В 58-м.
Левада: Я о 58-м сейчас не говорю. Я говорю о первом лаге, о 38 годе. Нулевая точка отсчета – там… В те времена, если бы он не явился, он был бы большой герой или большой страдалец… Я подозреваю, что с некоторой утрешкой, их [времена] можно считать сплошной темнотой. В этой темноте морального выбора у людей практически не было… Я думаю, что кто-то понимал. Некоторые действительно совершали чистое самоубийство, но является ли это морально оправданным – это вопрос.
Шалин: То есть сам социальный контекст времени не давал возможности…
Левада:…Ну, я тут строю такую схему. Пропустим 20 лет. Ситуация здесь не сплошная, а дырчатая, и это представляет определенную задачу, почему люди вели себя так… В 38-м не только все единодушно голосовали, но почти все, будучи схвачены, каялись, почти все, и не только сами каялись, но продавали сразу всех, за самым малым исключением. И не только в партийной среде, но и в литературной среде, в самой такой high brow среде. Так оно было, было потому, что, по-видимому… как вы знаете, тут много загадок на этот счет, об этом написаны тома на Западе, их у нас сейчас издают, чтобы объяснить, как и почему люди закладывали всех других, включая своих ближайших, дальнейших и всех других. Это нельзя просто объяснить даже инстинктом выживания, ведь инстинкт был всегда у людей. Разные есть версии, одна из них, которая мне многое объясняет, но не все, состояла в том, что была полная слепота, полная безвыходность, представление о том, что другое [поведение] никакой поддержки, никакого одобрения – ни от близких, ни от потомков – не получит. Тогда и возникали идеи полного выпотрашивания, полной деморализации. Тогда, конечно, деморализовалось все общество в целом, а не только те, кого хватали, или те, которые голосовали, – все остальные тоже, даже если они прямо не испытывали над собой постоянную угрозу. В целом же rank-and-file man не испытывал ее. Но все это происходило повсюду… Теперь на двадцать лет сдвинемся. Ситуация вариантная, но люди не вариантные. Во-вторых, не было угрозы смерти, но судьба работы, карьеры целиком в руках… Именно к этому времени выросло такое поколение людей, которое держалось за чины, должности, поездки, дачи в Переделкино, заграницу, пятое-десятое.
Шалин: Это уже после Сталина?
Левада: Конечно, конечно. Это уже в хрущевские времена. При Сталине привязанности к подобным вещам быть не могло. Материальные вещи значили мало что, дачи быстро ликвидировались. Собственно, был простой принцип, что, если человек попадал в немилость, у него отрезали телефон, отнимали дачу и выгоняли из квартиры. Вот эта связь при Хрущеве оборвалась. Человек мог попасть в немилость, но он жил в своей квартире…
Шалин: Моральный выбор здесь уже появляется.
Левада: Вот тут возникает моральный выбор, не только привязанность к этому, возникают новые совершенно вещи. Возникает в чистом виде проблема круговой поруки, мысль: подведу – не подведу – себя, семью, друзей, союзников. Да, знаю, что эта игра пакостная.
Шалин: То есть проблема компромисса впервые становится осознанной.
Левада: Наверное, наверное. Поэтому ситуация Солоухина, и не только Солоухина, а всех – Слуцкого…
Шалин: Слуцкий там тоже выступал, потом он почти свихнулся на этом.
Левада: Да, стенограмма [собрания писательской организации] недавно была опубликована, всем об этом теперь известно. Слуцкий потом всю жизнь не мог с этим примириться. Но Слуцкий – это объяснимая ситуация, [человек] военного поколения, человек группового мышления. Ведь эти люди, при всей своей порядочности и талантливости, делили мир на «мы» и «они», «нельзя делать им [уступки]». Эта штуковина жила долго ведь, она упала полностью в сознании только сейчас.
Шалин: Поведение, которое можно было назвать моральным в этот период, оно включало осторожность, сознание того, что могу подвести… Для меня лично, а я был больше человеком 60-х годов, видеть, как мы сидим на собрании, где моего друга выгоняют из комсомола [было трудно]… Должен я встать и сказать: «Что же вы делаете с его жизнью?», зная при этом, что в очень скором времени я последую за ним, или промолчать?.. Остаюсь ли я порядочным человеком или я встаю и говорю [то, что думаю], и только тогда я могу считать себя… Это явно экстремальная ситуация, но и далеко не нетипичная.
Левада: Строго говоря, это создает ситуацию всеобщей замаранности. В чистом виде порядочности тогда трудно было быть, ее мало было, а определенная доля замаранности существовала, широкая… Смотрите, ведь выступления в защиту того времени являются половинчатыми и на самом деле неискренними: «Да, он, конечно, сделал пакость, но он еще молодой, давайте его помилуем… Имейте в виду, что он, возможно, этого не хотел, у него детки есть». Ну и так далее…
Шалин: Теперь возьмем конец 60-х, чехословацкие события. Это уже новый тип [поведения], уже есть выбор…
Левада: Вы знаете, давайте немножко перескочим, для равенства пускай это будет конец 70-х… для равенства – 38-й, 58-й, 78-й, допустим…
Шалин: И 90-е.
Левада: Ну, в 90-е – там нечеткие сроки… Конец 70-х дает нравственное в более чистом виде, потому что этой ситуации всеобщей замаранности нет, ситуация является какой-то дырчатой, дырчатой потому, что…
Шалин: Кто-то не замаран?
Левада: Да, можно длинно обсуждать, есть какие-то образцы чистого поведения и чистой защиты этого поведения, когда появляются адвокаты, которые не говорят, что этого гнусного негодяя надо все-таки чуть-чуть пожалеть, а вот так: «Он не виноват, и пошли вы все». Никто их не слушает, а они так говорят…
Шалин: И при этом попадают в сумасшедшие…
Левада: Не все попадают. Кого-то прижимают, кого-то несколько подхватывают под хвост… Но дело даже не в этом – люди убеждаются в моральной возможности и физической возможности. Что касается физической [возможности наказания], я бы не стал – иначе будет полное оправдание того, что если человек знал, что его за это накажут, то он не должен выступать, – так нельзя ставить [вопрос]… На самом деле, вот такое есть у меня представление, я о нем тоже рассказывал, что было только одно советское поколение, которое вступило в жизнь в 30-х годах. В 20-х годах было поколение более раннее, которое потом было перемолото практически все, и остатки добиты в войне. А с конца 30-х и до конца… оно и работало активно всюду до конца 70-х или до середины 70-х примерно. У него не было возможности смены ни в руководстве, ни на средних постах. Там были военные вырезки и принцип несменяемости. Вот это поколение, воспитанное в ужасе, страхе, тоталитарности, покорности и единодушности, было на самом деле единственным советским поколением. Главная беда системы, по-моему, состоит не в том, что она не дает роста производства, и даже не в том, что там свобода не та. Ведь несвобода в разные времена бывает, 1000 лет держится. Византийская империя в аккурат 1000 лет жила, почему советская не могла? Потому что византийская система воспроизводилась, а советская – не воспроизводилась. Для того чтобы жить, система должна воспроизводить свои компоненты и прежде всего своего человека. А она [советская система] его не воспроизвела. Это поколение прошло, и появилось другое, оно не могло воспринять тех ценностей, оно было открыто опыту, оно знало релятивность этих ценностей, оно было более прагматично… Но вот эта сплошная прагматика, которая сейчас существует, она ломается где-то. В принципе она тоже не поддается моральному обоснованию, а без этого она не стоит. А там, где она ломается, проявляется и становится реальной чистая, серьезная позиция социально-нравственная.
Шалин: То есть это та ситуация, где выбор не только возможен, но он имеет серьезные последствия, оказывает влияние на будущее.
Левада: Он оказывает влияние. Можно ли это иначе трактовать, я не знаю. Не могу сказать, что я здесь все могу объяснить. Но что-то в этом духе появилось.
Шалин: Быстренько два последних вопроса, и мы пойдем. Можете ли вы сказать, что при Горбачеве интеллигенция выиграла не только в моральном отношении – она на виду у всех, может ездить в разные места, – но и в материальном отношении у нее стало больше возможностей, чем до перестройки?
Левада: Трудно об этом сказать, потому что в принципе материальные возможности не улучшились. Что несколько улучшилось… в последнее время хозяйственная вакханалия привела к тому, что зарплат в некоторых проектных и прочих институтах, которые работают по договорам, [не платят]. Отчасти это относится к родственным нам социсследованиям, отчасти даже к нам, потому что у нас кое-что договорное тоже есть, хотя это мало влияет… А других сдвигов в социальном положении нет.
Петренко: Нет, немножко есть, оттого что можно читать, видеть, подключиться…
Левада: Нет, я говорю про материальное положение. Чисто материально, зарплата в Академии наук такая же, как была раньше. Ну, возможности договорные и премирование кое-где бывает, а больше ничего.
Шалин: А можно сказать, что интеллигенция была очень важной составной частью реформ, что без ее поддержки, возможно, она [перестройка] не состоялась бы?
Левада: Конечно, конечно, это самое смелое, что сделал Горбачев, он обратился к гонимым вчера людям за советом и образом поведения.
Шалин: Ведь это единственная по-настоящему поддерживающая его группа.
Левада: Конечно, при всем том, что она же его и ругает изо всех сил, не говоря о том, что он осточертел нам… Он плюется, плюется на каждом шагу: ему и Сахаров поперек горла, и ученые-экономисты поперек горла. Но это немножко другое дело, я его сейчас не объясняю. Он отчасти крутится, отчасти имеет основание искренне плеваться… Но он должен был протянуть им руку более или менее сознательно. Ему некуда было больше [деваться]. Он обратился именно к тем, которые были гонимы, к экономистам и реформистам, к писателям… хотя там тоже разные экивоки были… Так или иначе, без него Сахаров не превратился бы из диссидента проклятого в моральный образец для страны. Сколько Мишка ни плевался по этому поводу, это он сделал своими руками. Он сделал это, это реальный факт. Тут связь есть, противоречивая, но есть… И это создало совершенно невероятную ситуацию. Авторитет интеллигенции в массах больше, чем когда бы то ни было…
Шалин: Он стал выше, чем когда бы то ни было?
Левада: В народе выше… Изменилось общее представление… Дело в том, что вплоть до недавнего времени… всякие поношения и чистки в огромной степени делались руками этого быдла – старого, молодого, в погонах, в партбилетах или без них – это неважно. Сейчас эта ситуация сильно затруднилась, почему, я, конечно, не могу и никто не может сказать о ста процентах. Но достаточно зримое число процентов изменилось или пробудилось…
Шалин: Даже среди широких масс…
Левада: Очень широких. Это наши опросы показывают.
Шалин: А ведь были какие-то выступления на конгрессе против интеллигенции.
Левада: Выступления бывают всякие. Вопрос в том, чьи это выступления. Партийного начальства, военного начальства… Всякое было, есть и будет. Но в целом настроение проявилось или изменилось так, что ищут примеров интеллигенции бастующие шахтеры, плачут по Сахарову таксисты в Москве: «С кем же мы будем теперь… кто нас защитит…»
Шалин: А вы ожидаете, что может быть обратное движение, потому что мало что можно найти в магазинах…
Левада:…Это уже другой вопрос. А вот этот сдвиг и этот имидж интеллигенции, конечно, он не связан прямо с практическими действиями. Сахаров никому хлеба не дал. Кого-то он вытащил из тюряг, но не так много, а вот своим примером он создал такую штуковину… Я видел в его доме на улице Чкалова, где с первого этажа до его квартиры сидят шахтеры, потому что они приехали…
Шалин: Кстати, вы знали его лично?
Левада: Знал, но недавно уже. Мы кое-что вместе с ним делали. Такая смешная вещь, когда была эпоха всякого увядания, то был такой слух, по-моему, пущенный Руткевичем, что…
Петренко: Очень серьезный, очень серьезный был этот слух. А думаю, что именно этот слух и позволил…
Левада:…самое главное скрытое злодейство Левады состояло в том, что он какие-то социологические материалы Сахарову передал. Это было неверно, потому что, во-первых, никаких материалов у нас не было…
Шалин: Когда он пустил этот слух?
Левада: Тогда еще, когда Сахаров был [в опале]. Я никогда никому ничего не говорил по этому поводу, потому что отражать это было нелепо, он прямо об этом не говорил, но я знал, что он об этом в разных местах рассказывает, и это с его слов пошло гулять. А не было у них в руках ни документов…
Петренко: Да их не было в природе.
Левада: Я тогда не был знаком с Сахаровым. Ну, неважно. А вот такой прямой контакт осуществился через много лет потом, и люди, знавшие оба эти момента, как-то так трепыхались по этому поводу… Ну, ладно, это так, by the way. Вот там шахтеры, почему они сидят, дело к ночи идет, – а потому что его нет. Он в одной комиссии, в другой, но должен обязательно появиться… Я не помню, прошлым летом это было, забастовка шахтеров… Дома никого нет, жена тоже где-то бегает. Она им сказала, что дверь открыта, пускай они входят и сидят в квартире. Но они сказали, что им неудобно сидеть в чужой квартире, и вот они с уважением сидят на лестнице, с первого этажа до…
Шалин: И последнее самое. В будущем видите вы возможность того, что роль интеллигенции сохранится по-прежнему, будет она влиятельной силой?
Левада: Знаете, тут отдельная сказка насчет того, что есть разрыв между реальной ролью и имиджем этой роли. Мы имеем больше дело с имиджем интеллигенции, чем с реальной ее работой. Реальное действие, организация, скажем, в межрегиональных группах, заставляет просто в ужас приходить, как на них поглядишь. Это очень несильная организация и многие другие [тоже]. Я знаю практически все, какие есть, со степенью их неорганизованности, болтовни, взаимных там… Ну, это одна сторона, а другая сторона – это имидж. Он существует отдельно и оказывает свое влияние… Все зависит от того, смогут ли они стать более серьезными. Кстати, от этого зависит и реальность попытки людей вроде [Горбача?].
Шалин: Ну, если такие люди, как Шейнис, смогут туда пробиться, то, может быть…
Левада: Какие-то люди пробились. Я не уверен, что [именно] он, потому что он [Шейнис] не очень хороший оратор, потому что он иудейского происхождения, потому что он придерживается очень разумного, но очень осторожного варианта развития событий, потому что ему приходится конкурировать с очень известными неформалами все время. Я хочу вам привести такой смешной пример. Вы Седова помните?
Шалин: Я лично его не знал.
Левада: Из моего сектора, мы сейчас вместе тоже работаем. Вот такой свой человек, на несколько лет моложе меня. Сейчас опять мы вместе работаем, очень славно, так вот, он тоже попытался сделать шаг к выдвижению. Он подписант, он беспартийный, он друг всех диссидентов. Существует в Москве такая организация общества избирателей, которая делает или претендует на то, чтобы [выдвигать депутатов]. Ему сказали: «Согласись, мы сделаем». Он согласился и как-то увлекся этим у себя в районе, он через республику потом уже продвинулся, ну и добился каких-то успехов, в частности побил очень черных негодяев из каких-то около[?] структур. Затем осталось меньше претендентов, и где-то ближе к заключительному туру он вдруг столкнулся с такой вещью, с собранием, где были другие люди, довольно сильные претенденты, и вот получилось так, что… Тут два момента. Во-первых, в ситуациях вопросов и ответов он допустил, по его мнению, две нечаянных, но [серьезных] оплошности. Он сказал что он человек умеренный, придерживается умеренных позиций, и считает, что правильной является умеренная стезя. Во-вторых, он забыл сказать, что он беспартийный, а его соперник это выпятил на первый план и даже написал в предвыборной листовке. И Седов проиграл.
Шалин: Значит, чистая тактика оказывается важна…
Левада: Да не просто тактика, важно, на каких ценностях эта тактика держится – на радикальности, на открытой [контр?]атаке.
Шалин: Последний вопрос вам, Лена. Вы считали себя внутренним эмигрантом?
Петренко: Да не-е-т.
Левада: Это не очень ясное определение. Простите, что перебиваю.
Шалин: Но им пользуются, и я думаю, что за ним стоит какой-то феномен.
Левада: Характерным внутренним эмигрантом считается Пастернак, в какой-то мере Ахматова и Зощенко, можно на это намотать еще ряд других примеров.
Шалин: Но я имею в виду не чистый, а какой-то половинчатый уход из жизни.
Левада: Это выдуманные вещи, потому что на самом деле Борис Леонидович Пастернак писал патриотические статьи…
Петренко: Конечно.
Левада:…и переводил стихи Сталина, которые потом не были напечатаны в 30-м году.
Шалин: Переводил на какие языки?
Левада: На русский. В 39-м, когда готовился юбилей этого самого пахана, разные шишки поручили Пастернаку – Пастернаку, поскольку он пользовался расположением хозяина каким-то, которое его спасало, – перевести его юношеские стихи из каких-то там грузинских изданий. Он занимался этим, а потом тот [Сталин] узнал об этом и решил, что это печатать не надо. Все это погорело, и они не были напечатаны.
Шалин: Но он готов был оказать услугу. Значит, вы считаете, что внутренний эмигрант – это весьма неясный тип. Отчасти это зависит от того, как мы определяем этот термин. Для меня, например, Игорь Кон – внутренний эмигрант, хотя вы можете сказать, какой же он внутренний эмигрант, если он всю жизнь печатался в «Правде», «Коммунисте»…
Петренко: Дело же не в том, что печатался…
Шалин: Ну да, он печатал хорошие вещи там, то, что многие люди побоялись бы напечатать…
Левада: Два года назад он [Кон] напечатал очень хорошую статью в «Коммунисте». Это никакого отношения к эмиграции не имеет.
Шалин: Я имею в виду 60-е, 70-е годы, когда было противоречие между историей, в которой ты себя находишь, и личной биографией, личными ценностями.
Левада: Были люди, которые имели личную жизнь другую, которые здесь что-то говорили, ля-ля, голосовали, руководили, но на самом деле считали нужным…
[Запись заканчивается.]
1990Свобода и несвобода
Современность Оруэлла: аналогии и анализ
Столетие со дня рождения Дж. Оруэлла в 2003 г. было отмечено различными мероприятиями и публикациями, в том числе и в России. Давнишний друг нашего журнала [ «Вестник общественного мнения»] В.Э. Шляпентох поделился некоторыми впечатлениями о том, как сейчас воспринимается этот удивительный автор американской ученой публикой[521]. К сожалению, многочисленные книги и статьи, на которые ссылается В.Э. Шляпентох, мало кому известны у нас. Можно представить, что околоюбилейный ажиотаж, как обычно бывает в таких случаях, не только стимулирует интерес к изучению наследия юбиляра, но и даст повод для обсуждения деталей личного и биографического порядка, мелких споров и воспоминаний о спорах «по случаю» и пр.
Между тем значим и велик Дж. Оруэлл именно «книгой», притом одной. Все остальные его произведения могут, наверное, считаться подготовительными материалами к «1984». В этой книге (условно именуемой романом, на деле это социально-аналитический трактат, гиперболизированная картина времени, как бы нанизанная на сюжетную канву) сконцентрирован страшный опыт середины XX в. и содержится доселе не утратившее своего значения предупреждение современникам и потомкам. Если о священных текстах принято говорить, что их авторов вдохновляли силы небесные, то можно сказать, что пером Дж. Оруэлла, независимо от желания автора, водила История минувшего столетия. Поэтому каждая эпоха и каждое поколение читают и понимают содержание его книги по-разному, обнаруживают в них новые слои смыслов.
Когда в Москве в конце 1950-х гг. не распространялись, а лишь стали переходить из рук в руки машинописные экземпляры перевода оруэлловской книги, первым впечатлением было: вот долгожданный луч света, брошенный в темноту нашего прошлого (тогда еще казалось, что мы от него сумели отойти). Спустя 10 лет перевод уже можно было в довольно приличном самиздатском виде купить чуть ли не в подворотнях, а многоопытные литкритики даже пробовали печатно похваливать автора, представляя его ярым антифашистом. Еще через 20 лет «1984» дождался нормальных переводов и массовых изданий. Как мне представляется, примерно в то же время многие стали отмечать юбилей этой книги, понимая, что ее предметом служат не просто известные уже «прелести» тоталитарных режимов, а корни – институциональные и человеческие, – питающие любые разновидности и аналоги таких режимов. А сейчас, перечитывая книгу на излете наших надежд на скорое и полное расставание с отечественным вариантом («Евразии», в терминологии Оруэлла), в ней можно обнаружить не столь заметные ранее откровения и предупреждения, как будто для сегодняшней реальности предназначенные.
Если рассматривать «1984» как факт социальной мысли, то именно этим книга сейчас интересна прежде всего. Причем важно видеть не только актуально звучащие суждения, намеки, недосказанности Оруэлла, но и те рамки его мысли, которые определены рубежами самого исторического и интеллектуального опыта. Ведь он видел только навязанный извне конец нацистского эксперимента, но не мог видеть разложения советской системы. О существовании же китайского варианта (как будто прообраз «Остазии») лишь смутно догадывался. Возможно, с этим связано многократно повторяемое в книге, прежде всего устами О’Брайена-палача, утверждение о вечности режима партийного господства. Как известно, подкрепляется это суждение целой системой концепций – геополитических (нескончаемая война в системе трех подобных друг другу сверхдержав), социально-структурных (иерархия общества, внутренняя и внешняя партия), наконец, выражаясь современным языком, «социально-технологических» (всемогущество пропаганды). Каждая из этих сфер отношений представлена абсолютно совершенной, неуязвимой и поэтому незыблемой на века и тысячелетия.
В этой картине безысходной фантастически тотальной реальности, несомненно, отражается и замысел автора. Истолковать его можно примерно так: предупредить об опасности всемирного господства тоталитарных режимов, чтобы побудить к поискам их несовершенства и уязвимости, а тем самым к возможности сопротивления. Полвека, прошедшие после выхода книги, показали, как трещат и распадаются, впрочем не уходя целиком, прообразы оруэлловских гипербол, ни один из которых не стал совершенным и вечным. Процессы эти оказываются куда более длительными и сложными, чем представлялось лет 15 тому назад. Это особенно хорошо видно вблизи от исторических центров событий. Тем важнее внимательный анализ тех предпосылок и механизмов тоталитарных режимов, которые были замечены или угаданы автором «1984».
Одной из важнейших предпосылок системы, нарисованной им, служит полнейшее, абсолютное обезличивание людей. Человеческий «материал» требуется режиму для исполнения определенных социальных функций, никакие индивидуальные интересы и слабости не допускаются.
Правда, даже в фантастически организованном мире Дж. Оруэлла это требование полностью не соблюдается, поэтому постоянно действует жесточайший «воспитательный» (он же и карательный) механизм. В конечном счете его жертвами становятся не только тайные диссиденты наподобие Уинстона Смита и его подруги, но и все упомянутые в книге сослуживцы и знакомые, если они не доносчики и провокаторы: цинично-умный верноподданный Сайм, глуповато-лояльный Парсонс, неопрятный Амплфорт.
Но и правящая элита в мире «1984» – «внутренняя партия», членам которой дозволено купаться в роскоши, пользоваться слугами и пр., – не более как изощренные и тоже обезличенные функционеры тоталитарного режима (тот же О’Брайен). Если рядовых активистов («внешняя партия») удерживают в должных рамках постоянный страх наказания, голод и ненависть к воображаемым врагам, то элитарных – циничный расчет, основанный на убеждении в незыблемости системы. Даже как будто реально где-то живущий злейший враг Э. Голдстейн важен лишь как символический раздражитель массовой ненависти.
Предельно обезличенной является, что весьма важно для понимания всей картины, и символическая вершина системы – образ верховного вождя, «Старшего Брата» (СБ), в менее удачном переводе – «Большой Брат» (ББ). Его усатые изображения, сопровождаемые слоганом «СБ смотрит на тебя», на каждом шагу, на его решения ссылаются постоянно, но никто никогда его не видит и не слышит. У. Смита постоянно одолевают сомнения в реальном существовании ненавистного ему СБ. В «книге» главного противника (и в то же время – главного теоретика) режима Э. Голдстейна он находит важные пояснения: «Старший Брат – это образ, в котором партия желает предстать перед миром»[522]. «В конечном счете строй зиждется на убеждении, что “Старший Брат” всемогущ, а партия непогрешима» (с. 279). Но для того чтобы выполнить такую функцию, СБ должен считаться таким же бессмертным, какой считает себя партия, иначе говоря, быть вечным символом независимо от существования или отсутствия каких-то его персональных воплощений. (Ближе всего такому идеалу соответствовал неизвестный еще Оруэллу прижизненный образ Мао.)
Между тем все реально известные тоталитарные системы нуждались именно в персонализированном высшем авторитете, наделенном (часто вторичной или иллюзорной, приписанной) харизмой и некими человеческими чертами (тоже сформированными пропагандой, на современном новоязе – политтехнологами, имиджмейкерами и т. п.). Огромные усилия таких аппаратов направляются на формирование имиджа сурового, но обаятельного, заботливого, сентиментального и т. п. «сверхлидера». Этим, как представляется, существенно отличаются современные тоталитарные режимы от любых, даже наиболее деспотических вариантов традиционного господства (монархического, аристократического, теократического и т. п.), которые могли быть как персонализированными (народной, фольклорной традицией), так и совершенно безличными. К тому же традиционная персонализация авторитета непременно подчинена жестким стандартам. В современных же формах, не только тоталитарных, но также имитативных, существуют значительные возможности для личного произвола, прихоти, пристрастий, просто самодурства верховного лидера.
Когда У. Смита подвергают чудовищным пыткам, требуя не просто подчиниться СБ, но возлюбить его, это означает императив полного отказа от собственной личности и абсолютного растворения в безличной воле партии. Причем такое «исцеление» от самого себя служит условием не жизни, но смерти, о чем Смита и предупреждал палач – его исправят, чтобы расстрелять. Отсюда и конец (вполне в стиле Ф. Кафки в «Исправительной колонии»): «Долгожданная пуля входила в его мозг. <…> Он любил Старшего Брата» (с. 195).
Как известно, в оруэллиане тоталитарный порядок распространяется примерно на 15 % «партийного» населения, подавляющее большинство составляют бесправные, подконтрольные, но свободные в обыденной жизни «пролы». У них сохраняются нормальные человеческие пристрастия, семья, любовь, память, песни, традиции; это побуждает У. Смита понять, что «пролы – люди <…>. Мы – не люди» (с. 155). Получается, что этот порядок останавливается не перед возвышенными порывами (их можно повернуть в нужном направлении или просто уничтожить), а перед обыденностью человеческого существования. Этим, впрочем, не оправдывается отчаянная надежда Смита на грядущее когда-нибудь восстание «пролов» против партии, скорее здесь сказывается былая левизна позиций самого автора «1984». В «книге» врага Голдстейна указана другая опасность для режима – «образование новой группы способных, не полностью занятых, рвущихся к власти людей и рост либерализма и скептицизма в их собственных рядах» (с. 194–195). Это опасение все же ближе к реалиям исторического опыта.
Нельзя обойти два замечания (в той же будто бы вставной «книге») относительно общественного мнения в тоталитарном режиме «Океании»: «Когда изобрели печать, стало легче управлять общественным мнением; радио и кино позволили шагнуть в этом направлении еще дальше. А с развитием телевизионной техники <…> частной жизни пришел конец» (с. 192). Здесь акцентируется сугубо техническое развитие массовых коммуникаций, правда, социально подкрепленное строжайшим запретом для «внешних» партийцев отключать грохочущие и одновременно подсматривающие экраны. Отсюда и «новая аристократия», куда наряду с бюрократами, учеными, инженерами, политиками и профсоюзными лидерами попадают также «специалисты по обработке общественного мнения» и «социологи» (там же). Из контекста ясно, что речь идет о тех, кого сейчас именуют «политтехнологами», и заняты они, разумеется, не изучением общественного мнения, а манипулированием таковым. Собственно, в нарисованной Оруэллом картине не может быть и места для общественного мнения как особого социального института (как не могло его быть и в исторически реальных прообразах этой картины), имеется в виду просто состояние умов бессловесной массы, которым требуется неустанно управлять и контролировать.
В заключение выскажу несколько соображений, непосредственно навеянных «заметками» В.Э. Шляпентоха; позволяю себе их изложить с любезного его согласия. Полезно знать, как «смотрится» книга Оруэлла с разных точек наблюдения и с разного расстояния, имея в виду социальное расстояние читателей от тех регионов, события в которых непосредственно разбудили аналитическое воображение ее автора. Трудно представить, чтобы сегодняшний дотошный американский исследователь мог смотреть на оруэллиану такими же глазами, как те, кто пережил и перечувствовал опыт тоталитарных режимов. В какой-то мере это касается и наблюдателей из «эмигрантского» далека, на которых всегда подсознательно действует такой фактор, как стремление радикально оторваться от «прошлого» со всеми его проблемами и сложностями. Собственно говоря, элементы разномыслия возникают преимущественно в нюансах соотнесения определенных компонентов мира «1984» с социальными реальностями. Остановлюсь только на двух из них.
1. Порой создается впечатление, что В.Э. Шляпентох принимает весьма расширительную трактовку оруэллианы, которая относима к любому социальному порядку, власти, принуждению. Тоталитарная власть в некоторых его суждениях чуть ли не отождествляется с «сильной» властью, навязчивая дисциплина на кафедре американского университета сопоставляется с порядками в ГУЛАГе, принудительное единомыслие в «Океании» – с тенденциями конформизма в либеральном американском обществе. Моменты сходства хорошо заметны, особенно с очень дальнего расстояния. Но существует и определенный предел сближения принципиально разных социальных феноменов; необоснованно перейдя его, даже не задумываясь об этом, можно утратить не только возможность соотнесения предмета исследования с социально-историческими реалиями прошлого, но и определенность позиций в актуальных и острейших современных ситуациях. Не только сегодняшняя Россия, но и большая часть современного мира еще долго будут вынуждены относиться к тоталитаризму как реальной и серьезной угрозе. Думаю, что «нормальным» никакое тоталитарное общество не было и не могло быть по самой своей природе. Социальный порядок нужен всякому обществу и государству, но особой проблемой он становится там, где сложившийся, привычный, «нормальный» порядок отсутствует. И сильное государство отнюдь не то, где власть постоянно демонстрирует насилие. Конец советского государства, как и власти С. Хусейна в Ираке, показал, что устрашающая власть сильной не была…
2. Хотелось бы оспорить некоторые упрощения в трактовке нашего советского прошлого 1960 – 1980-х гг. Вряд ли правомерно непосредственно относить данную Дж. Оруэллом характеристику «пролов» как «единственно свободного класса» к массе населения СССР.
И вряд ли стоит сводить действительно трудный, противоречивый, по-моему, еще далеко не завершенный процесс преодоления страхов и соблазнов системы в более образованных ее слоях к противопоставлению действительно героического радикализма В. Буковского жалкому конформизму всех прочих, надеявшихся на либерализацию страны, «социализм с человеческим лицом» и т. п. Историки и социологи, наверное, еще многие годы будут дискутировать о том, в какой мере способствовал отечественный «либерализм», например, от А. Твардовского до А. Сахарова, укреплению, а в какой – расшатыванию тотальной системы.
2003Свобода как необходимость
Искатели истины в социальном знании давно узнали и оценили работы и саму фигуру Зигмунта Баумана. В те годы, когда современная социологическая литература у нас была привлекательной, но непонятной редкостью, многие социологи «первого призыва» – тогда еще довольно молодые – учились разбираться в ее проблемах и методах мышления с помощью книг, издававшихся польскими коллегами. Когда где-то в середине 60-х мне нужно было подготовить курс лекций по социологии, образцом послужила блестящая книга З. Баумана «Введение в социологию».
Несколько наивные увлечения давних наших социологических опытов давно уступили место профессиональным разработкам чуть ли не по всем признанным темам, ежегодно переводится и публикуется множество специальных работ различного уровня и качества. Но, взяв в руки книгу З. Баумана «Свобода»[523], снова видишь, что такого разговора (по содержанию и по стилю) нам не хватает. Не хватает глубокого дыхания. Категории и парадигмы современной социологической науки, преимущественно прикладной, узконаправленной, имели глубокие корни в теоретической, исторической, социально-философской традициях. Об этом напоминает книга З. Баумана, где речь идет прежде всего о проблемах понимания свободы как абсолютной человеческой ценности, выступающей в парадигмах идеологических конструкций и в повседневной жизненной практике. С первых страниц своей книги автор как будто твердой рукой ведет читателя от проблемы к проблеме, обсуждает различные повороты темы, тактично разбирает с ним аргументы и возражения с разных сторон.
Не пытаясь пересказать содержание этих бесед, оставляю читателя наедине с увлекательной и убедительной мыслью автора. Ограничусь лишь некоторыми – навязанными социальными реалиями и профессиональным опытом – соображениями о том, как смотрится сегодня переход от теоретических высот к практическим, приземленным поворотам темы свобод (уже с маленькой буквы и во множественном числе).
В самом начале книги З. Бауман делает очень важное предупреждение: свобода кажется чем-то простым и понятным, когда ее нет. Узник рвется на свободу, не задумываясь над ее проблемами. Но, когда свобода приходит, она всегда оказывается и неполной, и непростой, неоднозначной, иногда даже опасной и нежеланной. С такого рода ситуациями людям и обществам приходится сталкиваться буквально на каждом шагу. В последнее время на переднем плане, более всего нас волнующем, – смысл и судьба свободы в недавно освободившихся (разными путями, от различных оков) странах, регионах, группах, в сознании и поведении людей. Как и в прошлом, люди далеко не всегда умеют определять меру собственной свободы, ценить ее и тем более – ею пользоваться.
Международные общественные организации (Human Rights Watch) делят страны на свободные, частично свободные, несвободные, принимая во внимание политический режим, положение массмедиа, права человека. Пытаясь разобраться в общественном мнении, мы постоянно сталкиваемся с другими оценками – с теми, которые используют люди («массовый» человек), определяя собственное положение. Результаты иногда поразительны. По данным социологических опросов, в 1995 г. утверждали, что чувствуют себя в нашем обществе «свободными людьми», 29 % взрослых граждан России, в 1999-м – 35 %, а в 2003-м – уже все 66 %. Между тем за эти годы не наблюдалось у нас ничего похожего на «шествие свободы в мире» (как представлял историю Гегель). Дело, скорее всего, в критериях, которыми пользуются люди: избавление от крайней нужды и угрозы остаться без очередной зарплаты многие готовы считать признаком наступления свободы.
Значительно серьезнее, впрочем, сегодня проблема сохранения обретенных обществом свобод. Большинство населения согласно с тем, что свободы слова, печати, занятия бизнесом – полезны и важны. Но не умеет и не хочет видеть, что приобретенные за последние годы свободы и права (не завоеванные в борьбе, а скорее дарованные обстоятельствами) оказываются под угрозой ограничений и отмен. Люди чаще готовы – по крайней мере на словах – высоко ценить те свободы, которые на них ответственности не возлагают, например «зрительские» (возможность смотреть, слушать, читать и пр.). Но никак не готовы эти свободы отстаивать. Даже заранее соглашаются с отменой прав и свобод, особенно когда это делается под предлогом интересов безопасности. В обстановке искусственно раздуваемого страха перед опасностью «мирового терроризма» большинство россиян соглашается отказаться от свободы передвижения и информации, от неприкосновенности личной жизни, то есть согласно вернуться к временам запретов, «прослушек», «глушилок» и прочих прелестей незабытого репрессивного порядка.
С недавних пор в публичную сферу запущено лукавое оправдание этой тенденции: нас убеждают не печалиться об утрачиваемых правах и свободах, так как их раньше в стране не было и народ к ним не привык. Уговаривают отречься от ростков свободы, от надежд на свободу, от стремления к свободе, зародившихся в годы перестроечных иллюзий.
Пожалуй, самое сложное в свободе – ее связь с ответственностью. Несвободный человек не выбирает путь и не отвечает за свои поступки. (Помните у Булата Окуджавы: «Как славно быть ни в чем не виноватым совсем простым солдатом».) Свободный человек – и только свободный человек – отвечает за себя и за других, за своих близких и за свою страну, за свой выбор и свои ценности. Извечные контраверзы предопределения и свободы воли приобрели в минувшем веке весьма конкретные и зловещие обличья. Э. Фромм объяснял пришествие тоталитаризма тем, что растерявшийся человек «бежал от свободы», соглашаясь отдать фюрерам с их доктринами полноту ответственности за дела и мысли.
Печальные уроки истории (в том числе – уроки утраченных свобод) не всех учат.
Сегодняшняя российская дилемма – выбирать или назначать (для начала региональное руководство, но нетрудно догадаться, что дальше речь неизбежно пойдет о других постах) – характерный пример невыученного исторического и социального урока. Пока согласны отказаться от своего права выбирать и своей ответственности за выбор около половины граждан, при дальнейшем «технологическом» нажиме их может стать и больше. Соблазн мазохистского отречения от свободы и ответственности достаточно силен и силой власти подкрепляем.
Современный опыт приобщения к свободе, в том числе и отечественный при всей его ограниченности, подтверждает, что пользоваться свободой труднее, чем мечтать о ней, а жить в условиях реальной свободы значительно сложнее, чем при ее отсутствии. Но учиться этому все равно придется. Романтические манифесты, повторявшие, что «человек рожден свободным, но оказался в оковах», как и картины «скачка в царство свободы», остаются достоянием социальной мифологии двух прошлых веков. Еще раз вспомним чрезвычайно актуальное предупреждение Зигмунта Баумана: не бывает «естественной» свободы. Учиться свободе – значит учиться постоянно, во всех ситуациях и на всех уровнях, от индивидуального до социетального, делать собственный ответственный выбор, участвовать в нем. Только такая свобода в конечном счете необходима обществу и человеку.
2006Источники текстов
Альбер Швейцер – мыслитель и человек // Вопросы философии. 1965. № 12. С. 91–98.
«Феномен Тейара» // Вопросы философии. 1962. № 1. С. 153–155.
Основные направления буржуазной социологии религии // Философские проблемы атеизма. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 63 – 105.
Точные методы в социальном исследовании // Вопросы философии. 1964. № 9. С. 13–24.
Сознание и управление в общественных процессах // Вопросы философии. 1966. № 5. С. 62–73.
Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки. М.: Наука, 1969. С. 186–224.
Основные направления и проблемы социологических исследований (печатается впервые по тексту из домашнего архива Ю.А. Левады).
Урбанизация как социокультурный процесс // Урбанизация мира. М., 1974. С. 19–31.
Почему дороги ведут в Рим: Размышления о социокультурной модели – или, на старомодный лад, о «душе» – города // Знание – сила. М., 1976. № 4. С. 24–27.
К проблеме изменения социального пространства – времени в процессе урбанизации // Урбанизация и развитие новых районов. М., 1976. С. 25–37.
О построении модели репродуктивной системы: (проблемы категориального аппарата) // Системные исследования: методологические проблемы: Ежегодник, 1979. М., 1980. С. 180–190.
Социальные рамки экономического действия // Мотивация экономической деятельности. М., 1980. С. 79–85.
Homo oeconomicus (печатается впервые по тексту из домашнего архива Ю.А. Левады).
Проблемы экономической антропологии у К. Маркса // Экономика и общество: (Истоки и современные проблемы марксистской методологии исследования социально-экономического развития). М., 1983. С. 86–97.
Культурный контекст экономического действия // Проблемы системного анализа развития культуры. М., 1984. С. 11–17.
Игровые структуры в системах социального действия // Системные исследования: методологические проблемы: Ежегодник, 1984. М., 1984. С. 273–293.
Сталинские альтернативы // Осмыслить культ Сталина. М.: Прогресс, 1989. С. 448–459.
1953–1964: Почему тогда не получилось? // Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии. М.: Политиздат, 1989. С. 171–186.
Погружение в трясину: Акт первый: 1964–1968 // Московские новости. 1988. № 46 (436). 13 нояб. С. 8–9.
Шестьдесят восьмой, переломный // Знание – сила. 1998. № 9/10. С. 74–79.
Секрет нестабильности самой стабильной эпохи // Погружение в трясину: (Анатомия застоя). М.: Прогресс, 1991. С. 15–30.
Бюрократизм и бюрократия: необходимость уточнений // Коммунист. 1988. № 12. С. 73–84.
Размышления вслух об альтернативах нашей истории и нашего сознания, навеянные статьями современных авторов и одной старой притчей // Знание – сила. 1989. № 2. С. 11–17.
Какие ресурсы сегодня исчерпаны? // Постижение: Социология. Социальная политика. Экономическая реформа. М.: Прогресс, 1989. С. 70–83.
Мера всех вещей // В человеческом измерении: Выйти из королевства кривых зеркал… М.: Прогресс, 1989. С. 11–24.
Уходящая натура? // Знамя. 1992. № 6. С. 201–211.
Феномен «человека советского»: социологические параметры // Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М., 1993. С. 10–48.
Десять лет перемен в сознании человека // ОНС: Общественные науки и современность. 1999. № 5. С. 28–44.
Homo Post-Soveticus // ОНС: Общественные науки и современность. 2000. № 6. С. 5 – 24.
Общественное мнение и общество на перепутьях 1999 года // Куда идет Россия?.. Власть, общество, личность. М., 2000. С. 147–161.
Диагноз: агрессивная мобилизация с астеническим синдромом // Знание – сила. 2000. № 1. С. 22–24.
Август-91: несостоявшийся праздник? // Знание – сила. 2001. № 8. С. 17–20.
Весна 2001-го: дела и символы // Вниз по вертикали: Первая четырехлетка Путина глазами либералов. М.: КоЛибри, 2005. С. 33–49.
Рамки и варианты исторического выбора: несколько соображений о ходе российской трансформации // Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации. М., 2003. С. 162–170.
Молодежь – новая или «старая»? // Знание – сила. 2004. № 5. С. 26–27.
В какие игры играют толпы. Социологические заметки на актуальную тему // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 4. С. 59–61.
Неюбилейные размышления о перестройке // ОНС: Общественные науки и современность. 2005. № 6. С. 16–22.
После Империи // Вестник общественного мнения. 2005. № 6. С. 8 – 10.
Общественное мнение в политическом зазеркалье // Вестник общественного мнения. 2006. № 2. С. 8 – 18.
Особые люди // Знание – сила. 2006. № 4. С. 32–36.
Альтернативы: обретенные и утраченные // Вестник общественного мнения. 2006. № 3 (83). С. 8 – 13.
Бремя мнимого выбора // Вестник общественного мнения. 2006. № 4 (84). С. 8 – 14.
Человек недовольный? // Вестник общественного мнения. 2006. № 5 (85). С. 12–17.
Проблема интеллигенции в современной России // Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития. М., 1994. С. 208–214.
Знакомое «новое корыто» // Знание – сила. 2002. № 7. С. 32–39.
Власть, элита и масса: параметры взаимоотношений в российских кризисах // Вестник общественного мнения. 2006. № 1. С. 8 – 13.
Элитарные структуры в постсоветской ситуации // Проблема «элиты» в сегодняшней России. М., 2007. С. 4 – 18.
«Научная жизнь – была семинарская жизнь»: [Интервью] // Социологический журнал. 1996. № 3/4. С. 236–245.
«Военную интервенцию как способ присоединения Украины население России не поддержит…»: (интервью Валентину Пустовойту) // День: Ежедневная всеукраинская газета. (Киев). 1998. 5 янв. № 1 (287). С. 1, 6.
Это было уникальное, историческое явление // Шестидесятники. М., 2008. С. 38–41.
Юрий Буртин: Человек и время // Новое литературное обозрение. М., 2001. № 48. С. 90–92.
«Я считал, что было бы неестественно вести себя как-то иначе» / Интервью Д.Н. Шалина с Ю.А. Левадой и Е.С. Петренко // Социологический журнал. М., 2008. № 1. С. 155–174.
Современность Оруэлла: аналоги и анализ // Вестник общественного мнения. 2003. № 2 (68). С. 70–73.
Свобода как необходимость // Бауман З. Свобода. М.: Новое изд-во, 2006. С. 7 – 10.
Библиографический список публикаций Ю.А. Левады[524]
Книги и статьи
1955
Об особенностях народной демократии в Китае: Автореф. дис… канд. филос. наук / МГУ им. М.В. Ломоносова. Филос. факультет. – М., 1955. – 16 с.
1956
О «христианском социализме»: Лекция, прочитанная в Московском планетарии на городском семинаре лекторов. – М., 1957. – 32 с.
Могущество научного знания // Наука и жизнь. – М., 1956. – № 2. – С. 33–37.
Почему происходит борьба между наукой и религией (о современных попытках «примирения» веры со знанием) / Моcк. гор. отделение Всесоюз. об-ва по распространению полит. и науч. знаний. – М., 1956. – 42 с.
Современный фидеизм и наука // Вопр. философии. – М., 1957. – № 3. – С. 72–79. [Пер. на фр. яз.: Le fideisme modeгne et lа science / Y. Levada // Recherches internationals: à la lumière du maгxisme. – Р., 1958. – № 6. – Р. 189–204; пер. на чеш. яз.: Soudobý fideismus а véda / Y.А. Levada // Koménsky. – Pгaha; Brno, 1960. – R. 84. – № 3. – S. 129–136.]
1958
Материал к лекции на тему: «О борьбе науки с религией в современных условиях». – М., 1958. – 32 с.
Бертран Рассел – критик религии: [Рец. на кн.: Russell B. Why am not a Christian and other essays on religion and related subjects. N.Y., 1957] // Вопр. философии. – М., 1958. – № 11. – С. 178–180.
Карл А. Витфогель. Восточный деспотизм: [Рец. на кн.: Wittfogel К.А Oriental despotism. New Haven; L., 1957] // Сов. китаеведение. – М., 1958. – № 3. – С. 189–197.
Неоконченный спор: (По страницам журнала «Бюллетень ученых-атомщиков») // Вопр. философии. – М., 1958. – № 4. – С. 186–188.
Победа социалистической революции в Китае и международный реформизм // Мировая экономика и междунар. отношения. – М., 1958. – № 9. – С. 19–30.
Социалистическая революция в Китае и ее буржуазные критики // Сов. китаеведение. – М., 1958. – № 1. – С. 153–160.
1959
К вопросу о социальных корнях религиозности в современном буржуазном обществе // Вопр. философии. – М., 1959. – № 4. – С. 64–73.
Непримиреннiсть науки i релiгii. – Киiв, 1959. – 48 с. – (Т-во для поширення полiт. i наук. знань Укр. РСР. Сер. IV. № 7).
Социализм – верный путь прогресса и процветания: (К 10-летию образования Китайской Народной Республики) // Мировая экономика и междунар. отношения. М., 1959. – № 10. – С. 3 – 12.
Спутник атеиста / М.С. Беленький, Е.А. Беляев, Ю.А. Левада и др.; отв. ред. С.И. Ковалев. – М.: Госполитиздат, 1959. – 544 с., 23 л. илл.
1960
Про так званий християнський соцiалiзм. – Киiв, 1960. – 40 с. – (Т-во для поширення полiт. i наук. знань Укр. РСР. Сер. IV. № 7).
1961
Борьба науки и религии / А.С. Арсеньев, Л.Н. Плющ, Ю.А. Левада, М.Л. Гапочка // Основы научного атеизма / Ред. колл.: И.Л. Цамерян (рук.) и др. – М.: Госполитиздат, 1961. – С. 57 – 108.
Современное «социальное христианство» // Вопр. философии. – М., 1961. – № 9. – С. 53–64. [Пер. на венг. яз.: Napjaink «szociális kereszténysége» / J.A. Levada // Világossag. – Budapest, 1961. – № 11. – Old. 5 – 11.]
Спутник атеиста / М.С. Беленький, Е.А. Беляев, Ю.А. Левада и др.; отв. ред. С.И. Ковалев – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Госполитиздат, 1961. – 526 с., 24 л. илл.
1962
О современных попытках обновления религии. – М.: Госполитиздат. 1962. – 78 с. – Подп.: Ю.А. Федин.
Современное христианство и социальный прогресс. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 208 с.
Противоположность науки и религии / Ю.А. Левада, М.Л. Гапочка, А.И. Игнатов и др. // Основы научного атеизма: Учеб. пособие / Редколл.: И.Л. Цамерян (рук.) и др. – 2-е, перераб. изд. – М.: Госполитиздат, 1962. – С. 50 – 106.
«Феномен Тейара» и споры вокруг него // Вопр. философии. – М., 1962. – № 1. – С. 153–155. [Пер. на итал. яз.: Teilhard in USSR / Levada Ju.A. // Vigorelli G. Il gesuita proibito: vita e opere di P. Teilhard de Chardin. – Milano, 1963. – P. 375–380; пер. на венг. яз.: Viták a «Teilhard-jelenség» körül / J.A. Levada // Világossag. – Budapest, 1962. – № 6. – Old. 38–40.]
1963
Индийская философская и религиозная мысль по тамильским источникам // Вопр. философии. – М., 1963. – № 7. – С. 177–178. – Подп.: Ю.А. Федин.
Основные направления буржуазной социологии религии // Философские проблемы атеизма / Ред. колл.: И.Л. Цамерян (отв. ред.), Л.Н. Великович, Н.И. Губанов, Ю.А. Левада. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 63 – 105.
Социологические проблемы критики религии // Вопр. философии. – М., 1963. – № 7. – С. 37–49. [Пер. на итал. яз.: Problemi sociologici di critica della religione / Levada J. // Rassegna Sovietica. – 1963. – Luglio – settembre. – P. 3 – 23; пер. на венг. яз.: A valláskritika szociológiai problémái / Levada J.A. // Világossag. – Budapest, 1964. – № 3. – Old. 129–135.]
1964
Социологические проблемы критики религии: Автореф. дис… д-ра филос. наук / АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 27 с.
Противоположность науки и религии / Ю.А. Левада, М.Л. Гапочка, А.И. Игнатов и др. // Основы научного атеизма: Учеб. пособие / Редколл.: Цамерян ИЛ. (рук.) и др. – 3-е, перераб. изд. – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1964. – С. 49 – 105.
Социология и религия // Марксистская и буржуазная социология сегодня. – М.: Наука, 1964. – С. 432–438. [Пер. на нем. яз.: Die Religion als Gegenstand der Soziologischen Forschung / Lewada J.A. // Religion und Atheismus heute. Ergebnisse und Aufgabe marxistischer Religionssoziologie / Hrsg. von O. Klohr. – B.: Dt. Verl. d. Wissenschaften, 1966. – S. 32–39.]
Точные методы в социальном исследовании // Вопр. философии. – М., 1964. – № 9. – С. 13–24.
The social position of Russian Orthodoxy / Yu.А. Levada // Cahiers d’histoire mondiale = J. of world history. – Р., 1964. – Vol. 8. № 1. – Р. 123–145.
Die soziale Praxis und atheistische Weltanschauung in der Wissenschaft // Moderne Naturwissenschaft und Atheismus. – B., 1964. – S. 238–248 [пер. на венг. яз.: Társadalmi gyakorlat, tudomány, ateizmus / J.A. Levada // Világossag. – Budapest, 1964. – № 11. – Old. 650–654; пер. на польск. яз.: Nauka – światopogląd – praktyka społeczna / Y. Levada // Zeszyty argumentów. Warszawa, 1964. – № 4/15. – S. 31–42.]
1965
Социальная природа религии. – М.: Наука, 1965. – 263 с. [пер. на польск. яз.: Społeczna natura religii / J.A. Levada. – Warszawa: Ksiazka i Wiedza, 1968. – 354 s.; пер. на венг. яз.: A vállăs tārsadalmi termēszete / J. Levada. – Budapest: Kossuth Konyvkiado, 1969. – 315 о.]
Альберт Швейцер – мыслитель и человек // Вопр. философии. – М., 1965. – № 12. – С. 91–98. [Перепечатано: Альберт Швейцер – мыслитель и человек // Геттинг Г. Встречи с Альбертом Швейцером / Пер. с нем. В.Я. Шапиро; Отв. ред. Ю.А. Левада. – М.: Наука, 1967. – С. 3 – 12; Старомодность и современность Альберта Швейцера // От Эразма Роттердамского до Бертрана Рассела: (Проблемы соврем. бурж. гуманизма и свободомыслия). – М.: Мысль, 1969. – С. 141–157.]
Кибернетические методы в социологии // Коммунист. – М., 1965. – № 14. – С. 43–53.
Марксистская социология и религия // Полит. самообразование. – М., 1965. – № 2. – С. 27–35.
Религия как исторический продукт: [Рец. на кн.: Токарев С.А Религия в истории народов мира. М.: Политиздат, 1964; Токарев С.А Ранние формы религии и их развитие. М.: Наука, 1964] // Вопр. философии. – М., 1965. – № 4. – С. 171–174.
Структурализм и историзм // Проблемы исследования систем и структур: Материалы к конференции / АН СССР. – М., 1965. – С. 150–154.
Church and state in Soviet society / Yu.A. Levada // Religions and the promise of the twentieth century. – N.Y.; Toronto: Mentor books, 1965. – P. 103–128.
1966
Вера в человека: [Рец. на кн.: Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1965] // Наука и религия. – М., 1966. – № 10. – С. 26–28.
Международный коллоквиум по социологии религии в Иене // Вопросы научного атеизма: Сб. – М.: Мысль, 1966. – С. 400–406.
Сознание и управление в общественных процессах // Вопр. философии. – М., 1966. – № 5. – С. 62–73.
Человек, кибернетическая машина, общество (тезисы) // Человек в социалистическом и буржуазном обществе: Матер. симпозиума. – М.: Знание, 1966. – Вып. 1. – С. 108–110.
Mensch und Technik in der Welt von Heute / Ju.A. Lewada // Kommunitat. – B., 1966. – H. 38. – S. I–VIII.
Some problems of modeling in sociology: Rapport for VI Inter Congress of Sociology / Y. Levada. – M., 1966. – 9 p.
1967
Нормы социальные // Философская энциклопедия: В 5 т. – М.: Сов. энцикл., 1967. – Т. 4. – С. 98–99.
Общество // Там же. – С. 120–123.
Рай // Там же. – С. 462.
1968
Некоторые проблемы системного анализа общества в научном наследии К. Маркса // Маркс и социология. – М., 1968. – (Информ. бюллетень / Науч. совет АН СССР по проблемам конкр. соц. исследований. Сер.: Материалы и сообщения. № 3). – С. 75–84.
О задачах и проблемах использования количественных методов в социологии / Ю.А. Левада, В.Н. Шубкин, Ю.Н. Гаврилец // Количественные методы в социальных исследованиях: Материалы совещания, Сухуми 17–20 апр. 1967 г. – М., 1968. – (Информ. бюллетень / Науч. совет АН СССР по проблемам конкр. соц. исследований. Сер.: Материалы и сообщения. № 8). – С. 56–73.
1969
Лекции по социологии. – М., 1969. – 117 с. – (Информ. бюллетень / Науч. совет АН СССР по проблемам конкр. соц. исследований. Сер.: Метод. пособия. № 5 (20)).
Лекции по социологии. – М., 1969. – Вып. II. – 181 с. – Библиогр.: с. 175–179. – (Информ. бюллетень / Науч. совет АН СССР по проблемам конкр. соц. исследований. Сер.: Метод. пособия. № 6 (21)).
Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки / Отв. ред. А.В. Гулыга, Ю.А. Левада. – М.: Наука, 1969. – С. 186–224.
1970
Проблемы использования количественных методов в социологии / Ю.Н. Гаврилец, Ю.А. Левада, В.Н. Шубкин // Моделирование социальных процессов. – М.: Наука, 1970. – С. 17–28.
Структура социальная // Философская энциклопедия: В 5 т. – М.: Сов. энцикл., 1970. – Т. 5. – С. 142–144.
Традиция // Там же. – С. 253.
Управление // Там же. – С. 282–285.
Фашизм // Там же. – С. 304–308.
Христианство / С. Аверинцев, Ю. Левада // Там же. – С. 451.
1971
Странный мир массовой культуры // Иностр. литература. – М., 1971. – № 11. – С. 241–248.
1973
Social structure, social stratification and mobility in the USSR / Y. Levada // International j. of sociology. – White Plains, N.Y., 1973. – Vol. 3. – № 1/2. – P. 3–9.
1974
Урбанизация как социокультурный процесс / В.М. Долгий, Ю.А. Левада, А.Г. Левинсон // Урбанизация мира. – М.: Мысль, 1974. – (Вопр. географии. Сб. 96) – С. 19–31.
1975
К проблеме изменения социального пространства – времени в процессе урбанизации / В.М. Долгий, Ю.А. Левада, А.Г. Левинсон // Урбанизация и развитие новых районов / ЦЭМИ АН СССР. – М., 1976. – С. 25–37.
Почему дороги ведут в Рим: Размышления о социокульт. модели – или, на старомод. лад, о «душе» – города // Знание – сила. – М., 1976. – № 4. – С. 24–27.
1980
О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориал. аппарата) // Системные исследования: методол. проблемы: Ежегодник, 1979. – М.: Наука, 1980. – С. 180–190.
Социальные рамки экономического действия // Мотивация экономической деятельности. – М., 1980. – (Сб. тр. / ВНИИ систем. исследований. Вып. 11). – С. 79–85.
1983
Проблемы экономической антропологии у К. Маркса // Экономика и общество: (Истоки и соврем. проблемы маркс. методологии исследования соц. – экон. развития). – М., 1983. – (Сб. тр. / ВНИИ систем. исследований. Вып. 8). – С. 86–97.
Норма // Философский энциклопедический словарь / Ред. колл.: С.С. Аверинцев и др. – М.: Сов. энцикл., 1983. – С. 441–442. [2-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1989. – С. 428–429.]
Ритуал // Там же. – С. 585. [2-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1989. – С. 560.]
1984
Игровые структуры в системах социального действия // Систем. исследования: методол. проблемы: Ежегодник, 1984. – М.: Наука, 1984. – С. 273–293. – Библиогр.: с. 292–293.
Культурный контекст экономического действия // Проблемы системного анализа развития культуры. – М., 1984. – (Сб. тр. / ВНИИ систем. исследований. Вып. 4). – С. 11–17.
1988
1953–1964: Почему тогда не получилось? / Ю. Левада, В. Шейнис // Моск. новости. – М., 1988. – № 18 (408). – 1 мая. – С. 8–9. [Перепечатано: Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии / Сост. Ю.В. Аксютин. – М.: Политиздат, 1989. – С. 171–186.]
Бюрократизм и бюрократия: необходимость уточнений / Л. Гудков, Ю. Левада, А. Левинсон, Л. Седов // Коммунист. – М., 1988. – № 12. – С. 73–84. [Пер. на англ. яз.: Bureaucratism and bureaucracy: The need for greater precision / L. Gudkov, Iu. Levada, A. Levinson, L. Sedov // Soviet sociology: A j. of transl. – Armonk, N.Y., 1989. – Vol. 28, № 3.]
Где взять второе дыхание: Актуальный диалог с участием третьего / Ю. Левада, В. Шейнис // Сов. культура. – М., 1988. – № 53 (6465). – 3 мая. – С. 3.
Не подводя итогов // Моск. новости. – М., 1988. – № 52 (442). – 25 дек. – С. 3.
Погружение в трясину: Акт первый: 1964–1968 / Ю. Левада, В. Шейнис // Моск. новости. – М., 1988. – № 46 (436). – 13 нояб. – С. 8–9.
«Похвальное слово» дефициту / Ю. Левада, А. Левинсон // Горизонт. – М., 1988. – № 10. – С. 26–38.
Zwykłe sprawy / O. Szkaratan, J. Lewada; rozm. A. Goszczynski // Polityka. – Warszawa, 1988. – № 23. – S. 10.
1989
В это жаркое лето: Размышления социолога о некот. новых течениях в полит. жизни страны // Известия. – М., 1989. – № 305 (22843). – 31 окт. – С. 3.
Вопрос – ответ – вопрос… Размышления за рабочим столом перед завершением избирательной кампании // Моск. новости. – М., 1989. – № 13 (455). – 26 марта. – С. 8–9.
Да причем тут нарукавники! // Родина. – М., 1989. – № 10. – С. 92.
Динамика социального перелома: возможности анализа // Коммунист. – М., 1989. – № 2. – С. 34–45. [Пер. на англ. яз.: The dynamics of a social turning point: Analytical possibilities / Iu.A. Levada // Soviet sociology: A j. of transl. – Armonk, N.Y., 1989. – Vol. 28. – № 6. – P. 42–60.]
Интеллигенция // 50/50: Опыт словаря нового мышления / Под общ. ред. Ю. Афанасьева, М. Ферро; Ред. – сост. Г. Козлова. – М.: Прогресс; Париж: Пайо, 1989. – С. 128–131.
Религия // Там же. – С. 260–262.
Социология // Там же. – С. 220–223.
Какие ресурсы сегодня исчерпаны? // Постижение: Социология. Соц. политика. Экон. реформа / Ред. – сост.: Ф.М. Бородкин и др. – М.: Прогресс, 1989. – (Перестройка: гласность, демократия, социализм). – С. 70–83.
Мера всех вещей / Ю.А. Левада, Т.А. Ноткина // В человеческом измерении: Выйти из королевства кривых зеркал… / Под ред. А.Г. Вишневского. – М.: Прогресс, 1989. – (Перестройка: гласность, демократия, социализм). – С. 11–24.
Об авторе: [Вступление к публикации статьи: Зильберман Д.Б. К семиотике понимания типов культурных традиций] // Народы Азии и Африки. – М., 1989. – № 3. – С. 128–130.
Отношение населения к бюрократии: Социол. исследование // Вопр. экономики. – М., 1989. – № 12. – С. 117–121.
Размышления вслух об альтернативах нашей истории и нашего сознания, навеянные статьями совр. авторов и одной старой притчей // Знание – сила. – М., 1989. – № 2. – С. 11–17.
Реактивная отдача: Размышления через двадцать один год после двадцать первого августа 1968 года // Моск. новости. – М., 1989. – № 34 (476). – 20 авг. – С. 7.
Сталинские альтернативы // Осмыслить культ Сталина / Ред. – сост. Х. Кобо. – М.: Прогресс, 1989. – (Перестройка: гласность, демократия, социализм). – С. 448–459.
Феномен бюрократии в историко-социологической перспективе / Л. Гудков, Ю. Левада, А. Левинсон, Л. Седов // Мир. экономика и междунар. отношения. – М., 1989. – № 4. – С. 57–61; № 5. – С. 71–80; № 6. – С. 83–91; № 7. – С. 73–77.
1990
Есть мнение! Итоги социол. опроса / А.А. Голов, А.И. Гражданкин, Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, Н.А. Зоркая, Ю.А. Левада и др.; Под общ. ред. Ю.А. Левады. – М.: Прогресс, 1990. – 292 с.: схем.
1990 год: наши надежды / А. Голов, А. Гражданкин, Л. Гудков, Б. Дубин, Н. Зоркая, Ю. Левада, Л. Седов // Огонек. – М., 1990. – № 15 (3273). – 7 – 14 апр. – С. 1–2.
В Кремле и «на улице» // Моск. новости. – М., 1990. – № 30 (524). – 29 июля. – С. 4.
Голос народа: Социол. опрос о положении дел в партии / Ю. Левада, Л. Гудков // Моск. новости. – М., 1990. – № 15 (509). – 15 апр. – С. 7.
Исследование: Вопросы месяца / Ю.А. Левада, А.Г. Левинсон, А.И. Гражданкин // Обществ. мнение в цифрах: Инфор. издание ВЦИОМ. – М., 1990. – Вып. 8 (15). – С. 13–17.
Исследование: Вопросы месяца / Ю.А. Левада, А.Г. Левинсон, А.И. Гражданкин // Обществ. мнение в цифрах: Инфор. издание ВЦИОМ. – М., 1990. – Вып. 13 (20). – С. 6–9.
Исследование: Вопросы месяца / Ю.А. Левада, А.Г. Левинсон, А.И. Гражданкин // Обществ. мнение в цифрах: Инфор. издание ВЦИОМ. – М., 1990. – Вып. 14 (21). – С. 6–9.
Исследование: Годовой баланс достижений и потерь / Ю.А. Левада, А.А. Голов, Л.Д. Гудков // Обществ. мнение в цифрах: Инфор. издание ВЦИОМ. – М., 1990. – Вып. 6 (13). – С. 6–8.
Исследование: Причины трудностей и ориентиры перемен / Ю.А. Левада, Л.А. Седов // Обществ. мнение в цифрах: Инфор. издание ВЦИОМ. – М., 1990. – Вып. 1 (3). – С. 6–8.
Консервативный синдром // Сов. культура. – М., 1990. – № 3 (6727). – 20 янв. – С. 3.
Кризис доверия: Главная проблема в ряду др. проблем перестройки // Моск. новости. – М., 1990. – № 21 (515). – 27 мая. – С. 8–9.
Кто впереди? / Л. Гудков, Ю. Левада // Огонек. – М., 1990. – № 25 (3283). – 16–23 июня. – С. 1–2.
О мотивационных структурах и социальных ресурсах общества // Социальные ресурсы и социальная политика / Отв. ред. С.С. Шаталин, В.Г. Гребенников. – М.: Наука, 1990. – С. 6 – 13.
Революция: суд потомков / Б. Дубин, Ю. Левада // Моск. новости. – М., 1990. – № 44 (538). – 4 нояб. – С. 8–9.
Российский суверенитет: символы и реальность // Моск. новости. – М., 1990. – № 40 (534). – 7 окт. – С. 8–9.
Советский человек – эскиз портрета: Всесоюзный опрос обществ. мнения / Ю. Левада, Н. Зоркая, А. Голов и др. // Моск. новости. – М., 1990. – № 11 (505). – 18 марта. – С. 11.
Советский человек: становление гражданского самосознания: (По материалам всесоюз. опроса населения) // Человек. – М., 1990. – № 4. – С. 7 – 15.
Чего ждем и чего боимся // Моск. новости. – М., 1990. – № 49 (543). – 9 дек. – С. 8–9.
Что же дальше? Размышления о политич. ситуации в стране // Известия. – М., 1990. – № 101 (23004). – 10 апр. – С. 3.
Что может отнять у общества «человек с ружьем» / Ю. Левада, А. Левинсон // Моск. новости. – М., 1990. – № 36 (530). – 9 сент. – С. 8–9.
Was sagt des Volkes Stimme / J. Levada // Perestrojka. Zwischenbilanz / Hrsg. von K. Segbers. – Frankfurt a/M.: Suhrkamp, 1990. – S. 124–142.
1991
Главное событие ХХ века / Л. Гудков, Ю. Левада // Моск. новости. – М., 1991. – № 25 (570). – 23 июня. – С. 9.
И все-таки они нас не поняли: Размышления о связи времен по данным опроса накануне того самого августа // Моск. новости. – М., 1991. – № 38 (582). – 22 сент. – С. 5.
Кого Юпитер лишает разума // Моск. новости. – М., 1991. – № 15 (560). – 14 апр. – С. 3.
Мы прожили год потрясений. Но все еще впереди: Реквием по союзу, которого нет / А. Голов, Б. Дубин, Ю. Левада, А. Левинсон // Моск. новости. – М., 1991. – № 52 (596). – 29 дек. – С. 6–7.
Сахаров: человек и легенда: Каким видит его сегодня обществ. мнение / Ю. Левада, А. Левинсон // Моск. новости. – М., 1991. – № 20 (565). – 19 мая. – С. 8–9.
Секрет нестабильности самой стабильной эпохи / Ю. Левада, Т. Ноткина, В. Шейнис // Погружение в трясину: (Анатомия застоя) / Сост. Т.А. Ноткина. – М.: Прогресс, 1991. – (Перестройка: гласность, демократия, социализм). – С. 15–30.
Так проходит слава мирская: О смысле громких слов. Размышления над данными опроса // Моск. новости. – М., 1991. – № 12 (557). – 24 марта. – С. 7.
Такой длинный год: К итогам социол. опроса // Моск. новости. – М., 1991. – № 1 (546). – 6 янв. – С. 6.
Тузы и валеты // Моск. новости. – М., 1991. – № 22 (567). – 2 июня. – С. 7.
Человек и легенда: Образ А.Д. Сахарова в обществ. мнении / Авт. колл. под рук. Ю. Левады. – М.: Информ. агентство Дата, 1991. – 32 с. [Текст брошюры написан в основном Ю. Левадой.]
Что будет после референдума? / Т. Заславская, Ю. Левада // Комс. правда. – М., 1991. – № 52 (20052). – 6 марта. – С. 1.
1992
Общественное мнение об условиях и факторах миграции русского населения // Бывший СССР: внутренняя миграция и эмиграция: Программа по исследованию миграции. – М., 1992. – Вып. 1. – С. 24–35.
Трудный путь пробуждения: кошмары и соблазны утопического мира глазами Виктории Чаликовой: [Предисловие] // Чаликова В. Утопия и культура: Эссе разных лет. – М.: ИНИОН, 1992. – Т. 1. – С. 5–8.
Уходящая натура?.. // Знамя. – М., 1992. – № 6. – С. 201–211.
Destin de l` «homme soviétique» / J. Levada // Un Etat pour la Russie. – Bruxless: Complexe, 1992. – P. 95 – 104.
Die Sowjetmenschen: 1989–1991. Soziogramm eines Zerfalls / J. Levada. – B.: Argon, 1992. – 336 S.
1993
Статьи по социологии / Сост. Л. Гудков, Б. Дубин, А. Левинсон. – [М.], 1993. – 192 с.
Содерж.: Время парадоксов: Социологические размышления; Традиция; Урбанизация как социокультурный процесс (в соавт. с В.М. Долгим и А.Г. Левинсоном); К проблеме изменения социального пространства – времени в процессе урбанизации (в соавт. с В.М. Долгим и А.Г. Левинсоном); О построении модели репродуктивной системы: (проблемы категориального аппарата); Социальные рамки экономического действия; Проблемы экономической антропологии у К. Маркса; Культурный контекст экономического действия; Игровые структуры в системах социального действия; Фашизм; Бюрократизм и бюрократия: необходимость уточнений (в соавт. с Л. Гудковым, А. Левинсоном, Л. Седовым); Интеллигенция; Динамика социального перелома: возможности анализа; Советский человек и западное общество: проблема альтернативы.
Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90 – х / А.А. Голов, А.И. Гражданкин, Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, Ю.А. Левада и др.; Отв. ред. Ю.А. Левада. – М.: Мир. океан, 1993. – 300 с.: диагр.
Векторы перемен: социокульт. координаты изменений // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1993. – № 3. – С. 5–9. [Пер. на англ. яз.: Vectors of change: The sociocultural coordinates of change / Iu.A. Levada // Sociological research: A j. of transl. – Armonk, N.Y., 1994. – Vol. 3. – № 4. – P. 22–34.]
Время парадоксов: Социологические размышления // Гражданская мысль. – М., 1993. – № 5. – 30 июля.
Динамика общественно-политической ситуации // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1993. – № 6. – С. 22–25.
Динамика политической ситуации / Ю.А. Левада, Л.А. Седов // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1993. – № 5. – С. 20–21.
Не бросаться от иллюзий к панике // Известия. – М., 1993. – № 240. – 15 дек. – С. 4.
1994
Новый русский национализм: амбиции, фобии, комплексы // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1994. – № 1. – С. 15–17. [Перепечатано: Общественный разлом и рождение новой социологии: Двадцать лет мониторинга / Ред. – сост.: Л. Гудков, Б. Дубин, Ю. Левада. – М.: Новое изд-во, 2008. – С. 321–325.]
Общественное мнение в год кризисного перелома: смена парадигмы // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1994. – № 3. – С. 5 – 10. [Сокращенная версия: Сегодня. – М., 1994. – 17 мая.]
Проблема интеллигенции в современной России; Заключение ведущего // Куда идет Россия?.. Альтернативы обществ. развития: Междунар. симпозиум, 17–19 дек. 1993 г. / Под общ. ред. Т.Н. Заславской, Л.А. Арутюнян. – М.: Интерпракс, 1994. – С. 208–214, 285–286.
Социально-политическая ситуация в России: март – май 1994 г. / Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, Ю.А. Левада, Л.А. Седов // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1994. – № 4. – С. 7 – 15.
Стряхнув академическую пыль: [Рец. на кн.: Мамардашвили М.К. Картезианские размышления (январь 1981 г.). М., 1993] // Литературная газета. – М., 1994. – № 12. – 23 марта. [Перепечатано: Встреча с Декартом: Филос. чтения, посвящ. М.К. Мамардашвили, 1994 г. / Соред. В.А. Кругликов, Ю.П. Сенокосов. – М.: Ad Marginem, 1996. – С. 436–438].
Факторы и ресурсы общественного мнения в условиях «постмобилизационного» общества // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1994. – № 5. – С. 16–19.
Элита и «масса» в общественном мнении: проблема социальной элиты // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1994. – № 6. – С. 7 – 11.
1995
Возвращаясь к феномену «человека советского»: проблемы методологии анализа // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1995. – № 6 (20). – С. 14–18.
Между авторитаризмом и анархией: росс. демократия в глазах обществ. мнения // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1995. – № 2. – С. 7 – 12.
Почему дороги ведут в Рим: Размышления о социокульт. модели – или, на старомод. лад, о «душе» – города: [Републикация статьи 1976 г. с новым предисловием] // Знание – сила. – М., 1995. – № 2. – С. 9 – 19.
Три «поколения перестройки» // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1995. – № 3. – С. 3–7.
Факторы переменные и постоянные: свод. мониторинг 1994–1995 гг. // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1995. – № 5. – С. 7 – 12.
«Человек советский» пять лет спустя: 1989–1994: (предварит. итоги сравнит. исследования) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1995. – № 1. – С. 9 – 14. [Перепечатано с доп.: Куда идет Россия?.. Альтернативы обществ. развития: II Междунар. симпозиум 4, 15–18 дек. 1994 г. / Под общ. ред. Т.И. Заславской. – М.: Аспект Пресс, 1995. – С. 218–229; пер. на англ. яз.: «Homo Sovieticus» five years later: 1989–1994: (Preliminary results of a comparative study) / Iu. Levada // Sociological research: A j. of transl. – Armonk, N.Y., 1996. – Vol. 35. № 1. – P. 6 – 19.]
Democratic disorder and Russian public opinion. Trends in VCIOM surveys, 1991 – 95 / J. Levada // Studies in public policy. – Glasgow, 1995. – № 255. – P. 4 – 23.
1996
Все решится во втором туре: (До выборов – полтора месяца) // Известия. – М., 1996. – № 81. – 30 апр. – С. 2. [Перепечатано: Решит второй тур: (полтора месяца до выборов) // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Л.Д. Гудков. – М., 1996. – С. 35–38.]
Выборы: пейзаж после битвы и перед ней // Известия. – 1996. – № 5. – 11 янв. – С. 2. [Перепечатано: Выборы состоялись. Что дальше? // Власть в России: Президент, парламент, правительство, регионы: Вестник РИА «Новости». – М., 1996. – Июнь. – С. 1–3.]
До выборов остается восемь недель. Разрыв между Ельциным и Зюгановым сохраняется // Известия. – М., 1996. – № 71. – 16 апр. – С. 2. [Перепечатано: До выборов осталось 8 недель, между тем на избирательном фронте – без перемен // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Л.Д. Гудков. – М., 1996. – С. 32–35.]
За месяц до выборов: коалиций еще нет // Известия. – М., 1996. – № 87. – 14 мая. – С. 2. [Перепечатано: Коалиций пока нет, консолидация продолжается: (За месяц до выборов) // Там же. – С. 38–41.]
Комплексы общественного мнения (статья первая) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1996. – № 6 (26). – С. 7 – 12. [Перепечатано: Социология. – М., 1997. – № 1. – С. 13–22].
Кто же кого гипнотизирует? Реплика г-ну Выжутовичу // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Л.Д. Гудков. – М., 1996. – С. 94–95.
Лидеры и аутсайдеры // Власть в России: Президент, парламент, правительство, регионы: Вестник РИА «Новости». – М., 1996. – 23 мая. – С. 7–8.
Перед финишем: опросы и прогнозы // Известия. – М., 1996. – № 107. – 11 июня. – С. 2. [Перепечатано: Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Л.Д. Гудков. – М., 1996. – С. 53–57].
Пирамида общественного мнения в электоральном «зеркале» // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1996. – № 1 (21). – С. 15–20.
Попробуем подсчитать шансы кандидатов // Новое время. – М., 1996. – № 8. – С. 8 – 10. [Перепечатано: Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Л.Д. Гудков. – М., 1996. – С. 6 – 10.]
Российский избиратель между двумя крайностями // Известия. – М., 1996. – № 97. – 28 мая. – С. 2. [Перепечатано: Положение сторон определилось: (До выборов – 20 дней) // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Л.Д. Гудков. – М., 1996. – С. 41–44.]
Социально-пространственная структура российского общества: центр и регионы // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1996. – № 2 (22). – С. 13–17. [Перепечатано: Куда идет Россия?.. Соц. трансформация постсов. пространства: III Междунар. симпозиум, 12–14 янв. 1996 г. / Под общ. ред. Т.И. Заславской. – М., 1996. – (На обл.: Труды Интерцентра, III). – С. 276–285].
Структура российского электорального пространства // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1996. – № 3 (23). – С. 7 – 11. [Перепечатано: Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Л.Д. Гудков. – М., 1996. – С. 19–28].
Существуют ли сегодня массовые корни фашизма? // Нужен ли Гитлер России? / Ред. В. Илюшенко. – М.: Пик, 1996. – С. 105–110.
Три четверти избирателей собираются голосовать // Известия. – М., 1996. – № 116. – 25 июня. – С. 2. [Перепечатано: После первого тура: (До выборов – десять дней) // Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Л.Д. Гудков. – М., 1996. – С. 75–78.]
Факторы и фантомы общественного доверия (постэлекторальные размышления) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1996. – № 5 (25). – С. 7 – 12.
Финалисты определены, марафон продолжается… Итоги первого и прогнозы второго тура глазами социологов // Власть в России: Президент, парламент, правительство, регионы: Вестник РИА «Новости». – М., 1996. – 20 июня. – С. 1–3.
Человек как связь времен: [Об историке М.Я. Гефтере] // Век ХХ и мир. – М., 1996. – № 2. – С. 74–85.
«Человек политический»: сцена и роли переходного периода // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1996. – № 4 (24). – С. 7 – 11. [Перепечатано: Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Л.Д. Гудков. – М., 1996. – С. 84–93].
Проблемы и парадоксы общественного мнения // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. – М., 1996. – № 4. – С. 15–22.
Шансы выравниваются: что это значит?: (До выборов осталось 10 недель) // Сегодня. – М., 1996. – № 56. – 4 апр. – С. 3. [Перепечатано: Президентские выборы 1996 года и общественное мнение / ВЦИОМ; Сост. Л.Д. Гудков. – М., 1996. – С. 28–32].
Civic culture / Y. Levada // Russian culture at the crossroads: Paradoxes of postcommunist consciousness / Ed. by D.N. Shalin. – Boulder: Westview Press, 1996. – P. 299–312.
1997
Год неоплаченных долгов: (События – настроения – люди 1996 года в общественном мнении) // Моск. новости. – М., 1997. – № 1. – 29 дек. – 5 янв. – С. 6.
Десять лет работы Всероссийского центра изучения общественного мнения // Социол. журнал. – М., 1997. – № 4. – С. 221–227.
Комплексы общественного мнения (статья вторая) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1997. – № 1 (27). – С. 7 – 12. [Перепечатано: Социология. – М., 1998. – № 1. – С. 11–21].
Массовый протест: потенциал и пределы // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1997. – № 3 (29). – С. 7 – 12.
Наши десять лет: итоги и проблемы. Околоюбилейные размышления // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1997. – № 6 (32). – С. 7 – 14.
Социальные типы переходного периода: попытка характеристики // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1997. – № 2 (28). – С. 9 – 15.
Человек в поисках идентичности: проблема соц. критериев // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1997. – № 4 (30). – С. 7 – 12.
Человек, толпа и масса в общественном мнении // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1997. – № 5 (31). – С. 7 – 12. [Пер. на укр. яз.: Людина, натовп та масса в громадський думци // Социология: теория, методи, маркетинг. – Киïв, 1998. – № 1/2. – С. 80–92. – Рез. англ.]
1998
1998: Год Большого Обвала // Моск. новости. – М., 1998. – № 51 (968). – 27 дек. – 3 янв. – С. 8–9.
Активы и ресурсы общественного мнения // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 4 (36). – С. 7 – 12.
Возвращаясь к проблеме социальной элиты // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 1 (33). – С. 12–17.
Индексы социальных настроений в «норме» и в кризисе // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 6 (38). – С. 7 – 13.
Индикаторы и парадигмы культуры в общественном мнении // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 3 (35). – С. 7 – 12.
Мониторинг общественного мнения в регионе: [Вологод. научно-координац. центр ЦЭМИ РАН] // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 4 (36). – С. 19.
Рубежи и рамки семидесятых. Размышления соучастника // Неприкосновенный запас. – М., 1998. – № 2. – С. 72–78.
«Средний человек»: фикция или реальность? // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 2 (34). – С. 7 – 12. [Перепечатано: Куда идет Россия?.. Трансформация соц. сферы и соц. политика. 1998. Пятый междунар. симпозиум, 16–17 янв. 1998 г. / Под общ. ред. Т.И. Заславской. – М.: Дело, 1998. – С. 165–178].
Феномен власти в общественном мнении: парадоксы и стереотипы восприятия // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1998. – № 5 (37). – С. 9 – 15. [Перепечатано: Вестник Моск. школы полит. исследований. – М., 1998. – № 10. – С. 13–34.]
Шестьдесят восьмой, переломный // Знание – сила. – М., 1998. – № 9/10. – С. 74–79.
1999
1989–1998: десятилетие вынужденных поворотов // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1999. – № 1 (39). – С. 7 – 12. [Перепечатано: Куда идет Россия?.. Кризис институц. систем: век, десятилетие, год. 1999. Междунар. симпозиум, 15–16 янв. 1999 г. / Под общ. ред. Т.И. Заславской. – М.: Логос, 1999. – С. 113–127.]
Десять лет перемен в сознании человека // ОНС: Обществ. науки и современность. – М., 1999. – № 5. – С. 28–44.
Идеи «научного управления» обществом потерпели неудачу, и это, может быть, к лучшему: [ответы на анкету газеты] // День: Ежедн. всеукраин. газета. – Киев, 1999. – № 239. – 24 дек.
Политическое пространство России за полгода до выборов: 1995 и 1999 гг. // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1999. – № 4 (42). – С. 7 – 13.
Проблема рациональности у М.К. Мамардашвили // Чаадаев и Мамардашвили: перекличка голосов, проблем и перспектив. – Пермь: Перм. гос. тех. ун-т, 1999. – С. 27–29.
Пятилетние группы – пятилетние сдвиги (опыт ретроспект. лонгитюда) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1999. – № 2 (40). – С. 19–24.
Человек недовольный: протест и терпение // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1999. – № 6 (44). – С. 7 – 13.
«Человек приспособленный» // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1999. – № 5 (43). – С. 7 – 17.
«Человек советский» десять лет спустя: 1989–1999: (предварит. итоги сравнит. исследования) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 1999. – № 3 (41). – С. 7 – 15. [Пер. на англ. яз.: Homo sovieticus ten years on: Some results of the comparative study / Y. Levada // Russia on Russia. – M., 2000. – June. – Issue 2. – P. 13–28.]
2000
От мнений к пониманию: Социол. очерки, 1993–2000. – М.: Моск. школа полит. исследований, 2000. – 574 с.: табл. – (Б-ка МШПИ; 22).
Содерж.: Векторы перемен: социокультурные координаты изменений; Общественное мнение в год кризисного перелома; Факторы и ресурсы общественного мнения в условиях «постмобилизационного общества»; Факторы переменные и постоянные: сводный мониторинг 1994–1995; Пирамида общественного мнения в электоральном «зеркале»; Социально-пространственная структура: центр и регионы; Российское электоральное пространство; «Человек политический»: сцена и роли переходного периода; Факторы и фантомы общественного доверия; Социальные типы переходного периода: попытка характеристики; Массовый протест: потенциал и пределы; 1988–1998: десятилетие вынужденных поворотов; Общественное мнение на переломе эпох: ожидания, опасения, рамки (к социологии политического перехода); Элита и «масса» в общественном мнении: проблема социальной элиты; Комплексы общественного мнения; Человек, толпа, масса; Еще раз к проблеме социальной элиты; «Средний человек»: фикция или реальность; Индикаторы и парадигмы культуры в общественном мнении; Феномен власти: парадоксы и стереотипы восприятия; Показатели социальных настроений в «норме» и в кризисе; Проблема эмоционального баланса общества; Человек советский пять лет спустя: 1989–1994; Возвращаясь к феномену «человека советского»: проблемы методологии анализа; Человек в поисках идентичности: проблема социальных критериев; Человек советский десять лет спустя: 1989–1999; Человек приспособленный; Человек недовольный: протест и терпение; Человек лукавый: двоемыслие по-российски; Человек ограниченный: уровни и рамки притязаний; Наши десять лет: итоги и проблемы (околоюбилейные размышления).
2000 год: разочарования и надежды // Моск. новости. – М., 2000. – № 51 (1069). – 26 дек. – 2 янв. – С. 2–3.
Диагноз: агрессивная мобилизация с астеническим синдромом // Знание – сила. – М., 2000. – № 2. – С. 22–24.
Общественное мнение и общество на перепутьях 1999 года // Куда идет Россия?.. Власть, общество, личность. 2000. Междунар. симпозиум, 17–18 янв. 2000 г. / Под общ. ред. Т.И. Заславской. – М.: Моск. высшая школа соц. и экон. наук, 2000. – С. 147–162.
Общественное мнение на переломе эпох: ожидания, опасения, рамки. К социологии политич. перехода // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2000. – № 3 (47). – С. 7 – 18.
Общественное мнение у горизонта столетий // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2000. – № 6 (50). – С. 8 – 14. [Перепечатано с сокр.: Неприкосновенный запас. – М., 2001. – № 1. – С. 20–26.]
Проблема эмоционального баланса общества // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2000. – № 2 (46). – С. 7 – 16.
Человек в корруптивном пространстве. Размышления на материале и на полях исследования // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2000. – № 5 (49). – С. 7 – 14.
Человек лукавый: двоемыслие по-российски // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2000. – № 1 (45). – С. 19–27.
«Человек ограниченный»: уровни и рамки притязаний // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2000. – № 4 (48). – С. 7 – 13.
Что считаем по осени: Общественное мнение в сентябре – октябре // Независ. газета – сценарии. – М., 2000. – № 10. – 15 нояб. – С. 10.
Homo Post-Soveticus // OHC: Обществ. науки и современность. – 2000. – № 6. – С. 4 – 24.
Patience and protest / Y. Levada // Russia on Russia. – M., 2000. – June. – Issue 2. – P. 29–38.
2001
Август – 91: несостоявшийся праздник? // Знание – сила. – М., 2001. – № 8. – С. 17–20.
Весна 2001-го: дела и символы // Независ. газета – сценарии. – М., 2001. – № 5. – 16 мая. – С. 9 – 10. [Перепечатано: Вниз по вертикали: Первая четырехлетка Путина глазами либералов: Сб. ст. / Ред. – сост. А.Р. Курилкин, А.В. Трапкова. – М.: КоЛибри, 2005. – С. 33–49.]
Координаты человека. К итогам изучения «человека советского» // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2001. – № 1 (51). – С. 7 – 15.
Люди и символы: Символич. структуры в обществ. мнении. Заметки для размышления // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2001. – № 6 (56). – С. 7 – 13.
Механизмы и функции общественного доверия // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2001. – № 3 (53). – С. 7 – 12.
Опасения и надежды // Общая тетрадь: Вестник Моск. школы полит. исследований. – М., 2001. – № 1 (16). – С. 32–39.
Перспективы человека: предпосылки понимания // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2001. – № 4 (54). – С. 7 – 13.
Поколения ХХ века: возможности исследования // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2001. – № 5 (55). – С. 7 – 28. [Перепечатано: Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России / Моск. высш. школа соц. и экон. наук; Под ред. Ю. Левады, Т. Шанина. – М.: Новое лит. обозрение, 2005. – С. 39–60.]
«Центр – периферия» в социально-пространственной структуре // Общая тетрадь: Вестник Моск. школы полит. исследований. – М., 2001. – № 1 (16). – С. 83–84.
«Человек советский»: проблема реконструкции исходных форм // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2001. – № 2 (52). – С. 7 – 16.
Элита и «массы» в процессах трансформации // Кто и куда стремится вести Россию?.. Акторы макро-, мезо– и микроуровней совр. трансформационного процесса. 2001. Междунар. симпозиум, 19–20 янв. 2001 г. / Под общ. ред. Т.И. Заславской. – М.: Моск. высш. школа соц. и экон. наук, 2001. – С. 279–283.
Юрий Буртин: Человек и время // Новое лит. обозрение. – М., 2001. – № 48. – С. 90–92.
Corruption in public opinion / Y. Levada // Russia on Russia. – M., 2001. – March. – Issue 4. – P. 49–58.
The year of «symbolic order» / Y. Levada // Russia on Russia. – M., 2001. – June. – Issue 5. – P. 1–9.
2002
В какие игры играют толпы. Социол. заметки на актуал. тему // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 4 (60). – С. 59–61.
Варианты адаптивного поведения // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 1 (57). – С. 7 – 13.
Заметки о «проблеме поколений» // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 2 (58). – С. 9 – 11. [Перепечатано: Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России / Моск. высш. школа соц. и экон. наук; Под ред. Ю. Левады, Т. Шанина. – М.: Новое лит. обозрение, 2005. – С. 235–244.]
Знакомое «новое корыто» // Знание – сила. – М., 2002. – № 7. – С. 32–39.
«Истина» и «правда» в общественном мнении: проблема интерпретации понятий // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 3 (59). – С. 9 – 13.
Отложенный Армагеддон? Год после 11 сентября 2001 г. в обществ. мнении России и мира // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 5 (61). – С. 7 – 18.
Свидетели времени: Куда идет «Куда идет Россия?..» (размышления над серией книг) // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 4 (60). – С. 14–19.
«Человек ностальгический»: реалии и проблемы // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2002. – № 6 (62). – С. 7 – 13.
Public opinion at the turn of the century / Iu. Levada // Russian politics & law: A j. of transl. – Armonk, N.Y., 2002. – Vol. 40. № 1. – P. 53–72.
«Rupture de generations» en Russie / J. Levada // The Toqueville review = La revue Tocqueville. – 2002. – Vol. 23. № 2. – P. 15–35.
L`opinion publique russe après le 11 septembre 2001 / J. Levada // Le monde de l`après – 11 septembre. – P., 2002. – (Esprit. № 287). – P. 32–39.
2003
Время перемен: предмет и позиция исследователя. Ретроспект. размышления // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2003. – № 4 (66). – С. 7 – 13.
Запал кончился // Новые Известия. – М., 2003. – № 93 (1365). – 6 нояб. – С. 1.
Имитация // Знание – сила. – М., 2003. – № 6. – С. 16–18.
Рамки и варианты исторического выбора: несколько соображений о ходе росс. трансформаций // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2003. – № 1 (63). – С. 8 – 12. [Перепечатано: Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации. 2003. Междунар. симпозиум, 16–18 янв. 2003 г. / Под общ. ред. Т.И. Заславской. – М.: Моск. высшая школа соц. и экон. наук, 2003. (На обл.: 10-й междунар. симпозиум «Куда идет Россия?..»). – С. 162–170.]
Современность Оруэлла: аналогии и анализ // Вестник обществ. мнения. – М., 2003. – № 2 (68). – С. 70–73.
Стабильность в нестабильности // ОНС: Обществ. науки и современность. – М., 2003. – № 5. – С. 5 – 11.
Уроки «атипичной» ситуации: попытка социол. анализа // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2003. – № 3 (65). – С. 7 – 17.
Фактор надежды // Мониторинг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. – М., 2003. – № 2 (64). – С. 7 – 15.
«Человек советский»: четвертая волна. Время перемен глазами обществ. мнения // Вестник обществ. мнения. – М., 2003. – № 1 (67). – С. 8 – 16.
«Человек советский»: четвертая волна. Человек «особенный» // Вестник обществ. мнения. – М., 2003. – № 2 (68). – С. 7 – 14.
2004
Деньги, власть и страх // Аргументы и факты. – М., 2004. – № 51 (1260). – 22 дек. – С. 10.
Исторические рамки «будущего» в общественном мнении // Вестник обществ. мнения. – М., 2004. – № 1 (69). – С. 16–25. [Перепечатано: Пути России: существующие ограничения и возможные варианты. 2004. Междунар. симпозиум, 15–17 янв. 2004 г. / Под общ. ред. Т.Е. Ворожейкиной. – М.: Моск. высшая школа соц. и экон. наук, 2004. – С. 147–160.]
Комментарий к статье М. Мертеса [ «Новое поколение – новое представление о ценностях?»] // Общая тетрадь: Вестник Моск. школы полит. исследований. – М., 2004. – № 1 (28). – С. 64–65.
Молодежь – новая или «старая»? // Знание – сила. – М., 2004. – № 5. – С. 26–27.
Свобода от выбора? Постэлекторальные размышления // Вестник обществ. мнения. – М., 2004. – № 2 (70). – С. 8 – 17. [Перепечатано: Общая тетрадь: Вестник Моск. школы полит. исследований. – М., 2004. – № 2 (29). – С. 19–32.]
Условные люди // Новая газета. – М., 2004. – № 43. – 21 июня. – С. 8.
«Человек советский»: 1989–2003 гг. Размышления о «большинстве» и «меньшинстве» // Вестник обществ. мнения. – М., 2004. – № 5 (73). – С. 9 – 18.
«Человек советский»: четвертая волна. Рамки самоопределения // Вестник обществ. мнения. – М., 2004. – № 3 (71). – С. 8 – 18. [Пер. на польск.: «Czlowiek radziecki»: granice samoidentyfikacji / J. Lewada // Rosja w globalnej polityce. – М.: РИА НОВОСТИ; Warszawa, 2005. – Maj. – Р. 51–64.]
«Человек советский»: четвертая волна. Функции и динамика обществ. настроений // Вестник обществ. мнения. – М., 2004. – № 4 (72). – С. 8 – 18.
The problem of trust in Russian public opinion / Y. Levada // Proceedings of the British Academy. – Oxford, 2004. – Vol. 123. – P. 157–171.
What the polls tell us / Y.A. Levada // J. of democracy. – Wash., 2004. – Vol. 15. – № 3. – P. 43–51.
2005
Восстание слабейших: о значении волны социального протеста 2005 г. // Вестник обществ. мнения. – М., 2005. – № 3 (77). – С. 8 – 15.
Выбор исчезает, когда кончается жизнь // Ерошок З. Школа. О смыслах и чувствах. – М.: Моск. школа полит. исследований, 2005. – С. 111–113.
Двадцать лет спустя: перестройка в общественном мнении и в общественной жизни. Неюбилейные размышления // Вестник обществ. мнения. – М., 2005. – № 2 (76). – С. 8 – 14. [Перепечатано с сокращениями: Неюбилейные размышления о перестройке // ОНС: Обществ. науки и современность. – М., 2005. – № 6. – С. 16–22.]
Общественное мнение о милицейском произволе // Нарушения прав человека российскими правоохранительными органами: причины и масштабы явления, практика и эффективные методы защиты прав пострадавших. Материалы конференции, 27–28 янв. 2005 г. / Отв. ред. В.В. Сипров. – М.: Обществ. вердикт, 2005. – С. 6–9.
Парадоксы и смыслы «рейтингов». Попытка понимания // Вестник обществ. мнения. – М., 2005. – № 4 (78). – С. 8 – 18.
Петр умер вовремя? // Большая политика. – М., 2005. – № 2. – С. 13–15.
После Империи // Вестник обществ. мнения. – М., 2005. – № 6 (80). – С. 8 – 10.
Преодоление или насаждение насилия в обществе? Вместо предисловия // Индекс произвола правоохранительных органов: Очерки социологов и комментарии правозащитников / Отв. ред. А. Новикова. – М.: Обществ. вердикт, 2005. – С. 5–8.
Сегодняшний выбор: уровни и рамки // Вестник обществ. мнения. – М., 2005. – № 5 (79). – С. 8 – 16.
Человек обыкновенный в двух состояниях // Вестник обществ. мнения. – М., 2005. – № 1 (75). – С. 8 – 18. [Перепечатано: Пути России: двадцать лет перемен. 2005. Междунар. симпозиум, 20–22 янв. 2005 г. / Под общ. ред. Т.Е. Ворожейкиной. – М.: Моск. высшая школа соц. и экон. наук, 2005. – С. 220–236.]
D`Eltsine a Poutine: Les elections presidentielles en Russie de 1991–2004 / Y. Levada; Trad. M. Vichnevskaia // La Russie de Poutine. – P.: Seuil, 2005. – (Pouvoirs. № 112). – P. 141–152.
2006
Ищем человека: Социол. очерки, 2000–2005. – М.: Новое изд-во, 2006. – 383 с.: табл. – (Новая история).
Содерж.: Три «поколения перестройки»; Поколения ХХ века: возможности исследования; Заметки о «проблеме поколений»; Время перемен: предмет и позиция исследователя; Исторические рамки «будущего» в общественном мнении; Свобода от выбора? Постэлекторальные сопоставления; Отложенный Армагеддон? Год после 11 сентября в общественном мнении России и мира; Уроки «атипичной» ситуации: попытка социологического анализа; Восстание слабых: о значении волны социального протеста 2005 года; Двадцать лет спустя: перестройка в общественном мнении и в общественной жизни: неюбилейные заметки; Парадоксы и смыслы «рейтингов»: попытка понимания; Сегодняшний выбор: уровни и рамки; Механизмы и функции общественного доверия; Люди и символы: символические структуры в общественном мнении; Варианты адаптивного поведения; «Истина» и «правда» в общественном мнении: проблема интерпретации понятий; Фактор надежды; Человек в корруптивном пространстве; Координаты человека: к итогам изучения «человека советского»; «Человек советский»: реконструкция архетипа; Перспективы человека: предпосылки понимания; «Человек ностальгический»: реалии и проблемы; «Человек советский» в эпоху перемен; «Человек советский» как человек особенный; «Человек советский» и его рамки самоопределения; Функции и динамика общественных настроений; О «большинстве» и «меньшинстве»; «Человек обыкновенный» в двух состояниях.
Альтернативы: обретенные и утраченные // Вестник обществ. мнения. – М., 2006. – № 3 (83). – С. 8 – 13. [Перепечатано: Общественный разлом и рождение новой социологии: Двадцать лет мониторинга / Ред. – сост.: Л. Гудков, Б. Дубин, Ю. Левада. – М.: Новое изд-во, 2008. – С. 57–65.]
Бремя мнимого выбора // Вестник обществ. мнения. – М., 2006. – № 4 (84). – С. 8 – 14. [Перепечатано: Социология: теория, методы, маркетинг. – Киев, 2006. – № 4. – С. 14–23.]
Власть, элита и масса: параметры взаимоотношений в росс. кризисах // Вестник обществ. мнения. – М., 2006. – № 1 (81). – С. 8 – 13. [Перепечатано: Власть и властные отношения в современной России: Материалы IX научно-практич. конференции, посвящ. 15-летию Гуманит. ун-та (г. Екатеринбург), 30–31 марта 2006 г. – Екатеринбург: Гуманит. ун-т, 2006. – С. 14–24].
Наследники и фавориты // Коммерсантъ. – М., 2006. – № 156. – 24 авг. – С. 7.
Общественное мнение в политическом Зазеркалье // Вестник обществ. мнения. – М., 2006. – № 2 (82). – С. 8 – 18.
Особые люди // Знание – сила. – М., 2006. – № 4. – С. 32–36.
Проблема сырьевого уровня научного знания // Пути России: Проблемы соц. познания. 2006. Междунар. симпозиум, 3–4 февр. 2006 г. / Под общ. ред. Д.М. Рогозина. – М.: Моск. высшая школа соц. и экон. наук, 2006. – С. 19–20.
Свобода как необходимость // Бауман З. Свобода. – М.: Новое изд-во, 2006. – С. 7 – 10.
Существуют ли сегодня массовые корни фашизма? // Нужен ли Гитлер России?: По материалам междунар. форума «Фашизм в тоталитар. и посттоталитар. о-ве: идейн. основы, соц. база, полит. активность», Москва, 20–22 янв. 1995 г. / Сост. и авт. вступ. ст. В. Илюшенко. – М.: Пик, 1996. – С. 105–110.
Утраченные альтернативы // Моск. новости. – М., 2006. – № 16 (1333). – 5 – 11 мая. – С. 10.
Человек в расколдованном мире // Знание – сила. – М., 2006. – № 1. – С. 18–21.
Человек недовольный? // Вестник обществ. мнения. – М., 2006. – № 5 (85). – С. 12–17.
Человек с танка // Коммерсантъ. – М., 2006. – № 17. – 1 февр. – С. 8.
2007
Проблема «элиты» в сегодняшней России: Размышления над результатами социол. исследования / Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, Ю.А. Левада. – М.: Фонд «Либерал. миссия», 2007. – 371 с.
К 20-летию исследовательского коллектива «Левада-Центра» / Л. Гудков, Б. Дубин, Ю. Левада // Вестник обществ. мнения. – М., 2007. – № 6 (92). – С. 55–58.
Элитарные структуры в советской и постсоветской ситуации // ОНС: Обществ. науки и современность. – М., 2007. – № 6. – С. 5 – 15. [Перепечатано: Вторая навигация: Альманах. – Запорожье: Дикое поле, 2007. – Вып. 7. – С. 96 – 114.]
2008
Лекции по социологии / Левада Ю.А. Лекции по социологии; Семенов Ю.Н. Киноискусство и массовая аудитория; Отв. ред. Ю.А. Голубицкий. – М.: Вече, 2008. – С. 11 – 216. – (Вехи отеч. социологии).
2010
Воспоминания и дискуссии о Юрии Александровиче Леваде: [к 80-летию Ю.А. Левады] / Сост. Т.В. Левада. – М.: Издатель Е.В. Карпов, 2010. – 471 с. – [Т. 1].
Из содержания: Интервью Саше Канноне; Из выступления на объединенном заседании кафедр философии Академии общественных наук при ЦК КПСС и Высшей партийной школы при ЦК КПСС; Почему дороги ведут в Рим; Гарвардское интервью: «Я считал, что было бы неестественно вести себя как-то иначе»; Общественное мнение у горизонта столетий.
2011
Памяти Юрия Александровича Левады [1930–2006] / Сост. Т.В. Левада. – М.: Издатель Е.В. Карпов, 2011. – 475 с., [10] л. ил. – [Т. 2].
Из содержания: Точные методы в социальном исследовании; Кибернетические методы в социологии; Сознание и управление в общественных процессах; Альберт Швейцер – мыслитель и человек; Социальные процессы как методологическая проблема (тезисы); Историческое сознание и научный метод; О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориального аппарата); Культурный контекст экономического действия; Игровые структуры в системах социального действия; Динамика социального перелома: возможности анализа; Библиогр. работ Ю.А. Левады (1906–2008 гг.).
Сочинения: Социальная природа религии / Сост.: Т.В. Левада. – М.: Издатель Е.В. Карпов, 2011. – 382 с. – [Т. 3].
Содерж.: Социальная природа религии; Статьи разных лет: Традиция; Ритуал; Христианство; Современная социальная доктрина католицизма; Христианский социализм в России; Экуменическое движение в поисках «третьего пути»; «Новая ортодоксия» и кризис социального христианства; Плюсы и минусы «христианской левой»; Миф ХХ века; Религия.
Сочинения / Сост.: Т.В. Левада. – М.: Издатель Е.В. Карпов, 2011. – 415 с. – [Т. 4].
Содерж.: Лекции по социологии; Статьи разных лет: Интервью «Научная жизнь – была семинарская жизнь» (Отрывок); Социальные рамки экономического действия; Общество; Структура социальная; Город и село в современном процессе урбанизации общества: тезисы; Управление; Нормы социальные; Отношение населения к бюрократии; Да причем тут нарукавники!; Фашизм; Время вынужденных поворотов; СМИ. ru. Пресс-центр.
Сочинения: социологические очерки 1993–2000 / Сост.: Т.В. Левада. – М.: Издатель Е.В. Карпов, 2011. – 506 с. – [Т. 5].
Содерж.: От автора; Общественные перемены и общественное мнение; Векторы перемен: социокультурные координаты изменений; Общественное мнение в год кризисного перелома; Факторы и ресурсы общественного мнения в условиях «постмобилизационого общества»; Факторы переменные и постоянные: сводный мониторинг 1994–1995; Пирамида общественного мнения в электоральном зеркале; Социально-пространственная структура: центр и регионы; Российское электоральное пространство; Человек политический: сцена и роли переходного периода; Факторы и фантомы общественного доверия; Социальные типы переходного периода: попытка характеристики; Массовый протест: потенциал и пределы 1988–1998: десятилетие вынужденных поворотов; Общественное мнение на переломе эпох: ожидания, опасения, рамки (К социологии политического перехода); О природе общественного мнения; Элита и масса – проблема социальной элиты; Комплексы общественного мнения; Человек, толпа, масса; Еще раз о проблеме социальной элиты; «Средний человек»: фикция или реальность?; Индикаторы и парадигмы культуры в общественном мнении; Феномен власти: парадоксы и стереотипы восприятия; Показатели социальных настроений в «норме» и в кризисе; Проблема эмоционального баланса общества; Подводя итоги; Наши десять лет: итоги и проблемы (околоюбилейные размышления).
Сочинения: проблема человека / [Сост. Т. В. Левада]. – М.: Издатель Е.В. Карпов., 2011. – 526 с.: ил. – [Т. 6].
Содерж.: Человек – советский и постсоветский: [Отрывок из статьи «Наши десять лет: итоги и проблемы»]; Проблемы экономической антропологии у К. Маркса; Ценностные ориентации личности и массовые коммуникации (Кяярику II); Человек советский пять лет спустя: 1989–1994; Возвращаясь к феномену «человека советского»: проблемы методологии анализа: Человек в поисках идентичности: проблема социальных критериев; Человек советский десять лет спустя: 1989–1999; Человек приспособленный; Человек недовольный: протест и терпение; Человек лукавый: двоемыслие по-российски; Человек ограниченный: уровни и рамки притязаний; Человек в корруптивном пространстве; Координаты человека; «Человек советский»: реконструкция архетипа; Перспективы человека: предпосылки понимания; «Человек ностальгический»: реалии и проблемы; «Человек советский» в эпоху перемен; «Человек советский» как человек «особенный»; «Человек советский» и его рамки самоопределения; Функции и динамика общественных настроений; О «большинстве» и «меньшинстве»; «Человек обыкновенный» в двух состояниях; О гражданской нации.
Сочинения: избранное: социологические очерки, 2000–2005 / [Сост. Т.В. Левада]. – М.: Издатель Е.В. Карпов, 2011. – 507 с. – [Т. 7].
Содерж.: Вместо предисловия автора; Статьи разных лет: Некоторые проблемы системного анализа общества в научном наследии К. Маркса; Некоторые методологические проблемы массовой коммуникации (Кяярику I); Странный мир массовой культуры; Интеллигенция; Социология; Социологические очерки 2000–2005: Динамика общества – динамика мнений; Общественное мнение у горизонта столетий; Три «поколения перестройки»; Поколения XX века: возможности исследования; Заметки о «проблеме поколений»; Время перемен: предмет и позиция исследователя: Ретроспективные размышления; Исторические рамки «будущего» в общественном мнении; Свобода от выбора? Постэлекторальные сопоставления; Отложенный Армагеддон? Год после 11 сентября в общественном мнении России и мира; Уроки «атипичной» ситуации. Попытка социологического анализа; Восстание слабых. О значении волны социального протеста 2005 года; Двадцать лет спустя: перестройка в общественном мнении и в общественной жизни. Неюбилейные заметки; Парадоксы и смыслы «рейтингов»: попытка понимания; Сегодняшний выбор: уровни и рамки; Атрибуты общественного мнения; Механизмы и функции общественного доверия; Люди и символы. Символические структуры в общественном мнении; Варианты адаптивного поведения; «Истина» и «правда» в общественном мнении. Проблема интерпретации понятий; Фактор надежды; Проблема сырьевого уровня научного знания.
Выступления, беседы, интервью
1968
Выступление по поводу доклада В.А. Ядова; Ответы на вопросы // Методологические проблемы исследования массовой коммуникации: Материалы встречи социологов, I. Кяярику – 1966 / Тарт. гос. ун-т; Ред. сб. Ю.В. Вооглайд (гл. ред.) и др. – Тарту, 1968. – С. 122–164, 179–183.
[Выступления] // Ценностные ориентации личности и массовая коммуникация: Материалы встречи социологов, II. Кяярику – 1967 / Тарт. гос. ун-т; Ред. колл.: Ю.В. Вооглайд (гл. ред.) и др. – Тарту, 1968. – С. 23–38, 160–180.
1988
Через дискуссию – к делам!: [Высказывания] / Ю. Левада, И. Лукин, Н. Попов и др. // Сов. культура. – М., 1988. – № 67 (6479). – 4 июня. – С. 2.
Что дано и что еще нужно взять: О сб. «Иного не дано» / Беседа с А. Егоровым // Лит. газета. – М., 1988. – № 43 (5213). – 26 окт. – С. 4.
1990
Отречемся от старого мифа / Беседа с М. Устюговым // Гудок. – М., 1990. – № 154 (19689). – 5 июля. – С. 3.
Реформа власти: Верховный Совет покидает авансцену: [Высказывания] / Ю. Рыжов, Г. Старовойтова, Л. Карпинский, Ю. Левада и др. // Моск. новости. – М., 1990. – № 50 (544). – 16 дек. – С. 8.
Союзный договор: вряд ли съезду удастся наверстать то, что упущено: [Высказывания] / Г. Старовойтова, А. Ципко, А. Гельман, Ю. Левада и др. // Моск. новости. – М., 1990. – № 50 (544). – 16 дек. – С. 9.
1991
Разведка боем… Что впереди – колумбийский вариант?: [Высказывания] / Е. Яковлев, О. Богомолов, А. Гельман, Ю. Левада // Моск. новости. – М., 1991. – № 7 (552). – 17 февр. – С. 9.
1994
[Запись выступления] // Российская социологическая традиция шестидесятых годов и современность / Под ред. В. Ядова, Р. Гратхоффа. – М.: ИС РАН, 1994. – С. 30–34.
1996
«Научная жизнь – была семинарская жизнь»: [Интервью] // Социол. журнал. – М., 1996. – № 3/4. – С. 236–245. [Перепечатано: Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. Г.С. Батыгин; Ред. – сост. С.Ф. Ярмолюк. – СПб.: Рус. христ. гум. ин-т, 1999. – С. 82–94.]
1997
[Интервью] // Мы и наш ВЦИОМ / Рук. проекта В.П. Никитина; Сост. Т. Зурабишвили и др. – М.: [ВЦИОМ], 1997. – Вып. I. – (На обл.: ВЦИОМ 10 лет: 1987–1997). – С. 19–22.
1998
«Военную интервенцию как способ присоединения Украины население России не поддержит» / Интервью В. Пустовойту // День: Ежедн. всеукраин. газета. – Киев, 1998. – № 1 (287). – 5 янв. – С. 1, 6.
«Люди делают выбор исходя из симпатий к личностям» / Интервью Н. Архангельской // Известия. – 1998. – № 227. – 3 дек. – С. 3.
Почему народ из двух зол выбирает… оба? / Интервью Н. Желноровой // Аргументы и факты. – М., 1998. – № 40 (973). – С. 5.
Время вынужденных поворотов / Беседа с И. Прусс // Знание – сила. – М., 1999. – № 11/12. – С. 28–33.
1999
ВЦИОМ делает бизнес на социологии / Интервью Ж. Локотковой // Капитал. – М., 1999. – № 16 (215). – 21–27 апр. – С. 5.
2000
«Быть интеллигентом – значит думать о последствиях»: [Интервью] // Известия. – М., 2000. – № 129. – 14 июля. – С. 7.
«В мире аудиовизуальной коммуникации нужен новый тип газеты»: [Интервью] // Пресса в обществе (1959–2000). Оценки журналистов и социологов. Документы / Ин-т социологии РАН; Авт. и исполнители проекта: А.И. Волков, М.Г. Пугачева, С.Ф. Ярмолюк. – М.: Моск. школа полит. исследований, 2000. – (Б-ка МШПИ; 23). – С. 354–371.
Попытка реабилитировать армию играет важную роль в карьере Путина / Интервью В. Пустовойту // День: Ежедн. всеукраин. газета. – Киев, 2000. – № 54. – 28 марта.
2001
Зеленый шум: Портрет молодого поколения россиян в зеркале социологии / [Интервью В. Головачеву] // Труд. – 2001. – № 192. – 17 окт. – С. 1–2.
Работы лет на двести // Досье на цензуру. – М., 2001. – № 16. – С. 38–41.
«Рука Путина оказалась не жесткой» // Московский комсомолец. – 2001. – 20 февр. – № 39. – С. 2.
Человек стал меняться, но другим не стал // Досье на цензуру. – М., 2001. – № 13. – С. 17–21.
Что думает народ: [Интервью] // Аргументы и факты. – М., 2001. – № 52. – 26 дек. – С. 4.
2002
«Мы выяснили мнение 2 миллионов россиян»: [Интервью] // Известия. – М., 2002. – № 224. – 7 дек. – С. 1–2.
Непотопляемые: [Интервью] // Аргументы и факты. – М., 2002. – № 32. – 7 авг. – С. 4.
«Путин силен своей неопределенностью»: [Интервью] // Коммерсантъ – Власть. – 2002. – № 21. – 4 июня. – С. 14.
2003
Заказ на приватизацию / Интервью М. Завадскому // Еженедельный журнал. – М., 2003. – № 31–32 (82–83). – С. 16–17.
Люди все забывают и все принимают / [Интервью А. Нарышкиной] // Известия. – М., 2003. – № 200. – 30 окт. – С. 11.
«Мы не вышли из темной части рынка» / [Интервью В. Головачеву] // Труд. – М., 2003. – № 11. – 22 янв. – С. 1, 5.
Мы не на поезде едем, а ковыляем по пустыне / Интервью М. Калишевскому // Iностранец. – М., 2003. – № 1 (454). – 21 янв. – С. 10–11.
Половина россиян почему-то счастливы: [Интервью] // Известия. – М., 2003. – № 62. – 9 апр. – С. 1–2.
«Против Путина никто не игрок» / Интервью М. – Л. Тирмастэ // Коммерсантъ – Власть. – М., 2003. – № 49. – 15–21 декабря. – С. 34.
Страна меняется быстрее, чем народ / Интервью В. Еремину // Росс. Федерация сегодня. – М., 2003. – № 2. – С. 42–43.
У власти уже сегодня есть признаки деградации / Интервью Д. Быкову // Собеседник. – М., 2003. – № 31. – 20–26 авг. – С. 4–5.
2004
Жизненный уровень растет, а оптимизм убывает: [Беседа Ешенева с Левадой] / Подготовила Е. Полуяр // Парламентская газета. – М., 2004. – № 176. – 22 сент. – С. 3.
«Кабинет Фрадкова растерял доверие за три месяца» / Интервью А. Колесниченко // Новые Известия. – М., 2004. – № 126 (1525). – 19 июля. – С. 1–2.
Кумиры нам снятся по-прежнему / [Интервью О. Тимофеевой] // Известия. – М., 2004. – № 133. – 24 июля. – С. 4.
«Люди так и не научились ценить свободу» / Интервью А. Колесниченко // Новые Известия. – М., 2004. – № 203 (1602). – 3 нояб. – С. 1–2.
Мы похожи на толпу / Интервью В. Корнейчуку // Родная газета. – М., 2004. – № 22 (57). – 11 июня. – С. 14.
«Наш народ выйти на улицу не способен» / Интервью А. Анину // Россiя. – М., 2004. – № 38 (44 / 890). – 7 – 13 окт. – С. 5.
«Нестабильность – вот главная фобия…»: Интервью // Аргументы и факты. – М., 2004. – № 51. – 16 дек. – С. 10.
Твердая рука и дрожь в коленях: «Запугивание населения – признак растерянности власти» / Интервью А. Липскому // Новая газета. – М., 2004. – № 84 (1014). – 15 нояб. – С. 14.
2005
[Интервью В. Головачеву, включенное в состав статьи В. Головачева «Лучшая жизнь сама не приходит»] // Труд. – М., 2005. – № 1. – 11 янв. – С. 3.
Кто так считает / Интервью С. Канноне // Прямые инвестиции. – М., 2005. – № 6 (38). – С. 100–102.
Московские петербуржцы: Чужие среди своих / Интервью Д. Коцюбинскому // Дело. – СПб., 2005. – 26 дек. [Перепечатано: Россией правит питерская шпана // Коцюбинский Д.А. Московские петербуржцы: в плену имперского синдрома. – СПб.: Вольная Петербургская типография, 2008. – С. 190–203.]
На Кремль надеются все меньше / Интервью К. Латухиной // Независ. газета. – М., 2005. – № 23 (3419). – 7 февр. – С. 2.
«Перестройка породила надежды, которые не оправдались» / [Интервью А. Колесниченко] // Новые Известия. – М., 2005. – № 42. – 14 марта. – С. 2.
«Россияне готовы терпеть очень многое» / Интервью Т. Морозовой // Имеешь право. – М., 2005. – 26 сент. – 2 окт. – С. 12–13.
«Серьезной классовой борьбы между правыми и левыми нет»: [Ответы на вопросы редакции] // Коммерсантъ – Власть. – М., 2005. – № 31. – 8 авг. – С. 14.
«У власти потеряна связь с реальностью» / Интервью В. Хамраеву // Коммерсантъ – Власть. – М., 2005. – № 4. – 31 янв. – С. 32–33.
Человек остался советский. Душа – та же / Интервью А. Нарышкиной // Профиль. – М., 2005. – № 15/16. – 25 апр. – С. 136–137.
2006
Из беседы с Юрием Левадой в редакции «Новых Известий» 22 октября 2006 года // Новые Известия. – М., 2006. – № 211. – 17 нояб. – С. 3.
Имитационный режим / [Беседа с обозревателем «Нового времени» Н. Овсепян] // Новое время. – М., 2006. – № 8. – С. 23–25.
Не скоро минется, кто с кем подерется… / Интервью Е. Крушельницкому // Моск. среда. – М., 2006. – № 38 (193). – 18–24 окт. – С. 16.
«Политковскую до убийства знала почти половина россиян» / Интервью А. Колесниченко // Новые Известия. – М., 2006. – № 196 (2074). – 26 окт. – С. 1–2.
Россия без страха и упрека / Интервью О. Хибаковой // Эксперт – Сибирь. – Новосибирск, 2006. – № 4 (101). – 30 янв. – 5 февр. – С. 34–37.
Хождение вокруг себя / Интервью И. Медовому // Трибуна. – 2006. – № 32 (10126). – 18 авг. – С. 13.
2007
Когда были события, мы раз за разом обсуждали Польшу: Последнее интервью Юрия Левады [Т. Косиновой] // Новая Польша. – Варшава, 2007. – № 1 (82). – С. 4–9.
О гражданской нации: [Выступление на семинаре] // Общая тетрадь: Вестник Моск. школы полит. исследований. – М., 2007. – № 3 (42). – С. 112–121.
2008
Стенограмма обсуждения плана сборника статей «Социальные исследования» / Ф.В. Константинов (предс.), Ю.А. Левада, Г.В. Осипов и др. // Осипов Г.В., Москвичев Л.Н. Социология и власть (как это было на самом деле). – М.: Экономика, 2008. – С. 553–555.
«Я считал, что было бы неестественно вести себя как-то иначе» / Интервью Д.Н. Шалина с Ю.А. Левадой и Е.С. Петренко // Социол. журнал. – М., 2008. – № 1. – С. 155–174.
Это было уникальное, историческое явление: [Выступление на дискуссии в фонде «Либеральная миссия» (25 января 2006 г.), посвященной шестидесятникам] // Шестидесятники / Сост. М.Ш. Барбакадзе. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2008. – С. 38–41.
Примечания
1
См., например: Сталинские альтернативы // Осмыслить культ Сталина. М., 1989. С. 448–459; Динамика социального перелома: возможности анализа // Коммунист. 1989. № 2. С. 34–45; Секрет нестабильности самой стабильной эпохи // Погружение в трясину (Анатомия застоя). М., 1990. С. 15–30 (совместно с Т. Ноткиной и В. Шейнисом) и др.
(обратно)2
Я бы даже сказал, что они рождают ложное впечатление прозрачности и однозначности, поскольку обычно при первом чтении схватывается лишь первый слой мысли, непосредственно связанный с материалом. В какой-то степени это связано с несколькими рамками референции, которые обычно упорядочивают материал размышлений Левады и которые по-разному позволяют интерпретировать данные и размышления автора в нескольких временных или теоретических контекстах. В этом плане его тексты близки – по смысловой насыщенности, манере концентрации или конденсации смысла, равно как и внутренней организации смысловых рефренов и перекличек – к поэзии, предполагающей новые семантические повороты в зависимости от интеллектуального состояния читателя.
(обратно)3
В том числе и в интервью, даваемых незадолго до смерти: «Меня уже, конечно, не будет, но мне интересно, что из этого всего выйдет. Я буду смотреть на вас оттуда» (цитируется беседа с Левадой в телепередаче «Школа злословия» от 7 ноября 2005 г.).
(обратно)4
Единственным, кто выступил там в защиту Левады и с обвинением в адрес его гонителей, был Б.А. Грушин.
(обратно)5
Звание профессора вернут ему лишь в 1991 г.
(обратно)6
Левада Ю.А. Сочинения. Социологические очерки 2000–2005 / Сост. Т.В. Левада. М., 2011. С. 9.
(обратно)7
См., например, его статью «О современных попытках обновления религии» (1962, подписана псевдонимом Ю. Федин), чрезвычайно важную для понимания его подходов к исследованию общественного мнения уже во ВЦИОМе.
(обратно)8
См.: Левада Ю.А. Социальная природа религии. М., 1965. С. 232–239, а также более ранние работы: Современное христианство и социальный прогресс. М., 1962, статьи «Христианство», «Фашизм», «Традиция», «Структура социальная» и др. в «Философской энциклопедии», вышедшие, правда, значительно позже (Т. 5. М., 1970).
(обратно)9
Пятигорский А.М. Избранные труды. М., 1996. С. 108–115.
(обратно)10
Как пишет Немцев, «изысканного и эрудированного общения» (Немцев М. Коммунизм как высший этап «истернизации»: Д.Б. Зильберман о русской культурной традиции и советском обществе // Зильберман Д. Православная этика и материя коммунизма. СПб., 2014. С. 221).
(обратно)11
За короткий срок из ИКСИ ушли более 100 сотрудников.
(обратно)12
Это его сквозная мысль. В мае 2006 г., то есть за полгода до смерти, он, выступая на семинаре Московской школы политических исследований, говорил: «Мне кажется, что нам нужно в первую очередь, и это даже важнее, чем политическая оппозиция, утвердить человеческое разнообразие. Разнообразие мыслей человеческих, возможность свободно думать означает возможность по-разному думать, серьезно и по-разному оценивать и одних, и других, и третьих, и разные компоненты нынешней власти и ее сторонников, и тех, кто ее с разных сторон ругает. Это важно с точки зрения будущего <…>. Это важнее, чем сегодняшние группировки “за” и “против”, хотя, конечно, создаются они иногда на базе самых благородных и понятных стремлений» (Левада Ю.А. О гражданской нации // Левада Ю.А. Сочинения. Проблема человека. М., 2011. С. 526).
(обратно)13
Ср.: «Интересна проблема “статусной” метаморфозы подобных конструкций – превращения, скажем, рациональной модели в некий идеологический или мифологический фантом или, наоборот, редукции какой-нибудь мифологемы утопического сознания до положения позитивно-ограниченной рабочей модели» (с. 276. Далее при ссылке на произведение Левады, включенное в настоящее издание, страницы указываются в скобках в тексте).
(обратно)14
См. представленные в настоящем издании его работы «Урбанизация как социокультурный процесс» (1974), «К проблеме изменения социального пространства-времени в процессе урбанизации» (1976; обе написаны при участии А.Г. Левинсона и В.М. Долгого), «О построении модели репродуктивной системы» (1980), а также содержащую популярное изложение этих идей статью «Почему дороги ведут в Рим?» (название статьи навеяно эмиграцией М.А. Виткина, заместителя Левады).
(обратно)15
«Собственная культура города, а в каком-то смысле и структура всего общества могут быть представлены как производные данного социокультурного процесса» (с. 209). «Формируя пространство человеческого общения, город становится фокусом всего пространства общества. Именно с городом появилась пространственная организация общества в макромасштабах (и сами эти масштабы, разумеется). Характерный показатель такой организации – разделение социокультурных функций центра и периферии общества, а в связи с этим и поляризация определенных линий коммуникации в обществе, появление новой меры социальной дистанции, иерархии и т. д. Другая сторона того же процесса – формирование категорий и мер социального времени. <…> Функциями города <…> являются организация социального пространства общества и социализация его временных характеристик. Городская организация общества может поэтому рассматриваться как его морфология, а процесс урбанизации – как морфогенезис общества» (с. 212). «Наиболее общая функция города – она же и наиболее фундаментальная – воспроизводство данного типа общественной структуры (или, как принято говорить в культурной антропологии, “поддержание культурного образца”)» (с. 216).
(обратно)16
Левада писал: «Лишь представляя временную организацию РС (репродуктивной системы. – Л.Г.) как сложную, многоуровневую систему, можно отобразить в концептуальной модели ту структуру, которая создаст возможность фиксировать определенные состояния как прошлые (“привязанные” к соответствующим осям отсчета) и как актуально значимые. Такая структура позволяет обеспечить активное и многократное обращение к культурному содержанию прошлого, интерпретацию и переоценку этого содержания, а тем самым его постоянную актуализацию» (с. 264).
(обратно)17
Левада относил Т. Парсонса к числу немногочисленных в ХХ в. социологов, наделенных «божественной искрой».
(обратно)18
См.: Tenbruck F. – H. Das Werk Max Webers // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Opladen, 1975. Jg. 27. H. 4. S. 663–699; Гудков Л. Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М., 1994. С. 283–287.
(обратно)19
Отчасти подобное ограничение поля интереса может быть оправдано тем, что в сложившихся и относительно устойчивых обществах завершенной модернизации (США, Европы) образцы рациональности давно институционализированы, а значит, благодаря процессам массовой социализации стали всеобще значимыми (разумеется, в пределах, в которых можно говорить о «всеобщности») вместе с этикой достижения, моральной и правовой культурой, принципами гуманизма, правами человека и т. п. Именно отсюда критики этого общества выводят его «одномерность».
(обратно)20
Слово «критика» в данном случае следует понимать именно в кантовском смысле: аналитическое исследование семантического и функционального потенциала понятий, связанных с идеей инструментальной рациональности или вытекающих из нее.
(обратно)21
В этом отношении Левада был один из очень немногих, кого социальные перемены 1990-х гг. не застали врасплох. Как говорил Мейстер Экхарт, «Бог готов ежечасно, но мы очень не готовы».
(обратно)22
Лет двадцать назад, когда мы (старый ВЦИОМ) еще сидели на Никольской, один молодой американский преподаватель социологии задал ему вопрос: как бы он определил теоретико-методологические основания своей социологии, к какой школе он себя относит? (Вопрошающий был демонстративным сторонником Н. Лумана.) Левада засмеялся и переадресовал вопрос мне. Я ответил, что это что-то вроде соединения структурно-функционального анализа и понимающей социологии культуры. Левада подумал и сказал, что если нужны какие-то дефиниции, то пусть будет так. Его полное равнодушие к школьной социологии имело, как мне кажется, несколько причин. Первая – отвращение к внешней, витринной стороне своей деятельности (и своей личности. Это не скромность, а экзистенциально укорененное отношение к природности, случайности своего существования), вторая, связанная с первой, – он очень торопился схватить принципиальные особенности происходящего, зафиксировать какие-то общие черты постсоветской системы, не отвлекаясь на «мелочи» академического теоретического оформления своих взглядов. Поначалу это было связано с тем, что мы предполагали (основываясь на предшествующем опыте его сектора в ИКСИ), что представившийся нам шанс общей работы во ВЦИОМе продлится не более 3–4 лет, но потом, по мере того как перед ним открывалась вся глубина и масштабность стоящей задачи, сроки работы он соразмерял уже не с социальным временем, а с отпущенным ему временем жизни, отсчитывая его с конца. Третья – он действительно был лидером, но не авторитарным учителем. В коллективной работе он задавал ценностный и эмоциональный тон, но никогда и никому не навязывал конкретных схем анализа и объяснения, не разжевывал своих идей, рассчитывая (иногда без должного основания) на то, что другие схватят его замысел и подходы. Мы, его ближайшее окружение и сотрудники, часто не «тянули», с трудом понимая общие рамки его замысла и параметры проекта, соответственно, лишь ощупью подыскивая требуемую для реализации технику концептуальной работы и интерпретации материала. В этом смысле он, конечно, был одинок, но как ученый и руководитель относился к такой ограниченности «контекста» с неизбежным смирением или, скорее, с терпеливой грустью. Многие интересные вещи он лишь «накалывал», наносил на свою внутреннюю «карту проблем», не успевая их систематически развертывать.
(обратно)23
Регулярно появлявшиеся в «Мониторинге общественного мнения: социально-экономические перемены» статьи Левады собраны в книгу «От мнений к пониманию. Социологические очерки 1993–2000» (М., 2000. 576 с.). (В названии воспроизведен придуманный им девиз ВЦИОМа, затем Аналитического центра Левады.) Работы последних шести лет, появлявшиеся в журнале нашего центра – «Вестник общественного мнения», собраны им в книге «Ищем человека» (М., 2006. 382 с.). По проблематике «советского человека» он опубликовал, помимо прочего, более 25 статей.
(обратно)24
«Общественное мнение не может служить или казаться средством конкретного социального действия. Чтобы стать общественной силой, общественное мнение должно быть организовано, причем не только “извне” (гражданские свободы, СМИ, политический плюрализм, лидеры-идолы и т. д.), но и “изнутри”, в смысле самого “языка” общественного мнения (символы, стереотипы, комплексы значений и средств выражения)» (От мнений к пониманию. С. 216–217). «Наиболее общей функцией общественного мнения как института принято считать поддержание социально одобряемых норм поведения массового человека в массовом обществе. Он беден и тем удобен для массового общения» (Там же. С. 218). В поле общественного мнения человек находит: а) «язык» выражения (оформления, формирования) своих оценок и взглядов; б) группу «своих»; в) кодекс общепринятых нормативных стандартов такого выражения; д) «зеркало», показывающее соответствие поведения человека этим стандартам (Там же. С. 220). «Общественное мнение непосредственно оперирует не с “вещами” и явлениями социальной жизни, а с представляющими их знаками или символами. <…> Глубина или объем памяти этой коммуникативной структуры весьма ограничен. Никакая теория, идеологическая или религиозная система в ней не может уместиться, поэтому общественное мнение оперирует с приметными символами таких систем. Подобная роль символов иногда вырабатывается долгим историческим опытом, иногда приписывается им искусственно (Левада Ю.А. Люди и символы // Ищем человека. С. 187).
(обратно)25
«Две ключевые проблемы подхода к анализу возможных перспектив интересующего нас феномена – понимание исходного, нынешнего его состояния (то есть “массового” человека в современной российской ситуации) и адекватная характеристика механизма или, по крайней мере, парадигмы его возможных трансформаций. Приходится преодолевать соблазн “простейших” вариантов, например экстраполяции нынешнего образца в отдаленное будущее, конструкции желаемого (утопического) социально-антропологического типа, рационального процесса совершенствования наличного человеческого материала, воспроизводства в отечественных условиях стадий и форм развития, пройденных ранее другими общественными системами, а также различных вариантов реверсивных (попятных) или циклических трансформаций. Какие-то элементы подобных вариантов можно обнаружить в том числе и с помощью массовых опросов. Но никакого единого механизма изменений – будь то экономический (в духе концепций экономического или технологического детерминизма – даже при самом фантастическом технико-экономическом прогрессе в наступившем столетии), нравственный, глобализующий или иной – обнаружить не удается и, скорее всего, не удастся. Остается внимательное рассмотрение действующих, а также ушедших в прошлое и формирующихся “фигур” общественных перемен с помощью имеющегося эмпирического и мыслительного материала» (Там же. С. 274).
(обратно)26
Такова идея оккупационной власти, разделяемая очень многими критиками коммунизма.
(обратно)27
Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М., 1993. С. 24.
(обратно)28
Там же. С. 8. Хотя Левада считает, что «советский человек» в полном виде представлен лишь в одном поколении советских людей, рождения примерно 1920-х гг., практически ушедшем в настоящее время, тем не менее этот тип захватывает гораздо больший период времени, чем это казалось нам в начале 90-х гг. См.: Левада Ю. Поколения ХХ века: возможности исследования // Отцы и дети: поколенческий анализ современной России. М., 2005. С. 39–60.
(обратно)29
Советский простой человек. С. 31. Ср. перечисление типов социальной игры советского человека: «игра в заботу», «сопричастность», «согласие», «работа», «единодушие» в разделах «Искушение простотой» и «Игра на проигрыш» (Там же. С. 24–26, 30–32).
(обратно)30
«Символы упрощают реальность, избавляют человека от необходимости самостоятельно в ней разбираться, поэтому служат инструментами “автоматизации” социальных действий. Только так можно привести в действие сложные цепи межчеловеческих взаимодействий, которые не способно переработать никакое индивидуальное сознание, тем более за время перехода к необходимому действию. Огромное большинство повседневных и массовых акций “запускается” с помощью триггерных символических структур» (Ищем человека. С. 188). Подробнее о мифах как регуляторах массового сознания (общественного мнения), периодизации советских и постсоветских символов и мифов см. в статье «Люди и символы» (Там же. С. 187–201).
(обратно)31
«…фактор, структурирующий вертикально советское общество, – мера допущенности к властным привилегиям и сопутствующим им информационным, потребительским и прочим дефицитам» (Советский простой человек. С. 19).
(обратно)32
Наиболее полно проблематика функций символических компонентов рассматривается Левадой на примерах разложения имперского комплекса и его радикалов (неполноценности, ущемленности и проч.), символики и мифологии власти, «поиска поводыря» общественным мнением (тема «элита и масса»), «обрядоверия» и двусмысленности массовой религиозной идентификации. Здесь Левада продолжает свои старые работы по мифологическому сознанию, опираясь в теоретическом плане прежде всего на идеи Э. Дюркгейма и М. Вебера. Определяющее значение для него имеет различение мифа и ритуала, ритуала и церемониала, типов ритуалов и церемониалов, воспроизведение архаической, мифологической основы ритуала в современных условиях, когда исчезли базовые значения «сакрального», но остались их функциональные суррогаты и аналоги (державный стиль, телевизионные инсценировки, электоральные акции и проч.).
(обратно)33
«Дефинитивная функция символа – обозначать некий предмет – не единственная и даже часто не основная. Обращение к символическим конструкциям упрощает отношение человека к социальной реальности, избавляет его от самостоятельных усилий понимания, оценки и пр., используется как доказательство лояльности по отношению к какой-то традиции, идеологии, социальной группе или институту» (Ищем человека. С. 197).
(обратно)34
«Феномен коррупции представляется довольно сложным и – по крайней мере потенциально – всепроникающим <…>. Регулярное экономическое поведение, в принципе, строится по универсально применимым образцам. Коррупционная сделка, в отличие от такого образца, всегда строится на краткосрочных, моментальных и сугубо партикулярных интересах участников. <…> Она всегда нарушает или обходит общепринятые нормы и чужие интересы <…>. Коррупционная сделка играет роль дополнительного механизма (триггера, включателя), который приводит в движение, направляет или тормозит какие-то потоки социально востребованных благ, услуг, действий. <…> Корруптивная сделка всегда организована “вертикально”, потому что по своему определению она предполагает “нормативный переход”, нарушение установленной нормы, запрета, привычки. Адресатом коммерческого или политического соблазна может быть, естественно, только группа, не имеющая устойчивых склонностей или соответствующих антипатий, – та самая середина, “болото”, которая может создать необходимый перевес, особенно в ситуации “сумеречного” массового выбора при отсутствии устоявшихся политических симпатий, неясности ориентиров. Популистская политика, столь часто востребуемая в электоральные и кризисные периоды – рассчитанная на соблазн (или также запугивание), на использование массовых, чаще всего не слишком возвышенных страстей – типичный пример массового политического подкупа. Одна из особенностей его механизма в том, что он направлен не столько на какое-то множество людей, сколько на создание такой общественной атмосферы (восторга или страха – не столь важно), в которой с большей вероятностью люди склоняются к требуемому от них варианту поведения. Массовый подкуп, как экономический, так и политический, как и любая иная корруптивная сделка – трансакция “о двух концах”… Если одна сторона (“сверху”) стремится подкупить, то вторая (“снизу”) надеется “откупиться” от излишних претензий, сохранить что-то свое и т. д. – по всем правилам “лукавого двоемыслия” <…>. Все и всяческие формы корруптивных сделок и связей приобретают большой размах и значение преимущественно в переломные эпохи и в пограничных средах общественных отношений – там, где ослаблены “обычные” взаимосвязи между личными и официальными, корпоративными и государственными, локальными и центральными интересами. Коррупция неизбежно растет – и обращает на себя внимание – в переходных исторических ситуациях, когда длительное время сосуществуют разные нормативно-ценностные системы, когда “старые” уже дискредитированы, а “новые” не утвердились достаточно прочно. Причем, что особенно важно, это относится не только к внешним (правовым, полицейским) системам социального контроля, но и к “внутренним” (нравственным, личностным) регуляторам поведения» (Ищем человека. С. 235, 236, 237, 239).
(обратно)35
В данном случае это не схема и не результаты процесса, а лишь указание на общую направленность изменений.
(обратно)36
Ищем человека. С. 115. «Одна из весьма важных особенностей российской истории – наслоение разновременных социальных, социокультурных, социально-политических структур. Отсюда многослойность, как бы протяженность во всех направлениях – “вдаль” (территория для России всегда имела социальные и исторические измерения) и “вглубь” социального и человеческого материала, испытывающего воздействие преобразующих и разрушающих факторов. В этой толще меркнут и гаснут, трансформируются любые импульсы перемен, на любой тип действия находится соотвествующая форма противодействия, преимущественно пассивного, адаптивного. В итоге “понижающий трансформатор” работает на всех уровнях, приспосабливая импульсы перемен, откуда бы они ни исходили, к существующему образу жизни и сознания. Это относится и к “массе” (многочисленные “низовые”, по характеру жизни наиболее косные слои), и к разнообразным группам элиты – консервативным, прогрессистским, эгоистическим и пр. И, разумеется, к бесконечной российской “глубинке”, отнюдь не только пространственной. (Это наверняка не исключительная особенность России, но вряд ли где-нибудь разновременность социальных процессов играла столь важную роль и могла проявляться столь наглядным образом)» (Там же. С. 275). «Поэтому, в частности, в России никогда не были возможными эффективные (соответствующие каким бы то ни было замыслам и планам) изменения “сверху” – каждая волна перемен, навязанных волей власти или стечением обстоятельств, переходя от одного временного слоя к другому, от центра к периферии, трансформировалась многократно, создавая как очаги молчаливого сопротивления, так и многообразные формы мимикрии и приспособления к переменчивым обстоятельствам. Сопротивление любым переменам (независимо от их направленности) в России всегда опиралось прежде всего на эту инерцию социального и человеческого “материала”, в меньшей мере – на чье-то заинтересованное или привычное противодействие. <…> Позднейшие фольклорно-политические вариации “хотели как лучше, и т. д.” разрабатывают ту же извечную модель» (Там же. С. 276).
(обратно)37
«Запоздалая или “догоняющая” модернизация нигде и никогда не напоминала в ХХ в. плавный эволюционный процесс освоения достижений мирового прогресса на благо населения новых или обновленных государств. Использование определенных (прежде всего военно-промышленных или просто “оружейных”) достижений западной цивилизации традиционными общественными системами, выход на поверхность новых национальных, клановых, религиозных разделений и амбиций, массовое нетерпение, а иногда еще и революционный авантюризм – все эти факторы неизбежно придавали общественному развитию, если рассматривать его в глобальных масштабах ушедшего столетия, конвульсивный и болезненный характер. Практически все “догоняющие” страны и регионы воспроизводили не “рациональную”, а “иррациональную” составляющую европейской модели, то есть скорее ее катаклизмы, чем ее преимущества. Вопреки всем расчетам прогрессистов и социалистов утопического периода (ХIХ в.) новые национальные консолидации и разграничения приобрели больший вес, чем классовые или идеологические. Одна из ошибок либералов и социалистов [заключалась] в том, что они считали нацию пережиточной, традиционной структурой, которая отмирает или теряет значение в модернизационных процессах. На деле же современные национальные консолидации, разграничения, символы, противопоставления, затрагивающие массовые переживания и комплексы, – неизбежные продукты модернизации на определенных (“формирующих”) ее этапах. Точно так же как транснациональные образования на более поздних этапах. В Европе ситуация стала изменяться в пользу новой интеграции лишь к концу ХХ века, но положение во многих “догоняющих” странах (Азии, Африки) скорее осложнилось. Новые государства, избавляясь от колониализма, утверждают себя самым простым способом – противопоставлением “Западу” (а сейчас еще и “глобализму”). <…> Другая важная черта “догоняющих” обществ – неравномерность, разрыв во времени технических, экономических, социальных, политических, нравственных процессов. Отсюда парадоксальные сочетания разнопорядковых структур. Вопреки иллюзиям экономического детерминизма во многих странах традиционные диктатуры или деспотии в условиях привнесенного или милитаризованного экономического роста укреплялись, а то и уступали место не менее деспотическим и диктаторским “освободительным” режимам. Все эти “завихрения” прогресса Россия испытала, освоила и – по всей видимости – до сих пор не преодолела (Ищем человека. С. 275).
(обратно)38
«В обстановке общественного кризиса латентные компоненты каждой антиномии (составляющей структуру образца “хомо советикус”. – Л.Г.) выступают на поверхность и превращаются в мощный дестабилизирующий фактор» (Советский простой человек. С. 24).
(обратно)39
Ищем человека. С. 264.
(обратно)40
Если под успехом понимать только европейские формы современного общества – с демократией, свободным рынком, высоким уровнем благосостояния населения, развитой системой социального обеспечения, образования, культуры, толерантностью, отказом от милитаризма, открытостью миру, интенсивным развитием технологий и т. п.
(обратно)41
Ищем человека. С. 246.
(обратно)42
Там же. С. 372.
(обратно)43
Ищем человека. С. 276.
(обратно)44
Роллан Р. Музыканты наших дней // Роллан Р. Собр. соч. Л., 1935. Т. 16. С. 389.
(обратно)45
Schweitzer A. Indian Thought and its Development. N.Y., 1936. P. IX.
(обратно)46
Cousins N. Dr. Schweitzer of Lambarené. N.Y., 1958. P. 191.
(обратно)47
Clark H. The philosophy of Albert Schweitzer. L., 1964. P. 179.
(обратно)48
Цит. по: Ibid. P. 1.
(обратно)49
Schweitzer A. An Anthology / Ed. by C.R. Roy. Boston, 1960. P. 216.
(обратно)50
Schweitzer A. An Anthology. P. 199.
(обратно)51
Schweitzer A. Aus meinem Leben und Denken. Leipzig, 1931. S. 211.
(обратно)52
Ibid. S. 214.
(обратно)53
Ibid. S. 211.
(обратно)54
Schweitzer A. Aus meinem Leben und Denken. S. 231.
(обратно)55
Ibid. S. 195.
(обратно)56
Ibid. S. 154.
(обратно)57
Schweitzer A. Aus meinem Leben und Denken. S. 213.
(обратно)58
Ibid. S. 214.
(обратно)59
Schweitzer A. An Anthology. P. 135.
(обратно)60
Ibid. Р. 133.
(обратно)61
Schweitzer A. An Anthology. Р. 136.
(обратно)62
Цит. по: Cousins N. Op. cit. P. 167.
(обратно)63
Цит. по: Clark H. The Philosophy of Albert Schweitzer. P. 58.
(обратно)64
Bach M. The circle of faith. N.Y., 1956. P. 164.
(обратно)65
См.: Clark H. Op. cit. P. 2.
(обратно)66
Schweitzer A. Aus meinem Leben und Denken. S. 215.
(обратно)67
Synthèses. 1960. № 169/170. Р. 353.
(обратно)68
Garaudy R. Perspectives de l’homme. Р., 1960. P. 199.
(обратно)69
Ibid. P. 197.
(обратно)70
Salleron L. La pensée de P. Teilhard de Chardin constitue-t-elle un dépassement de la pensée de masse? P., 1958. P. 12.
(обратно)71
Цит. по: Le Courier rationaliste. 1960. № 5.
(обратно)72
Цит. по: Naim T.R. Faut-il Brûler Teilhard de Chardin? Р., 1959. Р. 59.
(обратно)73
Teilhard de Chardin P. Construire la terre. Р., 1958. P. 120.
(обратно)74
Teilhard de Chardin P. Oeuvres. T. I-er. Le Phénomène humain. Р., 1955. P. 244.
(обратно)75
Ibid. P. 145.
(обратно)76
Teilhard de Chardin P. Nouvelles lettres de voyage. P., 1957. P. 61.
(обратно)77
Teilhard de Chardin P. Construire la terre. Р. 143.
(обратно)78
Teilhard de Chardin P. Construire la terre. P. 146; заметим, что это написано еще в начале 1941 г.
(обратно)79
Ibid. P. 122.
(обратно)80
Ibid. P. 142.
(обратно)81
Ibid. P. 133.
(обратно)82
Цит. по: Garaudy R. Op. cit. P. 198.
(обратно)83
См.: Nouvelle Critique. 1960. № 114.
(обратно)84
Grenet P. – B.P. Teilhard de Chardin ou le philosophe malgré lui. P., 1960. P. 163.
(обратно)85
Ibid. P. 244.
(обратно)86
Pensée. 1960. № 94.
(обратно)87
См.: Morale chrétienne et morale marxiste. Р., 1960.
(обратно)88
Chauchard P. Teilhard de Chardin, l’humanisme socialiste et la reconciliation des humanisms // Synthèses. 1960. № 1–2.
(обратно)89
Christianisme sociale. 1960. № 1/2. Р. 47.
(обратно)90
См.: The Freetinker. 1960. № 45.
(обратно)91
См.: Le Courrie rationaliste. 1960. № 5, 8.
(обратно)92
Kahane E. Teilhard de Chardin. Р., 1960. Р. 116.
(обратно)93
Ср. также его статью в журнале: Вопросы философии. 1960. № 10.
(обратно)94
Garaudy R. Op. cit. P. 203.
(обратно)95
Teilhard de Chardin P. Construire la terre. Р. 117.
(обратно)96
Yinger J. Present status of the sociology of religion // The Journal of Religion. 1951. Vol. 31. № 3. Р. 194.
(обратно)97
Le Вras G. Études de sociologie religieuse. P., 1956. T. 2. P. 760.
(обратно)98
Wach J. Sociology of religion. Chicago, 1944. P. 2.
(обратно)99
Mensching G. Soziologie der Religion. Bonn, 1947. S. 19.
(обратно)100
Yinger J. Op. cit. P. 194.
(обратно)101
Parsons T. Religious perspectives of college teaching. New Haven, 1951. P. 8–9.
(обратно)102
Le Bras G. Op. cit. P. 737.
(обратно)103
Wach J. Op. cit. P. 4.
(обратно)104
Yinger J. Religion in the struggle for power. Durham, 1946. P. VIII.
(обратно)105
Troeltsch Е. Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. Tübingen, 1912. S. 281.
(обратно)106
Ibid. S. 26.
(обратно)107
Mensching G. Op. cit. S. 16–17.
(обратно)108
Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse. P., 1925. P. 11.
(обратно)109
Цит. по: Wасh J. Einführung in die Religionssoziologie. Tübingen, 1931. S. 82.
(обратно)110
Wасh J. Einführung in die Religionssoziologie. S. 60.
(обратно)111
Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Атеист. 1928. № 25. С. 27.
(обратно)112
Статья М. Вебера «Протестантские секты и дух капитализма», введение к «Хозяйственной этике мировых религий» и первая часть наиболее известной его работы «Протестантская этика и дух капитализма» опубликованы на русском языке в журнале «Атеист» в № 24, 25, 30 за 1927 г.
(обратно)113
Критика веберовской схемы и анализ связи между протестантизмом и капитализмом даны Ф. Капелюшем в его книге «Религия раннего капитализма» (М., 1931).
(обратно)114
Tawney R. Religion and the rise of capitalism. N.Y., 1926. Р. 112.
(обратно)115
Ibid. Р. 36.
(обратно)116
Sombart W. The jews and modern capitalism. L., 1913. Р. 249–250.
(обратно)117
Fanfani A. Catholicism, protestantism and capitalism. L., 1935. Р. 178–179.
(обратно)118
См.: Thorner I. Ascetic protestantism and the development of science and technology // The American Journal of Sociology. 1952. Vol. LVIII. № 1.
(обратно)119
American Sociological Review. 1947. Vol. XII. № 6.
(обратно)120
American Sociological Review. 1956. Vol. 27. Р. 295–300.
(обратно)121
Solms G.M. Max Webers Religionssoziologie heute // Deutsche Rundschau. 1960. № 6.
(обратно)122
Тrоeltsсh Е. Op. cit. S. 967.
(обратно)123
См.: Hoult T. Sociology of Religion. N.Y., 1958. Р. 78.
(обратно)124
Yinger J. Religion in the struggle for power. Р. 23.
(обратно)125
Католический теоретик Хазенфус именует его: «Формально-эмпирически-индуктивная (исторически-дескриптивная) социология религии». См.: Hasenfuß J. Soziologismus in der Religionswissenschaft.
(обратно)126
Wach J. Einführung in die Religionssoziologie. S. 77.
(обратно)127
Wach J. Einführung in die Religionssoziologie. S. 108.
(обратно)128
Wach J. Sociology of religion. Р. 237.
(обратно)129
Mensching G. Op. cit. S. 19.
(обратно)130
Ibid. S. 20.
(обратно)131
Glock C. Sociology of religion // Sociology Today. N.Y., 1960. Р. 159.
(обратно)132
Durkheim E. Op. cit. Р. 3.
(обратно)133
Durkhеim Е. Op. cit. Р. 13.
(обратно)134
См.: Malinowski В. Magic, science and religion // Science, religion and reality / Ed. by J. Needham. New York, 1955. Р. 60.
(обратно)135
Malinowski B. Anthropology // Encyclopedia Britannica, I-st Suppl vol. L.; N.Y., 1926. Р. 132.
(обратно)136
Malinowski В. Magic, science and religion. Р. 87.
(обратно)137
Malinowski В. Anthropology. Р. 136.
(обратно)138
Parsons T. Op. cit. Р. 9 – 21.
(обратно)139
Malinowski В. Magic, science and religion. Р. 44–45.
(обратно)140
Ibid. Р. 44.
(обратно)141
Merton R. Social theory and social structure. Glencoe, 1957. Р. 30.
(обратно)142
Davis K., Моrr W. Some principles of stratification // American Sociological Review. 1945. Vol. 10. Р. 246–247.
(обратно)143
Glock C. Op. cit. Р. 155–156.
(обратно)144
Mertоn R. Op. cit. Р. 28; Eister W. Religious institutions in complex society // American Journal of Sociology. 1957. Vol. 22. № 4.
(обратно)145
Mertоn R. Op. cit. Р. 51.
(обратно)146
Доказывая, что марксизм пользуется методами функционального анализа религии (и считая это доказательством «нейтральности» последнего), Мертон заявляет, что марксистское понимание функций религии ограничено универсальной формулой «религия – опиум народа», которая, по его словам, мешает видеть, что «религия скорее активизирует, чем летаргизирует массовые действия» (Merton R. Op. cit. Р. 45). Это утверждение строится на вульгарном искажении мысли Маркса: функция «опиума» – это функция одурманивания сознания масс, превращения их действий, порой весьма активных, в слепое исполнение воли господствующего класса. Высказывания Маркса и Энгельса о роли протестантизма и ислама, видимо, должны быть известны и Мертону.
(обратно)147
Merton R. Op. сit. Р. 200.
(обратно)148
Glock С. Op. cit. Р. 157.
(обратно)149
Herberg W. Protestant-Catholic-Jew. N.Y., 1956. Р. 8, 235, 85–86.
(обратно)150
Цит. по: Journal of Religion. 1961. № 3.
(обратно)151
Herberg W. Op. cit. Р. 236.
(обратно)152
Ibid. Р. 86.
(обратно)153
Schmid L. Religiöse Erleben unserer Jugend. Zürich, 1959. S. 175.
(обратно)154
Herberg W. Op. cit. Р. 14.
(обратно)155
Fоrd Т. Status, residence and fundamentalist religious beliefs in the Southern Appalachians // Social Forces. 1960. Vol. 39. № 1.
(обратно)156
Life. 1955. 11.IV.
(обратно)157
Ibid.
(обратно)158
Нoult Т. Op. сit. Р. 313.
(обратно)159
Сlark W.H. The Psychology of religion. N.Y., 1959. Р. 398.
(обратно)160
Pope L. Millhand and preachers. N.Y., 1942.
(обратно)161
Hоult Т. Op. cit. Р. 200.
(обратно)162
Неrbеrg W. Op. cit. Р. 88–89.
(обратно)163
American Sociological Review. 1960. Vol. 25. № 1.
(обратно)164
Hoult T. Op. cit. Р. 88–89.
(обратно)165
Niebuhr H.R. The social sources of religious denominationalism. N.J., 1929.
(обратно)166
См.: Yinger G. Op. cit. Р. 29.
(обратно)167
См. сб.: Вопросы истории религии и атеизма. 1958. Т. VII; Вопросы философии. 1959. № 4 и 1961. № 1; Новые приемы защиты старого мира. М., 1962.
(обратно)168
Glock С. Op. cit. Р. 169.
(обратно)169
Merton R. Op. cit. Р. 5–6.
(обратно)170
См.: Le Bras G. Études de sociologie religieuse. P., 1955–1956. Т. 1–2.
(обратно)171
Boulard F. Premier itinéraries en sociologie religieuse. P., 1955.
(обратно)172
Dreyfus F. Sociologie religieuse et stratégie eсclésiastique // Revue d’histoire et de philosophie religieuses. 1960. № 3. Р. 272.
(обратно)173
В США главой католической социологии религии является иезуит Джозеф Фичтер. См.: Fiсhtеr J. Social relation in the urban parish. Chicago, 1954; Hоutart F. Aspects sociologique du catholicisme américain. P., 1957 (главным образом исследование одного из приходов в Чикаго).
(обратно)174
См.: Christianisme sociale. 1960. № 1/2. Р. 118.
(обратно)175
Цит. по: Sociologie religieuse – science sociale. P., 1955. Р. 265.
(обратно)176
Sоciologie religieuse – science sociale. Р. 15.
(обратно)177
Mury G. Essor ou déclin du catholicisme français. P., 1950; См. обстоятельную рецензию: Nouvelle Critique. 1960. № 120.
(обратно)178
Le Bras G. Op. cit. Р. 737.
(обратно)179
Ibid. Р. 224.
(обратно)180
Ibid. Р. 222.
(обратно)181
Как отмечает Ле Бра, одним из первых, кто обратил внимание на социологическое значение ритуала, был Прудон (Le Bras G. Op. cit. Р. 225).
(обратно)182
Ibid. Р. 626.
(обратно)183
Ibid. Р. 769.
(обратно)184
Le Bras G. Op. cit. Р. 794.
(обратно)185
Ibid. Р. 212.
(обратно)186
Ibid. Р. 21–22.
(обратно)187
Ibid. Р. 102.
(обратно)188
Рin Е. Pratique religieuse et classes sociales dans un paroisse urban Saint-Pothin à Lion. P., 1956.
(обратно)189
Le Bras G. Op. cit. Р. XV, 5.
(обратно)190
Cahiers internationaux de sociologie. 1959. Vol. 27. Р. 111.
(обратно)191
Pin E. Op. cit. Р. 96, 94, 99.
(обратно)192
Le Вras G. Op. cit. Р. 357.
(обратно)193
Fichter J. The profile of catholic religious life // American Journal of Sociology. 1952. Vol. 58. № 2.
(обратно)194
Le Вras G. Op. cit. Р. 357.
(обратно)195
Pin E. Op. cit. Р. 192.
(обратно)196
Pin E. Op. cit. Р. 213.
(обратно)197
Le Bras G. Op. cit. Р. 362, 365.
(обратно)198
Pin Е. Op. сit. Р. 297–297, 400–401.
(обратно)199
Цит. пo: Nouvelle Critique. 1960. № 117. Р. 50.
(обратно)200
Pin Е. Op. сit. Р. 297.
(обратно)201
Guerry E. Église catholique et communisme athée. P., 1960. Р. 47–48.
(обратно)202
Ленин В.И. Сочинения. М., 1960. Т. 10. С. 66.
(обратно)203
Цит. по: Nouvelle Critique. 1960. № 120. Р. 106.
(обратно)204
Sociologie religieuse – science sociale. Р. 47.
(обратно)205
Nouvelle Critique. 1960. № 120. Р. 106.
(обратно)206
Цит. по: Sociologie religieuse – science sociale. Р. 266.
(обратно)207
Le Bras G. Op. cit. Р. 406.
(обратно)208
Pin E. Op. cit. Р. 296, 297.
(обратно)209
См.: Nouvelle Critique. 1960. № 120. Р. 107.
(обратно)210
См.: Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М., 1957.
(обратно)211
См.: Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. М., 1959.
(обратно)212
См.: Таванец П.В., Швырев В.С. Некоторые проблемы логики научного познания // Вопросы философии. 1962. № 10. С. 20.
(обратно)213
См.: Вопросы философии. 1962. № 3; 1964. № 4.
(обратно)214
См., например, подборку статей о применении математических методов историками в журнале «История СССР» (1964. № 1).
(обратно)215
Планирование и экономико-математические методы. М., 1964. С. 317.
(обратно)216
Биологические аспекты кибернетики. М., 1962. С. 66.
(обратно)217
Там же. С. 57.
(обратно)218
Kemeny J.G., Snell J.L. Mathematical Models in the Social Sciences. Boston, 1962. P. 7.
(обратно)219
Ibid. P. 8.
(обратно)220
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1958. Т. 12. С. 726.
(обратно)221
Ленин В.И. Соч. М., 1960. Т. 14. С. 314.
(обратно)222
Ленин В.И. Соч. Т. 14. С. 311.
(обратно)223
Karlsson G. Social Mechanisms. Glencoe, 1958. Р. 11.
(обратно)224
Винер Н. Кибернетика. М., 1958. С. 200.
(обратно)225
Ляпунов А.А. Об управляющих системах живой природы и общем понимании жизненных процессов // Проблемы кибернетики. 1963. Вып. 10. С. 188.
(обратно)226
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1960. Т. 17. С. 730.
(обратно)227
В кибернетическом смысле. См.: Эшби У.Р. Конструкция мозга. М., 1962. С. 52.
(обратно)228
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1955. Т. 3. С. 69.
(обратно)229
Винер Н. Указ. соч. С. 40, 41.
(обратно)230
См., например: Лекторский В.А., Садовский В.Н. О принципах исследования систем // Вопросы философии. 1960. № 8.
(обратно)231
См.: Беклемишев В.Н. Об организации систем живой природы // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 1964. № 2.
(обратно)232
Винер Н. Указ. соч. С. 39.
(обратно)233
См.: Немчинов В.С. Экономико-математические методы и модели. М., 1962. С. 215 и др.
(обратно)234
См., например: Бир С.Т. Кибернетика и управление производством. М., 1963. С. 172, а также статью С. Роум и Б. Роум в сборнике «Computer Applications in the Behavioral Sciences» (Englewood Cliffs, N.J., 1962).
(обратно)235
См.: Немчинов В.С. Указ. соч. С. 52, 54.
(обратно)236
См.: Иванов В.В. Язык в соотношении с другими средствами передачи и хранения информации // Математическая лингвистика и машинный перевод. Киев, 1962.
(обратно)237
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 37. Курсив мой.
(обратно)238
Эта цельность является одной из основ субъективного, антропоморфного изображения мира; см.: Левада Ю.А. Социологические проблемы критики религии // Вопросы философии. 1963. № 7. С. 41–43.
(обратно)239
См.: Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960. С. 137.
(обратно)240
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 24. Курсив мой.
(обратно)241
См.: Klaus G. Semiotik und Erkenntnistheorie. Berlin, 1963.
(обратно)242
Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960. С. 198.
(обратно)243
Иногда приблизительно в том же смысле употребляется и термин «план» (см.: Миллер Д., Галантер Ю., Прибрам К. Планы и структура поведения. М., 1965). Под планом, однако, может пониматься и теоретическая модель будущего состояния (план строящегося здания), программа же непременно предполагает планирование самого действия, соотнесение средств и целей, ближайших и отдаленных результатов, строго учитываемых и вероятностных факторов и т. д.
(обратно)244
Винер Н. Кибернетика. М., 1958. С. 193–194.
(обратно)245
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1960. Т. 23. С. 368.
(обратно)246
См. высказывания К. Маркса о «тайне неизменности азиатских обществ» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 371).
(обратно)247
Маркс К. Капитал. М., 1949. Т. I. С. 364.
(обратно)248
Russell B. History as an art. Ashford, 1954. P. 21.
(обратно)249
Mills C.W. The Sociological Imagination. N.Y., 1959. P. 188.
(обратно)250
См., например, анализ соотношения плановой и «стихийной» миграции населения в СССР в исследовании В.И. Переведенцева в сб. «Количественные методы в социологических исследованиях» (Новосибирск, 1964. С. 397).
(обратно)251
Гоббс Т. Избранные произведения. М., 1964. Т. 1. С. 541.
(обратно)252
См.: International Social Sciences Journal. 1964. Vol. XVI. № 4. Р. 479.
(обратно)253
См.: Ibid. Р. 481.
(обратно)254
Любопытное тому свидетельство мы находим в знаменитых лекциях нобелевского лауреата Р. Фейнмана: «Кстати, не все то, что не наука, обязательно плохо. Любовь, например, тоже не наука. Словом, когда какую-то вещь называют не наукой, это не значит, что с нею что-то неладно: просто не наука она, и все» (Фейнман Р. и др. Фейнмановские лекции по физике. М., 1967. Вып. 1. С. 55). Кстати, по Фейнману, и математика – не наука.
(обратно)255
Troeltsch E. Der Historismus und seine Problemen. Tübingen, 1922. S. 4.
(обратно)256
Anderle O.F. A plea for theoretical history // History and theory. 1964. Vol. 4. № 1. P. 27.
(обратно)257
Holloway S.W. Sociology and history // History. 1963. Vol. 48. № 163. P. 179, 180.
(обратно)258
«История никогда не является просто историей чего-то, но всегда историей для чего-то» (Lévi-Strauss C. La pensée sauvage. P., 1962. P. 340–341).
(обратно)259
Гегель Г.В.Ф. Соч. М.; Л., 1935. Т. 8. С. 7–8.
(обратно)260
См., например: Anderle O.F. Op. cit. P. 29.
(обратно)261
Ср. у Ключевского: «На что может пригодиться изучение исторических сочетаний и положений, когда-то и для чего-то сложившихся в той или другой стране, нигде более не повторимых и не предвидимых?.. Мы хотим исполнить заповедь древнего оракула – познать самих себя, свои внутренние свойства и силы, чтобы по ним устроить свою земную жизнь» (Ключевский В.О. Соч. М., 1956. Т. 1. С. 17–18).
(обратно)262
Mills Ch.W. The sociological imagination. N.Y., 1959. P. 144.
(обратно)263
«Единственной формой письменности у скандинавов до конца XI в. оставались древнегерманские знаки – руны, которые вырезали на камне, кости, дереве, оружии. Они имели преимущественно магическое значение, и законов ими не записывали. Поэтому к памяти предъявляли очень большие требования. В памяти приходилось хранить все, что требовалось сообщить следующему поколению» (Гуревич А.Я. Походы викингов. М., 1966. С. 22).
(обратно)264
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1955. Т. 3. С. 24.
(обратно)265
См., например: Ключевский В. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.
(обратно)266
См.: Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса: (Ранние формы и архаические памятники). М., 1963, а также дискуссию об этой работе в журнале «Советская этнография» (1965. № 5; 1966. № 1, 2, 3, 6) и в других журналах.
(обратно)267
«Тот факт, что это истина, не важен; но в это верят люди – вот в чем дело, черт побери!» (Лихтенберг Г.К. Афоризмы. М., 1965. С. 65).
(обратно)268
Лебедев А. Чаадаев. М., 1965. С. 7, 8.
(обратно)269
Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. 8. С. 10.
(обратно)270
См.: Там же. С. 14.
(обратно)271
Там же. С. 304.
(обратно)272
См.: Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Ч. 2. С. 6, 25.
(обратно)273
См.: Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Ч. 2. С. 24, 29.
(обратно)274
Карамзин Н.М. История Государства Российского. СПб., 1842. Кн. 1. С. IX.
(обратно)275
Риккерт был прав, утверждая, что «еще до того, как наука приступает к своей работе, уже повсюду находит она сама собой возникшее до нее образование понятий, и продукты этого донаучного образования понятий, а не свободная от всякого понимания действительность, являются, собственно, материалом науки» (Риккерт Г. Философия истории. СПб., 1908. С. 18). Заметим лишь, что стихийно сложившиеся предпосылки воздействуют и на хронику, а также что само формирование этих предпосылок может быть не только зафиксировано, но и исследуемо.
(обратно)276
Виппер Р. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX веков в связи с общественным движением на Западе. СПб., 1900. С. 83.
(обратно)277
Alexander S. The historicity of things // Philosophy and history: Essays presented to E. Cassirer / Ed. by R. Klibansky and H. Paton. N.Y.; Evanston; L., 1963. P. 11.
(обратно)278
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 16.
(обратно)279
См.: Шпет Г. История как проблема логики. М., 1916. Ч. 1. С. 25.
(обратно)280
См.: Philosophy and history. P. 1.
(обратно)281
См.: L’histoire et ses méthodes. P., 1961. P. 1268.
(обратно)282
Cicero. De oratore, II, XV, 62. См.: L’histoire et ses méthodes. Р. 1523.
(обратно)283
Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи. СПб., 1906. С. 116.
(обратно)284
См.: L’histoire et ses méthodes. P. 1477.
(обратно)285
См.: Асмус В.Ф. Маркс и буржуазный историзм. М.; Л., 1933; Кон И.С. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли: (Критические очерки философии истории эпохи империализма). М., 1959.
(обратно)286
Риккерт Г. Философия истории. СПб., 1908. С. 13.
(обратно)287
Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое введение в исторические науки. СПб., 1903. С. 223.
(обратно)288
Spengler O. Der Untergang des Abendlandes. München, 1923. Bd. 1. S. 139.
(обратно)289
Ortega y Gasset J. History as a system // Philosophy and history. P. 302–303.
(обратно)290
Риккерт Г. Философия истории. С. 136.
(обратно)291
В дискуссиях вокруг той же дилеммы не раз делались попытки снять ее простым напоминанием о том, что и в физике изучаемые явления индивидуальны (см.: Bagby Ph. Culture and history. Berkeley, 1963. P. 52), и о том, что объекты физического знания тоже «субъективны» (Wind E. Some points of contact between history and natural science // Philosophy and history. Р. 255). Но этими попытками отвергается не сама Риккертова дилемма науки, но лишь неточная, хотя и распространенная, ее трактовка.
(обратно)292
В этом духе построены, кстати, почти все статьи в недавнем сборнике, изданном в США под редакцией Л. Готшалька (Generalization in the writing of history / Ed. by L. Gottschalk. Chicago, 1963), и в материалах симпозиума почти на ту же тему, проведенного С. Хуком (Philosophy and history: A Symposium. N.Y., 1963). Впрочем, почти весь набор приводимых там доводов можно встретить в значительно более старых работах; см., например: Петрушевский Д.М. К вопросу о логическом стиле исторической науки. Пг., 1915. С. 13, 15, 17 и др.
(обратно)293
Толстой Л.Н. Война и мир // Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1962. Т. 6. С. 78–79.
(обратно)294
Тимирязев К.А. Исторический метод в биологии // Тимирязев К.А. Соч. М., 1939. Т. 6. С. 57.
(обратно)295
Popper K.R. The poverty of historicism. L., 1960. P. VII.
(обратно)296
Ibid. P. 130.
(обратно)297
Ibid. P. 11.
(обратно)298
См.: Ibid. P. 135.
(обратно)299
Например, «постулат социологии» у Э. Дюркгейма: «Ни один человеческий институт не мог быть построен на ошибке и вымысле <…>. Если бы он не основывался на самой природе вещей, он встретил бы в них сопротивление, которого он не мог бы преодолеть» (Durkheim É. Les forms élémentaires de la vie religieuse. P., 1912. P. 3).
(обратно)300
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М.; Л., 1929. Т. 3. С. 674.
(обратно)301
Бокль Г.Т. История цивилизации в Англии. Т. I, ч. I / Пер. А.Н. Буйницкого и Ф.Н. Ненарокомова. 2-е изд. СПб., 1863. С. 30, 33.
(обратно)302
Ленин В.И. Полн. собр. соч. М., 1961. Т. 25. С. 41.
(обратно)303
См.: Устинов В.А. Применение вычислительных машин в исторической науке. М., 1964.
(обратно)304
Collingwood R.G. The idea of history. Oxford, 1946. P. 228.
(обратно)305
См.: Generalization in the writing of history. P. 165–166.
(обратно)306
Иногда, правда, под структурой понимается теоретическая модель соответствующих отношений. Специальная конференция о значении термина «структура», проводившаяся под эгидой ЮНЕСКО, не выявила какой-либо общепринятой концепции на этот счет (см.: Sens et usages du terme structure dans les sciences humaines et socials / Ed. par R. Bastide. ’s-Gravenhage, 1962).
(обратно)307
Vickers G. Control, Stability and Choice // General Systems: Yearbook of the Society for General Systems Research. Ann Arbor (Michigan), 1957. Vol. 2. P. 1.
(обратно)308
См.: Sebag L. Marxisme et structuralisme. P., 1964, а также: Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale. P., 1958.
(обратно)309
См.: Новое в лингвистике. М., 1963. Вып. 3. С. 148.
(обратно)310
См.: Sens et usages du terme structure… P. 34.
(обратно)311
Косериу Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып. 3. С. 154–155.
(обратно)312
Там же. С. 341.
(обратно)313
См.: Основные направления структурализма. М., 1964. С. 131.
(обратно)314
См.: International Social Sciences Journal. 1964. Vol. 16. № 4. P. 550.
(обратно)315
Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale. P. 39.
(обратно)316
См.: Ibid. P. 25.
(обратно)317
Ibid. P. 28.
(обратно)318
Ibid. P. 31.
(обратно)319
Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale. P. 305.
(обратно)320
Ibid. P. 311.
(обратно)321
См.: Ibid. P. 68, 98, 326.
(обратно)322
См.: Ibid. P. 227. См. также: Levi-Strauss C. The structural study of myth // Myth: A symposium / Ed. by T.A. Sebeok. Bloomington, 1958; Idem. Four winnebago myths: a structural sketch // Culture in history: Essays in honor of Paul Radin / Ed. by S. Diamond. N.Y., 1960.
(обратно)323
См. также: Sebag L. Le myth: code et message // Les temps moderns. 1965. № 226.
(обратно)324
См.: Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale.
(обратно)325
См.: Пятигорский А.М. Материалы по истории индийской философии. М., 1962; Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965; Симпозиум по структурному изучению знаковых систем: тезисы докладов. М., 1962; Структурно-типологические исследования. М., 1962.
(обратно)326
Работа написана совместно с В.Ж. Келле.
(обратно)327
В соавторстве с В.М. Долгим и А.Г. Левинсоном.
(обратно)328
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1955. Т. 3. С. 50.
(обратно)329
Долгий В., Левинсон А. Архаическая культура и город // Вопросы философии. 1971. № 7.
(обратно)330
Шилз Э. Общество и общества: макросоциологический подход // Американская социология. М., 1972.
(обратно)331
Гуревич А.Я. Что есть время? // Категории средневековой культуры. М., 1972.
(обратно)332
«Тирания часов вынуждает горожан носиться из одного места в другое…» – констатирует Р. Ли (Шилз Э. Общество и общества: макросоциологический подход // Американская социология. С. 11).
(обратно)333
В социологии, особенно французской, существует традиция рассматривать в качестве социальной морфологии распределение населения на территории города, соседские связи, визиты и прочее, то есть показатели на уровне образа жизни (Halbwachs M. Morhpologie sociale. P., 1938). Этим учитывается лишь один из поверхностных срезов социальной морфологии.
(обратно)334
Childe V.G. The Urban Revolution // Town Planning Review. 1950. April. XXI; Childe V.G. Civilization, Cities and Towns // Antiquity. 1957. March. XXXI.
(обратно)335
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1968. Т. 46, ч. 1. С. 100–101.
(обратно)336
Шое Ф. Заметки по поводу городской семиологии // Современная архитектура. 1971. № 1; Барт Р. Семиология и градостроительство // Современная архитектура. 1971. № 1.
(обратно)337
В соавторстве с В.М. Долгим и А.Г. Левинсоном.
(обратно)338
См.: Долгий В.М., Левада Ю.А., Левинсон А.Г. Урбанизация как социокультурный процесс // Урбанизация мира. М.: Мысль, 1974.
(обратно)339
Daedalus. 1972. Vol. 101. № 2. P. 4.
(обратно)340
Ключевский В.О. Соч. М., 1956. Т. 1. С. 30–31.
(обратно)341
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1969. Т. 46, ч. II. С. 222.
(обратно)342
См.: Брунер Дж. Психология познания. М.: Прогресс, 1977; Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1972.
(обратно)343
Развитие концепции структурных уровней в биологии. М.: Наука, 1972. С. 375; Системные исследования: Ежегодник, 1976. М.: Наука, 1976.
(обратно)344
См., например: Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван: АН АрмССР, 1973.
(обратно)345
Сноу Ч.П. Две культуры. М.: Прогресс, 1972.
(обратно)346
Boulding K.Е. The impact of the social sciences. New Brunswick, N.J.: Rutgers, 1966.
(обратно)347
Платон. Законы // Платон. Соч.: В 3 т. М.: Мысль, 1972. Т. 3, ч. II. С. 160, 484.
(обратно)348
Тейар де Шарден П. Феномен человека. М.: Прогресс, 1965. С. 165.
(обратно)349
Гуревич А.Я. Указ. соч.; Cultures and time. P.: UNESCO Press, 1976; The future of time. N.Y.: Doubleday, 1971.
(обратно)350
Шталь И.В. «Одиссея» – героическая поэма странствий. М.: Наука, 1978. С. 6 и след.
(обратно)351
Cultures and time. P. 80.
(обратно)352
Об их средневековой трактовке см.: Брунер Дж. Указ. соч. С. 72.
(обратно)353
Философия и методология истории. М.: Прогресс, 1977. С. 127.
(обратно)354
Gurvitch G. Les cadres sociaux de la connaissance. P.: PUF, 1966.
(обратно)355
Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 90.
(обратно)356
Jaspers K. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Zürich: Artemis-Verl., 1949.
(обратно)357
Гуревич А.Я. Указ. соч.; Cultures and time. P. 112.
(обратно)358
Ср.: Economics and sociology: toward an integration / Ed. by T. Huppes. Leiden, 1976.
(обратно)359
См.: Политическая экономия: энциклопедия. М., 1979. Т. 3; L’économique dans les sciences humaines / Sous la dir de G. Polmade. 2 vol. P., 1967.
(обратно)360
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1960. Т. 23. С. 188, 195.
(обратно)361
См.: Федоренко Н.П. К вопросу о «клеточке» социалистического производства // Вопросы философии. 1978. № 4.
(обратно)362
См.: Kirzner I. The economic point of view. Princeton, 1960.
(обратно)363
См.: Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопросы философии. 1979. № 6, 7.
(обратно)364
См.: Самуэльсон П. Экономика. М., 1964; Mansfield E. Microeconomics. N.Y., 1970.
(обратно)365
См.: Parsons T. The structure of social action. N.Y., 1967.
(обратно)366
Parsons T. The structure of social action. Р. 452.
(обратно)367
Вебер М. Протестантская этика: В 2 ч. М., 1972–1973.
(обратно)368
См.: Simon H. Models of man. N.Y., 1957.
(обратно)369
См.: Структурно-функциональный анализ в современной социологии. М., 1968. Вып. I; Вебер М. Указ. соч. С. 69.
(обратно)370
См.: Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale. P., 1958.
(обратно)371
Kirzner I. Op. cit.; Homans G.K. Social Behavior. Its Elementary Forms. N.Y., 1961; Economics and sociology: toward an integration.
(обратно)372
Homans G.K. Op. cit. Р. 68, 79.
(обратно)373
См.: Ильенков Э.В. Указ. соч.
(обратно)374
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1961. Т. 19. С. 386. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
(обратно)375
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. С. 252.
(обратно)376
Consumer Behavior / Ed. by Clark. N.Y., 1958. P. 145.
(обратно)377
См.: Simon H. Models of man, social and rational. N.Y., 1957.
(обратно)378
Смит А. Указ. соч. С. 27–28.
(обратно)379
Там же. С. 332.
(обратно)380
«История политической экономии за прошедшие двести лет может быть адекватно охарактеризована как ряд примечаний к Адаму Смиту» (Adam Smith and modern political economy. Ames, 1979. P. 19).
(обратно)381
См.: Simon H. Op. cit.
(обратно)382
Boulding K. Beyond economics. Ann Arbor, 1970. P. 206.
(обратно)383
Цит. по: Theories of Society. Glencoe, 1982. Vol. I. P. 171.
(обратно)384
Жамс Э. История экономической мысли. М., 1968. С. 295.
(обратно)385
Homans G.K. Social Behavior. Its elementary forms. N.Y., 1961. P. 79–80.
(обратно)386
Вебер М. История хозяйства. Пг., 1923. С. 221.
(обратно)387
См. гл. 1, 2 в: Смит А. Указ. соч.
(обратно)388
Смит А. Указ. соч. С. 104–105.
(обратно)389
Смит А. Указ. соч. С. 40.
(обратно)390
Ср. аллюзию в жестокой карикатуре Великого Инквизитора: «Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, с хором, с невинными плясками» (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1976. Т. 14. С. 236).
(обратно)391
Левада Ю.А. Социальные рамки экономического действия // Мотивация экономической деятельности. М.: ВНИИСИ, 1980.
(обратно)392
С этим связана живучесть концепций «экономического человека» и «экономического общества» (см.: Левада Ю.А. Проблемы экономической антропологии у К. Маркса // Экономика и общество. М.: ВНИИСИ, 1983); для преодоления методологической модели Homo oeconomicus (см.: Мамардашвили М.К. Наука и культура // Методологические проблемы историко-научных исследований. М.: Наука, 1982) требуется аналитически представить ее культурно-исторические предпосылки и пределы.
(обратно)393
Старые и новые дискуссии о значении обменных отношений в обществе (см.: Левада Ю.А. Социальные рамки экономического действия; Наумова Н.Ф. О социологическом и экономическом подходах к трудовой мотивации // Мотивация экономической деятельности. М.: ВНИИСИ, 1980), по существу, рассматривают «экономическую» модель общества.
(обратно)394
См.: Левада Ю.А. О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориального аппарата) // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник, 1979. М.: Наука, 1980.
(обратно)395
См.: Маркарян Э.С. Культура как система // Вопросы философии. 1984. № 1.
(обратно)396
«Поэзия не общение, а приобщение. Приобщение к Идее, Красоте, Истине. В этом разница между письмом и поэмой» (Далчев А. Избранное. София: София-пресс, 1980. С. 116).
(обратно)397
Как отмечалось в: Левада Ю.А. Социальные рамки экономического действия // Мотивация экономической деятельности. М.: ВНИИСИ, 1980.
(обратно)398
См.: Проблемы социологии литературы за рубежом: сб. рефератов и обзоров. М.: ИНИОН; ГБЛ, 1983.
(обратно)399
См.: Хрестоматия по теории литературы. М.: Просвещение, 1982. С. 137; ср. также: Эпштейн М.Н. Игра в жизни и в искусстве // Современная драматургия. 1982. № 2. С. 244–254; Caillois R. Les jeux et les homes: Le masque et le vertige. P.: Gallimard, 1978.
(обратно)400
Выготский Л.С. Лекция по психологии игры // Вопросы психологии. 1966. № 6. С. 67.
(обратно)401
Мак-Дональд Дж. Игра называется бизнес. М.: Экономика, 1979. С. 35.
(обратно)402
См.: Pruitt D.G., Kimmel M.J. Twenty years of experimental gaming: critique, synthesis, and suggestions for the future // Annual Review of Psychology. 1977. Vol. 28. Р. 363–392.
(обратно)403
Huizinga J. Homo Ludens: A study of the play element in culture. L.: Routledge and Kegan, 1949. Р. 1.
(обратно)404
Хайнд Р. Поведение животных. М.: Мир, 1975. С. 382; Groos K. Die Spiele der Thiere. Jena: Fischer, 1896. Р. 79; Goffman E. Frame analysis: An essay on organization of experience. N.Y. etc.: Harper and Row, 1974. S. 41–42.
(обратно)405
Ср.: Groos K. Op. cit. S. 68.
(обратно)406
Выготский Л.С. Лекция по психологии игры // Вопросы психологии. 1966. № 6. С. 62–76; Левинсон А.Г. Развитие фольклорных традиций русского искусства на народных гуляниях: Автореф. дис… канд. искусствовед. М., 1980; Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Педагогика, 1978.
(обратно)407
Й. Хойзинга (см.: Huizinga J. Homo Ludens: A study of the play element in culture. L.: Routlege and Kegan, 1949. Р. 5, 15) допускал игровое происхождение ритуала. Ср.: Топоров В.Н. Несколько соображений о происхождении древнегреческой драмы: (К вопросу об индоевропейских истоках) // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 108.
(обратно)408
См. соображения В.Н. Топорова об игровых замещениях в ряду «герой – актер – зритель» (Топоров В.Н. Указ. соч. С. 108).
(обратно)409
Хрестоматия по теории литературы. С. 139; ср.: Huizinga J. Op. cit. Р. 8–9.
(обратно)410
По Э. Гоффману, такой переход – это «перенастройка», изменяющая смысл действия (Goffman E. Op. cit. Р. 3–4).
(обратно)411
«Игра – это позитивное, серьезное – негативное <…>. “Серьезное” – это просто “не игровое” и ничего больше, игра же – это вещь сама по себе» (Huizinga J. Op. cit. Р. 45).
(обратно)412
По М.М. Бахтину, у греков «единство человека и его самосознание были чисто публичными. Человек был весь вовне, притом в буквальном смысле слова» (Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Изд-во худож. лит., 1975. С. 284).
(обратно)413
Huizinga J. Op. cit. Р. 13.
(обратно)414
«Зритель в шутливой потасовке, спортивном соревновании и политическом соперничестве стремится участвовать на стороне победителя, просто чтобы сделать спор содержательным» (Riesman D. The lonely crowd. New Haven; L.: Yale Univ. Press, 1966. Р. 104). По Э. Гоффману, зритель «принимает сочувствующее и замещающее участие в том нереальном мире, который создан драматическим взаимодействием предписанных ролевых функций. Он отдает себя, он подымается (или опускается) до культурного уровня сценических ролей и тем <…>. Можно говорить о роли зрителя…» (Goffman E. Op. cit. Р. 130). Ср. также разработку проблемы «человек в роли зрителя» в: Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. М.: Просвещение, 1968. С. 217–227; Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: Наука, 1978.
(обратно)415
Ср. постановку вопроса в: Stephenson W. The play theory of mass communication. Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1967, где, однако, игровые структуры трактуются слишком упрощенно – как доставляющие удовлетворение в противоположность структурам принуждения и контроля (такое противопоставление неточно и психологически, и социологически).
(обратно)416
В известной работе Р. Кайюа различаются игры: 1) состязательные («агон»), 2) случайные («алеа»), 3) масочные («мимикрия») и 4) головокружительные («илинкс»); в каждом типе имеются два полюса – стихийно организующиеся и формально организованные игровые действия (Caillois R. Op. cit. Р. 27, 52, 66). В социально-психологическом анализе «взрослых» игр Б. Саттон-Смита и др. используются типы стратегических, случайных и силовых игр (Sutton-Smith B., Roberts J.M., Kozelka R.M. Game involvement in adults // Journal of Social Psychology. 1963. Vol. 60(1). P. 15–30). В обеих типологиях отсутствует единое основание и выделяемые типы не исключают друг друга. «Функции игры в их высших формах <…> могут быть в основном выведены из двух основных вариантов: игры как состязания за что-то или как представления (репрезентации) чего-то» (Huizinga J. Op. cit. Р. 13).
(обратно)417
Так иногда трактуют «дионисийские» игры, в отличие от «аполлонийских» (см.: Эпштейн М.Н. Указ. соч.); о значении качания и кружения в праздничной ситуации см.: Левинсон А.Г. Указ. соч. Кстати, в древнегерманском языке словом «играть» (spillön) называли плавное приятное маятникообразное движение (Эльконин Д.Б. Указ. соч. С. 25).
(обратно)418
Тогда оправдана некоторая перестройка приведенной ранее фразы Й. Хойзинги: чтобы играть за что-то, надо играть во что-то, то есть войти в определенную роль.
(обратно)419
Р. Кайюа отмечает, что стадион для зрителей – это спектакль (Caillois R. Op. cit. Р. 43, 44). Но отчасти и для спортсменов спорт является актерской игрой.
(обратно)420
Э. Берне относит к повседневным «играм, в которые играют люди» поведенческие уловки или формулы типа «меня все обижают», «они все такие» и пр., поскольку они не просто определяют позицию, но задают психологически замкнутую структуру поведения, составляющую основную особенность игры (Berne E. Games people play. L.: A. Deutsch, 1964. Р. 44).
(обратно)421
По Э. Гоффману, «определения ситуации строятся в соответствии с принципами организации, управляющими событиями – по крайней мере социальными – и нашим субъективным участием в них; рамка – это слово, с помощью которого я обозначаю те из этих основных элементов, которые я способен распознать» (Goffman E. Op. cit. Р. 10–11).
(обратно)422
Найссер У. Познание и реальность. М.: Прогресс, 1981. С. 41.
(обратно)423
Г. Зиммель полагал, что замкнутость, «бесцельность» игровых форм придают им значение «чистых форм социальности», того средства, при помощи которого происходит формирование общества. Так, дружеская встреча, не имеющая никакой цели, кроме самой себя («свидание», чтобы «свидеться», «разговор», чтобы «поговорить», «флирт», чтобы «флиртовать»), – это такая «игра в обществе», которая является также «игрой в общество», в ходе которой создаются формы социальности (Simmel G. Grundfragen der Soziologie. Berlin; Leipzig: Gruiter, 1920. S. 56, 61, 62, 65, 66). Но ведь в основе этого вывода лежит неявное допущение самостоятельности «игровых форм», которые рассматриваются как первично данные, без учета способа своего образования: те «игровые формы», которые рассматривал Зиммель, уже являлись социокультурными, развертывались в уже существовавшем социокультурном пространстве. Они не создают общества, но соучаствуют в воспроизводстве определенных его структур.
(обратно)424
Паркинсон С., Норткот Дж. Закон Паркинсона и другие памфлеты. М.: Прогресс, 1976.
(обратно)425
«Привилегия и трагедия человека», по утверждению Х. Ортеги-и-Гассета, в том, чтобы «жить, то есть принимать жизнь как задачу», как «добровольное усилие», а не как внешне заданную необходимость; отсюда у него следует сравнение жизни (а также философии и др.) со спортом и игрой как видом бесцельного и добровольного усилия (Ortega y Gasset J. Über des Lebens sportlich-festischen Sinn // Jahrbuch des Sports. 1955/56. Frankfurt a. M., 1955. S. 9, 10, 18, 19).
(обратно)426
Levy J. Play behavior. N.Y.: Wiley and Son, 1979. Р. 6, 7.
(обратно)427
Эльконин Д.Б. Указ. соч. С. 20, 63, 76, 289.
(обратно)428
В свое время Ф. Знанецкий предложил концепцию «человека игры» как одного из основных типов социальной личности (наряду с «хорошо воспитанным человеком», «человеком труда» и «маргинальным человеком»), у которого «во взрослом состоянии доминируют личностные стремления, развитые под влиянием среды ровесников, с которыми он играл в детстве и юности (Znaniecki F. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa: PWN, 1974. S. 138–139, 259). Для него жизнь прежде всего остается самостоятельной игрой, это относится к культуре, товарищеским отношениям, политике, войне, из «людей игры» рекрутируются кадры военных, политиков, авантюристов и т. д. (Ibid. S. 270, 271, 302–303). Если Знанецкий выделяет влияние детской игры (точнее, ее роли в первичной социализации) на взрослую жизнь, то современный этнопсихолог Б. Саттон-Смит рассматривает влияние детской жизни (и порожденных ею личностных напряжений) на игры взрослых (Sutton-Smith B., Roberts J.M., Kozelka R.M. Op. cit. P. 15–30).
(обратно)429
Ф. Знанецкий сожалел о том, что в социологии слишком много внимания уделяют «вторичному процессу» подражания взрослым со стороны молодежи и недооценивают такое фундаментальное явление, как «безрассудное, ненамеренное подражание молодежи со стороны взрослых, или, точнее говоря, использование взрослыми в своей общественной жизни тех принципов и форм совместной жизни <…>, которые являются специфическим продуктом молодежных игровых групп…» (Znaniecki F. Op. cit. S. 270). И. Хойзинга, кстати, усматривал признак вырождения культуры игры в распространении «пуэрилизма», своего рода мальчишеского варварства в действиях взрослых людей и организаций (Huizinga J. Op. cit. Р. 205). (Поводом послужили известные социально-политические тенденции его времени.)
(обратно)430
Свидетельство такого авторитета, как Дж. М. Кейнс: «Деловые люди ведут игру, в которой переплетаются ловкость и удача <…>. Если бы человеку по его природе не было свойственно искушение рискнуть испытать удовлетворение (помимо прибыли) от создания фабрики, железной дороги, рудника или фирмы, то на долю одного лишь холодного расчета пришлось бы не так много инвестиций» (цит. по: Любимова Т.Б. Трагическое в современной буржуазной эстетике // Вопросы философии. 1979. № 8. С. 214).
(обратно)431
В романтически-возвышенной концепции игры у Й. Хойзинги ситуация, в которой «бизнес становится игрой», а «игра становится бизнесом», – признак упадка цивилизации (Huizinga J. Op. cit. Р. 200).
(обратно)432
Лотман Ю.М. Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» // Труды по знаковым системам. Тарту, 1967. Вып. 3. С. 142.
(обратно)433
По Аристотелю, «трагедия есть подражание действию законченному и целому, имеющему известный объем. А целое есть то, что имеет начало, середину и конец» (Хрестоматия по теории литературы. С. 85). Или у Дидро: «Спектакль подобен хорошо организованному обществу» (Там же. С. 105).
(обратно)434
Фрейденберг О.М. Указ. соч. С. 243.
(обратно)435
Там же. С. 407; Топоров В.Н. Указ. соч. С. 110.
(обратно)436
Тахо-Годи А.А. Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков // Искусство слова. М.: Наука, 1973. С. 306–313.
(обратно)437
По мнению Л.Е. Пинского, в формуле «жизнь – театр» – «существо шекспировской концепции человеческой жизни» (Пинский Л.Е. Шекспир: Основные начала драматургии. М.: Худож. лит., 1971. С. 558), она фигурирует в шести пьесах и многих сонетах (Там же. С. 560–561). Сопоставим с этим суждение Й. Хойзинги о том, что эта формула у Шекспира, Кальдерона, Расина обозначает неоплатонистское пренебрежение к реальности (Huizinga J. Op. cit. Р. 55); согласиться с ним трудно.
(обратно)438
Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII в. // Труды по знаковым системам. Тарту, 1977. Вып. 8. С. 65–89.
(обратно)439
Любимова Т.Б. Указ. соч. С. 121–130.
(обратно)440
Эпштейн М.Н. Указ. соч.
(обратно)441
Статья написана в соавторстве с В.Л. Шейнисом.
(обратно)442
Аресты эти были произведены среди студентов и интеллигенции, чтобы пресечь начавшееся было волнение в связи с событиями в Польше и Венгрии. Писатель В. Дудинцев вспоминал, как в 1957 г. его вызвали в КГБ: «Было страшно. Хрущев говорил, что у нас нет больше политических заключенных, а генерал показывал мне их снимки. И предлагал опознать».
(обратно)443
А.И. Икрамов (1898–1938) – первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана в 1929–1937 гг.
(обратно)444
Имея в виду программное положение о неизбежности победы коммунизма во всем мире, Н.С. Хрущев обмолвился, произнеся эти слова. Но они стали уроком политической грамоты для американцев, до сих пор их вспоминают на Западе.
(обратно)445
Статья написана в соавторстве с В.Л. Шейнисом.
(обратно)446
См.: Румянцев А. Партия и интеллигенция // Правда. 1965. 21 февр. (Примеч. сост.)
(обратно)447
Эта публикация была осуществлена в № 25 за 1988 г. (Примеч. сост.)
(обратно)448
11 декабря 1994 г. Б. Ельцин подписал указ «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики», после чего был осуществлен «ввод российских войск в Чечню» и началась Первая чеченская война. (Примеч. сост.)
(обратно)449
Написано в соавторстве с Т.А. Ноткиной и В.Л. Шейнисом.
(обратно)450
Статья написана в соавторстве с Л.Д. Гудковым, А.Г. Левинсоном, Л.А. Седовым.
(обратно)451
См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. М., 1961. Т. 16. С. 405.
(обратно)452
Кон И.С. Психология социальной инерции // Коммунист. 1988. № 1. С. 64–75. (Примеч. сост.)
(обратно)453
См.: Кон И.С. Психология социальной инерции // Коммунист. 1988. № 1. С. 64–75.
(обратно)454
См.: Известия АН СССР. Серия экономическая. 1985. № 1. С. 109.
(обратно)455
Конституция (Основной закон) СССР. М.: Юридическая литература, 1978. С. 15.
(обратно)456
Статья написана совместно с Т.А. Ноткиной.
(обратно)457
Стоит привести суждения Ж. Бернаноса по иному, хотя и аналогичному поводу: «Фашизм бахвалится тем, что создал новый тип человека, противопоставив его типу христианина. На самом деле фашизм вовсе не создал этих новых людей, наоборот, он сам всецело обязан им своим существованием. <…> Да, задолго до того, как Гитлер написал или даже задумал “Mein Kampf”, десятки миллионов людей из всех слоев общества, всех классов, а также – стыдно сказать – всех вероисповеданий были готовы внять этому новому Евангелию» (Бернанос Ж. Сохранять достоинство. М., 1988. С. 362).
(обратно)458
В книге сестры милосердия Софьи Федорченко «Народ на войне» (Т. 2: Революция. М.: Никитинские субботники, 1926) собраны солдатские рассуждения, песни, частушки 1917 г. Многие черты настроений и нравов того времени зафиксированы здесь с большой документальной силой. «Прежде был солдат тетеря / не такой он стал теперя / как раскрыли ему двери / стал солдатик хуже зверя» (с. 21), «Заблудился я середь новой жизни, ничего не пойму. Все позволено, а ничего нету…» (с. 28), «Не то мы темны, не то мы буйны, а не жду я мирного житья. Как бы нам, с войны-то вернувшись, между избами бою не устроить» (с. 91).
(обратно)459
Участники исследования: А. Голов, А. Гражданкин, Л. Гудков, Б. Дубин, Н. Зоркая, Ю. Левада, А. Левинсон, Л. Седов.
(обратно)460
По-видимому, это понятие близко к используемой Э. Фроммом категории «социального характера»: «Взаимосвязь индивидуальной психической сферы и социоэкономической структуры я называю социальным характером <…>. Социоэкономическая структура общества формирует социальный характер своих членов таким образом, что им хочется делать то, что они должны делать. Вместе с тем социальный характер оказывает влияние на социоэкономическую структуру общества, действуя при этом либо как цемент, придающий ей еще большую стабильность, либо, при определенных обстоятельствах, как динамит, готовый взорвать ее» (Фромм Э. Иметь или быть. М.: Прогресс, 1990. С. 138–139).
(обратно)461
В этом смысле советское государство имеет значение парциального института, заполняющего собой все социальное пространство наподобие газообразного вещества. См.: Zilberman D.B. The Birth of Meaning in Hindu Thought. Dordrecht; Boston ets.: D. Reidel Publishing Company, 1988. P. 318.
(обратно)462
По итогам исследования 1989 г. была подготовлена монография: Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х годов. М., 1993. Анализ результатов следующего исследования можно найти, в частности, в: Левада Ю.А. «Человек советский» пять лет спустя: 1989–1994 (предварительные итоги сравнительного исследования) // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1995. № 1; Он же. Возвращаясь к феномену «человека советского»: проблемы методологии анализа // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1995. № 6; Он же. «Человек советский» пять лет спустя: 1989–1994 (предварительные итоги сравнительного исследования) // Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития. М., 1995.
(обратно)463
Приведено соотношение позитивных («больше пользы») и негативных («больше вреда») ответов.
(обратно)464
Попытка выделить различные типы и уровни идентификации человека предпринята в: Левада Ю. Человек в поисках идентичности: проблема социальных критериев // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1997. № 4.
(обратно)465
Вопрос не задавался.
(обратно)466
Из-за различия в методических средствах опрос 1989 г. позволяет представить только «иерархию» (по частоте упоминаний) пугающих событий. Данные 1994 и 1999 гг. – средние показатели, построенные на основе пятибалльной шкалы (от «совершенно не испытываю страха» до «испытываю постоянный страх»).
(обратно)467
Приведены только первые 10 позиций (ранжированы по частоте упоминаний в 1999 г.).
(обратно)468
Такие разделения хорошо известны в социологической литературе. «Каждый человек по своим задаткам – существо, состоящее из многих пластов. И в нем, сменяя друг друга, могут господствовать или отступать те или иные задатки. Каждая фиксация какого-либо типа означает, что эта фиксация складывается посредством господства определенных задатков в их связи и интеграции с ядром личности. Каждое изменение той или иной фиксации означает, что она сменяется вследствие ставших рецессивными ранее решающих задатков и интегрирующего господства тех, которые до сих пор были рецессивными» (Вебер А. Третий или четвертый человек // Вебер А. Избранное: кризис европейской культуры. СПб., 1999).
(обратно)469
См.: Левада Ю. 1989–1998: десятилетие вынужденных поворотов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 1999. № 1.
(обратно)470
Соотношение крайних позиций («недопустимо»: «ничего предосудительного»). Данные о затруднившихся ответить не приводятся.
(обратно)471
Соотношение крайних позиций («недопустимо»: «ничего предосудительного»). Данные о затруднившихся ответить не приводятся.
(обратно)472
Оруэлл Дж. 1984. Далош Д. 1985. М., 1992. С. 201.
(обратно)473
Рассчитано по данным мониторинга ВЦИОМа (N = 2400 человек).
(обратно)474
Сумма позиций «совершенно согласен» и «скорее согласен».
(обратно)475
Сумма позиций «скорее не согласен» и «совершенно не согласен».
(обратно)476
Сумма позиций «совершенно согласен» и «скорее согласен».
(обратно)477
Сумма позиций «скорее не согласен» и «совершенно не согласен».
(обратно)478
The Gallup Poll. 2001. March. (Pollingport.com.)
(обратно)479
Без затруднившихся ответить.
(обратно)480
См. обстоятельный анализ этой проблемы в статье Д. Тренина: Тренин Д. Россия и конец Евразии // Рrо & Соntrа. 2005. № 1 (28).
(обратно)481
Исследование проведено по заказу и при участии Екатеринбургского гуманитарного университета и Гуманитарно-политического центра «Стратегия» в феврале 2006 г., опрошены 1600 человек по всероссийской репрезентативной выборке.
(обратно)482
Ср.: Зоркая Н. Кто сохранил интерес к политике? // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 1995. № 2; Она же. Интерес к политике как форма политического участия // Там же. 1999. № 4.
(обратно)483
«В очень большой» или «большой степени».
(обратно)484
«В малой степени» или «совершенно не интересует».
(обратно)485
«Очень часто» и «часто».
(обратно)486
«Редко» и «практически никогда».
(обратно)487
«Определенно да» и «в какой-то мере да».
(обратно)488
«Скорее нет» и «определенно нет».
(обратно)489
Насколько выполняют, настолько и не выполняют.
(обратно)490
Соотношение мнений («выполняют»: «не выполняют»).
(обратно)491
«Каждый народ обладает… государственным устройством, которое ему впору и подходит ему» (Гегель Г.В.Ф. Философия права // Гегель Г.В.Ф. Соч. М.; Л., 1934. Т. 7. С. 299).
(обратно)492
Приводятся показатели первого упоминания. Сопоставление итоговых «балансов» в комментариях не нуждается.
(обратно)493
Приводятся показатели первого упоминания. Сопоставление итоговых «балансов» в комментариях не нуждается.
(обратно)494
Выступление на научной конференции «Россия вчера и сегодня: нереализованный выбор», посвященной памяти О.Р. Лациса. Москва, 25 апреля 2006 г. (дополненный вариант).
(обратно)495
См., напр.: Карацуба И., Курукин И., Соколов Н. Выбирая свою историю. М.: КоЛибри, 2005.
(обратно)496
По ответам на просьбу указать, за каких кандидатов респонденты предпочли бы при наличии такой возможности голосовать на президентских выборах (открытый список). Варианты, приводимые в строках 2–4, – ответы на другой вопрос соответствующего исследования.
(обратно)497
Вариант не предлагался.
(обратно)498
Архетип этой стороны властного перехода в абсолютизированных системах правления был представлен в знаменитом исследовании Дж. Фрэзера на примере некоего древнего царства в Ариции, где законным преемником верховного жреца (он же царь), обладавшего безграничной властью, становился тот, кто его убьет (Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С. 10). Панический страх всемогущего правителя перед заговорами и покушениями со стороны ближайшего окружения и возможных наследников – приметная ситуация сталинского периода.
(обратно)499
Готовые голосовать за данную партию на следующих выборах в Государственную Думу.
(обратно)500
«Вполне устраивает» + «по большей части устраивает».
(обратно)501
«По большей части не устраивает» + «совершенно не устраивает!».
(обратно)502
Соотношение удовлетворенных («вполне» или «в основном») и неудовлетворенных («вполне» или «в основном»).
(обратно)503
Соотношение удовлетворенных («вполне» или «в основном») и неудовлетворенных («вполне» или «в основном»).
(обратно)504
«Да, скорее да»: «Скорее нет, нет».
(обратно)505
Беседа с Ю.А. Левадой была подготовлена в рамках проекта «Социология 1960-х годов в воспоминаниях и документах».
(обратно)506
Этот институт существовал в системе АН СССР в 1956–1960 гг. (Примеч. сост.)
(обратно)507
Имеется в виду отдел, руководимый Г.В. Осиповым. (Примеч. сост.)
(обратно)508
См.: Лекции по социологии: В 2 вып. М., 1969. 117 с., 181 с. (Инф. бюллетень / Науч. совет АН СССР по проблемам конкр. соц. исследований. Сер.: Метод. пособия. 1969. № 5–6 (20–21)). (Примеч. сост.)
(обратно)509
Подробнее см.: «Дело Левады» – документы из личных и государственных архивов / Публ. М. Пугачевой // Социологическое обозрение. 2006. № 1. С. 122–139.
(обратно)510
См.: Симпозиум по структурному изучению знаковых систем: Тезисы докладов. М., 1962. (Примеч. сост.)
(обратно)511
См.: Мамардашвили М.К. Превращенные формы (о необходимости иррациональных выражений) // Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992. (Примеч. сост.)
(обратно)512
Выступление на дискуссии в фонде «Либеральная миссия» (25 января 2006 г.), посвященной роли шестидесятников в крахе тоталитарного режима.
(обратно)513
В сборнике «Пресса и общество» (М., 2000) приведен целый ряд материалов об изнурительной борьбе редакции «Нового мира» 60-х гг. с цензурой.
(обратно)514
См.: Буртин Ю. Самостоятельные люди // Новое время. 1996. № 30. (Примеч. сост.)
(обратно)515
Беседу ведут Д.Н. Шалин, Ю.А. Левада и Е.С. Петренко.
(обратно)516
См.: Игровые структуры в системах социального действия // Систем. исследования: методол. проблемы: Ежегодник, 1984. М., 1984. С. 273–293. (Примеч. сост.)
(обратно)517
Фашизм // Философская энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1970. Т. 5. С. 304–308. (Примеч. сост.)
(обратно)518
Институт системного анализа. (Примеч. сост.)
(обратно)519
См.: Проблемы экономической антропологии у К. Маркса // Экономика и общество: (Истоки и соврем. проблемы маркс. методологии исследования соц. – экон. развития). М., 1983. (Сб. тр. / ВНИИ систем. исследований. Вып. 8). С. 86–97. (Примеч. сост.)
(обратно)520
Имеется в виду Антисионистский комитет советской общественности, созданный в 1983 г. и существовавший по 1992 г. (Примеч. сост.)
(обратно)521
См.: Шляпентох В.Э. Юбилейные заметки о Джордже Оруэлле и его критиках // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2003. № 2 (68). С. 63–69. (Примеч. сост.)
(обратно)522
Оруэлл Дж. 1984 / Пер. В. Голышева // Оруэлл Дж. 1984. Далош Д. 1985. М.: Текст; РИК «Культура», 1992. С. 199. Далее ссылки на эту книгу даются в скобках в тексте.
(обратно)523
См.: Бауман З. Свобода / Пер. с англ. Г. Дашевский. М.: Новое издательство, 2006. (Примеч. сост.)
(обратно)524
Положенные в основу списка указатели (Левада Юрий Александрович: Библиографический указатель: Литература за 1955–2008 / Сост. Т.В. Левада, Е.И. Серебряная, А.В. Борисов. М., 2008; Библиография работ Ю.А. Левады (1965–2008 гг.): социология, философия, научная публицистика / Сост. А.В. Борисов, С.В. Макаров, Е.И. Серебряная // Памяти Юрия Александровича Левады [1930–2006] / Сост. Т.В. Левада. М.: Издатель Е.В. Карпов, 2011. С. 441–473) дополнены А.И. Рейтблатом.
(обратно)



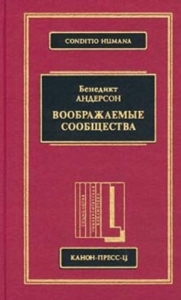





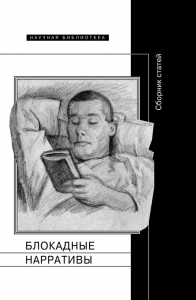
Комментарии к книге «Время перемен», Юрий Александрович Левада
Всего 0 комментариев