Дарья Журкова Искушение прекрасным. Классическая музыка в современной массовой культуре
© Государственный институт искусствознания
© Д. Журкова, 2016
© Е. Габриелев, оформление, макет серии, фотографии на обложке, 2016
© ООО «Новое литературное обозрение», 2016
Введение
Пожалуй, единственной точкой, в которой сходятся взгляды большинства исследователей массовой культуры, является признание ее пластичности и невозможности универсального, раз и навсегда заданного, определения. При всей стандартности формул, используемых массовой культурой, сама она оказывается предельно многоликой и не поддающейся четкой классификации. Изучение массовой культуры стартовало практически одновременно с ее появлением в конце XIX века, и на протяжении всего последующего столетия научная мысль пыталась выработать базовые конституциональные характеристики данного феномена. Однако практика демонстрировала удивительную неподатливость терминологической «герметизации», обнаруживая все новые, «не учтенные» теорией градации и контуры этого понятия. Суть же кроется в том, что гуттаперчевость, умение сиюминутно адаптироваться к вызовам времени и запросам общества являются определяющими качествами массовой культуры. Ее константность заключается в изменчивости, обеспечивающей жизнеспособность и востребованность этой грандиозной системы.
Один из краеугольных вопросов, обращенных к массовой культуре, связан с механизмом ее образования: «спускается» ли она сверху власть держащими структурами (в том числе массмедиа) или же генерируется изнутри самим обществом. Истина, как обычно, находится посередине. Возникновение тех или иных явлений массовой культуры — это обоюдонаправленный процесс взаимовлияния общества, технологий и создателей культурных продуктов, во многом остающийся непредсказуемым, несмотря на прогнозы многочисленных аналитиков и моду исследований в фокус-группах. История показывает, что «спущенным сверху» скорее является само понятие массовой культуры и стереотипы ее толкования интеллектуалами ХХ в.[1] Критику развития подобных представлений Алан Свингвуд выразил в радикальной формулировке: «Нет массовой культуры или массового общества, но есть идеология массовой культуры и массового общества»[2]. При всей категоричности данного утверждения за ним скрывается призыв к отмене эстетических и идеологических критериев в оценке массовой культуры, столь свойственных большинству посвященных ей работ. Ведь вплоть до конца 60-х гг. ХХ в. изучение массовой культуры зачастую базировалось на негативно-пропагандистских предубеждениях. И только с середины прошлого столетия на Западе происходит смена исследовательской парадигмы в сторону культурного плюрализма, характеризующаяся «сдвигом с вопросов доминирования, легитимности и жизнеспособности массовой культуры к более прозаичным проблемам того, кто потребляет, что, где и как»[3].
При всей относительности понятий массового, популярного и элитарного необходимо в очередной раз к ним обратиться, так как именно процессу их взаимодействия посвящено данное исследование.
Начнем с пары «массовое vs элитарное».
До середины ХХ в. связь между массовой и элитарной культурой выражалась именно с помощью знака vs, versus’а — противопоставления, задаваемого, в частности, категориями «высокого» и «низкого». На протяжении столетия (фактически с середины XIX в.) дифференциация массового и элитарного была основополагающим «водоразделом» не только в понимании культуры, но и в установлении социальной стратификации[4]. По меткому наблюдению Бориса Дубина, с одной стороны эта оппозиция вводила начало единства, связности, системности на переходе к «модерновому» обществу, а с другой — обозначала механизм динамики, развития, выражения и смены авторитетов, типов поэтик и выразительной техники[5]. На сегодняшний день, во-первых, как практикой, так и научным сообществом признана полная диффузия понятий массового и элитарного, их постоянное взаимовлияние и взаимоперетекание. Вследствие чего и, во-вторых, элитарная (высокая) культура становится лишь одной из многочисленных субкультур[6], а центр прежнего «водораздела» кардинально смещается, если вообще не объявляется окончательно отмененным. В свою очередь, с понятия массовой культуры, по крайней мере в рамках научного подхода, снимаются оценочные предубеждения, и она предстает, прежде всего, как технология культурного производства, соответствующая уровню развития экономики, социальных отношений, компетенций, образования, духовным запросам большинства населения[7].
Показательно, что параллельно с данным процессом «снятия напряжения между двумя полюсами культуры в ее массовом и элитарном вариантах»[8] все чаще возникает понятие популярной культуры, которое также претерпевает определенные смысловые метаморфозы. Поначалу, в середине XX в., популярная культура понималась лишь как более «политкорректный» синоним массовой культуры и в этом качестве оставалась по сути антагонична понятию элитарного[9]. В попытке нивелировать остроту разрыва между «высоким» и «низким» возникали понятия среднелобой (middlebrow)[10], вкусовой (taste culture)[11] или же срединной (mediocre)[12] культуры, однако именно популярная культура в конечном итоге стала тем понятием, которое смогло объединить, примерить и обеспечить сосуществование категорий массового, элитарного, а также народного. Как раз эти свойства закрепляются за популярной культурой в одном из самых распространенных ее определений, данных Ч. Мукерджи и М. Шадсон, — «популярная культура охватывает различные верования («beliefs») и формы практической деятельности, а также культурные объекты, используемые широкими слоями населения. Такое понимание включает как народные («folk») верования, формы практической деятельности и различные объекты, имеющие корни в локальных традициях, так и массовую культурную продукцию, создаваемую при участии различных политических и коммерческих центров. Сюда входят как популяризированные образцы элитарной культуры, так и имеющие народное происхождение формы, возведенные в ранг музейной традиции»[13].
Востребованность понятия популярной культуры также объясняется, во-первых, стремлением обозначить активное участие в ее формировании самих потребителей культурных продуктов, вопреки манипулятивным технологиям, с которыми ассоциируется массовая культура[14]. Во-вторых, глядя на нынешнее общество, очень сложно говорить о его массовости в ракурсе унифицированности, однородности и стандартизированности. Процессы глобализации не только объединили мир, но и сделали его предельно фрагментированным, многослойным и разноликим, открыв возможности доступа и, соответственно, заимствований из множества «иных» культур. Фактически у каждого индивида есть шанс сформировать из имеющихся символических ингредиентов свой собственный стиль жизни и, более того, менять его сообразно настроению. Популярная культура, обладающая способностью объединять любые, казалось бы, самые несочетаемые явления, выступает в этом случае наилучшим образцом для подражания.
Данная книга, по сути, посвящена исследованию именно популярной культуры, но, как ни странно, этого словосочетания нет в ее названии. Чтобы объяснить причины подобной авторской «халатности», необходимо вновь вернуться к взаимоотношениям массового и элитарного, но уже в парадигме отечественной истории и науки.
Как известно, отношение к термину «массовая культура» в советскую эпоху было предельно полемичным и амбивалентным. Власть и гуманитарная наука отказывались признать ее существование в СССР, отчего сам термин зачастую брался в кавычки, намекающие на неполноценность такой культуры, использовался исключительно в связке с прилагательным «буржуазная» и подразумевал безапелляционно негативное отношение к ней как к «антикультуре»[15]. В то же время практиковались терминологические игры по перестановке слов и подбору синонимов, согласно которым в социалистическом государстве существовала не массовая культура, а культура масс, или же народная (общенародная) культура. Но, несмотря на официальную доктрину, в СССР, безусловно, массовая культура была, хотя она и имела принципиально отличные от западной механизмы управления и поощряемые ценности[16].
«Нести культуру в массы» — таков был один из главных лозунгов, возникших на заре построения социалистического государства и девальвировавшийся в ерническую прибаутку на его закате. Причем под культурой в данном выражении негласно подразумевалась, прежде всего, классика, высокое искусство, за которым закреплялось особое место в системе ценностей советского гражданина. Как тонко диагностировал Борис Дубин, «русская литературная, художественная, музыкальная классика вместе с “классиками народов СССР” в трактовках интеллигенции поддерживала идеологическую легенду власти, как законной наследницы “лучших сторон” отечественного прошлого и мировой истории. Вместе с тем классика воплощала “всеобщие” и “вечные” ценности, к которым должно было приобщиться население страны»[17].
На определенном этапе формирования советской массовой культуры — в 30–60-е гг. ХХ в. — в истории был запущен уникальный эксперимент по превращению элитарного искусства в массовое. Для начала были устранены концептуальные неувязки: к элитарному искусству был причислен исключительно авангард, с его «антиреалистичностью», «антигуманностью» и «антидемократичностью». Массовая культура с ее «паразитарной природой и низменными целями наркотизации масс»[18] была выселена на Запад, а социалистическое общество стало заповедником культуры классической, служащей «целям духовного обогащения личности и прогрессу ее творческих сил»[19]. Программа эксперимента заключалась не только в пропаганде классики, но и в необходимости следования ее законам для современных художников. В итоге, как констатирует Анна Костина, в СССР «массовая культура функционировала в нехарактерных для нее элитарных формах»[20]: в архитектуре существовала ориентация на ордерную систему, отсылающую к архитектуре Древнего Рима; в живописи поощрялись жанры парадного портрета и исторического полотна, в литературе — ясная фабула и прозрачная нарративность романов XIX в. На музыкальном аспекте художественной политики партии в нашем случае следует остановиться отдельно.
В советскую эпоху степень присутствия классической музыки в жизни рядовых граждан действительно была невероятно высока. Во-первых, существовала разветвленная система музыкального просвещения — начиная от музыкальных школ, работавших даже в сельской местности, вплоть до оперных театров и филармоний в каждом республиканском центре, которые предлагали специальные абонементы для рабочих предприятий, а также организовывали выездные концерты, как бы сегодня сказали, «топовых» артистов в самые отдаленные населенные пункты. Во-вторых, была налажена мощная пропаганда классической музыки через каналы средств массовой коммуникации. Выходили миллионные тиражи пластинок, работал конвейер теле-, радиотрансляций и передач, дополнявшийся регулярным показом оперных фильмов и спектаклей по телевизору. Более того, даже жанры массовой культуры облекались в классические «одежды». Начиная от незапланированных цитат классических произведений в советской массовой песне[21] и особой симфонической доброкачественности киномузыки 30–60-х гг. вплоть до попыток конструирования искусственных жанров — песенной оперы и песенной симфонии[22].
Однако невероятный объем классики, циркулирующей как на телевидении и радио, так и в повседневном обиходе, в условиях тоталитарного режима дал двойственный эффект. С одной стороны, были достигнуты бесспорные успехи в «просвещении масс», и люди, вне зависимости от своей профессии, имели представление о классической музыке, уважали и порой искренне любили ее. Но в то же время классическая музыка стала невольно ассоциироваться с официозом, «она парадоксально превратилась в символ государственного насилия, давления на “обывателя”, стала образом тоталитарного насаживания чуждого, пустозвонного»[23]. Так, альтернативой программы «Время» в сетке телевещания зачастую оказывались трансляции филармонических концертов. Подоплекой такого совмещения являлось требование официальных инстанций, чтобы параллельная программа не была интереснее и зрелищнее главной информационно-политической передачи страны. Значительная часть аудитории понимала это, невольно начиная воспринимать классическую музыку на ТВ как круговую информационную завесу, за которой скрываются реальные события и проблемы, происходящие в стране.
Однако, несмотря на то что классическая музыка нередко выдвигалась в качестве символа государственной идеологии, она же могла становиться убежищем от нее. Многие люди, как любители, так и профессиональные музыканты, обращались к классике с целью уйти от гнета политических манифестаций в сферу «чистого» искусства. Ведь эта музыка существовала задолго до коммунистической партии, а значит, в своей сути была свободна и неподвластна интерпретационной перелицовке, которую пытались применить в отношении ее культуртрегеры коммунизма.
Таким образом, функции классической музыки в советском обществе были амбивалентны. Она с одинаковым успехом использовалась как в идеологических целях (вспомним еще о политической подоплеке международных музыкальных конкурсов), так и в стремлении отдельно взятого человека отстраниться от проблем современного ему общества в диалоге с великими личностями прошлых эпох.
Во время социально-экономических реформ начала 1990-х гг. в восприятии классической музыки политическая конъюнктура взяла верх. Скорее всего, не последнюю роль в этом сыграла запись «Лебединого озера» Чайковского, демонстрировавшаяся по телевидению между экстренными выпусками новостей во время августовского путча 1991 г. И вместе с крахом советской идеологии классическая музыка подверглась информационному остракизму, в результате которого к середине переломного десятилетия большинство сложившихся форм презентации «высокого» искусства были исключены из эфира ведущих отечественных телеканалов и радиостанций.
По большому счету, в этот переломный период отечественной истории не повезло и массовой культуре. Теперь невозможно было отрицать ее тотальное присутствие в нашей стране, причем вполне закономерно, что ввиду предшествовавшей эпохи цензуры ажиотажным спросом начали пользоваться прежде порицаемые образцы западной коммерческой культуры, которые, с одной стороны, несли с собой дух свободы и вседозволенности, а с другой — обнажали трагическое несовпадение российских реалий с достижениями процветающего западного общества. В очередной раз массовая культура была заклеймена, теперь уже как первопричина моральной деградации общества, а также системного кризиса институций высокой культуры. Выше мы анализировали, как на Западе, в том числе и в научном сообществе, происходил процесс осмысления законов функционирования массовой культуры и постепенный переход от оценочно-идеологического подхода к концепции плюрализма. В России же, ввиду остроты и фундаментальности произошедших перемен, интеллектуальная элита оказалась, по сути, беспомощна перед проблемой массовой культуры. По наблюдению Бориса Дубина, отечественная интеллигенция и ее лидеры отвергают массовую культуру, то демонизируя ее, то делая вид, что они ее не замечают, в результате чего проблема элиты подменяется «тенью» массовой культуры[24].
Безусловно, в последнее время, по крайней мере в научном сообществе, формируется созвучный западному алгоритм исследования и анализа как самой массовой культуры, так и ее функций в современном российском обществе. Однако до институционализации понятия популярной культуры еще далеко. Отчасти именно поэтому в название книги вынесена массовая культура: во-первых, как более привычный термин, а во-вторых, ввиду того, что исследование посвящено самому процессу формирования популярной культуры, переходу к новому качеству массовой культуры. И этот процесс пока еще рано объявлять окончательно завершенным.
Данная книга не могла бы состояться без поддержки многих людей. Я благодарю своего научного руководителя Е. В. Сальникову за возможность глубокого, заинтересованного и плодотворного диалога на протяжении всего исследования. Выражаю искреннюю признательность профессорам Л. А. Купец и Е. В. Дукову, которые своим участием во многом определили мое профессиональное становление. Существенное влияние на характер данного исследования оказало общение с коллегами и наставниками: Ю. А. Богомоловым, А. С. Вартановым, А. Н. Васильковой, Ю. С. Дружкиным, Н. Г. Кононенко, А. А. Новиковой, Е. М. Петрушанской, Л. И. Сараскиной и И. В. Стрыковой. Особая роль принадлежит моим друзьям и родным: Т. А. Журковой, М. Крупник, Е. Кузнецовой, В. Курбатовой, А. Куриленко. Для меня большая честь, что данная книга выходит в свет в издательстве «Новое литературное обозрение». Искренне благодарю его главного редактора — И. Д. Прохорову и лично редактора серии «Очерки визуальности» — Г. Ельшевскую за тонкое чувство авторского стиля.
Часть I Классика и медиа в диалоге on— и off-line
Глава 1 Классическая музыка как фон повседневности
1. Феномен фонового слушания
Сегодня куда бы ни пошел человек, что бы он ни делал, он может делать это с музыкой. В офисе или в кафе, в автомобиле или по телефону — всюду его будут развлекать музыкой, даже если он эту музыку не заказывал. Другой вопрос, слышит, а точнее, слушает ли он эту музыку, вполне ли отдает себе отчет в том, что она звучит? Зачастую — нет. Поэтому такую музыку принято называть фоновой, то есть не отвлекающей от основного действия.
В качестве фоновой музыки нередко выступают классические произведения, звучащие, например, во время светского приема, в ресторане или в торговом центре. Сегодня классическую музыку охотно включают в такие контексты, где ее целенаправленное слушание не предполагается, где она должна выполнять роль «фонодизайна» окружающего пространства, вне связи с изначально заложенными в ней идеями и смыслами. Несмотря на то что на протяжении ХХ в. утверждалась тенденция восприятия классической музыки как элитарного искусства, самоценного, требующего концентрации внимания на ней самой, тем не менее параллельно с этим нарастали процессы, закреплявшие уместность и востребованность ее звучания в самых различных ситуациях повседневной жизни людей.
Одна из главных причин, инициировавших расширение форм восприятия классической музыки, заключается в беспрецедентном развитии звуковоспроизводящих устройств. Появление в быту технических средств распространения музыки, одинаково подходящих для воспроизведения любых музыкальных произведений, привело к тому, что граница между «обиходной» и «надбытовой» музыкой стала предельно подвижной[25]. Более того, очередной этап революции в размерах звуковоспроизводящих устройств и в степени их мобильности, произошедший в начале XXI в., завершился тем, что человек получил абсолютную свободу передвижения вместе с музыкой, а возможности озвучивания музыкой различных пространств стали безграничными. И теперь можно услышать фрагмент симфонии по дороге на работу, насладиться оперной арией, стоя в очереди на кассе, или любоваться в городском парке фонтанами, «танцующими» под звуки классических вальсов.
Применительно к сегодняшнему бытованию музыки можно говорить о неизбежной фоновости восприятия самых разных произведений, без разграничения на жанры и стили. «Сама система коммуникации, характерная для современной культуры, ее динамика демонстрирует свободу обращения с любыми артефактами, вне зависимости от материала и того поля значений, которое стоит за ними, — констатирует Е. В. Дуков и продолжает: — Инициатива выбора и формирования поля значений для выбранного оказалась едва ли не впервые в истории человеческих сообществ исключительно личным делом»[26]. Соответственно, фоновой музыкой с равным успехом могут оказаться и ноктюрн Шопена, и последний хит от Lady Gaga. И как показало широкоохватное социологическое исследование, «ценность музыки в повседневной жизни людей зависит от того, как они ее используют, и от степени их вовлеченности в процесс слушания, которая в свою очередь определяется контекстом»[27].
Появление и бурное развитие такого феномена, как фоновое слушание, вносит существенные изменения в устоявшиеся типологии музыкальных жанров, так как фоновость музыки отнюдь не обязательно является ее художественным свойством. В современной исследовательской мысли пока что не существует четких терминологических градаций в отношении фоновой музыки. Однако не вполне корректно относить ее к общепринятым категориям прикладной или функциональной музыки. В отличие от прикладных жанров[28] фоновая музыка не находится в прямой взаимосвязи с выполняемым действием и не имеет цели непременно объединять какое-либо человеческое множество. Так, вождение автомобиля совсем не требует музыкального сопровождения, а в банке, где звучит приятная музыка, каждый сотрудник и посетитель занимаются исключительно своими деловыми операциями. Наоборот, фоновая музыка часто используется для того, чтобы маркировать индивидуальное пространство человека (о чем будет сказано подробно чуть ниже).
Фоновую музыку нередко относят к разряду функциональной музыки[29]. Но сегодня контексты звучания фоновой музыки значительно шире и разнообразнее в сравнении с прагматичными целями, преследуемыми функциональной музыкой, и отнюдь не всегда звучание фоновой музыки подразумевает строго выверенный и однозначный утилитарный эффект.
Фоновая музыка, а точнее, возможность использования в качестве ее любых музыкальных произведений является порождением эпохи постмодернизма, когда всеобщий плюрализм позволяет смешивать любые явления и процессы без каких-либо разграничений и условностей. В связи с этим А. М. Цукер констатировал, что в отношении к музыке жанровая ситуация «отличается сегодня редкой нестабильностью, нарушающей сложившиеся ценностные представления, иерархические связи, уравнивающей в правах то, что прежде находилось на крайних ступенях “эстетической лестницы”, а иногда и попросту меняющей их местами»[30].
Фоновая музыка звучит в самых различных контекстах человеческой жизнедеятельности, вследствие чего ее статус оказывается предельно подвижным — она может выступать как в роли обиходной, так и в роли «надбытовой» музыки. То есть, по сути, в отношении фоновой музыки традиционное разделение на жанры уже не действует. А ввиду тотальности фонового восприятия музыки закономерен вопрос — возможно ли в принципе сегодня определять роль той или иной музыки через традиционные жанровые градации?
2. Облагораживание пространства и времени
Процесс снятия жанровых границ проявляется особенно наглядно, когда в качестве фоновой музыки выступает классика. И в данном случае необходимо подробнее обозначить ее специфические функции в озвучивании различных пространств и событий человеческой жизнедеятельности.
Прежде всего, звучащая фоном классическая музыка мгновенно выделяет то место, где она звучит, из всего окружающего ландшафта и вообще из контекста повседневности и обыденности, за счет того, что ее звуковой код разительно отличается от привычного звукового кода современной эпохи. Даже если классическая музыка звучит фоном, то человек все равно отметит ее присутствие так же, как, например, он сразу услышит иностранную речь среди общего гомона разговаривающих людей.
Классической музыке подвластно существенным образом преображать окружающее пространство, даже если оно является для человека знакомым и обыденным. Она сообщает тому или иному месту особую ауру, и попадающий в поле ее звучания человек невольно начинает искать другие подтверждения особенности, необычности этого пространства, например в интерьере или в характере взаимоотношений находящихся в нем людей. Так, магазин, который озвучивает свое пространство классической музыкой, претендует на то, что способен предложить высокий уровень обслуживания, заведомо вежливое и предупредительное отношение к клиентам. Тем самым, всем, кто попадает в зону звучания классики, предлагается как бы мысленно достроить особый универсум поведения и пытаться найти в нем свою роль. Так же, как переодевание в исторический костюм способствует раскрытию в человеке не задействуемых им в обычной жизни граней характера, так и при звучащей фоном классике человек включается в игру символов, обозначающих возвышенность, уникальность, церемонность. Только в данном случае в исторические декорации «одевается» само окружающее пространство.
Одна из главных функций фоновой музыки в повседневной среде заключается в «оживлении», в «одушевлении» предметов и наполнении различных пространств образами жизненного процесса. Современная «фономания», выражающаяся в стремлении непременно озвучить музыкой обыденные действия и ситуации, является своеобразной реакцией человека на постоянное разрастание пространства цивилизации, которое он не в силах в достаточной степени обжить и «одухотворить» своим личным душевным теплом напрямую. Таким способом дефицит общения человека с человеком компенсируется реально слышимым диалогом человека с искусственной цивилизационной средой. Окруженный звуковоспроизводящими устройствами человек подсознательно начинает ощущать, что в «озвучиваемом» месте есть своя жизнь, даже если не встречает здесь ни одной живой души или не вступает ни с кем в контакт.
Когда в качестве такого посредника между человеком и окружающим пространством выступает классическая музыка, то она помогает не только «одухотворить» технологизированную реальность, но и вписать ее в поступательное движение истории. Классическая музыка своим присутствием в звуковом ландшафте современности примиряет технический прогресс с закономерностями развития культуры, обеспечивая их пространственный синтез. Классика помогает создать иллюзию, что, расширяя границы технической цивилизации, человек при этом ничего не теряет из сферы своей духовной жизни: он собирает, концентрирует свои лучшие достижения и получает возможность наслаждаться ими в любом месте, в любое время. Технический прогресс, таким образом, не только колоссально увеличивает аудиторию классической музыки, но и позволяет приобщаться к ней с максимальным комфортом.
Другая причина столь широкой востребованности фоновой музыки связана с разрастанием пространства потребления и необходимостью завуалировать коммерческие интересы в эстетически притягательные формы. Не случайно сегодня все торговые центры зазывают своих клиентов яркой музыкой, которая призвана усилить удовольствие от покупок, сделав его как можно более полным и разнообразным. Закономерность такова, что чем больше усиливается прагматическая составляющая жизни, тем сильнее она нуждается в эстетических декорациях, чтобы человек мог потреблять и при этом не чувствовать, что он потребляет и что его тоже «потребляют», бесконечно умножая число надуманных желаний и потребностей.
Классическая музыка своим присутствием облагораживает, как бы обволакивает процессы потребления и отодвигает коммерческие цели на второй план, создает иллюзию, что ценность приобретаемых вещей или услуг выражается отнюдь не в денежном эквиваленте. В данном случае используется авторитет классической музыки как высокого искусства, неразрывно связанного с духовным началом, личностными отношениями и совершенством качества. Процесс потребления, сопровождаемый классической музыкой, приобретает антураж светского общения о «высоких материях», и тем самым утилитарный характер сделки как бы нивелируется.
В то же время пространство потребления всеми силами пытается создать иллюзию тотально позитивной и неизменно комфортной атмосферы жизненного бытия. Современный цивилизационный демократизм подразумевает, что каждый человек имеет право на приятные ощущения, которые должны идти непрерывным потоком, одно за другим. В жизненном континууме не должно возникать пустот, не заполненных какими-либо полезными и увлекательными впечатлениями. Эта боязнь ничем не занятого времени побуждает человека жить в непрерывном ощущении ожидания чего-либо. Как однажды заметил Т. Адорно, «люди боятся времени и поэтому — в виде компенсации — придумывают такую метафизику времени, где перекладывают на время вину за то, что в этом отчужденном мире не чувствуют, что живут»[31].
В свою очередь, фоновая музыка не дает человеку оставаться с «пустым» временем один на один, помогая с легкостью заполнить и разукрасить собой как кратковременные, так и длительные периоды ожидания[32]. Она призвана «заретушировать» возникающие паузы, то есть создать необходимое ощущение непрерывности бытия, или, вновь обращаясь к словам Т. Адорно, — музыка идеальна для рекламирования действительности[33].
Специфическое удобство классической музыки, используемой в качестве заполнителя периодов ожидания, заключается в том, что она способна создать ситуацию обезличенной коммуникации, тем самым помогая свести к минимуму ощущение навязывания, принуждения и скрыть прагматизм и расчет, лежащие в основе процессов потребления. Например, звучание классической музыки перед началом презентации новой модели автомобиля создает необходимую приподнятую атмосферу, сообщает участникам ощущение значимости предстоящего события. У людей создается иллюзия, что они собрались все вместе, чтобы приятно провести время, а отнюдь не ради изучения технических характеристик очередной модели автопрома. Во всех подобных ситуациях вопреки тому, что классическая музыка является сугубо авторским искусством и выражением индивидуалистического духа, она воспринимается как предельно объективный и имперсональный музыкальный фон, так как не является языком современной эпохи и, как правило, не ассоциируется с конкретным государством, нацией, обыденными операциями и ситуациями.
Наконец, фоновая музыка благодаря своей функционально-эстетической амбивалентности может стать действенным регулятором социального поведения человека, в определенные моменты фокусируя или «усыпляя» внимание индивида. Причем классическая музыка оказывается в этом отношении наиболее пластичным и универсальным инструментом. Она может мгновенно привлекать внимание человека за счет того, что, как говорилось выше, разительно отличается от общего звукового контекста эпохи и ярко выделяется из привычного слухового опыта современного человека. Но по этой же причине она с легкостью превращается в звуковой фон, так как постижение ее содержания и погружение в саму музыку требует определенной сосредоточенности, большая часть ее смыслов не лежит на поверхности, а значит, их очень сложно «улавливать» мимоходом, параллельно с размышлением о другом или выполнением какого-либо действия. Поэтому воспринимать классическую музыку как фон в каком-то смысле проще, нежели популярную музыку. В случае фонового слушания классическая музыка превращается в своего рода «вещь в себе» — за ней признается объективная ценность, которая принадлежит самой музыке, и не пропадает, даже если человек не понимает эту музыку и не вслушивается в нее.
Именно поэтому классическая музыка пользуется спросом в заполнении промежутков ожидания. Время слушания классической музыки по определению не может быть потерянным, «выброшенным на ветер», так как она воспринимается не просто как развлечение, а как приобщение к чему-то безусловно ценному и как повышение человеком своего культурного уровня. Благодаря своему непререкаемому авторитету классическая музыка нивелирует содержательную пустоту времени ожидания, устраняет ощущение бессмысленной растраты времени жизни, поскольку наполняет это время эстетическими впечатлениями, которые могут расцениваться индивидом как разновидность ценного приобретения, обладания.
С другой стороны, коммуникация посредством классической музыки может быть по-разному прочитана индивидом в зависимости от его собственных свойств и от общей ситуации, в которой звучит музыка. Одно и то же музыкальное произведение может восприниматься совершенно по-разному, что порождает пластичность смысловых градаций в отношении звучащей фоном музыки.
Допустим, человек звонит в офис и вместо ответа долго слушает фрагмент какого-либо классического произведения. Он может воспринимать это с благодарностью, как полезное развлечение, как возможность расширить свой культурный кругозор и послушать хорошую, качественную музыку. А может и прочитать звучание классической мелодии как «холодный» отказ и нежелание компании с ним общаться, скрываемое за формальной заботой и вежливостью. Наконец, звучание классической музыки может говорить человеку о некоем снобизме компании, которая таким способом очерчивает определенный круг своих клиентов, и звонящий может почувствовать, что он к этому кругу не принадлежит.
Константно же то, что звучащая в повседневном пространстве классическая музыка несет в себе послание: внеличные структуры социума или цивилизации считают должным инициировать иллюзию своей благозвучной, то есть гармоничной, красивой и привлекательной сущности. Эта сущность, явленная в классической музыке, стремится, как правило, создавать варианты «позитивной» атмосферы, рождать у слышащих чувство комфорта, покоя, праздника и, кроме того, свидетельствовать о том, что они принадлежат к избранному обществу, имеют хорошее чувство вкуса и обладают уникальными возможностями. Подразумевается, что классическая музыка не может нести в себе какие-либо отрицательные эмоции, она заведомо прекрасна и совершенна, и должна автоматически наделять этими свойствами пространство и время своего звучания. Другое дело, что это не всегда получается, но наличие классической музыки — это знак, что надличные социальные структуры, некие сущности города, торгового центра, ресторана старались, прилагали усилия обслужить человека хорошо. И усилия социально-цивилизационных сущностей перманентны, существуют в динамике, должны ощущаться индивидом во временной протяженности, заполняя время его повседневной жизни.
3. Сопровождение работы и досуга
«Когда ветхозаветные пророки хотели особенно ярко изобразить гибель какого-нибудь города, они предрекали, что там замолкнет мельница и не слышно будет пения виноградаря» — с помощью этого довода К. Бюхер убедительно иллюстрирует, что сопровождавшая труд музыка с самых древних времен воспринималась людьми как признак мирной и благополучной совместной жизни[34]. Автор фундаментального труда о связи музыки и работы приводит множество профессий, которые сами порождали звук, а также требовали звучания музыки для координации рабочих действий. Мельник, кузнец, котельщик, столяр, кровельщик — всем им необходимо было совершать свою работу в определенном ритме, который задавался звуком рабочих инструментов.
Однако ритм важен и в той работе, где звук отсутствует, но есть необходимость слаженного коллективного действия. Поэтому музыка во всевозможных проявлениях была издревле призвана сопровождать труд человека, облегчать и ускорять его[35]. К. Бюхер также замечает, что помимо организующего начала музыка несла с собой и удовольствие, получаемое от восприятия самого звука. А порой трудовая песня становилась своего рода заклинанием, без которого не спорилось дело: «Орудия работы и рабочие животные представляются существами одушевленными, делящими и горе, и радость с человеком и внимающими его уговорам, они могут быть заколдованы злыми силами, а песнь может снять с них чары»[36].
Казалось бы, для множества современных людей, чья работа столь мало связана с физическими усилиями, необходимость музыкального сопровождения труда отпадает сама собой. Если выключить радиоприемник в офисе, то непосредственный рабочий процесс вряд ли остановится. Тем не менее практически из каждого офиса сегодня звучит музыка, и, присмотревшись к этому факту внимательнее, можно ощутить отличия фоновой музыки от музыки прикладной.
Любое движение (будь то физическая работа, светские танцы или ритуал) и прикладная музыка неразрывно связаны между собой, составляют нечто целое. В случае внезапного исчезновения музыки даже если само движение и не прервется, то оно все равно понесет значительный урон, так как в едином смысловом и формальном целом появится изъян. Но без музыки, звучащей во время работы за компьютером в офисе, за прилавком магазина, на ресепшене отеля, казалось бы, можно спокойно обойтись. Возможно, без нее даже проще и правильнее работать, поскольку она не отвлекает. (Конечно, сегодня уже нет речи о том, чтобы работник сам же был исполнителем своего «музыкального сопровождения». Это несочетаемо с процессом умственного труда, связанного с использованием вербального аппарата или других условных знаковых моделей, таких как цифровые сочетания.) Однако от фоновой музыки на рабочем месте сложно отказаться. Благодаря ее звучанию возникает образ мира, в котором жизнь бьет ключом. И эта жизнь уж точно не сводится к набору механических операций и рутинных дел, не рождающих у работника никакого вдохновения, никакой душевной удовлетворенности.
Но означает ли это, что фоновая музыка и труд современных служащих не объединяются в целостную содержательную ситуацию, не образуют наполненное смыслом действие и уж тем более действо? Пожалуй, все-таки образуют. Только его смысл сосредоточен не в рабочем процессе и результатах этого процесса, а в подсознательном стремлении работающих преодолеть его духовную и эстетическую неполноценность. С помощью фоновой музыки человек как бы осуществляет мирное сопротивление попыткам социума свести большие периоды его жизни к выполнению тех или иных узких функций.
Сочетание фоновой музыки с нетворческой работой современного типа очень часто выражает стремление человека размыть грань между трудом и развлечением, обрести их синтез, реализовывать упоминавшееся выше право получать наслаждение каждую секунду жизни. Однако социальная реальность далеко не всегда и не для всех способна реализовать мечты, которые внедряет в сознание людей массовая культура. Фоновая музыка на работе скрашивает бытие в том временном промежутке, который занят рутинными операциями.
Таким образом, трудовая песня дополняет содержание трудовых действий, которое активно переживает человек. А фоновая музыка это содержание готова полностью создавать тогда, когда оно отсутствует, поскольку человек работает автоматически и его душа не задействована в рабочем процессе, не получает от работы содержательной и эмоциональной подпитки. Фоновая музыка выполняет компенсаторную функцию. Она привносит в рабочую среду ощущение эмоциональности и содержательности текущего времени как времени жизни, которая принадлежит работнику, а не жертвуется им в интересах компании, вышестоящих лиц, неких внеличных деятельных процессов.
Классическая музыка, сопровождающая процесс работы, наделяется сразу несколькими функциями. Прежде всего, как ни парадоксально это звучит, она используется в качестве эффективного «звукоизоляционного материала». С ее помощью рабочее пространство ограждается от нежелательных посторонних шумов. Вместе с тем сама музыка не так легко затягивает работающего человека в свое собственное содержание, если он не имеет цели ее слушать. Так, мотив какой-нибудь популярной песни со словами сразу проникает в сознание и начинает «вертеться» в голове. Или он может «увести» человека в воспоминания о тех жизненных ситуациях, с которыми связана эта песня. И в том и в другом случае популярная песня становится своего рода «шумовым загрязнением», мешающим сосредоточиться на работе и отвлекающим от нее. В этом контексте классическая музыка выступает как бы в роли нейтрального, объективного звукового наполнения пространства, которое не «перетягивает» на себя внимание, а, наоборот, способствует концентрации на выполняемых действиях, помогает отстраниться от окружающей действительности и максимально погрузиться в процесс работы.
Немаловажную роль при этом играет и статус, закрепленный за классической музыкой. Она понимается, с одной стороны, как одно из высших проявлений творческого духа человека, недостижимое без вдохновения, без искренней эмоциональной самоотдачи композитора. И вместе с тем бесспорно то, что классическая музыка является плодом кропотливого труда, в ее основе лежат сложные композиционные законы, которые должен был усвоить и постигнуть ее автор. Таким образом, феномен классической музыки представляет собой уникальное сочетание скрупулезного труда и вдохновенного творчества. И когда она звучит фоном при выполнении каких-либо операций, то становится своего рода прообразом того результата, который ждут от работы, как бы его звуковым эталоном. Работающий под классическую музыку человек может не только «зарядиться» от нее творческой энергией, но и подсознательно стремиться к тому, чтобы итоги его труда несли на себе отпечаток совершенства музыки, сопровождавшей процесс работы.
Классическая музыка также востребована и в различных формах проведения досуга. С ее помощью в любом месте можно создать самодостаточный мир, который в то же время будет открыт для пришедших гостей. Классическая музыка, звучащая фоном перед началом какого-либо события, необходима прежде всего для ощущения, что человека ждут там, куда он приходит. Причем ждут его и люди или социальные структуры, инициировавшие звучание музыки, а также человека ждет и сама музыка, которая есть нечто вроде большого мира, объективной реальности, которая уже развернута к гостю. Даже если никаких других признаков радушия реальности нет, музыки оказывается вполне достаточно для создания и поддержания такого эффекта.
В то же время классическая музыка, как никакая другая, способна выразить гостеприимство хозяев, стать как бы их личным приветствием каждому, даже если они не смогут подойти ко всем своим гостям. Музыкальный фон в данном случае очень удобен, так как ему можно легко перепоручить функции приветствия, выражения радости и торжественности момента. Кроме того, классическая музыка автоматически повышает статус озвучиваемого ею события, говорит о его важности и уникальности.
В связи с этим не случайно классическая музыка очень часто звучит фоном в престижных ресторанах с изысканной кухней. Как известно, совмещение еды и музыки имеет очень древнюю традицию в истории культуры. Звучавшая во время совместной трапезы музыка была призвана усилить чувство единения людей, которые объединялись вместе не только через вкусовые, но и через слуховые ощущения. А сегодня сопровождающая обед классическая музыка превращает процесс принятия пищи в знаменательное событие, когда уже невозможно есть на ходу и воспринимать процесс еды исключительно как время «биологической подзарядки».
Звучащая за едой классическая музыка сразу же затмевает физиологические потребности человека, заглушает его «животные» инстинкты, заставляет с особой тщательностью соблюдать этикет. Своим присутствием она как бы оказывает сопротивление тотальной физиологичности наслаждений, проповедуемых массовой культурой. Классическая музыка настраивает на получение от обеда впечатлений не только физического, но и эстетического характера и тем самым доказывает, что возможно полноценное совмещение духовных и материальных удовольствий в одном процессе.
При этом находящиеся за одним столом люди не просто объединяются вместе, а становятся уже неким сообществом привилегированных субъектов, жизнь которых сопровождается уникальной музыкой. Классическая музыка позволяет участникам трапезы соотнести себя с людьми прошлых эпох, мысленно перенестись в то время, когда процесс принятия пищи имел строго прописанный регламент и являлся непременной частью светского церемониала.
В данном случае мы затрагиваем еще одну важную сферу фонового использования классической музыки — ее звучание во всевозможных церемониях.
Главная функция любой музыки в церемонии — это структурировать время, которое сложно отсчитывать объективно из-за статичности, свойственной церемониальному этикету. В ситуации церемонии без музыки пространственно-временная организация торжества начинает рушиться. Все собравшиеся сразу испытывают дискомфорт, потому как они не могут понять, в какой части церемониального сюжета они в данный момент находятся.
В церемониях также особо востребована вышеупомянутая функция музыки — заполнять собой пустоты ожидания. «Празднества всегда оставляют после себя какое-то чувство пустоты и скуки, — пишет в своих воспоминаниях князь Адам Чарторыжский, — в них есть нечто дутое, преувеличенное, и это утомляет и вызывает сознание тщетности мирских сует. Там не бывает естественного веселья, потому что веселиться приходится по приказу, по принуждению. Утомительные, долгие ожидания дают достаточно досуга для размышлений о ничтожестве всех этих удовольствий; безделье и праздность наполняют все время до пресыщения»[37]. Это высказывание высокопоставленного участника коронационных торжеств начала XIX в. ничуть не устарело до сих пор — в нем тонко подмечено привычное и для современного человека чувство одиночества в праздной толпе.
Удобство классической музыки, озвучивающей различные церемонии, как раз и заключается в том, что ее звучание не нуждается в дополнительных мотивациях и не требует сложных интерпретаций, поскольку необходимые ассоциации возникают автоматически. За классической музыкой закреплено абсолютное право звучать в любые торжественные моменты, так как она неизменно создает правильный и гармоничный эмоциональный фон.
Частота использования некоторых классических произведений в качестве музыкального сопровождения различных церемоний, по сути, превращает их в ритуальные клише. Самыми показательными примерами данного рода являются «Свадебный марш» Ф. Мендельсона, «Ария» из ре-мажорной оркестровой сюиты И. С. Баха или его же «Шутка» из другой, си-минорной, сюиты. Но когда классическое произведение начинает выступать в качестве такого универсального символа, оно тем самым лишается своей собственной, внутренней значимости, так как изначально большинство классических произведений отнюдь не ритуальны по своему содержанию. Парадокс заключается в том, что в ходе церемоний противоречивая динамика эмоциональной жизни человека, запечатленная в классической музыке, перекодируется в выражение совершенной гармонии, победоносных достижений и тотального счастья.
Наконец, любая церемония — это способ соотнести современность с обычаями ушедших эпох, в этом, собственно, и заключается притягательность всевозможных церемоний. Иначе говоря, людям нравится играть с прошлым. И музыка здесь нужна для того, чтобы максимально достоверно воссоздать возвышенную атмосферу, не являющуюся для большинства современных людей привычной, будничной.
Классическая же музыка многократно усиливает данный эффект, так как ее звукам посильно реконструировать прошлое в его аутентичном варианте. Классика априори содержит в себе образы и идеалы минувших столетий, и при этом она удивительно гибко может встраиваться в контекст современных церемоний, с легкостью обеспечивая необходимую связь времен. Классическая музыка подчеркивает респектабельность участников торжественного действа. Благодаря ей задается стилистика некоторой дистанцированности, эстетизма и официальности в общении людей, когда никакие открытые конфликты, ссоры, горячие выяснения отношений, сколько-нибудь небрежный тон или панибратство оказываются неуместными. Моделируется ситуация «спектакля», в котором участники мероприятия должны стремиться войти в образы, соотносимые с классическим музыкальным сопровождением. Особенно наглядно данный ритуал разворачивается в ситуации филармонического концерта, что будет подробно рассмотрено в четвертой главе.
4. Музыка и гаджеты
Как было сказано выше, одна из главных функций фоновой музыки в повседневной среде связана с «оживлением» и «одушевлением» разрастающегося пространства технологизированной цивилизации, в котором музыка призвана компенсировать дефицит «живого» человеческого общения. Однако различные технические устройства опосредуют взаимодействие человека не только с окружающей средой и обществом, но и активно функционируют в сфере приватного общения одного индивида с другим. При этом в данные коммуникационные процессы также часто привлекается музыкальное сопровождение, что и заставляет нас обратить на них особое внимание.
На нынешнем этапе технологии позволяют любому пользователю устанавливать свое взаимодействие с техникой сообразно собственным представлениям и нуждам. Так, практически у каждой компьютерной программы есть функция перенастройки интерфейса, позволяющая задать индивидуальные параметры как внешнего оформления, так и операционных алгоритмов. Более того, сегодня развитие всего Интернета основано на удовлетворении индивидуальных предпочтений и запросов любого пользователя, который с приходом технологий Web 2.0 получил возможность «собственноручно» формировать наполнение того или иного сетевого ресурса. В разрастающемся потоке блогов и социальных сетей вплоть до всемирной энциклопедии Википедии мы имеем наглядные примеры невероятного юзерского спроса на самостоятельное обустройство виртуального пространства.
Для нас в данном случае важно, что современные технологии наравне с коммуникацией посредством письменного текста предоставляют любому пользователю возможность втягивать в коммуникационный процесс художественно-выразительные средства любого вида искусства, причем для этого не нужно быть профессионалом в этом деле. Для того чтобы начать рисовать, сочинять музыку или делать свой фильм, не требуется знания даже азов композиции, нотной грамоты или монтажа — всеми необходимыми инструментами и инструкциями пользователя обеспечивает программа. Теперь любой индивид, вне зависимости от своей базовой профессии и специализации, может претендовать на создание собственного «шедевра». Однако вопрос о том, занимается ли он творчеством (в полном смысле этого слова), остается открытым.
Принцип создания художественного произведения с помощью компьютера основан на том, что человеку предлагается определенный набор шаблонов, то есть заранее заготовленных образцов, и инструменты по их компоновке. Например, программа предоставляет какое-то количество графических фигур, цветовую палитру заливок и ряд визуальных спецэффектов, с помощью которых человек начинает «творить» — рисовать, кликая мышью по виртуальному холсту. При всей широте выбора и привлекательности инструментария, оказывающегося в его руках, пользователь так или иначе ограничен тем спектром возможностей, которые были предусмотрены разработчиками программы. Конечно, любое творчество находится в прямой зависимости от канонов и выразительных средств, имеющихся в распоряжении того или иного вида искусства. Но в том и проявляется мастерство художника, что он стремится преодолеть сопротивление материала, с помощью своей фантазии и воли пытается его оживить, тем самым расширить выразительные возможности самого искусства. В случае же с компьютером творческий процесс разворачивается на территории машины, а не в голове человека и всецело подчиняется возможностям искусственного интеллекта. Пользователь может их настроить под себя, но не может их поменять или отменить. При всей невероятной широте технологий, он выбирает уже из имеющегося, не создает нечто новое, а оперирует с заданными параметрами.
Одним из популярных «творческих» увлечений подобного рода является создание и отправка виртуальных открыток. В Интернете можно без труда найти множество ресурсов, предлагающих пользователю создать свою собственную, уникальную открытку и отправить ее любому адресату, имеющему электронный почтовый ящик или аккаунт в какой-либо социальной сети. Причем современные технологии позволяют вместить в послание не только неограниченное количество текста, но и любые картинки (в том числе анимационные), а также музыку. В распоряжение пользователя предоставляются всевозможные изображения, уже классифицированные по определенным рубрикам и праздничным датам, доступны инструменты по рисованию собственной картинки или загрузке изображения с персонального компьютера. Этот же веер возможностей применим и в отношении музыки, которую можно выбрать из имеющихся треков, сочинить самому или загрузить из личной фонотеки.
Таким образом, пользователю предлагают невероятное количество ингредиентов, которые очень симпатичны, притягательны и уже готовы к употреблению. В данном случае человеку не надо ничего создавать с нуля, придумывать и изобретать что-то новое, его роль заключается в компилировании, в подгонке друг к другу наличествующих фрагментов дизайна и эстетической реальности. При этом важно, что среди этих фрагментов присутствуют также и произведения искусства, например репродукции картин или музыкальные композиции.
При всей безобидности подобного увлечения в данном контексте происходит смещение принципиальной границы. Когда среди заготовок-лекал для любительских открыток оказывается произведение искусства, то подразумевается, что оно как бы еще не завершено, не доделано до конца. Помещая его в то или иное смысловое поле, пользователь как бы доводит до совершенства оказавшийся в его распоряжении артефакт. Другими словами, рядовой индивид получает власть над художественным произведением (пусть и его копией), наделяется правом не только его созерцания, но и трансформирования, преобразования, изменения. Фактически, он оказывается равным автору самого произведения, становится соавтором мастера-профессионала. Конечно, эти действия происходят в форме игры, развлечения, забавы, но на подсознательном уровне у человека возникает совершенно иное отношение к данному произведению, так как на какой-то момент он переходит из позиции наблюдателя в позицию сотворца.
Музыкальное сопровождение открытки стало возможным относительно недавно. Традиционно основу поздравительного сообщения составляли изображение и текст (надпись), и лишь в 90-х гг. ХХ в. появились музыкальные открытки с мелодией, играющей при их открывании. Что же нового привнесла с собой музыка в устоявшуюся форму знака внимания?
Поначалу в музыкальные открытки помещались одноголосные мелодии, в пищащем исполнении электронных микрочипов. Причем рекорды по частоте использования принадлежали мелодиям из классики — бетховенской «К Элизе» и «Маленькой ночной серенаде» Моцарта. Однако их звучание нередко было ритмически и интонационно исковеркано, поэтому вряд ли здесь можно было вести речь о воздействии художественно-выразительных средств самой музыки. Но неоспоримым эффектом было то, что прежде статичная картинка становилась подвижной во времени. Пока звучала мелодия, открытка наполнялась неким движением, приобретала свойство временно́й событийности. Во-вторых, пусть и в далеко не совершенном выражении, но возникал синтез искусств, их единовременное соединение. При чтении и рассматривании музыкальной открытки поэзия, живопись и музыка как бы разворачивались одномоментно, перетекали и дополняли друг друга. Создавалась многоликая эстетическая реальность, к тому же всецело обращенная к получателю открытки. Наконец, играющая мелодия в каком-то смысле заменяла собой голос дарителя, становясь слуховым и, что немаловажно, омузыкаленным воплощением произносимой им речи.
В открытке каждый элемент послания не только играет роль эстетического компонента, но и несет определенную коммуникативную функцию. В данном случае за музыкальной темой закрепляется определенный смысл, должный отображать и, более того, дополнять, обогащать те смыслы, что передаются в изображении и тексте. И если стандартный набор мелодий в бумажных музыкальных открытках был и остается весьма небольшим, в связи с ограниченными возможностями звуковой платы, то выбор мелодии к виртуальной открытке оказывается всецело в руках самого пользователя.
Следовательно, сегодня каждый пользователь получает возможность самостоятельно закреплять за любым музыкальным произведением любое содержание, в зависимости от того, что он хочет выразить, донести до адресата с помощью посылаемой им виртуальной открытки. Таким образом, любое музыкальное произведение, в том числе и классическое, становится объектом манипуляций рядового пользователя, который оказывается вправе распоряжаться им по своему усмотрению. В музыку вкладываются те или иные смыслы, которые, с одной стороны, обязаны быть понятными, однозначно и легко считываемыми, а с другой — должны оставлять простор для фантазии получателя, досказывать то, что не сказано напрямую в изображении и тексте.
Такое смысловое стягивание музыки с изображением и словом отсылает нас к барочной теории аффектов, когда за каждой музыкальной фразой стоял риторический репрезентативный канон, вплетавший музыку в обширную систему символических соответствий. Именно тогда, в поисках максимального воздействия на слушателя, музыка приходит к идее выражения человеческих страстей, но через строго определенние фигуры, так как для того, чтобы страсти, выраженные в музыке, были понятны и произвели должное впечатление, их необходимо было унифицировать. Так же как сегодня классифицируются мелодии, находящиеся в фонотеках виртуальных открыток, барочная музыкальная теория каталогизировала аффективные средства воздействия на слушателя. Музыкальный смысл, находившийся в эпоху барокко в прямой зависимости от слова и изображения, в своей многозначности сближался с символом, но одновременно всячески подчеркивалась его способность передавать единичное, ограниченное значение[38]. Поэтому барочные композиторы стремились четко определить объект изображения и средства передачи аффекта, чтобы вызвать вполне регламентированную реакцию слушателя, которая и была главной целью их усилий[39].
Современным пользователем, создающим виртуальную открытку, движет ровно то же желание многозначного высказывания и одновременно предсказуемого воздействия на адресата. Как над барочным автором довлел канон того или иного аффекта, так и неограниченный доступ к хранилищам изображений и музыки приучает нынешнего пользователя не придумывать свои средства для выражения чувств, а вновь и вновь выбирать их из списка уже готовых образцов. Тем самым возникает ситуация, в которой человек пытается обозначить свою позицию по отношению к другому человеку с помощью языка, изобретенного не им. Пользователь как бы все время примеривает чужие маски, в попытке понять, кем он и его адресат могут быть, а кем нет. В данном контексте неизбежны своеобразные зазоры между тем, кем человек является и кем он хочет казаться; между тем, как он действительно воспринимает другого человека, и тем, какими свойствами он хочет его наделить. В акте создания открытки разворачивается непрерывный процесс идентификации, направленный как на самого дарящего человека, так и на того, кому предназначается послание.
В случае с классическими произведениями «чужеродность» музыки многократно усиливается ее принадлежностью эпохе, давно ушедшей в прошлое. Это открывает особенно широкие возможности свободной интерпретации зашифрованных в омузыкаленном послании смыслов, тем более что сама классическая музыка редко имеет однозначное словесное толкование. Классическое произведение выступает как один из компонентов персональной коммуникации от одного человека к другому, и поэтому его собственное содержание оказывается в прямой зависимости от контекста звучания и воспринимается через призму того впечатления, которое пытается произвести послание. При этом фигура композитора, запечатленная в индивидуальности музыкального языка, различными способами замалчивается и нивелируется, а его место занимает рядовой пользователь, который как бы «присваивает» себе авторство музыки, помещая ее в свое личное виртуальное послание.
Схожие процессы манипулирования музыкальным произведением разворачиваются при прослушивании классической музыки в портативном плеере, а также в ситуации использования классических мелодий в качестве рингтонов мобильных телефонов.
Наушники с двумя проводками, тянущимися к портативному плееру или сотовому телефону, стали одним из отличительных атрибутов современного человека. Их появление и массовое распространение не только ощутимо сказалось на особенностях слушания музыки и развитии всей музыкальной индустрии, но и прямо на наших глазах принципиально влияет на характер социальных отношений между людьми. Поэтому тема использования наушников и портативных звуковоспроизводящих устройств выходит далеко за пределы самой музыки, напрямую затрагивая проблемы современной цивилизационной среды и ее взаимодействия с человеком.
Нельзя не учитывать, что желание свободного перемещения в пространстве вместе с музыкой, воплощаемое посредством портативного плеера, на самом деле является продолжением и развитием потребности непрерывного музыкального сопровождения повседневности, сформированной у современных людей под влиянием фоновой музыки. Поэтому не случайно функции фоновой музыки и музыки, играющей в наушниках, оказываются во многом схожими.
Однако возможность самостоятельного выбора и управления звучащей музыкой, а также ее индивидуальное, единоличное прослушивание определяют принципиальные отличия музыки в наушниках от музыки фоновой.
Если фоновая музыка выступает посредником между внешним миром и человеком, создает у него ощущение диалога и взаимодействия с окружающей средой, то музыка в наушниках, наоборот, зачастую становится способом обособления индивида как от окружающего пространства, так и от людей, находящихся в нем. Эта особенность, в частности, определяет принципиальное отличие портативных плееров от популярных в свое время переносных приемников и магнитофонов, которые также позволяли «брать» музыку с собой. Но музыку, раздающуюся из магнитофона, слышали все люди, находящиеся в радиусе его звучания, и человек с магнитофоном на плече не столько отгораживался от окружающего пространства, сколько открыто декларировал в нем свои личные вкусы и стиль поведения. С помощью же портативного плеера человек, наоборот, пытается «выпасть» из окружающей действительности, начинает отчетливо контролировать степень своей погруженности и вовлеченности во внешний мир и старается очертить свое персональное звуковое поле путем создания собственного «слухового пузыря»[40].
Данная привилегия изменения изначальной звуковой среды, возможность выстроить аудиальную составляющую внешнего мира сообразно личным вкусам и настроению становится ступенью виртуальной трансформации реальности, которую теперь каждый обладатель наушников может свободно переделывать и «перекраивать» под себя. Виртуальна эта трансформация по той причине, что изначальный звуковой фон реальности фактически остается неизменным — например, никуда не исчезают шум от машин, голоса разговаривающих вокруг людей и прочие звуки города — реальность преобразуется исключительно в восприятии отдельно взятого человека. Музыка в плеере превращается в «звукоизоляционный материал», отделяющий человека от окружающей действительности, как бы отсекающий одно из измерений реальности. Но вместе с тем музыка обеспечивает альтернативное, параллельное звуковое наполнение проживаемого времени, во многом определяя целостное восприятие человеком окружающей действительности.
В своей работе, посвященной исследованию культуры мобильного слушания, М. Булл среди главных причин популярности портативных плееров неоднократно называет эффект эстетизации и театрализации окружающей действительности. Ссылаясь на многочисленных исследователей, он заключает, что для людей, передвигающихся с музыкой в наушниках, «у города появляется эстетическая сторона, <…> в их впечатлениях начинает проступать яркая театральность городского ландшафта»[41]. Самостоятельно выбирая сопровождающую его музыку, человек может воспринимать себя создателем сценария разворачивающегося аудиовизуального представления, наделяя окружающее пространство и происходящие в нем события своим собственным смыслом и значением[42].
Главное преимущество портативного плеера заключается в его компактности. Причем миниатюризация звуковоспроизводящих устройств происходит обратно пропорционально увеличению объемов их памяти. Мобильные хранилища музыки занимают все меньше места в пространстве, но их собственное пространство становится поистине безграничным — в коробочку размером со спичечный коробок вполне может уместиться целая музыкальная эпоха. Однако «спрессовывается» и «сжимается» не только музыка. Параллельно сужаются и уменьшаются как окружающий мир, так и личное пространство человека — более «компактным» вынужден быть сам человек.
Жителю современного города необходимо лавировать в плотном потоке людей, машин, зданий, дел и обязательств. Свобода и скорость его передвижения на самом деле оказываются весьма условными, так как человек должен соотносить свои действия с ритмом жизни, правилами и запретами многоуровневой городской инфраструктуры. Портативные плееры отнюдь не случайно особенно востребованы в общественном транспорте, где индивидуальное передвижение и личное пространство человека особенно ограничены. Исследование британских ученых показало, что, слушая приятную музыку в наушниках, человек беспрепятственно допускает в свое личное пространство чужих людей и значительно легче переносит дискомфорт от нахождения в многолюдном месте[43].
Таким образом, музыка в наушниках не только эстетизирует окружающую реальность, но и способствует преодолению ее враждебности. В данном случае музыка компенсирует нехватку физического пространства, человек достраивает необходимое ему пространство через слух и воображение. Играющая в наушниках музыка помогает эмоционально обустроить и психологически обезопасить внешний мир, сделать его максимально комфортным и приватным вне зависимости от количества людей, присутствующих в нем. Парадокс заключается в том, что звучащая в наушниках музыка иллюзорно расширяет персональное пространство человека и вместе с тем в действительности способствует сужению этого самого пространства, с помощью наушников человек одновременно и отгораживается от окружающей действительности, и наращивает свою личную зону в ней.
Мы уже замечали, что, заменяя изначальное звуковое оформление реальности другим, человек, слушающий музыку в плеере, индивидуализирует и персонифицирует то пространство, в котором он находится. И в данном аспекте функции музыки, играющей в наушниках, оказываются во многом схожими с функциями рингтонов мобильных телефонов.
Во-первых, заменяя обыкновенный звонок фрагментом музыкального произведения, человек, как и в случае с портативным плеером, стремится разнообразить и эстетизировать повседневность, наполнив ее яркими и притягательными символами. Ведь до определенного времени звуки, которые издавал телефонный аппарат, никто не думал называть музыкой. Это был всего лишь сигнал, сообщающий о том, что кто-то желает связаться с человеком. Но с середины 80-х гг. с каждым шагом усовершенствования телефонных устройств звуковой сигнал все больше претендовал быть музыкой. Показателями того, что на сегодняшний день этот статус завоеван, являются как бесчисленное множество сервисов по «омузыкаливанию» телефона, так и появившееся выражение — «телефон играет», то есть не просто звонит или вызывает, а при этом еще и исполняет музыкальное произведение. Причем процесс музыкализации телефонной связи приобретает тотальный характер, и музыкой заменяется уже не только сигнал входящего вызова, но и гудки при ожидании ответа.
Во-вторых, выбирая музыку для плеера или на сотовый телефон, человек руководствуется прежде всего своими личными вкусами и стремится самостоятельно управлять звуковым наполнением окружающего пространства. Но если музыка в наушниках предназначена преимущественно для индивидуального использования, то через музыку на телефоне человек неминуемо проявляет себя в публичном пространстве. Казалось бы, сотовая связь — это средство сугубо приватной коммуникации, направленной от индивида к индивиду. Но сегодня эта коммуникация неизбежно погружена в общий поток людей, событий, мест, внутри которого оказывается человек. И в данном случае провести четкую грань между приватной и публичной сферами жизни фактически невозможно. Через музыку на мобильном телефоне человек взаимодействует как с окружающими его людьми, так и с имперсональным пространством вокруг себя, обозначая свое присутствие в нем.
Положение музыки, исполняемой телефоном, в своей сути предельно амбивалентно. Она в один и тот же момент может быть и сигналом, мобилизующим человека к действию, и фоном, создающим эмоциональную атмосферу вокруг другого действия. Например, человек, увлеченный беседой, может не обратить на звонок телефона должного внимания, и тогда эта музыка будет восприниматься им исключительно как фон. В другом случае приятная, благозвучная мелодия, которую слышит человек перед тем, как снять трубку, заранее приводит его в доброе расположение духа, направляет предстоящий разговор в позитивное русло[44]. В таком сценарии телефонный звонок одновременно играет и роль сигнала, и задает эмоциональный фон для последующей коммуникации.
В то же время опции современного телефона позволяют закреплять индивидуальный рингтон за любым номером из списка контактов, благодаря чему человек получает возможность узнавать, кто ему звонит, даже не взглянув на дисплей аппарата. Анализ тех ассоциаций и мотивов, которые движут человеком при выборе мелодий для конкретных людей, — это тема отдельного исследования. Главное, что, устанавливая на какой-либо номер ту или иную мелодию, владелец телефона пытается озвучить (как минимум для себя) свое отношение к звонящему, и тем самым музыка начинает встраиваться в разветвленную сеть символов, связывающих одного индивида с другим. Таким образом, функции музыки, которую воспроизводит телефон, заключаются не только в эстетическом сопровождении процесса коммуникации, но и в обозначении позиций взаимодействующих субъектов.
Музыка на телефоне, так или иначе, становится одной из составляющих персонального имиджа человека и определенным образом характеризует его в восприятии других людей, даже если мелодия звонка выбирается им случайно или по формальным признакам (например, по громкости звучания). Эта «возможность выбора между различными звуками изменила функцию сигнала таким образом, что он может стать частью чьей-либо индивидуальной или коллективной идентичности»[45]. Задавая ту или иную мелодию на свой мобильный телефон, человек подсознательно учитывает и пытается предугадать реакцию тех, кто потенциально может ее услышать. Однако степень вовлеченности в данный процесс самоидентификации посредством звуковых сигналов на мобильном телефоне может сильно варьироваться.
Пользователь телефона при выборе сигнала может руководствоваться исключительно, как ему кажется, практическими соображениями. Допустим, ему необходима нейтральная музыка, которая была бы различима среди общего шума, но в то же время не была бы слишком назойливой и распространенной. На этом требования к звуковому сигналу могут заканчиваться, и человек не будет стремиться установить на телефон какую-либо особенную мелодию, вполне обходясь стандартными настройками телефонного аппарата. Однако возможен и другой сценарий, когда пользователь предпринимает специальные шаги: обращается к различным мобильным сервисам, «закачивает» музыку из Интернета и использует специальные программы для «нарезки» рингтонов — все это, чтобы создать своему телефону индивидуальное звуковое оформление, наполнить его своей собственной музыкой. Чем же обуславливается эта тяга или, наоборот, формальное безразличие к выбору музыки, звучащей на телефоне?
На наш взгляд, желание человека эстетизировать повседневное общение и идентифицировать себя с помощью звуковых сигналов сотового телефона становится своеобразной формой рефлексии человека о самом себе. Темп современной жизни оставляет человеку все меньше временных и ситуационных ресурсов для размышления о себе, для взаимодействия со своим внутренним миром и работы над ним. Более того, подразумевается, что необходимость духовного самосовершенствования становится как бы ненужной, лишней и отягощает жизнь, и без того полную насущных проблем и забот. Однако полностью забыть и «отключить» духовные потребности человек все-таки не может, и он начинает восполнять их, встраивая в окружающую действительность различные фрагменты безусловно духовного — фрагменты произведений искусства.
Такой способ взаимодействия с искусством удобен тем, что человек может пополнить запасы своей духовной энергии, не отрываясь от непосредственных дел. Более того, он может взаимодействовать с миром искусства без необходимости погружаться в него и разбираться в нем. При этом каждый вправе выбирать сам, какое количество притягательных элементов художественной реальности он хочет иметь в своем распоряжении. И если количество духовных впечатлений, получаемых человеком из традиционных форм взаимодействия с искусством, является для него достаточным, тогда он не будет так остро нуждаться в «разукрашивании» своей повседневной жизни фрагментами искусства, в частности, такому человеку будет фактически безразлично, какой мелодией звонит его телефон. И наоборот, когда человек не находит в своей жизни необходимого уровня духовной, эмоциональной составляющей, то он начинает отчасти компенсировать ее посредством эстетизации обыденной действительности, привлекая для этого в том числе и рингтоны, которые оказываются встроенными в разветвленную игру символов.
Вступая в эту игру, любой владелец сотового телефона получает возможность самостоятельного закрепления за музыкой любого содержания, в зависимости от того, что он хочет выразить с помощью устанавливаемой на телефонный звонок мелодии. В этом случае в музыку вкладываются вполне определенные смыслы, которые обязаны быть понятными, однозначно и легко считываемыми и вместе с тем должны оставлять некий простор для интерпретации. И такое смысловое стягивание музыки с определенным внемузыкальным значением вновь отсылает нас к барочной теории аффектов.
Современным пользователем, устанавливающим мелодию на свой мобильный телефон, движет желание многозначного высказывания и одновременно предсказуемого воздействия на тех, кто потенциально может услышать данный сигнал. Как барочный автор должен был следовать семантике того или иного аффекта, так и неограниченный доступ к хранилищам музыки приучает нынешнего пользователя бесконечно выбирать из списка уже готовых образцов-рингтонов все новые средства для выражения самого себя.
Между тем связи, прослеживаемые между барочной эпохой и современностью, не ограничиваются сферой музыкально-символических значений, а оказываются намного глубже и сильнее. И здесь мы снова должны обратиться к сфере самоощущений и самоопределения человека.
Известно, что в XVII в. происходит процесс отпадения человека от магической вселенной — в его восприятии Бог все больше удаляется на недосягаемую высоту, и человек постепенно познает бренность мира и, как следствие, ощущает свое неизбежное одиночество в нем. Он вдруг осознает себя на перепутье, обнаруживает себя в бездне между высоким и низким, земным и божественным, между мгновением и вечностью. И, пытаясь защититься от открывающегося ужаса, он начинает наворачивать пышные декоративные слои, пытается скрыться от действительности за устойчивыми и вместительными символами риторических фигур. Человек приучает себя к постоянному лицедейству, к примериванию различных ролей, с целью ответа на вопрос, кто он есть на самом деле. Эта принужденность человека быть все время другим становится главной проблемой эпохи и приобретает напряженно-экзистенциальный смысл, так как «призвание, предназначение человека теряется в навязываемых ему занятиях-масках»[46].
Современный индивид, прибегая к помощи бесчисленного количества ярких, притягательных и простых в использовании средств для проявления себя в окружающем пространстве, так же как и барочный человек, пытается защититься, скрыться, убежать, только уже не от бренности, а от пустоты своего бытия. В процессе фрагментации, пронизывающей сегодня все сферы деятельности, человек также ощущает свое отпадение от чего-то цельного, в данном случае от государства, идеологии, общества, и пытается в новых условиях наладить свои отношения как с окружающим пространством, так и с людьми вокруг. Чтобы легче преодолевать отчужденность и атомизированность современного общества, появляются портативные плееры, благодаря которым человек никогда и нигде не чувствует себя одиноким, так как его непрерывно сопровождает собственная, приятная ему музыка. А омузыкаленные звуковые сигналы, устанавливаемые и «вживляемые» во всевозможные устройства, через которые человек взаимодействует с миром, должны доходчиво и безапелляционно обозначать его присутствие в этом мире.
Принципиальной и отличительной характеристикой «музыки в кармане» является то, что человек имеет широкие возможности управления и манипуляции ею. Так, слушая музыку в плеере, можно по нескольку раз повторять один и тот же трек или слушать лишь определенный отрывок звучащего произведения, свободно регулировать громкость звучания и изменять соотношение высоких и низких частот. В конце концов, звучащую в наушниках музыку можно напевать и тем самым как бы принимать непосредственное участие в ее исполнении. Еще большие манипуляции можно проделывать с рингтонами на мобильных телефонах — например, музыку можно переинструментовывать, сокращать и совмещать различные ее фрагменты, записывать свои собственные звуковые сигналы. В данной ситуации музыка выступает как один из компонентов персональной коммуникации от одного человека к другому, и поэтому ее собственное содержание оказывается в прямой зависимости от контекста звучания и воспринимается через призму того впечатления, которое пытается произвести ее обладатель.
И в том и в другом случае человек получает определенную власть над художественным произведением, право не только его созерцания, но и трансформирования, преобразования. Он может помещать музыку в любой контекст и наделять ее какими угодно смыслами. Фактически, он оказывается равным автору самого произведения, становится соавтором искомого композитора. Еще раз подчеркнем, что эти действия происходят в форме игры, развлечения, забавы, но на подсознательном уровне у человека возникает совершенно иное отношение к данной музыке, так как на какой-то момент он из позиции слушателя переходит в позицию сотворца. Таким образом, можно наблюдать, как современность возвращает понятию «композитор» его первоначальное значение, ведь дословно латинское слово «compositor» означает составитель и происходит от глагола «compono» — складывать, собирать, соединять, приставлять. То есть фактически сегодня композитором становится любой, кто занимается подбиранием и сочетанием между собой различных звуков, кто стремится обустроить окружающее звуковое пространство сообразно своим представлениям.
Особенно наглядно данные закономерности проявляются тогда, когда в качестве «карманной» музыки начинают выступать классические произведения.
Звучащая в плеере классическая музыка мгновенно преображает то пространство, в котором находится слушающий ее человек. Она выделяет его самого и совершаемые им действия из контекста повседневности и обыденности, за счет того, что ее звуковой код заведомо не совпадает со звуковым наполнением окружающей среды. В восприятии человека происходит своеобразное расслоение, расщепление реальности — он как бы оказывается одновременно в двух временны́х измерениях. Его окружают современные люди, здания, предметы, в том числе автомобили, в то время как внутри себя он слышит «голос» далекой, давно ушедшей эпохи, которая иллюзорно восстает из небытия, а удаленные временные измерения как бы накладываются друг на друга. Окружающая реальность, таким образом, становится не вполне реальной, она как бы превращается в декорацию, и находящийся в ней человек начинает ощущать себя человеком другого времени, случайным образом «заброшенным» в начало XXI столетия.
Тем самым, человек, передвигающийся по городу с классической музыкой в плеере, опять же, начинает мысленно достраивать особый универсум поведения и пытаться найти в нем свою роль.
С помощью классической музыки, звучащей в плеере, намного проще абстрагироваться от окружающей реальности, на время «выпасть» из потока спешащих и озабоченных насущными проблемами людей. Более того, классическая музыка, благодаря своей дистанцированности от современности, особенно остро подчеркивает быстротечность и суетность повседневности.
Как и в случае с включением классических мелодий в виртуальные музыкальные открытки, фигура композитора различными способами нивелируется, а его место занимает рядовой пользователь телефона, который как бы «присваивает» себе авторство музыки, помещая ее в структуру своего собственного имиджа. Причем в данном случае права пользователя начинают распространяться и в отношении формообразующих признаков классической музыки. Во-первых, владелец телефона наделяется возможностью самостоятельно определять длину музыкального произведения, от которого зачастую остается мельчайший фрагмент. Во время звонка музыка может или прерываться на «полуслове», или, наоборот, одна и та же фраза может повторяться по нескольку раз, что полностью отменяет логику композиционного развития. Во-вторых, при всех невероятных возможностях современной телефонной «полифонии» качество воспроизведения музыки телефоном пока что не может соревноваться с ее оригинальным звучанием. Более того, в нуждах техники классическое произведение нередко «переинструментовывается» и исполняется тембрами электронных звуков, лишенных каких-либо обертонов. Таким образом, от изначального музыкального произведения остается некий интонационный остов, который, тем не менее, выполняет важные функции в процессе персональной коммуникации.
Когда в качестве звуковой «визитной карточки» предъявляется классическая мелодия, то она сигнализирует об «особенном» отношении человека к самому себе, о повышенном самоуважении и о самоощущении «гражданина истории». Такой человек отнюдь не всецело принадлежит современности с ее проблемами и конфликтами, так как он владеет (или пытается овладеть) языком культуры, не являющейся для большинства остальных людей повседневно употребимой, привычной и естественной.
При этом невозможность однозначной интерпретации классической музыки помогает играть смыслами, передаваемыми с ее помощью, а значит, и выбираемыми ролями поведения. Хотят ли за ней скрыть холодность отношений, предъявив взамен маску светской учтивости и любезности. Или, наоборот, она заключает в себе квинтэссенцию чистого, духовного начала. Или она должна свидетельствовать о неординарности человека, его эрудированности и особом воспитании.
Одну и ту же классическую мелодию (например, тему «Маленькой ночной серенады» Моцарта) можно поставить и на номер начальника — как символ официальных отношений, и на номер любимого человека — как символ возвышенных и гармоничных чувств. Однозначно же то, что за классикой заведомо признается некий высокий статус — ею невозможно испортить впечатление как от самого человека, так и от посылаемого им сообщения. Благодаря классической музыке рождается имидж человека, обладающего высоким культурным уровнем, а стало быть, хорошим образованием, высокими запросами, большими возможностями. Современный обладатель «карманных» классических мелодий в своем мобильном телефоне способен моделировать свой выигрышный социальный и культурный имидж, так как в отношении классики ценность как бы задана свыше и не обсуждается. Эта музыка не может не нравиться, в противном случае не понимающий ее человек вынужден искать некую брешь в своих собственных эстетических установках. Определение «классическая» становится своего рода брендом, гарантирующим человеку, что он имеет дело с чем-то заведомо великим, качественным и хорошим.
Вместе с тем существует тенденция диаметрально противоположного, эмоционально отстраненного, исполненного иронии обращения с классической музыкой, включения ее в процессы межличностных коммуникаций в качестве шутки, сюрприза, эпатажа. В данном случае классическая музыка намеренно помещается в контекст, который противоречит типичным ассоциациям, связанным с ней, ее освоение происходит с помощью ее отрицания или аннигиляции[47]. Например, на «фирменных» футболках металлистов характерным шрифтом с «кровавыми» подтеками пишутся фамилии знаменитых классических композиторов. Или же из телефона матерого байкера раздаются звуки моцартовской симфонии.
В подобных случаях классическая музыка используется для подчеркивания несовпадения индивидуального самопозиционирования человека и его личных вкусов с классической культурой, с традиционными этико-эстетическими ценностями. Классическая музыка становится предельно контрастным фоном, на котором инаковость индивида, его несоответствие общепринятым нормам проявляется намного отчетливее и ярче. Классика понимается как анахронизм, как заведомо другой, «чужеродный» символ. В данном случае для человека важно продемонстрировать свое право распоряжаться этим чужим символом и тем самым как бы расширить собственные полномочия за пределы своего привычного окружения и сообщества. В то же время ирония помогает преодолеть комплекс непонимания «высоких» смыслов, заложенных в классической музыке, так как уже не принципиально, разбирается человек в этой музыке или нет, главное — он может обращаться с ней исключительно по своему усмотрению.
Таким образом, классическая музыка подходит в качестве характеристики любой индивидуальности, если не в прямом, то по крайней мере в переносно-ироническом ключе. Она оказывается предельно универсальным символом, подходящим для всех и в то же время подчеркивающим уникальность каждого отдельного человека.
Специфическое удобство классической музыки заключается в том, что ее можно использовать в качестве надличного посредника между окружающей средой и индивидом. Когда в жизненной среде классика звучит от имени конкретного современного человека, то этот человек уже не находится один на один с современностью. Его обволакивают и защищают ритмы жизни прошлого, гармония ушедших эпох. Таким образом, классическая музыка нередко выступает в роли своего рода оберега, сглаживающего конфликты между современностью и историей, между разрастающимся пространством технологизированной цивилизации и самоощущением в ней отдельно взятого индивида.
Вместе с тем, поскольку носителями этого духовного багажа выступают современные технические устройства, возникает ситуация свершившегося символического присвоения сущности музыкальной классики современной цивилизацией. Классические мелодии оказываются языком повседневного общения, сообщая коммуникативным моделям дополнительную значимость, повышая не только статус субъектов коммуникации, но и статус средств связи тоже.
* * *
Сегодня человек воспринимает различные звуки, в том числе музыкальные, не только как конкретную информацию, поступающую к нему извне, но и как свидетельство функционирования среды обитания. Фоновая музыка может как «разукрашивать» развертывающуюся реальность, так и сама ее создавать — все зависит от индивида, который наделяет музыку теми или иными «полномочиями». Пожалуй, именно эта уже упоминавшаяся гуттаперчевость, удивительная приспособляемость музыки по отношению к окружающей действительности, к слушающему или не слушающему ее человеку, наряду с развитием и совершенствованием звуковоспроизводящей техники, обусловила столь невероятное ее распространение в наши дни.
Важно и то, что фоновая музыка потребовалась особенно остро, когда все живое и природное стало стремительно уходить из жизни человека, когда он все чаще стал оставаться наедине с «немыми» машинами, и тогда столь необходимый отклик на свои действия человек научился моделировать посредством фоновой музыки. Тем самым музыка стала цениться за то, что может непрерывно поддерживать ощущение диалога и взаимодействия с одушевленными и неодушевленными объектами, прямой полноценный контакт с которыми невозможен или нежелателен.
Специфическое удобство классической музыки заключается в том, что ее можно использовать в качестве надличного посредника между окружающей средой и индивидом. При этом характер ее звучания можно бесконечно трансформировать, легко изменяя принципы ее взаимодействия с общим ситуативным контекстом — классическая музыка позволяет подключаться к ней или отрешаться от нее тогда, когда это необходимо в процессе повседневного бытия. Классической же музыке, при всем росте ее востребованности, остается лишь надеяться, что человек все-таки не разучится слушать ее ради нее самой.
Глава 2 Использование классической музыки в коммерческой рекламе
Несмотря на всю полярность таких явлений, как классическая музыка и коммерческая реклама, в современном культурном процессе они оказываются сопряженными в одном дискурсе. Полифоничность и вариантность их взаимодействия предоставляет насыщенный материал для понимания роли классической музыки в пространстве массовой культуры. Через анализ рекламы, озвученной классической музыкой или отсылающей к ней, мы попытаемся понять, какие ассоциации вызывает эта музыка (или должна вызывать, по мнению создателей рекламы) у самой широкой публики. Для нас, прежде всего, важно, как музыка соотносится с транслируемыми рекламой образами, какое символическое значение вкладывается в ее звучание и что именно пытаются привнести с ее помощью в создаваемый имидж. Причем речь идет не об адекватности или уместности использования классической музыки, а о том, с чем явно или интуитивно она ассоциируется в современном обществе.
1. Эстетизация образов товаров
При всей на первый взгляд несовместимости классической музыки с ритмом жизни современного общества, более того, с его мироощущением и ценностями, произведения великих композиторов и они сами оказываются востребованными символами в имидже самых различных товаров и услуг. Так, П. В. Луцкер и И. П. Сусидко в своей книге о В. А. Моцарте перечисляют около 60 видов товаров, использующих в своем позиционировании имя австрийского гения. А среди всего прочего приводятся ползунки с надписью «A star was born» («Звезда родилась») и бюстгальтер, играющий при расстегивании «Маленькую ночную серенаду»[48].
Однако классическая музыка является далеко не простым материалом для создания имиджа того или иного товара. Главным «неудобством» зачастую выступает самодостаточность ее содержания. На это обращает внимание А. В. Крылова, говоря о том, что «слуховое сознание способно достроить целое, и не только с точки зрения оставшегося “за кадром” рекламы музыкального материала <…>, но и с точки зрения глубоких интонационных смыслов»[49]. Ведь у каждого музыкального произведения уже имеется свое содержание, которое невозможно игнорировать и которое будет заявлять о себе сквозь визуальный ряд. В то же время реклама и массовая культура в целом находят способы полного нивелирования и даже перекодирования изначального содержания используемых произведений.
Прежде всего, изменение значения происходит тогда, когда то или иное произведение или музыкальная фраза изымается из своего культурно-музыкального контекста и начинает существовать исключительно как знаменитая мелодия из классики[50]. Тем самым классическое произведение оказывается вплавленным в общий поток популярной музыки и должно функционировать соответствующим образом: прежде всего, вызывать удовольствие у слушающих, повышать им настроение, будучи носителем некоего «универсального» кода красоты и гармонии. Универсального — то есть всем понятного, всеми признаваемого, всегда действенного, легко ощущаемого без каких-либо усилий восприятия. Ведь в хронометраже рекламного ролика нет времени на то, чтобы погружаться и детально разбираться в смыслах и идеях, заложенных в музыке. Существует установка на первое впечатление, на «схватывание» общего настроения. Поощряется сугубо эмоциональное (психофизиологическое), а не интеллектуальное (аналитическое) вслушивание в музыку.
Так, сегодня существуют библиотеки медиамузыки — тематические коллекции произведений, написанных специально для телевизионных заставок и отбивок, а также для рекламных роликов[51]. Главными принципами этих библиотек являются, во-первых, ранжирование треков по темам, связанным не столько с содержанием музыки, сколько с возможным контекстом ее звучания. Во-вторых, для композиторов, сотрудничающих с подобными фонотеками, их авторство для публики остается анонимным, хотя они и получают роялти за использование своей музыки[52].
Законы этой системы распространяются и в отношении классической музыки, оказавшейся в пространстве рекламы. Например, создаются таблицы, ранжирующие классику по таким тегам, как «тревога и страх», «ожидание», «любовь», «торжества», «агрессия» и т. д.[53] Такая функциональная систематизация музыки отнюдь не нова и использовалась в раннем немом кинематографе, когда еще не был разработан язык более тонкого семантического взаимодействия звука и изображения. Тогда существовали аналогичные каталоги, сводившие выразительность разнообразных музыкально-исторических стилей к иллюстративным приемам, цель которых заключалась в обозначении эмоционального наполнения картины. Таким образом, коммерческая реклама на современном витке как бы воспроизводит ситуацию упрощенного аудиовизуального синтеза немого кино. Но вместе с тем сама идея классификации музыки по эмоциональной составляющей восходит еще к эпохе барокко, о чем мы уже говорили в связи с использованием музыкальных произведений в структуре персональных коммуникаций. Но в отношении рекламы здесь обнаруживаются существенные нюансы.
Функциональная (прикладная) музыка изначально пишется по заданным параметрам. Когда эти же параметры начинают применяться к классическому музыкальному произведению, оно утрачивает свою художественную целостность и автономность в нашей повседневности, переосмысливается как звуковой объект современной окружающей среды[54]. Фактически музыкальное произведение перестает принадлежать как самому себе, так и композитору, оно становится частью звукового ландшафта, в данном случае медийного. И тогда по отношению к нему приемлема любая обработка («нарезка», аранжировка, подтекстовка), главное — чтобы музыка максимально органично вписалась в контекст рекламного сообщения.
В качестве примера трансформации, происходящей с музыкальным произведением при его «вживлении» в имидж товара, можно привести рекламную кампанию шоколада Fruit & Nuts. В 1970-х гг. кампания Cadbury Schweppes выпустила ролик, где к знаменитой мелодии «Танца пастушков» из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» были приписаны слова. Пел их добродушный лесник-волшебник, а вокруг происходили приключения с чудаковатыми героями, пробующими шоколад. Тем самым создавался ассоциативный ряд сказочности, со свойственным ей антуражем и архетипами. И хотя от мира Чайковского это уходило уже достаточно далеко, сохранялся общий отсыл — не к композитору, не к его музыкальному произведению, но к тому жанру романтической сказки, который был взят Чайковским в качестве литературной основы для балета[55].
До российского зрителя песенка шоколадки дошла только в 1990-х гг. и уже совершенно в другом варианте, когда сама шоколадка превращалась в «поп-звезду» и устраивала захватывающее шоу для заскучавшего офисного работника. Шоколадка должна была получить статус одухотворенного творческого субъекта, способного развлекать, тонизировать. Причем, в отличие от первоначального сюжета, сверхвозможностями наделялся уже не потребитель волшебной сладости, а сам объект поедания. Опознать в лихой песенке искомую мелодию Чайковского непосвященному слушателю было невозможно, этого и не требовалось. Рекламе было необходимо, чтобы покупатель признал именно за шоколадкой — и исключительно за ней — способность одним своим появлением преображать до неузнаваемости ничем не примечательную действительность.
На этом примере очевидно то, как классическая мелодия всемирно известного автора может стать исходным «сырьем» для рекламного хита. На каком-то этапе музыка Чайковского окончательно отделилась от балета «Щелкунчик», освободилась от самых отдаленных ассоциаций с искусством прославленного русского композитора и продолжила самостоятельную жизнь в недрах рекламной индустрии. В данном случае видно, как всеми признаваемая авторская музыка втягивается в пространство музыки анонимной. С классического произведения разными способами «стирается» индивидуальный почерк мастера, и в руках безымянных аранжировщиков музыка, меняя как свою форму, так и содержание, становится звуковой «упаковкой» рекламируемого товара.
Ж. Бодрийяр в своем исследовании заметил, что «маленькие повседневные удовольствия принимают в рекламе размер глобального социального факта»[56] по отношению к их действительному значению в жизни людей. Тем самым он указал на принципиальный закон рекламного жанра — превращать в событие даже самый привычный и ничем не примечательный факт. Классическая музыка используется рекламой именно как один из способов возвышения над обыденностью. Ординарность продукта или свершаемого действия отнюдь не мешает воспевать его с помощью «большой» музыки. Сочинение слов к мелодиям великих композиторов становится вполне легитимным приемом «обработки» классического произведения, в рекламном поле утрачивающего статус самодостаточного художественного произведения. Этот прием популярен в рекламе продуктов быстрого приготовления, где герои, будь то люди или ожившие продукты, принимаются прославлять еду на знакомые всем мотивы из классики. Например, консервы «Ragu» — «Застольной песней» из оперы «Травиата» Верди, кукуруза «Бондюэль» — маршем из оперы «Вильгельм Телль» Россини, бульонные кубики — маршем из оперы «Кармен» Бизе, обеды моментального приготовления «Энциклопедия вкуса» — арией Папагено из «Волшебной флейты» Моцарта.
Конечно, движущий фактор подобной «интерпретации» музыкального произведения исключительно прагматичен, так как информация, которая напевается, запоминается намного лучше, нежели проговариваемая[57]. Но в данном случае экономические выгоды прямым образом влияют на эстетическую составляющую. Рекламные персонажи именно поют, исполняют музыку на инструментах, маршируют или танцуют на мотив классического произведения, то есть активно «работают» с музыкальной основой. Классика не просто инкрустируется в рекламный мир потребления. Герои этого мира присваивают себе частицу «великого наследия», а заодно и его славы. Они по-своему интерпретируют искомые шедевры, пытаются разговаривать на языке чуждого им искусства как на своем родном языке. Теперь они — как бы полноценные продолжатели «высоких» традиций, как бы законные носители классической гармонии. В итоге ежедневное кушанье из полуфабрикатов, по определению непривлекательное для гурманов, преподносится как нечто изысканное и неординарное.
В отношении зрителя возможны следующие варианты «прочтения» подобной рекламы. Если он способен идентифицировать хотя бы приблизительно происхождение звучащей мелодии, то для него имеет место ситуация игры, когда герои классической музыки замещаются героями рекламы, а музыку как бы заставляют звучать «про другое», «про других». Тем самым в восприятии эрудированного человека классическая музыка и ее интерпретация рекламой — это два разных явления. И чем более они не соответствуют друг другу, тем более реклама эпатирует, а значит, запоминается и вызывает ответную реакцию.
Если же слушатель-зритель не осознает, что звучащая мелодия родом из классики, то используемая музыка воспринимается как образ достоинств самого товара, органическая часть его имиджа. Тем самым происходит неосознаваемое автоматическое присвоение свойств и достоинств классики современному миру товаров и услуг, внутри которого и для промоушена которого эта музыка якобы изначально рождена и существует. То есть классическая музыка начинает выступать в роли транслятора того «богатого внутреннего наполнения», которое есть у рекламируемого товара.
Но как в первом, так и во втором случае в слушательском опыте «начинает доминировать новый рекламный смысл, рожденный постепенно устанавливающейся почти рефлекторной связью между объектом рекламы и сопутствующим ему аудиорядом»[58]. Поэтому, даже если впоследствии человек слышит знакомую по рекламе мелодию в структуре музыкального произведения, для него она все равно остается «мелодией из рекламы», которая так или иначе выпадает из музыкального целого и начинает расшифровываться как своеобразный «привет» из современности, неожиданным образом оказавшийся в музыке ушедших эпох.
Именно «временна́я принадлежность» классической музыки обуславливает ее востребованность в рекламе «товаров с историей», в имидже которых требуется воссоздать ауру далекой эпохи. А предмет, убедительно вписанный в быт прошлого, сразу же становится незаурядным в быте сегодняшнем. Этот феномен преклонения перед старинной вещью подробно анализировал Ж. Бодрийяр, выделяя в нем два важных аспекта — ностальгическое влечение к первоначалу и обсессию подлинности[59]. Вместе с легендой о прошлом вещь получает статус некой завершенности, самодостаточности, и она же обладает магической властью над временем. Зачастую реклама, отсылающая к истории, старается достоверно прорисовать визуальный ряд через интерьеры, костюмы, предметы. На музыке же лежит важнейшая задача — ввести особый хронотоп, огородить размеренность и неспешность реконструируемой эпохи от быстротечного потока, в котором находятся как современный человек, так и само рекламное сообщение. Музыка как бы приходит вместе с рекламируемым предметом из прошлого, свидетельствуя об его подлинности, она как бы звучала еще при появлении предмета и продолжает сопровождать его в сегодняшнем дне.
Другой способ эстетизации обыденного через классическую музыку идет дальше и помещает рекламируемый предмет в один ряд с произведением «высокого» искусства. Главная идея такого подхода подразумевается в том, что сила и качество удовольствия от потребления товара равнозначны удовольствию от произведения искусства. Рекламируемый товар располагается в окружении, в котором воспринимается уже не как материальная, строго функциональная вещь, но приобретает свойства культурного блага, способного удовлетворить не только физиологические, но и духовные потребности. Так, в рекламном ролике виски Ballantine’s молодой человек сдувает пыль с пластинки, ставит ее в проигрыватель, наливает в бокал виски и садится в большое кожаное кресло. Начинает звучать кантиленная ария[60], и герой погружается в мечтательное созерцание. Мелодия арии чудесным образом проникает сквозь потолок и стены, канализационные люки и трубы, и вот божественная музыка звучит уже над всем городом, а люди, услышав ее, приостанавливают свои дела и замирают в наслаждении. В данном примере отчетливо считывается, что бокал виски и классическая ария равноценны друг другу, ведь они оказываются одинаково необходимыми человеку для вдохновенного отрешения от суеты.
Похожий мотив возникает и в рекламе автомобиля Mercedes SL, где поездка в машине приравнивается к посещению оперного спектакля. Воссоздается интерьер театра, на героях вечерние туалеты, вот молодая дама расчувствовалась от проникновенной музыки[61]. Но все оказывается не более чем иллюзией, порожденной акустической системой и диском классической музыки, который герои слушают по дороге домой. Подразумевается, что люди, выбирающие данный автомобиль, перемещаются не только в физическом пространстве, но и в пространстве впечатлений, и машина готова предоставить своим владельцам полный набор самых возвышенных душевных переживаний. И если раньше для того, чтобы пережить катарсис от художественного произведения, необходимо было «работать» над собой, учиться особым образом настраивать и подготавливать себя к общению с искусством, то теперь перенесение и погружение в идеальный мир высокой культуры инспирирует и обеспечивает автомобиль. Причем такой автомобиль обладает поистине магическими свойствами, так как ему подвластно преображать звуковой образ (музыку с компакт-диска) в тактильно-пространственные и визуально-зрелищные ощущения.
Линия эстетизации какого-либо предмета с помощью классической музыки так или иначе приводит нас к понятию роскоши, а именно к тандему люксовых брендов и классической музыки, который с регулярной периодичностью возникает в рекламе. Феномен данного сочетания объясняется сразу несколькими причинами. В его основе лежит необходимость поместить предмет в определенное окружение, создать многогранную и правдоподобную среду, в которой он будет востребован и актуален. Поэтому последовательность и образов, и звучащей музыки в рекламе является не чем иным, как «сцеплением значащих предметов в той мере, в какой они обозначают один другого в качестве суперпредмета, комплексного и вовлекающего потребителя в серию усложненных мотиваций»[62]. Именно в этой логике человек, который ездит на автомобиле определенной марки, пьет дорогой алкоголь и носит ювелирные украшения, должен непременно посещать оперу и филармонические концерты.
Главное качество, которое постулируется в данном случае за классической музыкой, — это элитарность. Во-первых, язык этой музыки понимается как достаточно сложный и недоступный для непосвященного слушателя. Во-вторых, подразумевается, что все великие произведения рождались по заказу обеспеченной аристократии, то есть изначально были написаны для досуга праздного класса. Поэтому реклама охотно использует классическую музыку для обозначения стиля, ведь сегодня необходимо быть стильным для того, чтобы «было удобнее создавать о себе иллюзии вне зависимости от реального положения своих дел и своей внутренней сущности», — замечает Е. В. Сальникова[63]. Продолжая свои наблюдения, автор говорит о том, что классика приносит в рекламный образ гарантию качества и респектабельности, сдержанный духовный эротизм при «одетости», относительную независимость от быстротекущего времени с изменчивыми вкусами, относительный аскетизм в погоне за острыми ощущениями, изрядную долю консерватизма, то есть уважения к эстетическим, социальным и даже государственным традициям. Классическое прошлое — это вечность[64].
Другой вопрос, как сама классическая музыка воспринимается и интерпретируется в рекламных образах люксовых брендов. Если в вышеописанных рекламных роликах Ballantine’s и Mercedes SL музыка понимается как нечто приносящее умиротворение и отрывающее человека от повседневных забот, как способ пережить самому или хотя бы соприкоснуться с благородными и «настоящими» чувствами, то во всех остальных случаях характер музыки зачастую остается неким фоновым сопровождением, «звуковой» декорацией сюжета. Конечно, музыка привносит требуемое ощущение избранности, но никоим образом не затрагивает сам предмет и соотносится с ним весьма опосредованно.
Возможно, это объяснимо тем, что аксиома роскоши заключается в обыкновенности необыкновенного. Поэтому классическая музыка, которую не так просто услышать в повседневном музыкальном круговороте, в противоположность этому оказывается как бы само собой разумеющимся фоном изысканной жизни, и в мире роскоши ее звучание не является событием. Так, в рекламе ювелирной кампании Piaget влюбленные даже свершают побег с оперного спектакля, и для них провести вместе минуты уединения намного дороже, чем послушать великую музыку. А в одном из роликов автомобиля Hyundai Sonata изобилие окружающего мира доведено до некоего абсурда — яхта, встроенная в архитектуру дома, икра, в качестве начинки для бутерброда полицейского, вазы с крабами в местной забегаловке, многоярусные люстры, подвешенные прямо на уличных столбах, баскетбольный мяч, обтянутый фирменной тканью от Луи Витона (Louis Vuitton), красная ковровая дорожка вместо пешеходного перехода… И все это сопровождается звучанием а-ля моцартовского концерта для клавесина с оркестром[65]. Главная идея же заключается в том, что тот, кто наблюдает за этими излишествами, делает это из окна своего автомобиля, со стороны, не прикасаясь ни к чему и даже не желая к чему-либо прикоснуться, потому как обладает более весомым достоянием — автомобилем Hyunda. Однако по объективным рыночным показателям автомобили данной марки никак не соответствуют тому «люксовому» статусу, который приписывает им реклама. И в данном случае происходит откровенная эксплуатация ассоциаций и понятий, связанных с классической музыкой для того, чтобы симулировать элитарность и качественность товара.
Но даже тогда, когда объективные характеристики товара соответствуют заявляемому в рекламе качеству, сопоставление предметов роскоши и классической музыки все равно не перестает иметь в своей основе виртуозную подмену ценностных ориентиров. Как известно, товары класса люкс сами по себе не являются острой жизненной необходимостью, без дорогих машин и ювелирных украшений вполне можно обойтись. В свою очередь, классическая музыка — это бесспорное достижение человеческого духа, без этой музыки мир, безусловно, беднее. Человек же без классической музыки менее умен и духовен, менее образован и утончен, ему недоступно понимание неких глубинных смыслов. Тем самым, классическая музыка если и является роскошью, то роскошью необходимой, обязательной, так как она помогает раскрыть духовный потенциал человека, делает его полноценным культурным существом. А когда товар помещается в один ряд с произведением искусства, более того, образует с ним неразрывные семантические связи, то продаваемый объект сразу же приобретает статус жизненной необходимости, пусть и стоящей очень дорого. В этот момент происходит едва уловимое, но принципиальное переключение из парадигмы купли-продажи и материальной культуры повседневности в парадигму ценностей духовной культуры. Или, обращаясь к концепции Э. Фромма, пространство обладания начинает преподноситься как пространство бытия[66]. И данный переворот ценностных категорий, по сути, является сверхцелью любой рекламы предметов роскоши, сопровождаемой классической музыкой.
2. Виртуозная техника
Среди множества товаров, в рекламе которых звучит классическая музыка, негласное первенство принадлежит автомобилестроению. Данный факт, так или иначе, заставляет искать причины столь странного, а с другой стороны, устоявшегося сочетания. В чем же заключается это общее, объединяющее классическую музыку и современное средство передвижения, подталкивающее рекламу сопоставлять их в одном ассоциативном ряду?
Ответ, лежащий на поверхности, отсылает к определенному статусу, задаваемому через обладание автомобилем и пристрастием к классической музыке. Так в свое время (в середине 70-х гг. ХХ в.) Ж. Бодрийяр назвал водительские права «дворянской грамотой новейшей моторизованной знати»[67]. Конечно, постепенно автомобиль, встраиваясь в жизнь большинства людей, перестал быть индикатором особой успешности или избранности, но при этом он не потерял своих специфических свойств. Одно из них Ж. Бодрийяр обозначает словосочетанием «динамическая эйфория». Эта эйфория от скорости передвижения и вообще перемещения в пространстве как бы противостоит статичным удовольствиям семьи и недвижимости, помогает владельцу машины абстрагироваться от социальной действительности[68]. При всей неотрывности автомобиля от повседневных, ничем не примечательных действий и событий, именно благодаря ему человеку предоставляется шанс хотя бы на какое-то время забыть о быте, получить удовольствие от скорости перемещения, почувствовать свою власть над временем и пространством, тем самым подняться и над своими изначальными физическими возможностями, и над окружающим миром. Именно в этом обнаруживается нечто общее между автомобилем и классической музыкой — и то и другое помогает отрешиться от обыденного, переносит мысли в область трансцендентного, демонстрирует невероятный потенциал человеческих способностей. Более того, и в том и в другом случае человек обретает возможность прикоснуться к вечности — к музыке, звучащей сквозь века, и к скорости, дарующей ощущение возвышенно-неподвижной созерцательности[69].
Именно поэтому реклама постоянно обращается к сценарию, в котором по бесконечному, уводящему в бескрайнюю даль серпантину бесшумно скользит автомобиль, а в это время звучит классическая музыка, представляющаяся в данном контексте как «божественная», снисходящая откуда-то свыше. Зачастую зрителю не говорится о цели, к которой двигается машина, — мы не знаем стимула, побуждающего к движению, в данном случае ценно движение само по себе, рождается некое эстетическое удовольствие от перемещения. И здесь музыка становится необходима для полного отрешения, для осознания полноты своих возможностей, так как человек может устроить себе удовольствие в любое время и в любом месте, например ехать по пустыне и слушать любую оперную арию в первоклассном исполнении (ролики автомобилей Alfa Romeo, Lexus, Lincoln).
Другим общим полем, связывающим восприятие академической музыки и автомобиля, является технология их создания. Здесь необходимо расширить понятие автомобиля до любого технического устройства, до всякого высокотехнологичного предмета. Общность же заключается в сложности организации как музыки, так и технического устройства.
Как правило, непосвященному человеку весьма трудно до конца понять и уяснить все многочисленные законы, которые лежат в основе, например, симфонического произведения или сотовой телефонии. Причем параллели можно провести не только с «устройством» классической музыки как таковой, но и с музыкальными инструментами. Тот же рояль имеет много общего с автомобилем — от педалей и клавиатуры, как «пульта управления» с множеством клавиш, до высокотехнологичных «внутренностей» (демпфера, струны, молоточки и колки), спрятанных под крышкой рояля, а у автомобиля под капотом[70]. На вопрос, как это работает, очень непросто получить исчерпывающий и не перегруженный терминами ответ. Поэтому человеку не остается ничего другого, как принять устройство и музыки, и техники как данность, самообусловленную и непостижимую, а значит, в чемто магическую.
Реклама, в свою очередь, умело пользуется этим сходством и в отношении техники любит играть на магических, загадочных и как бы потусторонних образах. В замкнутом помещении из монолитного камня, современном, но вместе с тем напоминающим пещеру, обнаженный мужчина, не производя каких-либо действий, окутывается в бесшовный комбинезон. С особым любованием камера скользит по мускулистому телу, на которое как бы из ниоткуда струится ткань, становящаяся второй кожей, а герой прямо на наших глазах, но совершенно необъяснимым образом приобретает статус сверхчеловека. Через мгновение он разлетается на осколки, а когда эти осколки собираются вновь, то оказываются уже корпусом мобильного телефона LG. За 20 секунд зритель видит сразу два акта перерождения — сначала из обыкновенного человека в супергероя, а затем из супергероя в высокотехнологичное устройство. Все эти превращения сопровождаются мотивом из белькантовой арии[71], исполняемой женским голосом. Причем музыка нисходит как бы из потустороннего мира, находящегося за пределами огороженного и достаточно сумрачного пространства, прекрасный голос воспринимается звучащим не здесь, а где-то над. Все эти свершающиеся метаморфозы призваны создать параллель между магически преображающимся телом человека и совершенной формой телефона, необъяснимой и даже не желаемой быть объясненной, так как это заведомо есть тайна, неподвластная логике. А музыка, в свою очередь, привносит в образ необходимую ирреальность, говорит о неком мистическом совершенстве техники.
Подобный же мотив возникает в рекламе сотового оператора О2 с Анной Нетребко. Через капли воды, парящие вне силы притяжения, передается остановившееся в вечности мгновение, оперная сцена во мраке и отсутствие зрителей в громадном зале вновь отсылают к образу подземелья или пещеры. Певица настраивается на выступление, нечленораздельно мыча что-то, подобно шаману, призывающему потусторонние силы. Со звонком мобильного телефона этот сигнал свыше как бы приходит, и сразу раздаются вокальные фиоритуры, хотя сама Дива даже не раскрывает рта — музыка, опять же, звучит как бы сама собой, непонятно как и откуда.
Создатели рекламы прекрасно знают, что эмоциональная составляющая рекламного сообщения вдвое важнее, нежели рациональные аргументы[72]. Поэтому отнюдь не случайно процесс производства техники или само пользование этой техникой начинает всецело отождествляться с человеческими чувствами. Реклама старается оправдать всё новые технические изобретения через их «одушевление» и «очеловечивание». Конечная цель любой техники видится в том, чтобы помочь человеку получить новое впечатление. А что, если не музыка, умеет искуснее всего работать с эмоциональными переживаниями людей? На этом основании новая модель автомобиля может оказаться в одном ряду с шедеврами великих композиторов — с сонатами Моцарта и Шуберта, может быть равной в совершенстве формы и содержания Патетической сонате Бетховена и прелюдии Рахманинова (Hyundai Sonata).
В одном из роликов автомобиля Audi перед зрителем возникает «ожившая» схема какого-то механизма — множество линий, цифры, радиусы, различные шестеренки и гайки, которые слаженно движутся в строгом расчете и взаимосвязи под лирическую мелодию неспешного вальса. Как выясняется, эта схема раскрывает нам процесс появления слезы в человеческом глазе, а весь сложнейший механизм, который мы привыкли ассоциировать сугубо с техникой, является рождением сокровенной человеческой эмоции, показанной как бы под микроскопом и в замедленном темпе. Тем самым подразумевается, что и музыка, и машина действуют на одной территории — они призваны будоражить чувства людей. Об этом же говорит ролик автомобиля Alfa Romeo, в котором от музыки Моцарта[73] и скорости движения у человека встают дыбом волосы на руках, бегают мурашки по коже и расширяются зрачки.
Последние примеры иллюстрируют еще одну особенность рекламы по отношению к классической музыке. Как известно, рекламе очень важно не просто пообещать те или иные ощущения от потребления товара, а наглядно и убедительно их продемонстрировать. Но правдиво показать эффект преображения человека от звучащей музыки очень сложно, потому как это духовный, а значит, внутренний и невидимый процесс — для его изображения требуется незаурядное сценарное и актерское мастерство. Поэтому реклама находит свои способы «материализации» музыкального воздействия, переводя все в категории физического и физиологического. Волосы дыбом, мурашки по коже, расширенные зрачки и слезы, а также бьющиеся от силы голоса певицы предметы из стекла и волшебные преображения окружающего мира — все это выдвигается в качестве доказательств наглядно-ощутимого воздействия музыки[74]. По законам рекламного жанра духовная жизнь должна иметь физическое воплощение хотя бы потому, что ей необходима визуализация. Попадая в пространство массовой визуальной культуры, классическая музыка обязана производить наглядные эффекты, иначе ее сила не будет иметь общепонятных доказательств.
Еще одно качество, закрепленное за классической музыкой и дающее пищу для множества рекламных идей, — виртуозность. Под виртуозностью, прежде всего, подразумевается легкость и совершенство выполнения сложнейших действий, виртуозность появляется ровно тогда, когда труднейшие задачи совершаются как бы шутя и играючи. Со стороны никому и в голову не должно приходить, что прилагаются существенные усилия, что работа идет на пределе возможного, наоборот, все должны восхищаться лишь умением и ловкостью. Причем во всем, что связано с виртуозностью, опять же присутствует некая тайна, можно сказать «чертовщинка», потому как у обычного человека в обычных обстоятельствах это действие вряд ли получится, оно невыполнимо без помощи неких «третьих» сил.
К виртуозности неравнодушны как сами музыканты (обилие коллективов и событий, включающих это слово в свое название), так и реклама, с удовольствием играющая на этой семантике. Например, виртуозность уже слышится, когда что-либо начинает делаться «как по нотам». Например, как по нотам может быть арбитражный процесс, менеджмент, свадьба, сама реклама и даже грудное кормление[75]. Суть подразумевается в том, что есть некий заведомо правильный сценарий, по которому будут развиваться события, достаточно его выбрать, а там все пойдет как надо само собой, без прикладывания усилий. Ноты как бы хранят в себе «сакральное» знание, они материальное выражение и подтверждение существования этого знания. А знание в данном случае действительно воспринимается «сакральным», доступным только для посвященных, так как далеко не все понимают, что обозначают нотные знаки, ведь не каждый может прочитать музыку, зашифрованную в них[76].
Возвращаясь собственно к виртуозности, необходимо обозначить важнейшую ее характеристику — скорость. В музыке под виртуозностью произведения понимаются технические сложности вкупе с быстрым, стремительным темпом, так как без скорости невозможно «захватить дух», без нее нет ощущения запредельности возможностей исполнителя. И здесь мы снова находим точку пересечения классической музыки с техникой, ведь главное свойство последней — это ускорять свершение действия, сокращать время, затрачиваемое на выполнение чего-либо. Как музыкант поражает слушателей феерической скоростью пассажей, так и технический прогресс ускоряет темп жизни людей.
Реклама так или иначе чувствует эту общность и пытается передать скорость технического устройства, в том числе через быстрый темп и виртуозные пассажи звучащей музыки. (Так, для телефонов AT&T от Samsung выбирается финал Патетической сонаты Бетховена, для операционной системы Microsoft — стилизация под каденцию фортепианного концерта, для автомобиля Nissan — ария Виолетты из оперы «Травиата» Верди, для автомобиля Renault — «Балет снежных хлопьев» из оперы Оффенбаха «Путешествие на луну».)
В этом отношении очень показателен один из роликов Audi, использующий музыку так называемого Турецкого рондо Моцарта. По пустынной городской улице едет автомобиль. Сбивая поставленные в определенном порядке бутылочки с водой, он ни много ни мало исполняет бессмертную моцартовскую мелодию. Причем с каждой фразой скорость движения машины и, соответственно, темп музыки становятся все быстрее, и к коде «исполнитель» разгоняется до феерического темпа. По сюжету филигранное мастерство автомобиля призваны оттенить велосипедист, тоже пробующий поиграть на выставленных бутылочках, и скрипач, пилящий заунывную мелодию на углу перекрестка. В итоге оба они оказываются несопоставимы с «музыкальной одаренностью» автомобиля, в их исполнении не получается расслышать даже отголоски искомой музыки.
Во всех вышеприведенных примерах реклама, обращаясь к классической музыке, использует ее в качестве бесспорного авторитета и эталона, которому пытаются соответствовать демонстрируемые товары. Но существует целый пласт рекламных сюжетов, идущих от обратного и основанных на пересмотре и отрицании непререкаемых ценностей классической культуры и классической музыки в частности.
3. Развенчание идолов и ритуалов
Используя язык постмодерна, реклама с неподдельным удовольствием утрирует всевозможные штампы оперного жанра. В ее представлении оперные певцы — это весьма посредственные актеры, с наигранными жестами и позами, непременно внушительных габаритов и с обильным слоем грима. Кроме того, рулады оперных певиц имеют свойство бить вдребезги окружающие предметы из стекла — от бокала и очков до бижутерии дам и огромной люстры в зале (Heineken, Bud Light).
Типичный вариант ролика «в оперном театре» примерно таков. Разгар мелодраматической сцены, оркестранты вместе с дирижером усердно аккомпанируют певцу или певице, упивающимся силой своего голоса. Все идет по предсказуемому и заставляющему всех скучать сценарию, пока не появляется нечто, переворачивающее весь ритуал с ног на голову. Это может быть маленький мальчик, выносящий главному герою бутылку кока-колы, зрители, начинающие хрустеть чипсами (Doritos), шоколадка, оказавшаяся в партитуре дирижера (Picnic, Starburst), бутылка водки, мелькнувшая в чьей-то ложе (Smirnoff), или молодой человек, забредший на спектакль с жевательной резинкой и в одних трусах (Trident Splash). Дальнейшее развитие событий варьируется — или оперный актер принимает своего нового зрителя, и ария продолжает звучать (например, под слаженный хруст чипсов), или, что происходит чаще, действие модулирует в веселую фантасмагорию.
«Виновниками» переполоха в театре становятся жевательные резинки, шоколадки, чипсы, конфеты, баночки пива или газировки, то есть продукты питания, которыми всего лишь перекусывают. Но, одним своим появлением кардинально изменяя ситуацию восприятия классики, эти предметы как бы возвеличиваются. Реклама демонстрирует их удивительную способность — разрушать веками складывавшиеся традиции социальной репрезентации большого искусства.
При таком подходе классической музыке отводится роль старомодной музейной условности, которую современная массовая культура снисходительно оживляет, приобщает снова к жизни, «реанимирует» своими средствами — то есть продуктами общедоступного фастфуда, например. Ритуал поведения аудитории и исполнителей классики тоже подлежит разрушению как нечто заведомо ложное, искусственное, то есть не похожее на современную жизнь, законодателем стиля которой и выступает реклама. Классика — мнимая жизнь, мнимое развлечение. Чипсы и поведение, присущее их потребителям, — настоящая жизнь, настоящее развлечение. Получается, что миру нужны определенные товары, стиль жизни и потребления, но не искусство как таковое. Его ценность и само право на автономность отрицаются.
Сам факт того, что люди, столь страстно жующие жвачку и хрустящие чипсами, приходят в оперу, уже абсурден. И возможен он в рекламе именно потому, что ситуация восприятия классической музыки идеальна для размежевания на своих и чужих, для объединения аудитории потребителей чипсов против, допустим, меломанов, поклонников оперного жанра. Реклама помещает массовые вкусы на самый верх социокультурной иерархии, придавая им высочайшую оценку. Зрителю предлагается быть среди тех, кто выше оперы, выше классики, которая, тем не менее, продолжает вне рекламного поля считаться высокой. Собственно, общеизвестность высочайшей оценки классики и использует реклама, чтобы сразу опереться на сей престижный пьедестал, а вскоре поднять рекламируемые товары и их потребителей еще выше.
Наряду с ритуалом оперного спектакля популярным объектом рекламного заимствования из сферы классической музыки становится оркестр. И если условность оперного искусства и правила поведения на концерте воспринимаются исключительно с внешней стороны, играют роль лишь опознавательных атрибутов, то на оркестр реклама очень часто пытается посмотреть изнутри, понять специфику его организации, более того, внести от своего имени некоторые изменения.
В оркестре рекламу привлекает невероятная слаженность работы большого количества людей, когда звучание произведения рождается благодаря совместным и детально просчитанным усилиям нескольких десятков музыкантов. В какой-то степени здесь ломается стереотип о самой музыке как искусстве личностного самовыражения творца, потому что показывается в чем-то будничный процесс, когда произведение необходимо не только создать (написать), но и исполнить, а перед этим разучить и отрепетировать. И в этом отношении труд музыканта становится близким к любому труду, в котором результат зависит не только от свыше данного вдохновения или таланта, а от внимательности, усердия и погруженности в процесс. Оркестр становится как бы моделью идеальной команды сотрудников, взаимодействие которых отлажено до безупречности. Показательно, что в этой проекции присутствует даже фигура руководителя — это дирижер, который, собственно, и вносит упорядоченность в действия музыкантов.
Тем самым проводится прямая аллюзия на филигранную технологию производства рекламируемого товара. А для убедительности и наглядности в качестве музыкальных инструментов начинают фигурировать непосредственные символы товаров — пивные бутылки (Grolsch, Victoria Bitter), запчасти автомобиля (Ford Focus). Полноправными оркестрантами становятся сотовые телефоны (Vodafone), всевозможные насекомые (Coca Cola) и даже консервированная кукуруза (Bonduelle).
Из пивных бутылок получаются замечательные духовые и ударные инструменты, а из разобранных деталей автомобиля — вполне полноценный оркестр, в составе которого есть виолончель (из картера коробки передач), гитара (из сцепления), скрипка (из оси задней подвески), контрабас (из крыла), барабан (из задней двери), бубен (из ручного привода) и арфа (из передней двери). Как убеждает нас реклама, машина настолько совершенна, что ее технические детали могут стать основой для извлечения прекрасных звуков.
В рекламе кока-колы своеобразными оркестрантами выступают насекомые, которые организовывают безупречно спланированную операцию по похищению баночки с заветным напитком у дремлющего на поляне человека. Ролик полностью озвучен музыкой из оркестровой сюиты Прокофьева «Петя и волк». А движения божьей коровки, кузнечиков, пчел, гусениц, бабочек, жуков и прочих насекомых выглядят настолько продуманными и отработанными, что могут быть сравнимы со слаженностью симфонического оркестра, который аккомпанирует происходящему сказочному действу. Реклама консервированной кукурузы Bonduelle идет еще дальше и выстраивает целый парад из початков кукурузы, демонстрирующих акробатические трюки и лихо играющих на различных инструментах духового оркестра. В обоих примерах музыкантами выбираются весьма необычные персонажи, которые тем самым не только «одушевляются», но и наделяются особыми навыками, становятся творческими и изобретательными.
4. Душа товара
В желании наделить неодушевленные предметы и продукты питания способностью создавать произведение искусства заложен принципиальный переворот восприятия их сущности. Ведь возможность творить — это уникальная и исключительная привилегия человека. А в рекламной логике предметы и животные оказываются равны человеку по всем самым высоким способностям. Они становятся центральными инициаторами процесса появления музыки и ее исполнителями. Предметы начинают определять и характер музыки, и ее звуковое воплощение, забирая себе львиную долю полномочий по созданию музыкального произведения.
Таким образом, реклама стремится нивелировать авторскую принадлежность классических мелодий, вырывает их из музыкального контекста и погружает в контекст рекламного ролика, рекламной эстетики, пространства массмедиа и, следовательно, в повседневный информационно-развлекательный водоворот. А для этого «необходимо либо полностью устранить оригинал, сделать его изначально отсутствующим, тем самым пересмотрев фундаментальную установку художественной циркуляции, ориентированной на “предмет” как центр всякой процессуальной интриги, либо его, подлинник, существенно трансформировать, используя лишь в качестве номинальной точки отсчета, переместить акцент на другие — коммуникативные, технологические, операционные — процедуры»[77].
В этом процессе исполнителями, носителями и авторами звучащей музыки начинают выступать (или мысленно «назначаться») персонифицированные образы рекламируемых товаров. Происходит смена творящего субъекта. Способность создавать, исполнять и интерпретировать произведение искусства реклама готова приписывать предмету, продукту или его персонифицированному образу. Нередко именно наделение рекламируемого предмета творческими способностями выступает как гарантия его свершившегося очеловечивания, а оно — символ высокого качества товара.
Получается, что человеческое начало, антропность, гуманистическое наполнение в образе товара оказывается залогом его хороших продаж, его «фирменности». Анимированность товара — гарантия того, что он заслуживает свою цену. Музыка, при всем желании рекламы «обналичить» ее присутствие, остается неосязаемой, невидимой, бесплотной — как бы чисто духовной — в мире визуальности и вещности. В этом соединении музыки и товара происходит своеобразная реализация архаических представлений об одушевленности предметов, проявляется первобытная вера в существование души у вещей, кажущихся безжизненными[78]. Не случайно во многих обрядах древних народов для воссоединения души с телом привлекалась музыка — наигрыши на флейтах, насвистывание, удары в гонг, пение были сигналами, призывающими душу вернуться в свое тело[79]. И если в первобытных верованиях душа человека могла помещаться в дыхании или крови, в некоторых органах (в сердце, голове, глазах) или в тени, то в современной рекламе душа товара заключается в музыке.
Безусловно, не последнюю роль в востребованности классики в рекламе играют финансовые преимущества — авторские отчисления за ее исполнение несравнимы с гонорарами, выплачиваемыми ныне живущим композиторам. Но экономические выгоды несут с собой важнейшие культурно-символические последствия.
Именно классическая музыка замечательно подходит для анимирования товаров еще и потому, что классичность — гарант если не вечности, то долговечности. Ведь классическая музыка уже прошла проверку временем и не «погибла», отлетев от тела своей эпохи на достаточно большое расстояние. Значит, по логике рекламы, классичность музыки-анимы способна выполнять по отношению к товару одновременно функции оберега, предохраняющего от быстротечности моды или быстрых перемен конъюнктуры рынка, и функции символического выразителя непреходящей ценности, незаурядных достоинств вещей или услуг. Пусть «товарное тело» заведомо обречено на потребление. Однако помимо бренной плоти за товаром закрепляется нечто духовное, что не исчезает при его поедании или использовании, а наоборот, остается в памяти потребителя и как бы воскрешается с каждой следующей покупкой.
Покупатель начинает не просто приобретать вещь и демонстрировать свой социальный статус. Реклама делает все возможное, чтобы за товаром была признана вечная душа, тогда покупатель станет если и не безраздельным обладателем, то пользователем этой души.
5. В поисках силы эмоций
Сегодня обыкновенному человеку, несмотря на скорость, информативность и повсюду подстерегающие стрессы, тем не менее недостает ощущения значительности и значимости своей жизни. Для него за чередой повседневных забот зачастую отсутствует некая экзистенциальная идея, замыслам не хватает величия, а быту — непредсказуемости. Стараясь восполнить эти пробелы, человек отправляется в далекие страны, ищет новых друзей или, что чаще, окунается в поток переживаний, приносимых средствами массовой коммуникации. Ж. Бодрийяр безапелляционно констатирует, что человек нуждается в ощущении катастрофы, ему необходимо, «чтобы вокруг охраняемой зоны цвели знаки судьбы, страсти, фатальности, чтобы повседневность записала в свой актив великое, возвышенное, обратной стороной которых она поистине является». Не останавливаясь на этом, Бодрийяр добавляет: «Фатальность должна быть повсюду предложена, обозначена, чтобы банальность этим насытилась и получила оправдание»[80].
В определенный момент в эту гонку по доставке острых ощущений наряду с информационными агентствами и киноиндустрией включилась реклама. Появился даже специальный жанр — шок-реклама, для которой характерно «принципиальное и нарочитое нарушение табу, создание текстов и иллюстраций, вызывающих оторопь или возмущение у рядового представителя той или иной культуры»[81]. Тем самым, реклама поставила себе задачу не только в увлекательной форме продемонстрировать товар, но и попытаться привнести с собой драматизм, пафос и даже трансцендентность в размеренную жизнь потребителя.
В этом поиске источников сильных и настоящих эмоций реклама начала обращаться в том числе и к классической музыке. Оказалось, что благодаря этой музыке требуемый «высокий» тон можно создать изначально, как бы само собой, а дальше остается только выбрать характер его сопряжения с визуальным рядом. В самом начале мы говорили о том, что классическая музыка «неудобна» для рекламы отсутствием единственно верного толкования, большой опосредованностью семантических связей. Но это же качество может стать преимуществом, открыть возможность вариативного и неоднозначного прочтения, дать ни много ни мало специфический художественный (!) прием.
Так, в ролике радио Choice FM против насилия под мелодию «Casta Diva» из оперы Беллини «Норма» друг друга сменяют кадры, в которых проносится пуля, в своем движении пронзающая и разбивающая различные продукты — сырое яйцо, стакан молока, яблоко, кетчуп, бутылку с водой, арбуз. Сочетание отрешенной, возвышенной мелодии арии-молитвы и замедленной съемки создает завораживающую красоту разрушения — это и разлетающиеся красочные брызги, и энергетика взрыва, заполняющая собой все пространство кадра. Мы видим, как уничтожается плоть, но у предмета в этот момент появляются эстетические свойства, он перестает быть продуктом питания, становясь объектом искусства. Возникающее противоречие между умиротворенной, льющейся музыкой и постоянным процессом уничтожения превращается в особый эффект любования одновременно прекрасным и разрушающимся. Идея ролика становится ясна, когда в заключительном кадре пуля летит по направлению к голове ничего не подозревающего мальчика, в самый последний момент становясь надписью-призывом по борьбе с насилием. Тем самым то, что завораживало, вызывало любование и восхищение по отношению к материальным предметам, оборачивается трагедией, как только начинает применяться к человеку.
Разрушение, насилие или драма, показанные в сопровождении классической музыки, сразу приобретают совершенно иной масштаб, автоматически выходят за рамки частного и обыденного. Музыка задает особый, можно сказать, сакральный хронотоп, столь необходимый рекламе для мифологизации процесса потребления товара. При помощи музыки возникает надбытовое пространство, в котором персонажи действуют как мифологические культурные герои, то есть «выполняют свое предназначение и осуществляют выбор пути вопреки всем препятствиям»[82].
В этом отношении весьма показателен ролик джинсов Levi’s «Свобода движения». Обыкновенный молодой человек поначалу в обыкновенной комнате начинает движение, причем подразумевается наличие внутреннего глубоко осмысленного стимула, побудившего его к этому движению. В своем порыве герой начинает бежать с такой силой, что пробивает телом возникающие на пути стены. По законам рекламного жанра он оказывается не одиноким в своем сверхчеловеческом стремлении, и параллельно с ним тот же маршрут преодолевает девушка. Оставив позади преграды в виде здания, молодая пара с еще большим рвением, забывая о законах гравитации, начинает прокладывать себе дорогу уже в лесной чаще, двигаясь вертикально по стволам деревьев. В заключительном кадре герои, вырвавшись из бурелома, парят в свободном прыжке в космос.
На протяжении всего визуального ряда в оркестровом исполнении звучит «Сарабанда» Генделя из ре-минорной сюиты для клавесина. И именно музыка придает некий апокалипсический пафос всему происходящему, не давая эффектному видеоряду превратиться лишь в щекочущий зрение экшен[83]. Противоречие между стремительным, разрушительным в своей силе движением и чопорной, но полной драматизма музыкой становится художественным приемом, позволяет создать надличностный смысл, затронуть проблему предела человеческих возможностей. (Здесь мы вновь видим, как реклама играет смыслами, превращая потребительский выбор ни много ни мало в мировоззренческую позицию.)
Не случайно и то, что, пытаясь взбудоражить зрителя, «вырвать» его из уютной повседневности, реклама ищет вдохновение в эпохе барокко, которая как никакая другая эпоха «обнажает пугающий драматизм бытия»[84]. Но если трагизм, пронизывающий XVII в., был обусловлен глубочайшим кризисом в отношениях человека и Бога, то XXI в. берет лишь художественную оболочку барочного конфликта, наполняя ее уже собственным содержанием. И та же барочная музыка оказывается востребована рекламой по весьма прагматичной причине — из-за удобства музыкальной стилистики произведений, а именно из-за ясности, простоты и четкости малых музыкально-синтаксических структур, «которые в масштабно-временном отношении прямо “ложатся” на масштабы рекламной миниатюры»[85].
Так в рекламе автомобиля Mercedes C–Class Estate в кадр помещается аллюзия на барочный театр. Посреди театральной сцены стоит автомобиль, накрытый тканью. Ткань срывается, превращаясь в бутафорскую куклу, изображающую ветер, театральные декорации трансформируются в ландшафт современного мегаполиса, и начинается «гонка на выживание» автомобиля среди шквального ветра, падающих деревьев и домов, ударов молнии. Весь «спектакль» сопровождается музыкой, стилизованной под «Dies irae» («День гнева») католической мессы, полной драматизма и ужаса. Несмотря на правдоподобность спецэффектов, тем не менее все происходящее намеренно остается в рамках сцены, подается исключительно как чудо театральной машинерии. В русле барочной стилистики выдержаны и пафос изображаемых страстей, и стремление победить стихию и даже хор, в духе античной трагедии комментирующий происходящее на латинском языке. Таким образом, поездка на автомобиле — казалось бы, вполне обыденное действие — приобретает вселенский масштаб, вмещает в себя преодоление фатума и стихийных сил. Характерно, что в эпилоге вместо солнца на декорации неба восходит логотип «Мерседеса» как символ свершившегося просветления.
Но все эти заимствования из стилистики барочного театра и эпохи в целом совсем иначе трактуют конечную цель изображаемых аффектов. В представлениях XVII в. на пути к совершенству человек должен был обратиться к культуре, именно с ее помощью завоевать право называться сложившейся личностью. (Так, испанский мыслитель эпохи барокко Грасиан был убежден, что «человек рождается дикарем, воспитываясь, он изживает в себе животное. Культура создает личность»[86].) Современное же понимание по-настоящему наполненной жизни, наоборот, не мыслится без стихийности человеческого поведения или, в крайнем случае, стихийности природы. И реклама все время призывает человека сбросить оковы воспитания, отдаться инстинктам, противостоять цивилизации, обращаясь к своим истинным желаниям и помыслам. Ровно этот призыв звучит в вышеупомянутой рекламе Levi’s, где герои убегают из благоустроенного жилища в открытый космос; а в ролике «Мерседеса» именно разбушевавшаяся природа привносит драйв, превращает в приключение поездку на автомобиле. Более того, проблема следования инстинкту напрямую затронута в рекламе сети магазинов женской одежды Saga Falabella, также звучащей под барочную музыку[87].
В этом ролике одновременно развивается сразу несколько сюжетов, связанных с женскими страхами, среди которых боязнь предстать перед комиссией, сделать заявление начальству, признаться в чувствах мужчине, предстать обнаженной в качестве натурщицы. Сцепляет же все сюжетные линии тема встречи в дикой природе волка (аллегория страха) и женщины, тем самым разговор сразу переводится в разряд подсознательных опасений и их волевого преодоления. Музыка Вивальди, в свою очередь, придает изображаемым событиям статус общезначимой темы и задает опять же далеко не рекламное понимание проблемы.
Однако классической музыке подвластно не только увеличивать степень драматизма рекламного повествования, но и, наоборот, полностью этот драматизм нивелировать, притом что визуальный ряд будет оставаться не менее напряженным и агрессивным.
Так, в рекламе под названием «Балет машин от Renault» в пустыне под воздушную музыку классического балета[88] выстраиваются восемь машин и начинают плавно двигаться, образуя различные композиционные фигуры. С какого-то момента «танцевальные» экзерсисы «стальных коней» переходят в опасные столкновения: отрываются боковые зеркала, летят осколки и крушатся бампера, машины переворачиваются в полете. Постепенно действо, начинавшееся с претензией на балет, превращается в жесткую бойню, а музыкальное сопровождение между тем остается танцевально-жизнерадостным, как бы никоим образом не согласуясь с шокирующим зрелищем.
Подобного рода противоречие между музыкой и видеорядом возникает также в роликах компьютерной игры Black и автомобиля Nissan Qashqai. В первом случае многочисленные спецэффекты игры-«стрелялки» демонстрируются под размеренный ритм «Сарабанды» Генделя, а во втором ролике под виртуозную оперную арию[89] агрессивный город устраивает всевозможные разрушительные препятствия на пути автомобиля (опрокидывает на него груды металлолома, выливает различные смеси, «пинает» автомобиль строительными кранами и пожарными лестницами). Суть приема заключается в том, что по эмоциональным характеристикам звучащая музыка принципиально противоречит разворачивающемуся видеоряду. И хотя с помощью монтажа взрывы, удары и затяжные пролеты пытаются совместить с ритмом музыки, но от этого эффект инородности музыки отнюдь не исчезает.
Надо сказать, что начало такому нестандартному прочтению и применению классической музыки положил фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Когда в 1971 г. эта картина вышла на экран, она взорвала общественное мнение не только обилием откровенных сцен насилия и жестокости, но и тем, что главный герой — само воплощение жестокости — искренне любил музыку Бетховена. «В начале фильма Алекс показан в полной власти подсознания, вскормленного наркотическим грудным молоком из бара Corova, жестокостью, сексом и Девятой симфонией Бетховена; классическая музыка представлена здесь в контексте, который резко противоречит общепринятым представлениям о порядке, сдержанности и моральности этой музыки», — говорит исследователь творчества С. Кубрика Г. Ханоч-Рое[90]. Тем самым, преданность героя великой музыке как бы оправдывала его бесчеловечность, но вместе с тем вызывала возмущение, так как в качестве лейтмотива отъявленного негодяя звучала «священная» Девятая симфония.
Помимо бетховенской симфонии в «Заводном апельсине» задействована и другая классическая музыка — произведения Россини, Перселла и Элгара, причем характерно, что все они сопровождают сцены насилия. Классика была необходима Кубрику для особого художественного приема. Он применял ее в качестве «кривого зеркала», с помощью которого можно мгновенно нивелировать изображаемую жестокость, и действие уже не будет вызывать отторжение и страх, а станет фарсом. «В очень широком смысле можно сказать, что насилие превращается в танец», — считал по этому поводу сам режиссер[91].
Найденный Кубриком прием как раз объединяет и объясняет вышеописанные рекламные сюжеты. Во всех случаях содержание музыкального произведения намеренно оставляется за кадром, а на визуальный ряд «опрокидывается» только эмоция, которую вызывают звуки. Красота, приятность мелодии должна устранить чрезмерную агрессивность «картинки», вместе с тем оставив ее эффектность и динамичность. Возвышенность классической музыки как бы дистанцирует от прямого восприятия и переживания. В результате зрелище, которое должно ужасать и шокировать, превращается в игру, в трюк, всего лишь щекочущий нервы зрителя. Причем степень драматичности самого музыкального произведения в подобных роликах выбирается обратно пропорционально напряженности видеоряда — чем больше в нем жестокости, тем более жизнеутверждающая и воздушная музыка его сопровождает.
Даже в таком весьма специфическом виде рекламы проявляется удивительная гуттаперчевость, приспособляемость классической музыки к самым различным сюжетным контекстам. Более того, именно с помощью ее моделируется глубина и острота смыслов, вкладываемых в рекламную коммуникацию. Классическая музыка оказывается невероятно действенным и в то же время универсальным инструментом, способным как многократно приумножить патетику рекламного послания, так и полностью ее нивелировать.
* * *
Классическая музыка в рекламе размыкает современный мир потребления в две стороны. С одной стороны, она отсылает к прошлому, патриархальному, даже архаичному. Классическая музыка в рекламе есть одно из проявлений глубокого и во многом пока бессознательного кризиса массовой культуры, которая, израсходовав собственные средства, пытается предельно расширять и даже нивелировать свои границы. В поиске выхода массовая культура пробует конструировать субъектно-субъектные отношения потенциального потребителя с миром потребляемого как миром живого. К классическому искусству в таких случаях апеллируют уже потому, что там подобное взаимодействие — художника и его творения, произведения и воспринимающего индивида — является определяющим принципом существования. Однако в контексте общества потребления претензии на внутреннее родство с классикой в большинстве случаев оборачиваются симуляцией.
С другой стороны, интенсивность и характер использования классической музыки в рекламе говорит о том, что сами процессы потребления перестали быть самодостаточными. Как диагностирует З. Бауман: современные потребители — это в первую очередь коллекционеры ощущений, а приобретенные вещи — это лишь следствие удовлетворения их страсти к новым, доселе не испытанным ощущениям[92]. Общество потребления заходит в тупик и стремится обжить эту новую стадию своего бытия. Оно испытывает потребность стать чем-то другим или хотя бы изменить характер потребления, а то и заменить его на что-то другое. На что именно — ответы пока не найдены социальными практиками. Поэтому в процесс потребления пытаются ввести более многогранные и непрагматические основания, которые бы помогли покупателю вырваться из пут повседневности, современности, цивилизации ХХ — XXI вв. — и в то же время остаться в привычном пространстве классической культуры, которая не может всерьез устареть, оказаться просроченной или неактуальной.
Глава 3 Концепция мира в современном клипе на классическую музыку
Видеоклип стал символом современного мировосприятия, не случайно и в научном дискурсе, и в обиходном языке так часто возникает понятие «клиповое сознание». Под этим словосочетанием подразумевается предельная образно-информационная насыщенность пространства и вместе с тем абстрагированность воспринимающего субъекта, который не погружается в мелькающие образы, не пропускает их через себя, а скользит взглядом по касательной, созерцает все с дистанции.
Видеоклипы на классическую музыку образуют относительно тонкий слой в общем массиве музыкального видео. В поле нашего исследования попадает большей частью специально снятое и художественно обработанное видео. Мы намеренно оставляем за скобками мультипликационный (анимационный) жанр, заслуживающий самостоятельной дискуссии, и жанр так называемого документального видеоклипа, под которым подразумевается запись сценического, концертного исполнения произведения с минимальным внесением в монтаж художественных элементов[93]. Также мы не видим возможности рассмотреть здесь огромный пласт любительских видеоклипов, точнее видеорядов, представляющих собой произвольное соединение фотографий или видео с тем или иным музыкальным произведением. Хотя иногда мы будем ссылаться на отдельные примеры такого порядка.
1. Интерпретация творческого процесса
Определяя общие признаки видеоклипов, О. В. Конфедерат обращается к комплексу смыслов, заключенных в самом английском слове «clip». Прежде всего, это принцип технического соединения элементов — «скрепка», то есть «непроницаемость отдельной знаковой структуры, взятой как элемент клипа, для соседствующих с нею в монтажном ряду структур-элементов»[94]. Другое значение слова — «обойма» — определяет сериальность, мы бы уточнили — поточность производства и воспроизведения музыкального видео[95]. Редукция жизненной реальности, то есть спрямление многозначности окружающей действительности, упрощение ее до знака-индекса, выражается в значении слова «clip» как «стрижки». Наконец, еще один перевод искомого слова — это «удар», под которым подразумевается требование непременного аттракциона, зрелищности разворачивающегося на экране действа[96].
Как справедливо замечает И. Кулик, клип — это элитарная, авангардная, революционная по своему генезису форма, наследующая язык видеоарта и авангардного кинематографа, но на сегодняшний день полностью растворившаяся в масскультуре[97]. С одной стороны, от авангарда клип берет абсолютную художественную свободу: для клипа нет ограничений в выборе образов, он может заимствовать их из любой среды или создавать собственные, экспериментировать с уже имеющимся или искать сугубо свои, неприменимые где-либо еще конструкции. При таком подходе клип — это творческая лаборатория, предоставляющая широчайшие возможности для самореализации автора и его художественной фантазии.
Но в то же время клип является предельно стандартизированной, обладающей жестким набором требований и функций формой. В основе клипа как инструмента массовой коммуникации лежит необходимость презентации, рекламирования исполнителя, фигура которого обуславливает и сцепляет разрозненные визуальные фрагменты в один видеоряд, подчиняя себе, в том числе, и авторский замысел[98]. Свои условия также диктует временна́я лимитированность клипа — малое количество времени, отведенного на развертывание визуальных образов. В этой гибридности клипа заключается его уникальность как жанра, который может свободно фланировать между артхаусной эзотерикой и массмедийной хрестоматийностью.
Насколько же формат клипа приемлем и удобен в отношении классических музыкальных произведений?
Главной проблемой в данном случае становится соединимость художественно-выразительных средств классической музыки и видеоклипа. Жанр музыкального клипа, прежде всего, обусловлен запросами популярной музыки. В ней одним из ключевых средств выразительности является ритм, как раз и подчеркиваемый клиповым монтажом. В классической же музыке роль ритмической основы не доминирует над другими параметрами музыкального языка, ее семантика разворачивается не линейно, а многоуровнево. И если клип основывается на мгновенной смене кадров, максимальной плотности (нарезке) визуальных образов на единицу времени, то звуковые образы для того, чтобы состояться и быть воспринятыми, обычно занимают значительно больший временно́й промежуток[99]. Это относится, в том числе, к музыкальным произведениям, исполняемым в быстром темпе, так как независимо от темпа мысль и образы, передаваемые в музыке, требуют протяженного времени на изложение и «считывание». Таким образом, в клипе скорость смены визуального ряда и музыкальной мысли заведомо не совпадают, не могут быть синхронными по своей сути.
С другой стороны, хотя клип в силу своей «всеядности» может не иметь внятного завершенного сюжета, тем не менее пусть не подлинная сюжетность, но ее видимость в нем зачастую моделируется. И обычно нагромождение визуальных образов пытается создать событийную канву, отталкивающуюся от текста песни. В свою очередь классическая музыка, особенно если речь идет не об оперной или программной, а о так называемой автономной музыке, редко может предоставить «готовый» сценарий для клипа. Конечно, в каждом музыкальном произведении заключено определенное содержание, но оно отнюдь не всегда переводимо и выразимо в нарративных или визуальных образах. Подобрать пусть и условный сюжет для классического произведения намного труднее, нежели для эстрадной песни, где на помощь воображению всегда приходят слова. В итоге это накладывает свой отпечаток как на выбор классических произведений, подходящих для использования в формате клипа, так и на эстетику визуального ряда, о чем далее мы будем говорить подробно.
Как было сказано выше, клип ограничен строгими временными рамками, которые не могут быть сопоставимы с хронометражем большинства форм классических произведений. Поэтому клип, за исключением музыкальных миниатюр, зачастую снимается на фрагмент какого-либо целого произведения — на избранный номер из цикла, арию из оперы или часть сонатно-симфонического произведения. Более того, порой от классического произведения в клипе остается лишь тема или даже мотив, отголосок интонации, что особенно характерно для исполнителей кроссоверного направления.
В клипе все должно находиться в непрерывном движении, которое создается не только за счет «измельченного» монтажа, но и благодаря действию, происходящему внутри кадра. А визуальная событийность исполнения классического произведения с точки зрения клипа минимальна, изначальная аттрактивность такой «картинки», по клиповым параметрам, предельно низка. Следовательно, в отношении классической музыки возникает принципиальная проблема — как нивелировать статичность академических музыкантов, через какой фильтр следует пропустить их игру, чтобы сделать ее визуально насыщенной и динамичной. Для этого режиссеры прибегают к целому комплексу спецэффектов, среди которых самыми востребованными являются развевающиеся на ветру волосы исполнителя и всевозможные искры, световые вспышки, возникающие, например, от прикосновения исполнителя к инструменту. Немаловажным приемом оказывается и подвижность самого музыканта. (Не случайно участницы струнного квартета Bond, специализирующегося на танцевальной музыке, очень редко сидят на стульях, и даже виолончелистка ансамбля предпочитает играть стоя. Более того, во время исполнения девушки непременно пританцовывают, — так же, как и Дэвид Гаретт, который, играя на скрипке сложнейшие пассажи, одновременно свободно передвигается по сцене. Законодательницей данной моды является Ванесса Мей со своим «фирменным» движением бедрами.)
В предыдущей главе мы говорили о том, что массовая культура требует от музыки наглядно-ощутимого, физически и визуально проявляющегося воздействия на окружающее пространство. С другой стороны, в рамках видеоклипа тщательно ретушируются реальные и неизбежные физические усилия музыкантов при исполнении музыки. Например, камера никогда не покажет визуально неприятные моменты взятия высоких нот у певцов и певиц. Если в клипе не слушать музыку, а исключительно смотреть на вокалиста, то неминуемо ощущение, что он не поет в полную силу, а как бы напевает вполголоса, так как увидеть внешнее проявление работы голосовых связок или головного резонатора зачастую невозможно. Или инструменталист, исполняющий сложнейшее по виртуозности произведение, будет беззаботно позировать на камеру, показывая всем своим видом, что эта виртуозность не стоит ему какого-либо серьезного напряжения. В эстетике клипа действительная работа музыканта очень часто нивелируется, а ее место занимают всевозможные спецэффекты.
В данном случае показателен клип Максима Венгерова, играющего «Хоровод гномов» А. Баццини. Музыкантам прекрасно известно, что исполнение технически сложного произведения, каким является «Хоровод» Баццини, требует невероятной умственной концентрации и координационной «заточенности». Конечно, любой скрипач ориентируется на грифе с закрытыми глазами, но при этом, смотря по сторонам, он вряд ли сможет попасть в нужную позицию, потому что его руки оказываются «оторванными» от головы, которая в это время занята разглядыванием окружающего пространства. Поэтому взгляд, устремленный в камеру, хоть и условно приближает исполнителя к публике, находящейся по ту сторону экрана, обеспечивая требуемый визуальный контакт, но в то же время обрывает необходимый контакт между исполнителем и его инструментом. Тем самым, погруженность в процесс исполнения профанируется витринной развернутостью к слушателю-зрителю. И вместо показа реальных усилий музыканта клип начинает работать с «картинкой». В том же клипе Венгерова динамизм и виртуозность музыки передаются с помощью плотной нарезки различных ракурсов съемки. Тем самым эффект головокружительной скорости возникает не только в ушах, но и в глазах у слушателя-зрителя.
Этот феномен подмены реального процесса исполнения музыки его визуальной имитацией возник еще в середине 50-х гг. прошлого века с появлением жанра фильма-оперы. Большинство режиссеров, бравшихся тогда за адаптацию опер к киноэкрану, настаивали на двойном составе исполнителей — музыкантском (певческом) и актерском. Вот как объяснял свое решение один из первопроходцев жанра И. Г. Шароев: «Я представил однажды телеэкран, и на нем — напряженные лица певцов, ходуном ходящие брови, широко открытые рты <…>. Это было невыносимо видеть — даже в своем воображении. С первых же дней я пришел к выводу, что необходим двойной состав исполнителей <…>, [так как] за очень редким исключением певцы не могут выдержать крупный план в кино»[100]. Тем самым, в советском кинематографе начинает складываться традиция, согласно которой в музыкальных фильмах действующие в кадре герои поют не своими голосами.
Со временем законы музыкальной индустрии потребовали от музыкантов не только исполнительского мастерства, но и фотогеничности, умения органично смотреться в кадре. Поэтому сегодня в музыкальном видео формально выдерживается правило идентичности музыканта-исполнителя своему внешнему облику. Но, как было показано выше, создаваемый визуальный образ все так же далек от настоящего процесса исполнения музыки. То есть в клипе музыке выдается не свое «тело», различными способами подменяется ее реальная физическая динамическая оболочка, место которой занимает постановочная имитация процесса исполнения.
Причины этой подмены не только эстетического свойства, они обуславливаются не столько монотонностью процесса исполнения или его нелицеприятностью, сколько желанием максимального приближения исполнителя (но не музыкального произведения!) к зрителю-слушателю. Феномен звезды шоу-бизнеса подразумевает некую игру с публикой. С одной стороны, статус звезды означает недосягаемость исполнителя для поклонников, да и для рядовых коллег по исполнительскому цеху. С другой стороны, понятие «звезда» означает грандиозную популярность, то есть умение нравиться сравнительно большой аудитории, создавать художественный продукт, который понятен и интересен. А жизнь звезды, соответственно, несопоставимо более публична — и обязана быть таковой, чтобы подпитывать интерес к личности артиста с помощью массмедиа. Музыканты академического направления, попадая в пространство клипа, вынуждены вести себя по законам шоу-бизнеса. Они должны стать «своими», понятными зрителю, должны быть обращены, развернуты к нему. Необходима видимость возможности предельно близкого контакта.
При этом музыка как таковая отходит на второй план, становится исключительно фоном и средством, благодаря которому исполнитель завладевает вниманием публики. Если раньше, заменяя профессиональных певцов актерами, режиссеры музыкальных фильмов стремились избежать условности оперного искусства, приблизиться к хара́ктерной достоверности персонажа, то сегодня музыка не удостаивается собственной презентации, теряет право адекватного отображения, потому что единственным центром внимания должен быть исполнитель. Таков баланс между исполнителем и музыкальным произведением в поп-индустрии, и по нему же сегодня живет классическая музыка, попадающая в орбиту массовой культуры.
Любая музыка, оказывающаяся в жерновах клипа, должна стать аттракционом. Поэтому бо́льшая часть клипов, в которых звучат классические произведения, принадлежит артистам, находящимся на границе между классической и популярной музыкой, работающим в стиле классического кроссовера (classical crossover). Эта когорта музыкантов представляет собой достаточно любопытный феномен, к которому следует присмотреться внимательнее.
В начале 90-х гг. прошлого века классический кроссовер появился в журнале Billboard в качестве отдельного чарта, а в списке музыкальной премии Grammy стал самостоятельной номинацией. С этого момента данный стиль получает официальный статус, хотя фактически он начал возникать уже в 1930–1950-х гг. в творчестве таких исполнителей, как Энрико Карузо и Марио Ланца[101]. Особенностью классического кроссовера как жанра является соединение элементов классического и популярного исполнительских стилей[102]. Причем искомое перекрещивание (crossover) может осуществляться во множестве направлений — академический музыкант может исполнять поп-музыку, наоборот, поп-звезда может попробовать силы в классике, или и тот и другой могут написать собственное, стилизованное под классику, сочинение. Не говоря о бесчисленных современных аранжировках классических произведений и цитировании их отрывков в поп-музыке[103].
Число кроссоверных исполнителей растет с каждым годом, впрочем, как и их востребованность у публики, которая весьма разнообразна и широка, так как, согласно исследованиям, не имеет поколенческих барьеров — эту музыку слушают люди всех возрастов[104].
Большинство музыкантов классического кроссовера имеют академическое музыкальное образование, обладают блестящей техникой и умеют импровизировать. При этом импровизационность (действительная или хорошо поставленная) требуется не только от исполнения, но и от манеры держаться на сцене. Немаловажный комплекс профессиональных требований к кроссоверному исполнителю связан с презентационной частью — эффектные внешние данные, раскрепощенность, неформальность поведения, как на сцене, так и в жизни. Чем моложе исполнитель, тем менее он должен соответствовать образу человека, исполняющего классическую музыку. По ходу исполнения он все время обязан находиться в движении: если возможно — ходить по сцене, пританцовывать в такт музыке, вскидывать руки над клавиатурой, прыгать, трясти головой и т. д. То же самое касается стиля одежды, который должен быть предельно модным, свободным и разнообразным, главное — не вписывающимся в каноны официального черно-белого дресс-кода. Публика хочет видеть «своего парня», с виду такого же, как они, но владеющего неординарными навыками — поставленным оперным голосом или виртуозной игрой на музыкальном инструменте.
Классический кроссовер — это наглядное проявление желания жить в стиле фьюжн[105], чтобы одно явление с легкостью смешивалось с другим, беспрепятственно вбирало в себя все лучшее из всего существующего и преподносилось в увлекательной, яркой и ни к чему не обязывающей форме. Стиль фьюжн характеризует, во-первых, сочетание несочетаемого без какой-либо точки притяжения, без иерархии и соподчинения одного другому: все равноправно и равнозначно. Во-вторых, фьюжн заимствует и компонует исключительно готовые модели (образы или предметы), уже актуализированные в рамках других состоявшихся стилей, из частей чужеродного выкраивается новое целое. И именно эти принципы лежат в основе как классического кроссовера, так и видеоклипа.
Клип и кроссовер, каждый своими методами, убеждают зрителя-слушателя в том, что классическая музыка не требует интеллектуальных и духовных усилий для восприятия. И хотя сама музыка этих усилий на самом деле требует, но, как мы выяснили ранее, характер видеопрезентации задает отнюдь не она, поэтому и удается создать необходимую иллюзию, что классическую музыку не нужно понимать головой, теперь ее можно и нужно чувствовать телом. Но вместе с тем эта музыка не перестает быть классикой — возвышенным искусством, завоевавшим право на непреходящее существование в культуре и к тому же обладающим огромным коммуникативным потенциалом[106].
В отношении исполнителя кроссовер снимает рутину многочасовых занятий за инструментом, которая вообще не подразумевается, так как существует талант, объясняющий все творимые на сцене чудеса. Если традиционный концерт предполагает продолжительную предварительную работу, репетиции и «сыгрывание» музыкантов друг с другом, без чего концерт как таковой состояться не может, то в основе кроссоверного стиля лежит шоу, и поэтому здесь оттачивается прежде всего зрелищность сценографии и спецэффектов, а не собственно исполнительское мастерство музыканта[107].
В качестве примера можно привести телевизионные проекты, посвященные восходящим звездам кроссовера и их закулисной жизни. Как в британском шоу Popstar to operastar[108], его российском аналоге «Призрак оперы»[109], так и в реалити-шоу «Русские теноры»[110] репетиции участников с метрами подаются в виде фрагментарной нарезки, подогревающей кульминацию программы — публичное исполнение произведения. Причем в ходе показываемых занятий редко когда затрагиваются вопросы технологии звукоизвлечения или постановки голосового аппарата, в основном все пожелания и замечания преподавателей сводятся исключительно к эмоциональной стороне выступления, разговору о характере музыки, но не о способе ее исполнения. То есть преподаватели настраивают участника-концертанта на вхождение в особое состояние, на погружение в сюжет музыки, и подразумевается, что этого достаточно для того, чтобы все технологические проблемы решились как бы сами собой, чтобы, например, появилось диафрагменное дыхание и взялись все высокие ноты. При этом важно, что алгоритм шоу ставит предельно сжатые временны́е рамки для разучивания музыкального произведения. Зритель не задумывается над этим, но ему каждый раз показывают людей, способных в течение одной недели разучить и исполнить произведение, на освоение которого у обычных музыкантов уходит долгие годы обучения. Тем самым на практике как бы доказывается, что идея длительного профессионального совершенствования академических музыкантов не более чем миф, фикция, так как «настоящему» таланту достаточно всего недели, чтобы спеть арию, которую другие «впевают» годами.
Это же правило относится и к клипу. Даже если в нем есть мотив сосредоточенности исполнителя во время игры, его погруженности в процесс исполнения, то зачастую это подается как то настроение, в котором пребывает исполнитель под воздействием характера музыки, а не как момент приложения умственных и физических усилий для преодоления трудностей чисто технологического порядка. Причем сконцентрированность исполнителя на произведении в пространстве клипа должна выглядеть театрально-эффектной. Возможно полное отрешение от окружающего пространства. Возможно, наоборот, работа рук будет в малейших деталях отображаться в мимике исполнителя. Главное, чтобы наблюдение за лицом музыканта захватывало воображение, чтобы это лицо становилось визуальной партитурой, с помощью которой любой зритель-слушатель мог понимать и «видеть» характер звучащей музыки.
Таким образом, кроссоверные исполнители в своих клипах пытаются создать некое условное культурное пространство, в котором свободно соединяется несоединимое — «высокие» интеллектуальные материи и зрелищное, увлекательное действо; филигранное исполнительское мастерство и беззаботная светская жизнь; музыка далеких эпох в удивительно современном звучании[111]. В этом иллюзорном мире рождается и культивируется понятие «легкой классики» — качественной музыки, доступной для всех, не перегруженной глубокими смыслами.
2. Трансформация пасторальных мотивов
В поисках зримых иллюстраций к музыке самым распространенным источником образов является природа. Эта тенденция имеет длительную традицию в истории культуры, и именно сегодня она доминирует в эстетике видеоклипов, а также видеофильмов на классическую музыку. Так, в Интернете можно обнаружить бесчисленное количество любительского видео, накладывающего на звучание классического произведения всевозможные живописные виды, от пейзажей знаменитых художников до фотоснимков или видео собственных путешествий. Из профессиональных работ подобного рода можно назвать «видовые» клипы производства Sony, Philips, BBC на инструментальную музыку Моцарта, Бетховена, Шопена и Паганини. Разнообразные природные мотивы присутствуют и в клипах самих музыкантов-исполнителей.
История этой устойчивой и неразрывной связи природы и музыки возникает еще в жанре пасторали, начиная с античных буколик Вергилия. В утопическом царстве Аркадии, где на лоне идиллической природы обитали пастухи-поэты вместе с мифологическими существами и богами, всегда звучала музыка. То могло быть журчание ручья, пение птиц или пастуший наигрыш свирели, но озвученность прекрасной музыкой была непременным атрибутом locus amoenus.
Аркадия — это идеальный, гармоничный во всех отношениях универсум, в котором все явления доставляют исключительное удовольствие. Пищей для глаз здесь служит прекрасная природа в своей естественной красоте. Пищей для ума становится утонченная беседа и поэзия пастухов. Здесь расцветают чувства в любви к прекрасным пастушкам, нимфам и музам. А разлитую кругом гармонию довершает звучащая музыка, без которой совершенство Аркадии не было бы всеобъемлющим, безграничным, полным. Можно даже предположить, что непрерывный поток звуков, в который был погружен «прелестный уголок», наследовал идею музыки сфер, становящейся доступной для слуха именно здесь, в особым образом организованном месте.
В культуре Средневековья — замечает Н. Эллиас — в изображении картин сельской жизни и природы не было никакой выраженной «тоски», никакого сентиментального отношения к природе. В средневековых иллюстрациях жизни рыцаря не скрываются ни виселицы, ни оборванные слуги, ни тяжкий труд крестьян, наоборот, все эти явления утверждают статус рыцаря как господина, контрастируют с удовольствиями, получаемыми им от жизни[112]. Поэтизация природы и новое обращение к жанру пасторали возникает в культуре Возрождения, когда люди, постепенно переселяющиеся в город, начинают чувствовать свою отделенность от природы, безвозвратную оторванность от неспешного уклада сельской жизни. Ностальгия по природе появляется ровно тогда, когда сама природа исчезает из ландшафта, окружающего человека, когда ее уже трудно окинуть привычным взглядом. В этот период в городской культуре Ренессанса жанр пасторали начинает выполнять функцию поэтического воплощения представлений об идеальной жизни, противостоящей действительности с ее тяготами и проблемами[113]. Пасторальный мир приобретает черты рая, Элизиума, Золотого века, а Аркадия становится страной счастливой жизни, наполненной созерцательным досугом — otium’ом.
Сегодня противопоставление городской жизни, полной нескончаемых дел и обязательств, и беззаботной, вольной жизни на природе актуально как никогда. Это непреодолимое желание человека вернуться к изначальному и естественному единению с природой эксплуатируется как рекламой и телевидением, так и находит отражение в видеоклипах.
Сценарий многих клипов на классическую музыку разворачивается на фоне природы. Палящее солнце, густая растительность или песчаное побережье пляжа, непременный водный источник, будь то море, водопад или родник, ощущение простора и необъятности пространства и фигура исполнителя, который через музыку взаимодействует с окружающим миром, музицируя, сливается с ним. Герои клипов не связаны какими-либо отношениями или обязанностями, за игрой на инструменте или в танце они проводят весь день напролет, более того, подразумевается, что в таком отдохновенном состоянии проходит вся их жизнь — вот он, желанный otium в представлении современного человека. В идеальном мире нет понятий денег, карьеры, работы, его героям хватает малого — того, что посылает приветливая природа и встречающиеся люди, их кредо — это свобода творчества и максимальное наслаждение мгновением[114]. И, например, в диптихе клипов гитариста Густаво Монтесано инсценируется ситуация, в которой герой, гитарист и свободный художник, в итоге отказывается и от любимой девушки, и от рутинной работы в обмен на вольную жизнь бродячего музыканта.
Но эта «дикая», привольная жизнь на поверку оказывается не более чем имитацией, постановочной инсценировкой, которая использует имеющуюся в обществе тягу к первозданной природе. Так же как в ренессансной Аркадии, по мнению Л. М. Баткина, не найти и следа «дикой» природности, все изображаемое — это только изящная игра в «дикость»[115], так и в пасторальной идиллии видеоклипов любование невозделанной природой ничуть не противоречит достижениям современной цивилизации. Более того, технический прогресс делает получаемое удовольствие более доступным и предоставляет его во всей полноте.
Особенно показателен в этом отношении клип Доминика Миллера на так называемое «Адажио» Альбинони. Сначала гитарист играет на крыше небоскреба — чем подчеркивается его оторванность от земли, от той суетной жизни, что бежит там, внизу. Потом он садится в машину и едет через город: при этом, с одной стороны, происходит явное любование линиями автомобиля, городской архитектурой, видимой из окна, удобством, предоставляемым продуманной до мелочей и послушной техникой. Но, с другой стороны, акцентируется и некоторая отстраненность от всех этих рукотворных благ. В итоге пути герой оказывается на лоне идиллического пейзажа и продолжает исполнять произведение уже на фоне безбрежных зеленых просторов, моря, необъятного неба. И с помощью монтажа эти два пространства — городских джунглей и природного ландшафта — перекрещиваются, перемешиваются. Склон горы превращается в небоскреб, в морской дали виднеются очертания городских зданий. Тем самым подразумевается, что музыка обладает способностью переносить, уносить человека из городского пространства в желанные, недоступные, потерянные оазисы живой природы или по крайней мере создавать иллюзию этого перенесения. Природа и цивилизация хоть и противоположны друг другу, но не находятся в конфликте — достижение цивилизации (автомобиль) делает общение с природой более комфортным. А в финале клипа огни ночного города оказываются не менее поэтичными, чем природные просторы.
Другим распространенным «природным» мотивом является мизансцена, в которой музыканты, находясь посреди поля или стоя по колено в морском прибое, играют на электроинструментах. Эта довольно абсурдная, по логике вещей, ситуация, вполне приемлема и даже поощряема клиповой эстетикой. Благодаря такому приему опять же создается необходимое, хоть и мнимое, ощущение простора и свободы, в то время как на сцене исполнитель всегда привязан к тоннам звуковой аппаратуры. К тому же подразумевается свобода и от заданного сценария, всеми способами создается иллюзия спонтанности и импровизационности происходящего действа, свободного самовыражения его участников.
Во всех подобных случаях ретушируется и маскируется принадлежность исполняемого произведения к определенной культурной эпохе, порождающей и определенные формосодержательные элементы, и ритуалы его восприятия. Клип настаивает на том, что классическую музыку создает и наслаждается ею «природный», «дикий», в своей сути первобытный человек, меж тем как на самом деле эта музыка есть порождение человека цивилизованного, городского, культурного. В этом несоответствии проявляется желание преодолеть, изъять, любым способом забыть о том массиве эпох, который ведет к нашей современности. Возникает ситуация исторической амнезии. Глобальный конфликт природы и цивилизации, в очередной раз обострившийся в начале XXI в., в эстетике клипа с удовольствием и легкостью игнорируется. Доминирует желание хотя бы в условном мире клипа видеть совмещение несовместимого, противоречащего элементарной логике. Зато в результате появляется идеальный универсум, где можно беззаботно и, главное, выборочно пожинать лишь наиболее желанные и привлекательные плоды исторического развития и технического прогресса на лоне нетронутой природы. Когда классическая музыка становится таким плодом, она и превращается в продукт, аналогичный другим продуктам современного супермаркета.
Такая позиция выгодна и в отношении восприятия самой музыки. Когда отменяется длительный исторический процесс, потребовавшийся на становление классической музыки, то, получается, ее можно воспринимать, не обременяя себя знанием ее законов; теперь нет необходимости «дорасти» до понимания этой музыки, достаточно той иррационально-интуитивной реакции на музыку, которая опять же от природы заложена в любом человеке. То есть вместе с видимостью неограниченной свободы, которую получает исполнитель, «выпрыгнувший» со сцены в природную стихию, свою порцию свободы и комфортного самоощущения обретает и слушатель-зритель, более не обязанный осмысливать содержание музыки и расшифровывать культурный код ушедшей эпохи.
Безусловно, классическая музыка, как любое большое искусство, несет в себе содержание, выходящее далеко за пределы эпохи своего создания и за рамки интересов искушенных меломанов, в этой музыке велика доля вневременного универсализма, в ней заложены некие абсолютные ценности. Ее действительно может адекватно, тонко и глубоко воспринимать человек, который не имеет детальных знаний о ней, но, тем не менее, способен улавливать ее непреходящие смыслы.
Однако клиповая эстетика занята отнюдь не тем, чтобы выявить и акцентировать эти непреходящие смыслы. Наоборот, она пытается освободить современного слушателя от необходимости воспринимать историю культуры (и вместе с ней классическую музыку) как некую противоречивую целостность, в которой наряду с прекрасным и возвышенным неизбежно присутствует драматичное, конфликтное начало. Клип боится говорить серьезно о серьезном. Считается, что неподдельный трагизм, звучащий в музыке, будет ненужным «грузом» для восприятия слушателя-зрителя, обременит его психику, которая и так до предела заполнена множеством насущных проблем. Поэтому клип «очищает» музыку от чрезмерной, на его взгляд, интеллектуальности и противоречивости, предлагая рядовому потребителю своего рода «диетический» продукт из столь востребованных ингредиентов счастья, свободы, успеха и легкости бытия.
Главным распорядителем разворачивающегося в клипе праздника жизни выступает исполнитель. За ним утверждается важное право — особым образом перекраивать пространство и время, организовывать его на свой лад и одновременно втягивать, помещать в этот специфический хронотоп как различные предметы и символы, так и всевозможных персонажей. Музыка на правах основополагающего компонента инициирует возникновение и обеспечивает существование этого хронотопа, в то время как исполнитель назначается его демиургом — главным источником появления и управления звучащей музыкой. В связи с этим весьма показательна интерпретация Элизиума в клипе квартета Bond на композицию «Wintersun». В условном саду, погруженном во мрак, нагромождены искусственные деревья из папье-маше, летящий на всех порах паровоз, балетная пара влюбленных, намекающих на Адама и Еву. И в этот же ландшафт вплетены фигуры экстатично музицирующих участниц струнного квартета. Клиповый монтаж, играя на кинетике, хаотично смешивает и «переваривает» все эти разрозненные обломки образов, а в финале ролика по лестнице в небо солистки перемещаются как бы в новый рай и в прямом смысле слова становятся небожителями. Это обожествление, пусть и происходящее понарошку, уже через наглядные образы закрепляет за музыкантами право власти над временем и пространством.
3. Художник и стихия. Перемена первенства
Помимо пасторальной идиллии в эстетике клипов на классическую музыку невероятно востребовано понимание природы в русле романтической концепции. Здесь оказываются взаимосвязанными и взаимообусловленными сразу несколько узловых понятий романтизма — природы и скрывающейся в ней стихии (хаоса), творческого духа, а также самой музыки.
Начнем с того, что для романтического мышления характерна тотальная музыкализация мира и бытия — романтики считали музыку первейшим из искусств, в их мировоззрении именно музыка являлась основанием любого творчества как наиболее «движущееся», «безэтикеточное» и «нематериальное» из всех искусств[116]. Музыка отвечала потребности вырваться из пут материального, конечного и рационального, она воплощала в себе сферу неуловимого, интуитивного и беспрерывно становящегося.
По мысли романтиков, музыка особым образом соединялась и взаимодействовала с сущностью природы. Э. Т. А. Гофман называл музыку праязыком природы, в более широком смысле музыка понималась как услышанная, звучащая природа[117]. Такое сопоставление природы и музыки было не просто метафорой, а имело под собой глубокое обоснование — идею тайного и непрерывного движения, скрывающегося за внешне упорядоченными явлениями окружающего мира. Тем самым, и музыка, и природа имели в своей основе схожую, до конца необъяснимую, текучую субстанцию, по мере развертывания порождающую то или иное явление. И здесь мы затрагиваем еще одну основополагающую категорию романтизма — категорию хаоса.
Хаос понимался романтиками как первооснова всего сущего, согласно Ф. Шеллингу, все начиналось со всеобщего нестроения, с древнего хаоса. И впоследствии «хаос не уходит из мировой жизни. Решениям и переустройствам каждый раз предшествует хаос, состязание мотивов, примеривание, угадывание, сопоставление — бурные пробы и бурная игра сил»[118]. Несмотря на кажущуюся уравновешенность, целесообразность окружающего мира, хаос «всегда просвечивает через тонкое покрывало сознания»[119]. И, например, в природе хаос прорывается наружу через стихию. В то же время хаос, особенно в раннем романтизме, понимается как незаменимый источник творчества, важнейшая созидающая сила. Собственно миссия художника и заключается в том, чтобы почувствовать и уловить, а затем особым образом организовать, преобразовать разлитую вокруг стихию.
Клиповая культура весьма охотно прибегает к образам природы, преломленным через призму романтического мировосприятия, для которого кроме всего прочего характерно стремление к совмещению драматизма с внешней живописностью. И что, например, может быть более зрелищным, нежели вид бушующей стихии?
Выше уже упоминались хрестоматийные приемы клиповой презентации — развевающиеся на ветру волосы, вспышки и искры, возникающие от прикосновения к инструменту. Среди других, пользующихся спросом, природных явлений — разверзающаяся гроза, удары грома и грозовые тучи, проносящиеся в ускоренном темпе; клубы тумана и опавшие листья, гонимые ветром. Не менее популярен огонь, открытое бушующее пламя или, наоборот, снег и горы изо льда, а также морские волны, бьющиеся о берег, — жанр клипа с готовностью вмещает в себя любые природные катаклизмы[120]. В данном случае главное, чтобы стихия била через край, была угрожающей, но не пугающей, а эффектной, завораживающей в своей мощи, — ведь она призвана наполнить кадр динамикой, энергетикой и зрелищностью. На самом деле такая «стихия» не что иное, как спецэффект, который в отличие от настоящей природной стихии всегда дозирован, просчитан и зачастую является постановочным.
Помимо зрелищности «бушующая стихия» привносит в клип сверхцель — она становится индикатором процесса творчества. Происходит трансформация вышеописанной романтической идеи, согласно которой художник черпает свои образы из хаоса, выражая в своем искусстве творческий дух самой природы. Более того, по наблюдению Н. Я. Берковского, «у Новалиса идеи этого рода получают свой особый магический вариант: искусство создается чуть ли не само собою, а художник не более чем свидетель того, как движутся навстречу друг другу камни, из которых возводится здание. Новалис записывал свое мечтание о таком искусстве, где бы поэт от начала до конца оставался зрителем, сам бы не писал, а, собственно, читал написанное ему и для него силой свыше»[121]. Именно в этом месте открывается простор для внедрения в клип всевозможных инфернальных, потусторонних образов, и тем самым требуемые жанром спецэффекты получают дополнительное концептуальное оправдание. Но необходимо понимать, что в данном случае суть романтической идеи преподносится в обратной проекции.
Для более подробного объяснения мы остановимся на клипе Виктора Зинчука на тему «Каприса» Паганини. Данный пример интересен тем, что в нем, на первый взгляд, происходит высмеивание традиционализма классической музыки, но вместе с тем сам процесс творчества понимается здесь через призму идей романтизма. Сюжет ролика инсценирует ситуацию экзаменационного прослушивания, где перед комиссией старомодных старцев в костюмах XVIII в. (в париках, камзолах, панталонах и чулках) предстает молодой человек (Виктор Зинчук) в кожанке и облегающих джинсах, с электрогитарой наперевес. Действие происходит в интерьерах, стилизованных под старинную таверну. Во время выступления гитариста вокруг бушует стихия — ветер раскачивает люстры, картины падают со стен, как бы сами собой хлопают двери и двигается мебель, летят листы бумаги, задуваются и вновь разгораются свечи, бьются стекла… Но в данном случае не стихия становится источником творческого вдохновения музыканта, а, наоборот, музыкант своим творчеством вызывает стихию.
Происходящее вокруг разрушение должно свидетельствовать о том, что энергетика исполнителя невероятно мощна и может напрямую воздействовать на предметы окружающего пространства, что сам музыкант способен управлять ими. По сценарию клипа члены комиссии остаются совершенно безучастными к представлению, на них вся «феерия» производит ровно обратное действие — они начинают зевать и посапывать. Подразумевается, что их педантичность и приземленность, слепота и глухота ко всему новому и необычному не позволяет им услышать талант молодого музыканта.
Клип Виктора Зинчука затрагивает сразу две тенденции, имеющие корни в романтизме. Первая из них — это идея романтического хаоса, а вторая — проблема отчужденности художника от социума (о ней подробно мы будем говорить ниже). Суть в том, что обе эти тенденции в клипе претерпевают полную смысловую инверсию.
В первом случае в клиповой интерпретации художник уже не организовывает особым образом стихию, а наоборот, само его творчество приводит стихию в действие. Это не единичный пример, а общепринятая закономерность в презентации исполнителя. Когда в пространство клипа вводятся всевозможные проявления природных сил — ветер, огонь, молнии и т. д., — то их источником подразумевается не стихия, а сам исполнитель, именно он приносит с собой эти силы как центральная фигура, обуславливающая и инициирующая все движение и действие, происходящее в кадре.
Более того, если у романтиков «вслушивание» в стихию происходило в глубине души, было сугубо внутренним процессом, то современные исполнители бравируют своими «сверхвозможностями», переводя их во внешние эффекты, которые должны опять же наглядно выражать силу воздействия музыки. Но при этом мистифицируется не столько музыка или творческий процесс, сколько личность самого исполнителя. Таким образом, если романтик из стихии черпает образы и энергию, то современная звезда этой стихией владеет и управляет.
И это только начало. Амбиции звезды в клипе простираются гораздо дальше. В этих амбициях находят выражение многие мечтания современного индивида.
4. Аттракцион инфернальности
Следующей ступенью в мифологизации творческого процесса с помощью средств романтизма становится введение в пространство клипа различных инфернальных образов. Так, клип Райдана (Rhydian) «O, Fortuna» (на знаменитый номер из кантаты «Кармина Бурана» К. Орфа) насыщен всевозможными готическими символами. Это очертания каменного замка в густом тумане, полнолуние, тяжелые тучи, гонимые ветром сухие листья, черные вороны, а для большей зрелищности сюда же вводятся эффектные огненные взрывы. На этом фоне колоритно выделяется фигура героя — лощеного блондина в белоснежной рубашке и элегантном костюме, ведущего за собой безликую массу людей в длинных плащах с капюшонами. Или в клипе на сонату Тартинни «Дьявольские трели» Ванесса Мей появляется в образе соблазнительного дьявола в виде собственного альтер-эго, как бы управляющего игрой прилежной скрипачки, придающего исполнению особую темпераментность и даже экстатичность[122]. А в клипе Мейры (Meyra) на парафраз «Адажио» Альбинони певица предстает в образе инопланетной посланницы, появляющейся из шара светящихся лучей, умеющей летать, отделяться от своего тела и взмахом рук извергать искры.
Данный список примеров можно продолжать достаточно долго. Объединяет их всех появление в кадре потусторонних сил, несущих в себе темное, порой пугающее или даже разрушительное начало. Герой клипа может быть преследуемым таинственными незнакомцами или призраками[123], отправляться на поиски некоего ускользающего видения[124], а порой и сам выступать в качестве фантастического создания[125]. Клипмейкеры довольно часто интерпретируют образы, почерпнутые из готического, «страшного» романа. В клипе создаются аллюзии на характерное место действия — старинный замок, порой превращающийся в храм или дворец, но главное, чтобы интерьеры вырывали разворачивающийся сюжет из контекста обыденности и повседневности[126]. Нередко выбирается ночной, сумеречный фон и вводятся многочисленные инфернальные символы вплоть до таких устрашающих атрибутов, как череп и ворон[127]. В этой стилистике даже музыкальные инструменты намеренно «состариваются» и несут на себе следы разрушения. (Например, в клипе на музыку Токкаты и Фуги Баха Милен Класс музицирует на рояле со снятыми деками, обнажающими «внутренность» клавиатуры, тем самым рояль как бы вторит ветхости обшарпанных стен и летающих повсюду сухих листьев.) При этом единственной фигурой, пышущей полнокровием и реальностью, зачастую остается только сам исполнитель.
Чтобы понять роль и содержание демонического начала в клипах на классическую музыку, необходимо обратить внимание на ту потребность в инфернальности, которая существует в современном обществе.
На сегодняшний день западная цивилизация достигла такого уровня благосостояния и комфорта, что проблема непрерывной борьбы за существование, стоявшая перед человеком прошлых эпох, сменилась установкой на получение максимального удовольствия от жизни. Реклама, поп-культурный мейнстрим и вся индустрия развлечений трубят о радости, беззаботности и приятности пребывания в современном мире, оснащенном всевозможными достижениями технологического прогресса. В этом конструируемом мире нет места для тревоги или отчаяния, жизнь до краев заполнена положительными впечатлениями и бесконечными наслаждениями.
Но в определенный момент тотальный позитив может надоесть, и человеку станет просто-напросто скучно постоянно находиться в «тепличном» режиме потребления материальных благ и развлечений. На этот случай существуют всевозможные инфернальные образы и проявления потусторонних сил, предусмотренные в качестве альтернативы сплошного оптимизма бытия. Ведь без них мир удовольствий рискует стать слишком «приторным», мелькание ярких картинок может оказаться монотонным, перестанет «цеплять», а значит, и развлекать. Иллюзии инфернальности необходимы для сообщения большей духовности и содержательного объема миру удовольствий и потребления, который слишком материален и физиологичен. Сегодня «эстетизированная» тьма становится синонимом духовности и сохранения сакрального оттенка у жизни, которая сама по себе уже стала предельно профанной и секуляризированной.
Жажда сверхъестественного, непредсказуемого и пугающего в современном обществе утоляется с помощью бесконечных астрологических прогнозов, сообщений о паранормальных явлениях, литературой в жанре фэнтези, фильмами ужасов и т. д. Существуют также отдельные субкультуры (готы, металлисты, doom, emo), которые выбирают темное, сумрачное начало как основу для своих миропредставлений и имиджа. Но Р. Мюшембле проницательно замечает, что за транслируемой поп-культурой инфернальностью стоит отнюдь не истинный страх, а скорее желание игры с острыми ощущениями: «Дьявольская тематика открывает дверь навстречу случайному, непредвиденному, управляемому богами или демонами, позволяющими почувствовать свое незримое присутствие в нашей обыденной жизни. Драматическое по сути, но зачастую смешное по форме, это присутствие будоражит нас, притягивает, но не вызывает сильных эмоций, не повергает в ужас, а просто позволяет с комфортом выскользнуть из ярма повседневности <…> [позволяет] без вреда для себя прикоснуться к материям, наделенным определенной сакральностью»[128]. Тем самым, обращение к демоническим силам уже не чревато страхом смерти или вообще какой-либо угрозой, инфернальное используется в качестве «декора», привносящего в повседневность экстремальные ощущения, «щекочущего нервы» и «подперчивающего» серые будни.
Но вернемся к классической музыке. Еще с древнейших времен музыка понималась как синкретический канал для связи с потусторонним миром и наделялась магической силой. Недаром герои античной мифологии с помощью музыки могли останавливать реки и ветра, двигать скалы (Орфей) и укладывать камни в стены строящегося города (Амфион). Таинственность, неуловимость, мистицизм, ассоциируемые с музыкой, не в последнюю очередь определялись сложностью ее фиксации, то есть невозможностью существования музыки вне процесса ее исполнения. Тем не менее в самых различных культурах музыка понималась скорее как божественное искусство, способствующее просветлению и очищению души, — именно такая музыка должна была звучать при общении человека с Богом. Хотя непрестанная борьба за «чистоту» музыки, которую в западноевропейской культуре вели служители церкви, подразумевала существование и небогоугодной, дьявольской музыки, пробуждающей плотские страсти и влечения.
Собственно классическая музыка соотносится с демоническими образами двояко. С одной стороны, здесь существует внушительный пласт образов, сюжетов и персонажей, отсылающих к инфернальным силам. Начиная с «Dies irae» («День гнева») как части католической мессы и сверхъестественных персонажей барочных опер (кентавров, драконов, тритонов, всевозможных чудищ), через фантастических героев моцартовских опер («Дон Жуан», «Волшебная флейта»), включая романтизм, где инфернальные образы начинают править балом композиторского воображения (пляски смерти, ундины и гномы, Мефистофель и демон, ночные призраки и т. д.). Демоническая тема в творчестве композиторов возникала отнюдь не случайно, как и сам дьявол, который вплоть до XVIII в. был знаковой и вполне реальной фигурой в жизни людей[129]. А для романтиков, после развенчания дьявола рационализмом эпохи Просвещения, инфернальный мир стал неисчерпаемым источником образов и тем художественного творчества[130].
С другой стороны, несмотря на обширный круг инфернальных образов, присутствующих в содержании классической музыки, в современном восприятии она сама, как таковая, с демонизмом вовсе не ассоциируется. На фоне музыкальных субкультур готов, emo, doom, с их экзальтацией мрачного, упаднического и демонического, классическая музыка выглядит очень светлым и «уравновешенным» искусством. Причины этого феномена кроются отнюдь не в изменении степени «мрачности» эпохи, а в отношении к творчеству, понимаемому через призму массовой культуры.
Классическая музыка по праву считается искусством, требующим многочасовых занятий, усердия и терпения. Причем необходимость неустанного, кропотливого труда распространяется не только на обыкновенных людей, занимающихся музыкой, но и на творчество гениев, так как наличие большого таланта не освобождает от труда, а, наоборот, интенсифицирует его. Сочиняя музыку, композиторы прошлого ориентировались не столько на вдохновение, сколько на законы ремесла — на правила композиции и должное их применение. Музыкальное произведение понималось не только как результат природного дарования автора, но в еще большей степени как объект приложения его интеллектуальных усилий, творческой воли и профессиональной выучки.
Массовая же культура представляет процесс сочинения музыки как озарение, как некое снисходящее на музыканта вдохновение, ведь одним из главных приемов массовой культуры является мифологизация — объяснение посредством необъяснимого, невыразимого и загадочного. Массовая культура не верит в одну только силу человеческого духа и в профессиональные навыки — это было бы слишком просто и скучно. В творчестве должны присутствовать мистика, волшебство — одним словом, нечто, далеко уводящее воображение публики от прагматизма и расчета, лежащих в основе самой поп-индустрии. У поп-идола должен быть не просто талант, который обязывает трудиться и превращает творчество в повседневную работу, поп-идол должен быть сверхчеловеком, обладать непостижимым, магическим дарованием. А творческий процесс должен быть спонтанным и бурным, а не рутинным и методичным.
Стихия и инфернальность, которые клип выбирает в качестве символов творческого процесса, необходимы для того, чтобы у рядового индивида создалась иллюзия, что в этом насквозь структурированном мире еще существуют необузданные, свободные, не вписывающиеся в общепринятые каноны личности, которым подвластно без особых усилий и напряжения быть на волне удовольствий и всеобщего интереса, и это у них получается как бы само собой, так как им покровительствуют вышние силы. При этом рядовой индивид обретает возможность мысленно отождествлять себя с этими сверхличностями, мечтать о том, что он мог бы так же, как они, «выскользнуть из ярма повседневности» и все его проблемы и дела решались бы не им самим, а волей потусторонних сил. Демоническое, инфернальное начало в этом случае еще более притягательно в сравнении с природной стихией, так как наряду с опасностью обладает ореолом некой запретности, несет с собой открытый протест, вызов устоявшимся нормам и правилам. По сути, оно порождает иллюзию управления миром путем энергетического воздействия на него. Исполнитель, привносящий в свой имидж инфернальные аллюзии, тем самым воплощает мечты рядового индивида о безграничной, сверхъестественной власти над законами бытия.
В свою очередь клиповая реальность, являясь, по меткому выражению Ю. Дружкина, одновременно пылесосом и мясорубкой визуальных образов[131], охотно заполняет не демоническую основу классической музыки готическими символами, так как без них видеоряд рискует быть слишком статичным, аморфным и унылым. Но инфернальность, предъявляемая в клипах, при всей своей эффектности и «натуралистичности» отнюдь не вызывает ужаса или страха. Из демонических символов оказывается выхолощен какой-либо содержательный пафос, теперь этими символами можно жонглировать, не вкладывая в них особого смысла. И темные силы вместо драматизма привносят в восприятие классической музыки элементы иронии, забавы, экшена, тем самым максимально облегчая ее восприятие, достигая опять же исключительно физиологической реакции на слышимое-видимое. Все нагромождение темных сил и их атрибутики призвано придать зрелищности, развлекательности, доставить публике побольше удовольствия, при этом внимательное всматривание в «картинку», вслушивание в музыку или сопереживание разворачивающемуся действию становится вовсе не обязательным.
5. Игры со временем и смыслом — исполнитель как повелитель прошлого
Итак, как мы могли убедиться, исполнитель в пространстве клипа наделяется полномочиями запросто отменять логику и целостность исторического развития культуры, выходить за пределы реального мира и вносить существенные изменения в окружающую действительность. Все это, безусловно, отражается на восприятии слушателем-зрителем самой музыки. Но помимо внешнего антуража воля исполнителя также распространяется на содержание музыки, которое изначально и дает толчок воображению клипмейкеров.
Казалось бы, в этом отношении особенно благодатной почвой для видеоклипа являются оперные арии. В данном случае сама музыка, благодаря либретто, уже предоставляет определенный сюжет и образ. Но сложность заключается в том, что ария в данном случае оказывается содержательным сгустком, в котором сцеплены и переплетены сразу две линии — микросюжет, развивающийся в пределах конкретного сценического номера, и макросюжет, обусловленный действием всей оперы. Но главной целью клипа всегда остается презентация самого артиста.
Поэтому в большинстве клиповых «экранизаций» оперных арий сюжетные перипетии зачастую нивелируются, сглаживаются и «спрессовываются» в символы. Самый распространенный и легко считываемый из них — это цветы, всегда связанные с любовными переживаниями. Так, достаточно окружить певицу алыми розами, чтобы стало ясно, что она — страстная и роковая Кармен[132]. И когда в конце клипа на певицу сыплются уже лепестки роз, то они символизируют бесчисленное количество сердец, разбившихся о свободолюбивый нрав героини. В другом случае сопоставление цветущих и срезанных, увядающих роз обеспечивает аллюзию страстной и, соответственно, прошедшей любви[133]. Для обозначения сюжета порой вполне достаточно атрибутов, упоминаемых в тексте арии. Например, как в клипах Анны Нетребко: в так называемой арии Маргариты с жемчугом (из оперы Гуно «Фауст») кадр до отказа заполнен всевозможной бижутерией, а в арии Русалки (из одноименной оперы Дворжака) зрителю дословно предъявляются луна и вода.
Но визуальные символы могут дать и более тонкое толкование сюжета, могут открыть второй смысл в искомом тексте. Здесь показателен клип Андреаса Сколла (Andreas Scholl) на арию «What power art thou» из оперы Персела «Король Артур». В опере арию поет аллегорический персонаж — Гений Холода, которого насильно пробудили и призвали на землю, и он всеми силами хочет уйти и покинуть чуждый ему мир. Герой, призванный из потусторонней сферы, жаждет вернуться в свою обитель, ему слишком неуютно на земле. В клипе же ощущение отчужденности и неприкаянности создается через помещение героя в стерильное пространство стеклянных небоскребов. В данном случае испытываемый холод символизируют гладкие и блестящие поверхности зданий современного мегаполиса.
Характерно, что подавляющее большинство клипов переносит время действия если не в современность, то в ближайшее прошлое[134]. Идея такого перемещения во времени легко объяснима — это желание связать далекие эпохи через «вечные» темы, найти единые для всех времен императивы, лежащие в основе человеческих поступков и эмоций, другими словами, сделать далекое прошлое знакомым настоящим. Так, Мюзетта из пуччиниевской «Богемы» в клипе с Анной Нетребко оказывается любовницей успешного бизнесмена; или уже упоминавшаяся в ее же исполнении Маргарита предстает сразу в трех ипостасях — женщины-вамп, девушки-хиппи и лирической героини наших дней. В клипе Анджелы Георгиу Мадам Баттерфляй живет в современных апартаментах и общается по телефону; в исполнении Магдалены Кожены Альмирена, генделевская героиня XI в., является то современной девушкой, горюющей о погибшем солдате, то знатной дамой XVIII в.
Другой вопрос, как раскрываются характеры оперных персонажей, помещенных в обновленные декорации, насколько они соотносятся с тем, что хотели сказать авторы оперы. Обычно актуализация сюжета и необходимость создать имидж самому исполнителю полностью «подминают» под себя изначальный характер оперного героя. Клип всегда стремится на свой лад переработать поступающий материал, расщепить его, а затем заново собрать, и представленная версия зачастую оказывается весьма удаленной от идеи первоисточника. Так, Мадам Баттерфляй в своей арии «Un bel di» мечтает о счастье долгожданной встречи с возлюбленным, а клип построен на выяснении взаимоотношений между отвлеченными мужчиной и женщиной. Моцартовская Донна Анна в арии «Crudele! — Ah no, mio bene!» говорит о любви к жениху и скорби об отце, а в клипе с Анной Нетребко в условном пространстве вокруг певицы танцуют мускулистые люди-деревья[135]. Женственность и задушевность арии Русалки в другом ее клипе трансформируются в мизансцену томления с элементами эротики. Хотя клипу той же певицы на вальс Мюзетты удалось через современную фактуру вплотную приблизиться к замыслу Пуччини. Скольжение в роскошном автомобиле, элегантные наряды и заглядывающиеся вслед мужчины передают блеск и пустоту жизни Мюзетты наших дней. Попадание в образ не в последнюю очередь обусловлено как актуальностью темы о праздной жизни дорогостоящих содержанок, так и благодаря счастливому совпадению артистического имиджа самой певицы и ее героини[136].
В отличие от оперных певцов при перенесении инструментальной музыки в клип исполнители, с одной стороны, не скованы повествовательным сюжетом, не привязаны к конкретным словесно выразимым образам. Но, с другой стороны, клип вынуждает эти образы так или иначе изобретать, создавать, конструировать. В случае программной музыки сюжет видеоклипа пытается оттолкнуться от названия произведения. Если оно яркое и несет конкретный образ, то клип зачастую строится на его интерпретации. Так, в клип Джошуа Белла (Joshua Bell), исполняющего «Китайский тамбурин» Крейслера, вводятся кадры оживленных китайских улочек. Ванесса Мей в клипе на фрагмент сонаты Тартини «Дьявольские трели» перевоплощается в образ зловещего двойника самой себя, как бы играя роль посланника дьявола.
В этом плане примечателен клип Жанин Жансен (Janine Jansen) и Итамара Голана (Itamar Golan), исполняющих «Пробуждение» Форе. Сюжет клипа построен как раз на идее неуловимости музыки, невозможности представить ее в каком-либо визуально ощутимом образе. Действие клипа развивается в двух параллельных сюжетных линиях. В одной — скрипачка вместе с концертмейстером в большом зале, залитым солнечным светом, исполняют музыку. В другой линии она же — Жанин Жансен, но уже в качестве героини, ищет кого-то (или что-то) по улицам ночного города. Символом ускользающего объекта становятся поляроидные фотографии, на которых запечатлены места-подсказки. Они попадаются героине как бы ниоткуда, самым неожиданным образом, и ведут ее по пустынным переулкам, но стоит ей рассмотреть изображение, как оно тут же исчезает со снимка. Создается ощущение, что героиню ведет какая-то неведомая сила. Это нечто, все время ускользающее, так и остается не разгаданным до конца, не предъявляется зрителю овеществленным. Но, судя по всему, подразумевается сама музыка, так как именно благодаря ей пересекаются до этого разделенные сюжетные пространства. На последней фотографии, найденной путешествующей по ночному городу героиней, запечатлена скрипка. А на полу концертной залы, после окончания звучания музыки, появляется снимок с убегающей в ночную даль героиней. Получается, что в ночи девушка искала музыку. Но попытка запечатлеть музыку, уловить ее плоть обречена на неудачу.
Однако сценарий данного ролика отнюдь не отменяет, а наоборот, утверждает за клипом обязанность находить зримые, видимые образы, сюжеты и тем самым «опредмечивать» музыку. По сути, на это направлены все вводимые в кадр спецэффекты, о которых мы говорили ранее. Но в этой гуще визуальных образов, которые помещаются и плавятся в горниле клипа, рождается незаурядная мифологема, подспудно просвечивающая сквозь большинство клипов на классическую музыку.
В данном случае мы вновь возвращаемся к идее управления временем, используя которую клип с лихвой оправдывает свободное смешивание и перекрещивание исторически удаленных друг от друга эпох и сюжетов. Одновременно с желанием связать эпохи, соединить исторически не соединимое клип настаивает на своем праве заново конструировать, перестраивать «инфраструктуру» этих эпох, на новый лад «прочитывать» их нравы и быт. Таким образом, временная удаленность исполняемой музыки служит не просто источником не «затертых» декоративных символов, но оказывается тем искомым зерном, с которым и работает жанр клипа. Причем в случае с классической музыкой клип замахивается на нечто много большее по отношению к тому, с чем он привык иметь дело. Ведь клип, прежде всего, оперирует пространством, так как важен фон, на котором предстает исполнитель. Временна́я шкала задействуется очень специфично — время подается в «мелкой нарезке» клипового монтажа, и эта «заранее предусмотренная динамичность видеоклипа превращает его, как это ни парадоксально, в предельно статичное изображение»[137]. То есть длящееся, протяженное время в клипе зачастую никак не обыгрывается, не несет особой смысловой нагрузки; время становится как бы константным, несмотря на его формальную «измельченность». Обращение же к классической музыке предоставляет клипу возможность не просто использовать временной ресурс, а «распоряжаться» эпохами, причем не только их реконструировать и изображать их, но, более того, моделировать и управлять ими.
В этой интенции клип реализует стремление современного человека властвовать над прошлым, его притязания на управление временем. И прежде всего такими полномочиями наделяется исполнитель, который на правах главного героя получает способность свободного скольжения сквозь эпохи. Исполнитель не только озвучивает, «оживляет» музыку давно минувших столетий, но и вносит существенные изменения в сам уклад этих столетий, он свободно переделывает их «под себя». Музыка же в данном случае становится своего рода ключом, тем незаменимым механизмом, который сопровождает и обеспечивает происходящий «взлом» эпох. Благодаря ей исполнитель может беспрепятственно перемещаться в прошлое и возвращаться обратно, как бы постоянно фланировать между эпохами, оставаться неуловимым, не принадлежать всецело своему времени. Это ли не та способность, о которой мечтает любой человек?
6. Одиночки без одиночества
В ходе своих рассуждений о клиповой культуре мы все время наталкиваемся на фигуру исполнителя как главного и единственного вершителя всех происходящих метаморфоз. Законы клипа таковы, что помимо не вызывающего сомнений большого таланта исполнитель должен иметь целый комплекс сверхвозможностей, поражающих воображение слушателя-зрителя. В итоге музыкант владеет и управляет стихией, обладает связью с потусторонними силами (уже не столь важно, божественного или дьявольского происхождения), научается «взламывать» и пересоздавать пространство минувших эпох. Более того, он оказывается вправе кардинальным образом изменять содержание музыки, наделяется способностью управлять временем и перемещаться сквозь эпохи. Весь этот список «профессиональных» навыков необходим исполнителю для создания и подтверждения особого статуса звезды — неординарной личности, принципиальным образом отличающейся от обыкновенных людей и вместе с тем претендующей на их внимание и восхищение.
Однако в клипе может и не быть всех вышеперечисленных спецэффектов, камера может фиксировать непосредственное исполнение произведения, без особых художественно-технических ухищрений, но при этом за исполнителем статус звездности остается. Данный феномен обуславливается тем, что в основе исключительного положения исполнителя лежат не столько приписываемые ему чудодейственные способности, сколько характерный способ их презентации. Клип вновь обращается к романтизму. При этом, как и в случае с природной стихией, от искомой идеи берется лишь оболочка, а содержательное наполнение изменяется и переосмысляется в угоду требованиям массмедийной презентации.
Клип обыгрывает один из главных конфликтов романтизма — конфликт художника и социума, основанный на идее непонимания и неприятия публикой его искусства. Если мы вспомним упоминавшийся выше клип Виктора Зинчука на «Каприс» Паганини, то там эта тема решена в комическом ключе. Авторы клипа намеренно иронизируют над «высоким судейством», утрируя нелепые наряды и чопорное поведение членов комиссии, так и не расслышавших подлинный талант выступавшего перед ними юноши. Несмотря на пародийное начало, в основе данного сюжета как раз и лежит идея антитетичности художника и социума, обреченности художника на одиночество. Более того, этот мотив возникает в целом ряде видеоклипов.
Так, в сценариях многих клипов исполнитель музицирует в одиночестве. Присутствие публики заведомо не предполагается — герой находится наедине со своим инструментом и как бы только ему поверяет тайны своей души, самовыражаясь в творчестве[138]. Подобное отрешение через музыку может происходить на лоне природы, что придает пасторальным мотивам бо́льшую глубину, привносит момент дисгармонии в царящую безмятежность. Но так как более эффектно и наглядно одиночество проявляется в толпе, то музыкант помещается в пространство бурлящего мегаполиса, при этом отпадение героя от окружающей среды передается приемами кинетики — движение толпы ускоряется до предела, превращается в поток смазанных фигур и объектов, а движения героя, по контрасту, утрированно замедленны и статичны[139]. Во всех приведенных примерах намеренно заостряется мотив отрешенности, отстраненности и даже отчужденности исполнителя от внешнего мира, его пребывание в некой невидимой, но в то же время непроницаемой оболочке.
Романтический герой был обречен на одиночество ввиду непреодолимой пропасти между его духовными устремлениями и рационалистическими интересами окружающего его буржуазного общества. В мире, где мера человеческой ценности измеряется общественной пользой, художник, творящий духовные ценности, оказывался бесполезным[140]. По сути, романтическое мирочувствование, особенно в свой поздний период, обрекало художника на добровольное изгнание из общества, так как он не мог даже помыслить о сделке с совестью в обмен на благополучие и довольствие размеренной, филистерской жизни. Его высшей целью было «изжить до конца свою собственную личность, вместить в душе своей всю радость и все горе, всю полноту жизни»[141], быть на земле пусть не долго, но ярко.
Кроме того, вынужденное или добровольное уединение понималось романтиками как важнейший ресурс для творчества. Это убеждение основывалось на древнейшей традиции отшельничества как пути к познанию человеком глубинных оснований бытия и самого себя. Романтики же направили эту энергию уединения на творчество, декларируя последнее как один из способов познания мира. Поэтому «услышать» природную стихию и свое внутреннее «я», попасть в трансцендентное измерение и расширить пределы своих духовных сил, по мысли романтиков, художник мог только через абстрагирование от всего внешнего и суетного.
Эта идея пережила свою эпоху и стала одной из ведущих концепций художественного творчества, в том числе и в сфере музыкального исполнительства. Например, В. Ю. Григорьев определяет одну из двух моделей исполнительской коммуникации через понятие «публичного одиночества» артиста, которое позволяет ему «добиваться наивысшего уровня концентрации сил на передаче слушающей аудитории глубочайших художественных смыслов сочинения»[142]. По мнению исследователя, именно к этому способу коммуникации, создающему видимость отсутствия прямого контакта со слушателем, прибегает большинство крупных музыкантов-исполнителей. Суть производимого эффекта сводится к тому, что исполнитель не адресует свое послание напрямую публике, а своей игрой создает некое магнетическое поле, которое и воздействует на присутствующих в зале людей[143].
Формально клип, представляющий музицирующего исполнителя в одиночестве, лишь переносит эту сложившуюся модель коммуникации на свою территорию, как бы только запечатлевая и декорируя устоявшуюся ситуацию творческого процесса. Показывается сосредоточенность исполнителя, его погруженность в музыку; зрителю-слушателю как бы предоставляется возможность «подглядывания», незримого присутствия при истинном моменте творчества. То есть если на концерте музыканту приходится прилагать отдельные усилия, чтобы абстрагироваться от публики, то в данном случае ему заранее создаются необходимые условия. Публика, казалось бы, тоже ничего не теряет, наоборот, перемещаясь по ту сторону экрана, она получает возможность максимального визуального приближения к исполнителю.
Но в данном случае происходит кардинальная инверсия смыслов: на самом деле клип способствует не сосредоточенности музыканта на исполняемом произведении, а сосредоточенности зрителя-слушателя на фигуре самого музыканта. Одиночество исполнителя на поверку оказывается мнимым, изображаемым, постановочным, клип лишь «играет» на мотиве одиночества, его целью является ровно обратное.
Мизансцена уединения исполнителя служит исключительно способом его презентации, но в ней нет и тени того трагизма, с которым была связана тема одиночества у романтиков. Одиночество с позиции клипа (и вместе с ним массовой культуры) — это не проблема, а счастье, фиксация достигнутого успеха, привилегия, свидетельствующая об особом статусе исполнителя, об его «звездности». Клип интерпретирует одиночество как единственность и уникальность исполнителя. Одиночество уже никоим образом не связано со страданием, оно прочитывается как социальный триумф, как подтверждение особой профессиональной востребованности и кульминация славы исполнителя.
На протяжении ХХ в. все привыкли к тому, что темы и формы романтизма продолжают свою жизнь в массовой культуре, которая охотно их адаптирует и эксплуатирует. Но история с одиночеством исполнителя является примером того, как массовая культура постепенно отходит от слепого заимствования чужих канонов. В этой тенденции от романтизма остается всего лишь «оболочка», но наполняется она отнюдь не романтическим содержанием. Массовая культура находит удивительно подходящую форму, которая маскирует коммерческое начало под иллюзию свободного творчества, а нарциссизм исполнителя вуалирует в благородную профессиональную потребность. И в данном случае клипы наглядно фиксируют еще один этап постмодернистского продления и постепенного изживания романтического наследия.
Глава 4 Контексты взаимодействия реальности с виртуальностью
1. Современный облик филармонического концерта
«Живое» исполнение классической музыки обладает особенными эстетическими свойствами, выходящими за пределы того удовольствия, которое дарует восприятие самой музыки. Не случайно необходимость публичного исполнения музыки сохраняется и культивируется и сегодня, когда любое произведение в любой интерпретации можно «получить», не отходя от экрана телевизора или компьютера. Поход на концерт в филармонию зачастую воспринимается как «выход в свет» и предполагает участие в особого рода ритуале, который играет важнейшую роль в восприятии самой музыки.
Внебудничный тон задает уже парадный туалет, когда женщины надевают вечерние платья и ювелирные украшения, а мужчины облачаются в строгие костюмы. С этого момента они из общей массы людей превращаются в леди и джентльменов, становятся уважаемой публикой, то есть частью сообщества, особым образом организованного. У человека появляется стремление «выглядеть», выделяться и отличаться от «Я-обыкновенного», выходить за пределы повседневного мира вообще. Схожий эффект «перевоплощения» инициирует классическая музыка, звучащая фоном в каком-либо общественном пространстве, о чем мы говорили в первой главе. Однако в ситуации филармонического концерта это ощущение многократно усиливается, так как человек становится непосредственным участником разворачивающегося ритуала.
Каждый начинает подспудно осознавать, что на него в какой-то момент будет устремлен чей-то взгляд, что он будет притягивать внимание к своей персоне, что будут оцениваться его внешний вид и манера поведения. Поэтому в человеке, так или иначе, пробуждается артистическое начало, он хочет быть лучше — воспитаннее, учтивее, красивее, чем в повседневной жизни, и стремится выдать этот примеряемый образ за естественную сторону своей натуры, более того, в какой-то момент он сам начинает верить в правдивость и органичность этого образа. Филармонический концерт становится первопричиной происходящей метаморфозы, но отнюдь не известно, является ли атмосфера в зале фоном для восприятия музыки, или музыка становится фоном для разыгрываемого ритуала, что важнее для отдельно взятого посетителя концерта — услышать музыкальное произведение или ощутить свою причастность к определенному кругу людей?
Так же как и в клипах на классическую музыку, в ситуации филармонического концерта востребована идея путешествия в прошлое. Но если в клипах зрителю предъявляются уже готовые и обработанные визуальные образы, которые он воспринимает опосредованно, то на концерте он получает возможность самолично оказаться внутри разворачивающегося действа, почувствовать себя его незаменимым участником. Приходя на классический концерт, публика попадает в интерактивный театр, где она, соблюдая церемониал, становится полноправным героем «путешествия во времени». Посетитель концерта может попробовать ощутить себя человеком, живущим где-то до ХХ в., до коротких юбок, джинсов и поведенческого плюрализма. Поэтому невольно или сознательно он начинает вести себя так, как, по его представлениям, было принято «когда-то тогда».
Однако сопоставление прошлого и настоящего показывает, что чем консервативнее традиции поведения, тем более они молоды. Один из ярчайших примеров — это ритуал аплодисментов. В своей книге Е. В. Дуков приводит убедительные примеры из XIX в., когда публичные концерты проходили в своеобразной «шумовой завесе», а аплодисменты были необходимы как для навигации новообращенных слушателей, так и для собирания всеобщего внимания, рассыпающегося из-за все увеличивающейся длины произведений[144]. Сегодня, согласно общепринятому и строго выдерживаемому правилу, классическая музыка должна звучать в тишине, а для выражения слушательской реакции отведен временной промежуток исключительно после окончания всего произведения. То есть непосредственный отклик на музыку намеренно откладывается, так как считается, что овации после окончания части многочастного произведения разрушают авторскую концепцию. Тем самым из возможности выражения вызванных музыкой эмоций аплодисменты превращаются в ритуальный знак, прежде всего очерчивающий статус происходящего события для самих его участников.
Особую функцию в воссоздании духа прошлого играют интерьеры концертных залов. «Концертный зал, даже безлюдный и молчаливый, говорит сам за себя. Он внушает идею упорядоченного устройства музыкального мира, изобилующего замечательными творениями, которые звучали и будут звучать в его стенах сезон за сезоном, гарантируя любителям музыки новые и старые радости. Концертный зал — это внушительный символ непобедимой инерции прошлого…»[145] Это глубокое по смыслу высказывание Генриха Орлова действительно в отношении как исторических, так и современных залов, в интерьеры которых вкрапляются символы из прошлых столетий[146].
Музыканту при погружении в прошлое также отведена своя роль, важными атрибутами которой становятся сценический костюм и стиль поведения. Зачастую визуальный ряд филармонического концерта выдержан в черно-белых тонах костюмов и вечерних платьев, черно-белое облачение является своего рода дресс-кодом классической музыки. Весьма редко музыкант-мужчина может позволить себе появиться перед публикой без фрака (смокинга) и галстука[147]. Мужской костюм в данном случае несет двойной семантический подтекст. Во-первых, он является сценическим нарядом, отсылающим к прошлому, в том числе к аристократичности, так как тот же фрак имеет историческую славу «прозодежды правящего класса»[148]. Во-вторых, моделируется ситуация деловых взаимоотношений, где строгая форма одежды настраивает участников скорее на серьезный, нежели развлекательный, характер времяпрепровождения.
Таким образом, антураж и ритуал филармонического концерта начинают выполнять функцию визуализации, материально-пространственной фиксации того серьезного, вдумчивого настроя, который требуется от слушателя классических произведений. Известно, что восприятие классической музыки связано не только с эмоциональными, но и интеллектуальными затратами, здесь необходимо напрягать внутренние силы, уметь концентрироваться и рефлексировать, то есть «пропускать» слышимое через голову. Одним словом, адекватное восприятие классической музыки подразумевает духовную мобилизацию. Для получения удовольствия от звучания, скажем, симфонии Малера определенные усилия должны прилагать не только музыканты, но и слушатели. В свою очередь это требование духовных вложений противоречит главной тенденции современной индустрии развлечений. Последняя рассчитана на расслабление, на легкоусвояемое наслаждение и отсутствие каких-либо обязательств со стороны ее потребителя.
Но если человек решает провести вечер в филармонии, то тем самым он соглашается прилагать усилия, необходимые для постижения классической музыки. Потому так важен сам ритуал, потому он с таким рвением исполняется (особенно новообращенными посетителями симфонических концертов), что он становится зримым воплощением и подтверждением нахождения в другой позиции по отношению к общедоступной массовой культуре. Ритуал помогает публике почувствовать, наглядно ощутить комплекс значений, вкладываемых в понятие «высокое искусство», и осознать свою причастность к нему. Причем если у глубокого авторского кино или театра, как правило, нет таких внешних поведенческих атрибутов, которые отделяли бы их от развлекательных аналогов, то у классической музыки эти атрибуты, наоборот, оказываются ярко выраженными. И сосредоточены они как раз в создаваемой иллюзии погружения в прошлое.
Более того, классическая музыка позволяет не только сопоставлять категории прошлого и настоящего, но своим существованием образует уникальную категорию вечного. Эта музыка является примером «перевода» земного творения, встроенного в поток необратимого времени, в координаты вечности, над которой время уже не властно. По сути, музыка становится классической ровно тогда, когда она «отрывается» от своей эпохи, оставшейся в прошлом, и получает право быть воспринимаемой, вызывающей отклик в людях последующих эпох. Этот свершившийся переход музыки из современной в классическую как раз и закрепляет за ней более высокий статус. Музыке удается преодолеть свою смертность, которая неизбежна в отношении человека и его вещей, и она приобретает качество бессмертной, неустаревающей.
Концерт очень схож с театральным представлением в том смысле, что подразумевает непременную симультанность пребывания в едином пространстве и времени исполнителей и воспринимающей аудитории. И когда исполнитель погружается в поток музыкального произведения, то в эту же эстетическую реальность, при условии достаточной концентрации, попадают и зрители-слушатели. Тем самым они становится очевидцами, слушателями-свидетелями жизни вечной музыки. Характерной особенностью такого восприятия музыки является утрата объективного чувства времени, ведущая к эффекту неограниченно расширяющегося и длящегося мгновения[149]. То есть в какой-то момент слушатели оказываются в уникальном измерении вечности, безвременности, как бы «выпадают» из поступательного движения времени.
Особая роль в происходящем расширении временных границ принадлежит поведению академических музыкантов на сцене. Его специфика заключается в том, что «большинство солистов, исключая вокал, <…> принимают позу, минимизирующую визуальный контакт с залом»[150]. Кроме того, какая бы эмоционально насыщенная музыка ни исполнялась, музыкант, «прикованный» к своему инструменту, может передавать аффекты только через весьма лимитированный круг условных жестов. Но в данном случае внешний аскетизм исполнителя — это не столько дань церемониалу, сколько последствия особого типа коммуникации.
На наш взгляд, на филармоническом концерте наряду с перпендикулярным вектором коммуникации между артистом и зрительным залом[151] существует еще одно направление, разворачивающееся параллельно плоскости сцены, — это диалог исполнителя со своим музыкальным инструментом. Именно к инструменту обращен исполнитель, именно на него направлено внимание и усилия музыканта; в инструменте непосредственно рождаются звуки, а от успешности взаимодействия музыканта с инструментом в конечном итоге зависит и успех самого исполнения. В этой связи не случайно в профессиональном музыкантском языке есть выражения «овладеть игрой на инструменте», «приспособиться к инструменту» или пример из рецензий — «пианист боролся с роялем». То есть инструмент воспринимается как вполне независимый и равноправный участник в творении музыки.
Публика на концерте по большому счету наблюдает и слушает диалог, который свершается между исполнителем и его инструментом. Поэтому главным объектом внимания музыканта является отнюдь не публика, а его инструмент и исполняемое произведение. Не случайно большинство стратегий исполнительского поведения говорят о необходимости абстрагирования от публики, и высший момент подлинного творчества наступает тогда, когда исполнитель при полном зале ощущает себя наедине с музыкой, со своим инструментом.
В этом заключается своеобразный парадокс любого исполнительского искусства. С одной стороны, исполнитель не может существовать без публики, ему необходимо ее присутствие для полноценного развертывания творческого акта. Вместе с тем забота исключительно о восприятии и мнении публики чревата полным фиаско, потому что из поля исполнительского внимания выпадает собственно интересующий публику объект — музыкальное произведение. Концерт является специфическим соединением публичного и личностного — при всей публичности момента присутствующая в зале аудитория хочет видеть и слышать мастерство музыканта в его естественном проявлении, хочет быть свидетелем раскрытия творческого нутра исполнителя, ждет от него откровенности и откровения посредством искусства, которые недостижимы в режиме обыденного человеческого общения. И в данном случае именно музыка становится тем средством, которое обуславливает эту ожидаемую публичную исповедь.
Другой ракурс притягательности филармонического концерта — это синхронность и подлинность совмещения видимого и слышимого, проявляющаяся в органичной связанности движений рук музыканта и звучащей музыки. Этот аспект стал осознаваться и цениться именно сегодня, в век технологий, когда любое изображение и любое звучание могут быть смонтированы с чем угодно и обработаны спецэффектами. Ситуация концертного исполнения впечатляет именно тем, что все слышимое и видимое происходит здесь и сейчас, без вмешательства «третьих лиц», является проявлением природного дарования человека. «Живой» филармонический концерт вызывает у рядового посетителя чувство гордости за человека как такового, за то, на что он способен в своей номинальной сущности, без поддержки каких-либо технических средств (музыкальный инструмент тут не в счет). Публику восхищает этот наглядный пример мощи человеческого духа и физической виртуозности — это доказательство того, что человек еще что-то может делать сам в сегодняшней цивилизации, не прибегая к помощи вездесущих компьютерных технологий.
Однако через призму современной зрелищной избалованности игра на большинстве музыкальных инструментов кажется слишком статичной, так как движения музыканта зачастую однообразны и происходят на микроуровне (например, скольжение пальцев по грифу или их «бег» по клавиатуре) и для непрофессионала не привносят в слуховой образ дополнительной информации. Поэтому в пространство классического концерта все чаще начинают вторгаться гигантские мониторы, которые иллюзорно приближают фигуру исполнителя, показывают мельчайшие детали выступления и вместе с тем существенно изменяют условия концертной коммуникации.
Формально функция видеоэкранов вполне очевидна и состоит в том, чтобы публика даже на самых дальних рядах имела возможность подробно рассмотреть играющих музыкантов. Экраны, как в свое время усилительные системы и микрофоны, позволяют в разы увеличивать аудиторию концерта. Именно с их помощью стали пользоваться такой популярностью сцены, сооружаемые под открытым небом — на городской площади или в парках исторических усадеб. Однако эффект от встроенных в концертное пространство мониторов выходит далеко за пределы визуально-зрелищной комфортности слушателя-зрителя.
В данном случае публике одновременно предлагаются и концерт, и кино про концерт. Или концерт и кино про звучащую музыку, если происходит не видеодублирование реальности, а проецируются предварительно заготовленные изображения. В первом случае парадокс заключается в том, что публике на мониторах, то есть в заведомо виртуальной плоскости, показываются крупные планы исполнителей, которые в это время «живьем» выступают на сцене. Тем самым происходит своеобразное «расщепление» артиста на две ипостаси: материальную — воспринимаемую с приличного расстояния, следовательно, физически плохо ощутимую, и виртуальную — максимально приближенную и властвующую над слушателем-зрителем, перетягивающую его внимание от того, что происходит на реальной сцене. В случае же с видеоинсталляцией слушателю-зрителю предлагаются уже готовые зрительные образы, которые возникают не в его воображении, а, заранее кем-то придуманные и воплощенные, доставляются «в комплекте» со звучащей музыкой[152].
О чем же говорит эта потребность видеосопровождения концертов классической музыки?
Прежде всего о том, что при всей театральной «здесь и сейчас» реальности, при всей симультанности восприятия зрителя-слушателя и исполнителя, при всей их равной материальности и присутствии в едином пространстве зала нет уверенности, что этих возможностей самого концерта хватит для того, чтобы погрузить слушателя-зрителя в звучание музыкального произведения. «Нынешняя публика, привыкшая в основном воспринимать концертный жанр в телевизионной интерпретации, жаждет визуального разнообразия и, как ни кощунственно это может прозвучать, начинает скучать на “живом” концерте»[153]. Ведь для того, чтобы почувствовать свою неотделимость и полную включенность в разворачивающееся звуковое действие, слушателю необходимо преодолеть физическую пространственную дистанцию, суметь сконцентрироваться и продолжительное время удерживать внимание на сценическом целом. Такое слушание есть внутренняя работа, требующая немалых усилий от реципиента. Здесь уже нельзя скрыться за ритуальной игрой в духовную мобилизованность, а надо на самом деле мобилизоваться. Экраны как бы «страхуют» восприятие слушателя-зрителя от рассеивания, берут на себя часть тех усилий, которые необходимо принимать ему самому. Они выполняют роль визуальных «сурдопереводчиков», делающих музыку нагляднее, а значит, более доходчивой и ясной.
Но при этом нельзя не учитывать, что экраны могут как фокусировать внимание слушателя на происходящем исполнительском акте, так и с равным успехом вести к обратному эффекту. И вместо того, чтобы слушать произведение, зритель-слушатель начинает следить за экранной интерпретацией реальности и как бы «забывает» о музыке, увлекшись сопоставлением двух «визуальных рядов» одного и того же действия.
Кроме того, экраны в концертном зале — это также и демонстрация финансовой состоятельности, показатель соответствия заведения стандартам современного благоустройства. Подспудно подразумевается, что концертная организация достаточно зарабатывает для того, чтобы иметь в своем распоряжении последние достижения техники, а следовательно, она высоко котируется на рынке культуры. Экран — это знак успеха и востребованности, причем знак именно сегодняшнего дня. Несмотря на то что классические концерты предлагают своим посетителям иллюзию путешествия в прошлое, а академические музыканты претендуют на свободное перемещение сквозь эпохи, никто не собирается на самом деле «выпадать» из своего времени. Все происходящее на концерте происходит в современности и современными же средствами фиксируется, запечатлевается и увековечивается. Тем самым подчеркивается, что музыканты находятся в гармоничных отношениях с современностью, со своей эпохой и обществом.
Наконец, экран, показывающий исполнителей крупным планом или охватывающий общую панораму зала, режет и монтирует, визуально «разделывает» окружающую действительность в прямом эфире. Тем самым, как уже говорилось, он адаптирует и конвертирует происходящий концерт в удобный и привычный для слушателя-зрителя формат. Транслируемое на экранах становится своего рода протяженным рекламным роликом, который рекламирует как сам концерт, так и слушателей-зрителей, присутствующих на нем. По аналогии с посетителями кафе, сидящими за стеклянными витринами, которые одновременно рекламируют заведение и самих себя — платежеспособных, наслаждающихся комфортом, вкусами, общением. Вдобавок к этому экран дает иллюзию приближения к музыканту, и эта иллюзия для многих бывает дороже, чем реальное соприсутствие в одном зале в одно и то же время.
2. Принципы трансляции классической музыки по телевизору и в кинотеатрах
Согласно законам современных массмедиа все, что попадает в кадр, должно быть динамичным, визуально притягательным и безраздельно захватывающим внимание обращенного к экрану человека. Именно поэтому классическая музыка, когда она оказывается в поле массовой культуры, пропускается через фильтры различных спецэффектов, о которых мы говорим на протяжении всего исследования.
Если «живой» концерт по визуальным характеристикам проигрывает телетрансляции, то сами телетрансляции концертов классической музыки уступают по зрелищности любому другому телевизионному жанру. Тем не менее, не претендуя на рейтинги клипов и шоу-проектов, трансляции остаются одним из ведущих форматов экранной презентации музыки. В данном параграфе мы попытаемся понять, в чем заключается зрительский интерес к трансляции, как она влияет на восприятие музыки и почему продолжает существовать в эфире телевидения, которое претерпевает кардинальные изменения.
Как известно, на первоначальном этапе, только появившись, трансляции притягивали к себе внимание прежде всего фактом сопричастности зрителя к действию, разворачивающемуся в реальном времени, но в другом, физически удаленном от него пространстве. При этом качество сигнала было уже не столь значимо в сравнении с ощущением «присутствия» на показываемом по телевизору событии. В свою очередь, само событие в глазах телезрителя автоматически приобретало ауру избранности, незаурядности, важности, с помощью телевидения оно получало статус эталона[154].
В наше время фактом фиксации какого-либо события на видео уже никого не удивишь — доступность приобретения и относительная простота обращения с видеокамерой делают ее привычным атрибутом любого концерта. Но в разы возросла другая символическая ценность трансляции — ценность включения события в поток массмедиа. Сегодня важно, чтобы концерт не просто снимали на видеокамеру, а при этом еще и передавали по какому-либо из каналов средств массовой коммуникации, и именно данный факт становится показателем престижности, статусности и значимости события. С этой точки зрения, внимание зрителя переключается с того, что именно показывают, на тот факт, что это удостоилось показа. И если раньше, на советском телевидении, трансляция спектакля или концерта настаивала прежде всего на художественно-эстетической ценности самого произведения и его трактовки, то сейчас трансляция, помещая событие в сферу массмедиа, выделяет его из общего культурного контекста, но отнюдь не гарантирует уникальности исполнительской интерпретации. (В качестве примера можно привести церемонии открытий и закрытий масштабных фестивалей, на которых непременно присутствуют медийные лица. Но репертуар, исполняемый на подобных торжествах, зачастую предельно стандартен — набор шлягерных арий, концертов и симфонических увертюр. Весомость такого события исчисляется исключительно известностью его участников (как выступающих на сцене, так и сидящих в зале), а трансляция как бы подтверждает и закрепляет масштабность происходящего в глазах обывателей.)
Включенность телевидения в ландшафт повседневности, его повсеместное распространение и привычность оборачиваются в отношении художественных произведений палкой о двух концах. Так, первый восторг по поводу равного доступа к шедеврам мировой культуры, который получил человек с приходом в его дом телевидения, сменился осознанием того, что такая форма общения с искусством, отменяя дистанцию и ритуал поведения, отменяет также и необходимость духовной настроенности, проявления ответной активности со стороны зрителя-слушателя. Эта проблема подробно рассматривалась как теоретиками телевидения[155], так и самими музыкантами. Например, как метко высказался еще насчет радиовещания С. В. Рахманинов, «чтобы воспринимать хорошую музыку, нужно быть интеллектуально настороженным и эмоционально восприимчивым. Вы не можете быть таким, когда сидите дома, положив ноги на спинку стула. Слушанье музыки вещь более трудная, нельзя просто “всасывать” ее в себя»[156].
Поэтому при всей перцепционной демократичности телевидения как средства коммуникации трансляция концерта классической музыки требует от слушателя-зрителя приложения немалых усилий, здесь необходима волевая концентрация внимания, иначе ускользает смысл показываемого действия, которое превращается в череду однообразных и довольно статичных «картинок». Перефразируя знаменитое наблюдение В. С. Саппака, можно сказать, что «интимность» дистанции требует от зрителя активности отношения к объекту телетрансляции[157]. Таким образом, если на концерте экраны облегчают восприятие слушателя-зрителя, потому что образуют специфический синтез с «живым» контекстом, то в распоряжении вынесенных за пределы концертного пространства экранов остаются только их собственные средства воздействия.
Не секрет, что первопричина основных противоречий между телевидением и музыкой заключается в разнице ведущих каналов восприятия — содержание музыки выражается в звуках, а на телевидении (более того — во всей современной культуре) превалирует визуальное начало. Этот краеугольный вопрос о соотношении изображения и музыки возник с самых первых телетрансляций и с совершенствованием возможностей техники становился только острее. Что должно быть в кадре во время звучания музыки, с каких ракурсов необходимо снимать сцену и исполнителей, каковы принципы монтажа музыкальной трансляции, какими зрелищными эффектами располагает сама музыка — таковы были основные проблемы, встававшие как перед практиками, так и перед теоретиками советского и зарубежного ТВ 50–80-х гг.
В поисках тех лет авторитет музыки и музыкантов был незыблем, экраном была принята своеобразная политика «невмешательства» в ткань музыкального произведения. Телевидение, в том числе и западное, руководствовалось идеей почтительного отношения к музыке, которая «не нуждается в режиссере, помещающем себя между музыкой и телезрителями»[158]. Изображение должно было лишь помогать услышать музыку и ни в коем случае не «перетягивать» на себя внимание монтажно-выразительными приемами. Согласно такому подходу, телевизионная «картинка» в восприятии телезрителя должна была отступать на второй план, несмотря на главенство визуального начала в природе самого телевидения.
Из этих предпосылок сформировался характерный стиль трансляций того времени, который можно обозначить как статико-монументальный. Монтаж протяженных планов был разреженным, большинство камер располагались в зале, и лишь одна — направленная на дирижера — давала взгляд изнутри сцены. Оркестранты показывались исключительно группами, и разглядеть их лица на малом экране было практически невозможно. Сверхпротяженные и панорамные планы грозили оказаться монотонными, визуально «пресными», заставляющими телезрителя скучать у экрана. Но вместе с тем такой стиль съемки особенно хорошо передавал слаженность движений оркестрантов, например струнников, которые с невероятной синхронностью, все как один, водили своими смычками. Центром притяжения, в зависимости от исполняемого произведения, выступал или дирижер, или солист — именно они представали крупным планом, и их лица подавались как образное средоточие содержания музыкального произведения. Причем такой подход к съемке был обусловлен не только техническими возможностями видеоаппаратуры и особым пиететом в отношении «высокого» искусства — в данном случае в манере показа классического концерта находили отражение паттерны советской идеологии. Трансляция симфонической музыки становилась своего рода наглядной иллюстрацией идеального устройства общества, в котором есть непререкаемый сильный лидер и слаженная, добросовестная команда трудящихся-исполнителей. По глубокому наблюдению Е. Петрушанской, в этом стиле, с тоталитарно направленным «взглядом» камеры исключительно на дирижера-диктатора, телеэкран пытался представить процессы классического музицирования ни много ни мало как метафору мироздания[159].
Но параллельно с невозмутимостью статико-монументального стиля в трансляциях концертов была другая тенденция. Она основывалась на проникновении камеры внутрь оркестра и стремлении воплотить на экране визуально-монтажную партитуру, отталкивающуюся непосредственно от партитуры музыкальной. Операторы и режиссеры трансляций учились вовремя наводить камеру на солирующего оркестранта, ловить выразительные жесты дирижера и в кульминациях давать общую панораму оркестра и зала. Но оказалось, что такой подход, увы, не гарантировал действительного вслушивания телезрителя в музыку. Восприятие произведения вместе с движением объектива начинало как бы распадаться, «рассыпаться» на множество появляющихся то тут, то там визуальных «подголосков». Этот феномен рассеивающегося внимания можно назвать «казусом Саппака», когда он — один из самых внимательных и проницательных телезрителей своего времени — не смог расслышать музыкальное произведение до тех пор, пока не отвернулся от экрана телевизора[160].
Уникальность трансляции как таковой состоит в том, что она предельно приближает и обнажает технологию исполнения музыки. Зрителю предоставляется беспрецедентная возможность увидеть, как появляется звучание музыки, которая начинает как бы материализоваться, овеществляться в среде своего естественного бытования. То есть визуальное сопровождение музыки возникает не в голове слушателя и даже не является плодом чьей-либо художественной фантазии, а самым прямым образом обуславливается звучанием произведения. Казалось бы, что в данном случае благодаря видеотехнике для любого человека открывается доступ к постижению таинства музыки. Причем в ходе трансляции камера фиксирует саму реальность, формально выступая в качестве объективного и непредвзятого посредника между слушателем-зрителем и музыкой.
Но почему при всех феноменальных возможностях аппаратуры проникновение в саму музыку может не состояться? От чего зависят телезрительские впечатления, которые могут варьироваться от вышеупомянутого «казуса Саппака» до, наоборот, глубокого погружения в звукозрительный образ, которое описывает Н. Корыхалова: «Оркестр предстает как единый живой и очень музыкальный организм, из элементов которого строится параллельный музыке видеоряд во всей его почти живописной выразительности. Инструменты и действия с ними музыкантов как бы распредмечиваются. Процесс исполнения, который подчас выглядит в достаточной степени буднично, предстает в сублимированном, опоэтизированном виде, а музыкальные инструменты воспринимаются как возвышенные атрибуты того волшебства, которое именуется музыкальным искусством»[161].
На наш взгляд, градации восприятия напрямую зависят от наличия или отсутствия дистанции между слушателем-зрителем и музыкой. Именно дистанция обеспечивает искомую ауру произведения, о которой говорил В. Беньямин[162]. Но характер дистанции, возникающей на самом концерте, принципиально отличается от дистанции при просмотре телетрансляции.
В ситуации концерта оркестр на сцене — это коллективное лицо, слушатель зачастую лично незнаком с теми, кто сидит за пультами, в его сознании они представляются предельно обобщенно, они — музыканты. Он видит их в такой степени, насколько это возможно из зрительного зала. Возможно, он бы и хотел увидеть их лица вблизи, но расстояние между сценой и залом ценно именно тем, что дает слушателю пространство для воображения, провоцируя создавать образ музыканта самостоятельно. Удаленность от взгляда людей, играющих в оркестре, становится частью ауры музыки[163].
Как известно, первостепенное свойство телевидения заключается в иллюзии прямого контакта. Поэтому, попадая на экран, оркестранты предстают, казалось бы, персонально — по одному или группой, телезритель начинает видеть их лица. Но, как ни странно, даже при максимальном приближении камеры эти музыканты для него все равно остаются обезличенными — это гобоист, вот ударник, а это виолончелист. Они интересны не как личности, а тем, что умеют играть на том или ином инструменте, телезритель хочет увидеть не кто именно играет, а как. Камера в какой-то момент начинает развенчивать возвышенный образ исполнителей — они представляются обыкновенными, внешне далеко не безупречными людьми, которые не «воспаряют» вместе с музыкой в «неведомые дали», а усердно, в поте лица (в прямом и переносном смысле слова), трудятся над исполнением произведения. В прицеле телеобъектива от ауры оркестрантов не остается и следа, а вместе с ней испаряется и аура самой музыки. Музыка больше не вызывает ассоциаций, эмоционального отклика, не переживается нутром, а «заземляется», «опредмечивается» и парадоксально исчезает из поля слушательского внимания.
Но как же тогда объяснить совсем другой характер переживания музыки, показываемой по телевизору, когда трансляция действительно впечатляет, захватывает, заставляет слушать музыку, погружает телезрителя в атмосферу концерта? На наш взгляд, здесь так же, как и на «живом» концерте, включается ощущение дистанции, но не за счет расстояния между слушателем и исполнителями, а через абстрагирование телезрителя от самого́ себя обыкновенного.
Решающую роль в происходящем преображении ощущений играет, опять же, телевизионная оптика. С каждым шагом в развитии технологий видеокамеры приближали музыкантов-исполнителей вплотную к зрителю. В какой-то момент характер съемки стал таким, что человек, наблюдающий телетрансляцию, мог почувствовать свое личное пребывание внутри оркестра, более того, он мог ощутить себя одним из музыкантов, находящихся в это время на сцене. То есть из позиции наблюдателя телезритель получает возможность переместиться в позицию участника разворачивающегося действия. Он вдруг становится соседом флейтиста по пульту или видит гриф скрипки с ракурса исполнителя, так, как видит его сам скрипач, и он невольно начинает как бы сам играть на инструменте, начинает ощущать себя одним из героев творческого процесса.
Но полномочия, которыми телеоптика наделяет зрителя, распространяются еще дальше. Во время трансляции концерт снимают сразу несколько камер, и благодаря монтажу у телезрителя появляется ощущение беспрепятственного «фланирования» из одной точки зала в другую. Причем многие ракурсы, доступные для камеры, а значит, и для восприятия телезрителя, заведомо недоступны для обыкновенного посетителя концерта. Зритель наделяется сверхвозможностями перемещения в пространстве — для него не только перестает существовать физическое расстояние, отделяющее его от места проведения события, но и преодолевается сила притяжения внутри самого концертного зала, когда он вместе с камерой проникает в самые невероятные его уголки. При этом виртуальное пребывание телезрителя внутри концертного пространства является тайным, как бы не замечаемым теми, за кем наблюдают. Здесь минимальность визуального контакта между академическим музыкантом и публикой оборачивается для телезрителя ощущением бесплотности, невидимости его присутствия. В этом случае образуется характерная модальность ви́дения субъекта, которого в силу его всеприсутствия и бесплотности М. Ямпольский называет абсолютным субъектом действия[164]. Так как такой метод съемки запутывает идентификацию субъектов зрения[165], то множественность ракурсов съемки оказывается множественностью ипостасей самого зрителя.
В итоге, благодаря всему комплексу сверхвозможностей, которые получает телезритель посредством экрана, он невольно начинает ощущать себя не просто человеком, смотрящим трансляцию концерта, но суперслушателем-исполнителем, принимающим активное участие в творческом акте. И в этот момент телезритель как бы «перерастает» себя самого́ обыкновенного. Возникает искомая дистанция, но не между исполнителем и слушателем, а между разными «я» телезрителя — как простого любителя музыки и как полноправного героя большого события. Эта дистанция как раз и помогает погрузиться зрителю-слушателю в музыкальное произведение, начать переживать его всем своим существом, ведь он ощущает себя уже одним из непосредственных участников происходящего события. Но такое «вживание» в исполняемое произведение возможно только тогда, когда режиссерско-операторский подход основывается не на главенстве музыканта в кадре, а на главенстве зрителя, находящегося по ту сторону экрана.
Если концерт классической музыки по своей природе предоставляет весьма скромную пищу для глаз, то зрелищность оперы является невероятно сильной, важной и, главное, органичной частью ее восприятия. Поэтому казалось бы, что в отношении данного жанра музыки камера изначально располагает богатой и колоритной фактурой для работы. Но как показала практика, а впоследствии и теоретические наблюдения, оперное искусство оказалось весьма противоречивым и трудоемким объектом для экранизации. Мы не будем специально останавливаться на особенностях перевода оперы в формат кино- и телеизображения (тем более что по этим вопросам уже накоплена обширная и основательная литература[166]), а рассмотрим относительно новый способ презентации оперного жанра — «живые» трансляции спектаклей в кинотеатрах. Инициатором данного начинания стала нью-йоркская Метрополитен-опера, которая организует такие трансляции с 2006 г., с каждым сезоном расширяя географию и количество участников проекта.
В своей сути прямые трансляции оперных спектаклей в кинотеатрах представляют гибрид, сплав сразу нескольких экранных форматов. Это и трансляция как таковая, с ее фиксацией действия, происходящего в режиме реального времени. Вместе с тем это и фильм об опере — не только потому, что спектакль смотрят на большом экране кинотеатра, но и потому, что ткань музыкального повествования обрабатывается приемами художественной съемки и монтажа. В то же время это и реалити-шоу, героями которого становятся артисты и музыканты, когда в антрактах камера отправляется за кулисы, чтобы взять интервью у исполнителей и создателей постановки. В конце концов, живую трансляцию из оперного театра можно назвать многочасовым рекламным роликом самого театра, так как показывается не только оперный спектакль как самостоятельное (завершенное) произведение искусства, но и «внутренности» его создания, технология его производства.
Формально публика и в оперном и в кинотеатрах смотрит одно и то же произведение, но на самом деле видит разное. «Экранная» опера не столько дублирует то, что происходит на сцене, сколько создает, по выражению критика, интерпретацию интерпретации[167].
Прежде всего это относится к визуальному восприятию сценического пространства и действия. Те сверхвозможности, которыми наделяется зритель трансляции классического концерта, в данном случае многократно усиливаются как за счет размеров экрана кинотеатра, так и благодаря техническому оснащению театрального зала. Зритель в кинотеатре привыкает к тому, что для него проблемы доступа в какую-либо часть сцены вообще не существует — камеры проникают в любые уголки, снимают с любых ракурсов, они беспрепятственно передвигаются в пространстве театра, парят, взлетают, пикируют, кружат… Поэтому даже если в некоторых сценах спектакля неизбежна статичность (таковы «издержки» оперного жанра), то у зрителя в кинотеатре этого ощущения статики не возникает — статична может быть мизансцена, но не взгляд всегда движущейся камеры. По отношению к спектаклю применяются методы клипового монтажа, с помощью которого пытаются нивелировать главную экранную проблему оперного жанра — замедленность действия, кинозрителя непрерывно развлекают если не музыкой, то, по крайней мере, спецэффектами изобразительного ряда.
Мощные видеокамеры обеспечивают не только широту, но и прицельность ви́дения. Публика в кинотеатре может несравненно подробнее рассмотреть все мельчайшие детали как мимики артистов, так и отделки костюмов и декораций. В свою очередь, артисты, в том числе и миманса, с достоинством выдерживают крупные планы, убедительно передают эмоциональное состояние персонажей, показывают не только музыкантское, но и драматическое мастерство. При этом физиологичность оперного пения (напряженные мышцы шеи, широко открытый рот и т. д.) отнюдь не отталкивают зрителя, а наоборот, обостряют его впечатления от звучащей музыки. Ведь в данном случае то, что раньше считалось антиэстетичным натурализмом, через призму современной потребности в наглядности оказывается дополнительным усилителем зрительских ощущений, подтверждением реальности происходящего.
Как было сказано выше, в антрактах оперный спектакль превращается в реалити-шоу, и у кинозрителя появляется возможность побывать в закулисном мире театра. Камеры вместе с ведущими-гидами путешествуют по гримерным и костюмерным комнатам, берут блиц-интервью у артистов и создателей постановки, показывают смену декораций. С одной стороны, благодаря этим экскурсиям за сцену предельно сокращается дистанция между зрителем и артистом, когда последний приветливо рассказывает о характере своего героя, интересных деталях костюма и вообще о переживаемых им в данный момент ощущениях. Тем самым актер предстает обыкновенным человеком, хоть и имеющим необычную профессию. Но взамен на иллюзию приближения к человеческой сущности артиста зритель теряет цельность переживания сценического действия. В его восприятии герои и весь спектакль начинают распадаться, расщепляться на сценическую драматургию и на тех «земных» людей, которые стоят за всем происходящим. Реалити-шоу вдруг перечеркивает все пережитые зрителем эмоции от трагедии на сцене, когда герой, буквально мгновения назад раздираемый сильнейшими страстями, как ни в чем не бывало приветствует зрителей дежурными фразами и улыбкой[168].
Это смешение жанров приводит к тому, что зритель в какой-то момент перестает понимать, где он находится и каким должен быть ритуал его поведения. Он в оперном театре или все-таки в кинотеатре, он смотрит оперный спектакль или реалити-шоу про оперу, должен ли он аплодировать после исполнения арии или может спокойно хрустеть попкорном? С одной стороны, кинотрансляция помещает зрителя в максимально комфортные условия. Ему предоставляется относительная свобода в поведении, теперь ему не обязательно трудиться по полной программе самому — не надо напрягать зрение, чтобы рассмотреть сцену, не обязательно хлопать, чтобы поддержать артистов, и даже не нужно проникать в характер героев, потому что артисты сами расскажут про своих персонажей. С другой стороны, вместе с предоставлением свободы поведения у кинозрителя забирают свободу самостоятельного формирования своих зрительско-слушательских впечатлений. Он не волен выбирать, куда ему смотреть и что именно слушать в оперном спектакле, за него эту работу проделывает команда операторов, теле- и звукорежиссеров. Он становится в полном смысле слова клиентом-потребителем, о котором все предупредительно заботятся, чтобы доставить как можно больше «чистого», не обремененного ответными усилиями удовольствия — ему все рассказывают, показывают, объясняют и создают атмосферу, то есть «доставляют» оперный спектакль в нужное место и в лучшем виде.
3. Персона академического музыканта в зеркале массмедиа
Как мы могли убедиться, массовая культура и законы массмедиа кардинальным образом влияют на характер сценической и медийной презентации традиционных жанров классической музыки. Но данное исследование не может быть полным без пристального изучения персоны академического музыканта — именно он чаще всего оказывается в фокусе внимания аудитории, так как обеспечивает событийность концертной жизни и в своем облике воплощает современные представления о классической музыке.
С одной стороны, приоритет исполнителя в сфере классической музыки кажется довольно условным, так как он лишь озвучивает музыку, зафиксированную в нотном тексте, является медиатором между композитором и публикой, а сама классика изначально идентифицируется по ее автору, то есть именно имя композитора служит залогом тех или иных слушательских ожиданий.
С другой стороны, несмотря на то что классическая музыка в своей сути является апофеозом авторского начала, личность автора в современной визуальной репрезентации классики фактически отсутствует. В постоянной и активной циркуляции в пространстве общедоступных и зрительных образов находятся лишь портреты Моцарта и Чайковского, на порядок реже встречаются изображения Баха и Бетховена. А для того, чтобы узнать, как выглядели остальные великие композиторы, человек должен прилагать целенаправленные усилия — обращаться к специальным книгам, интересоваться аудиодисками, использовать Интернет и т. д. В массмедийном дискурсе о классической музыке практически полностью нивелируется фигура ее действительного создателя. За официально объявляемой фамилией автора для публики зачастую не стоит каких-либо внятных символов, в том числе и визуальных. В таком контексте имя композитора нередко «срастается» и отождествляется с непосредственным названием музыкального произведения[169], а место автора занимает музыкант-исполнитель.
Очевидный сдвиг фокуса внимания в сторону исполнителя вызван наложением нескольких групп факторов. Во-первых, это возникший в эпоху романтизма образ художника как демиурга — законодателя и вершителя эстетических переживаний публики. Со временем этот архетип творца распространяется и на музыканта-исполнителя, который обладает не менее ценным даром — создавать искусство в «режиме on-line», прямо на глазах (а точнее, в ушах) у присутствующих. Исполнительское искусство стало особо цениться в романтизме еще и потому, что самой эпохой владел сильный дух интерпретаторства, позволивший заново открыть обширные пласты исторического наследия. Наконец, на становление исполнительской специализации повлияло и то, что именно в это время стала практиковаться игра наизусть, когда «первоисточник вдохновения» — ноты — становится невидимым для публики.
Вторая группа причин начинает проявлять себя ближе к концу XIX в., когда для композиторов-современников начинает закрываться доступ в галерею великих имен. Уильям Уэбер[170] приводит убедительную статистику того, как в 60-х гг. XIX в. в музыкально-концертной жизни Европы оформляется и канонизируется репертуарный список классических произведений[171] (в России этот процесс произошел чуть позже). Центр тяжести постепенно перемещается с тех, кто создает музыку, на тех, кто ее исполняет, так как именно они и обеспечивают новизну и событийность концертной практики. В ХХ в. индустрия звукозаписи способствовала еще большему смещению фокуса внимания, когда появилась возможность, а потом и мода коллекционировать записи одного и того же произведения, но в разных исполнительских трактовках. И музыкальные критики стали говорить уже не столько о самой музыке, сколько о ее прочтении тем или иным исполнителем.
Однако сегодня ведущую роль в главенстве исполнителя играют коммерческие законы массовой культуры, согласно которым определяющим критерием успешности любого артиста выступает его известность или медийность. Этим стандартам широкой популярности стремятся соответствовать и академические музыканты, несмотря на немассовый характер самой классической музыки. Вследствие этого к началу XXI в. утвердился идеальный формат классического концерта, в основе которого «лежит имя медийного персонажа — дирижера или солиста. Оно затмевает собой и 120 музыкантов оркестра, и даже великих композиторов. Изначально посыл слушателя звучал так: “В концерт, слушать Баха”, теперь его заменила другая формулировка: “Иду на Маэстро”»[172].
С одной стороны, ротация академических музыкантов в потоке медийных лиц не может не радовать приверженцев классической музыки — эти имена как бы резервируют место классической музыки в общем музыкальном контексте эпохи. Но плата за медийность порой бывает слишком высока для профессионального развития самого музыканта.
Историк балета Вадим Гаевский и балетный критик Павел Гершензон в одной из своих бесед весьма пристально рассматривают феномен выхода артиста из профессионального сообщества пропорционально возрастанию его медийной востребованности. В качестве примера они берут персону Анастасии Волочковой, которая сегодня является носителем уже не своей профессии, а образа жизни — светского и скандального «life stile». Павел Гершензон констатирует, что «“Волочкова” отделилась, наконец, от реальной Насти и живет своей отдельной жизнью. Она — brand name. Можно печатать туристические открытки с видами Москвы: Василий Блаженный — Кремль — Анастасия Волочкова — Храм Христа Спасителя…»[173]. Параллели в музыкально-исполнительской сфере в данном случае провести не сложно, один из показательных примеров — фигура Николая Баскова, который одно время также был приглашенным солистом Большого театра, а теперь воспринимается исключительно как представитель шоу-бизнеса.
Следовательно, в сфере академической музыки существует принципиальная разница между публичной востребованностью и профессиональной репутацией того или иного музыканта. Единицы могут удерживать высокую планку в обоих измерениях — и в медийном, и в профессиональном рейтингах.
Благодаря наличию «зазора» между незаурядной эстетической содержательностью исполнения и популярностью исполнителя возникает специфическая ситуация. Сегодня большой процент слушателей филармонических концертов — так называемые «белые воротнички», которые считаются вершиной социальной пирамиды и насчитывают 7,2 % населения. Для них посещение концерта, впрочем, как и выбор гардероба — это критерий статусной самоидентификации[174]. Любые продукты (в том числе и культурные), которые потребляют эти люди, — это продукты класса люкс. Но если мода от-кутюр является нишевой, не рекламируется на массовом рынке и знание о ней замыкается в определенном социальном круге, то в отношении музыкального вкуса новообразовавшаяся элита полностью оказывается во власти медиа. И здесь не в силах помочь даже привычные ценовые ориентиры — люди платят за медийность исполнителя, но это отнюдь не гарантирует глубины и неординарности исполнительского искусства.
Попробуем рассмотреть особенности публичного позиционирования академических музыкантов в современных массмедиа на примерах их персональных сайтов и телепрограмм с их участием.
На сегодняшний день персональный сайт является одним из самых востребованных и распространенных способов коммуникации исполнителя с публикой за пределами концертного зала. Удобство персонального сайта заключается прежде всего в том, что исполнитель получает возможность собственнолично моделировать свой имидж в массмедиа — он волен размещать любую информацию, практически в неограниченном объеме и в самых различных форматах. По сути, персональный сайт музыканта — это его виртуальный дом, который всегда открыт для всех посетителей, здесь слушателя-зрителя всегда ждут, ему всегда рады, тут все всегда готово для того, чтобы принять каждого гостя. Если после концерта музыкант может быть уставшим, не в настроении, куда-либо спешить или перед дверями его артистической будет стоять слишком большая толпа, то в режиме виртуальной коммуникации исполнитель всегда доступен, радушен, приветствует каждого зашедшего, и такое общение с ним может продолжаться сколь угодно долго.
Сайт укрупняет и одновременно детализирует образ музыканта в восприятии слушателя, причем не только с профессиональной (музыкальной) стороны, но и с точки зрения личностных (человеческих) качеств. Одно дело, когда публика приходит на концерт и получает впечатления исключительно от исполнения музыки, зная о музыканте ровно то, что можно прочитать на афише или в программке. И совсем по-другому воспринимается концерт, когда слушатель приходит на него «подготовленным», заочно познакомившись с исполнителем, или когда после концерта он обращается к Интернету и достраивает образ только что услышанного посредством дополнительной информации. Суть разницы заключается в том, что персональный сайт создает иллюзию приватного общения. На сайте слушатель-зритель может послушать и посмотреть те выступления артиста, на которых никогда не был. Может увидеть ожидаемый (или прошедший) концерт в череде гастрольного списка, тем самым ощутить свое участие в жизни музыканта. В собранных на сайте выдержках из прессы любопытствующий слушатель может получить экспертное подтверждение его профессионального мастерства. В конце концов, посетитель сайта может написать свое послание исполнителю и даже получить от него личный отклик. За артистической натурой слушатель начинает видеть (или думать, что видит) человеческое. Фактически находясь несоизмеримо дальше от исполнителя, нежели на концерте, слушатель-зритель получает ощущение беспрепятственного доступа к персоне музыканта.
Другое дело, что представляемый на сайте образ музыканта так или иначе является моделируемым, специально конструируемым образом, а как известно, медийная реальность и реальность жизненная отнюдь не тождественны. В попытке понять, как преподносится и преломляется образ музыканта через призму массмедиа, мы обратимся к фотографиям музыкантов, размещаемым на их официальных сайтах.
С точки зрения прямой функциональности рубрика «фотогалерея», которая есть на персональном сайте практически любого музыканта, не является показателем его профессионального мастерства. Если аудио- и видеозаписи выступлений, рецензии на концерты и даже биографическая справка во многом определяют и подтверждают профессиональный уровень музыканта, то фотографии, казалось бы, никак не участвуют в демонстрации его исполнительского дарования. Но вместе с тем визуальная составляющая несет на себе особую и важнейшую функцию — функцию перевода звуковых, то есть невидимых, образов на более конкретный язык образов наглядных.
Прежде всего, особое внимание уделяется внешнему облику исполнителей, и эта закономерность отнюдь не сегодняшнего дня. О внешности музыкантов непременно писали в рецензиях, а также использовали в рекламных целях. Например, вот как в 1779 году звучало одно из объявлений о концерте в Петербурге: «В будущий четверток, то есть 24 числа, великанка девица Гаук при полном оркестре дает на Немецком театре музыкальный концерт. <…>[175] Девица Гаук ласкает себя, что любители музыки удостоят ее своего присутствия, ибо никогда не видывали на театре женщину ее величины»[176]. Таким образом, публику завлекали на концерт не программой вечера и даже не вокальными данными солистки, а ее ростом (!), что явно настраивало посетителей не на слушание, а на смотрение «талантов» певицы.
Спустя сто лет (в середине XIX века) негласный поединок между аудиальным и визуальным в концертной жизни только разгорается. «Пища для глаз ценилась в той же мере, как и для слуха. Хор могли ставить впереди оркестра, что мешало согласованному звучанию, но зато давало возможность лицезреть очаровательных дам-хористок. Дирижера оценивали не только по тому, как у него звучал оркестр, но насколько выразительны были его лицо и жесты. <…> В отзывах на концерт внешность музыканта, в том числе и дирижера, могли описывать почти так же, как и драматического актера: романтический профиль Листа, львиную гриву Рубинштейна, застенчивую походку выходящего дирижировать Чайковского»[177]. С особой тщательностью критики писали рецензии на концерты дам, где непременно высказывались о фигуре, прическе, лице (профиль, глаза) и платье концертантки. Но и мужчины не оставались без внимания, так в Париже была опубликована целая статья «О жестах и об игре физиономии Никиша»[178].
Вполне очевидно, что и тогда, и сейчас внешний облик музыканта играет не последнюю роль в его популярности. Раньше были распространены всевозможные портреты-медальоны, которые дамы всегда носили при себе. Сегодня редкая афиша сольного концерта обходится без фотографии исполнителя, а персональный сайт, как уже было сказано, — без рубрики «фотогалерея». И эта фотомания является не только признаком эпохи визуальности, но и выполняет специфические коммуникативные функции.
Во-первых, фотография воспринимается как опосредованный контакт с человеком, который на ней изображен, она выполняет функцию замещения реального человека. Во-вторых, если это фото человека артистической профессии, то здесь непременно наслаиваются аспекты символического обладания и игры с социальной дистанцией[179]. То есть, рассматривая виртуальные фотоальбомы любого музыканта, зритель не только опосредованно общается с ним, но и через это общение воспринимает данного артиста уже как часть своей жизни, «впускает» его в свою повседневность. Ведь для такого контакта не надо выходить в свет и соблюдать ритуал, достаточно сидя перед компьютером с чашкой кофе, кликать мышкой по появляющимся иконкам изображений. Артист оказывается как бы всегда рядом, доступ к нему открыт в любое время суток и в любом месте, где есть Интернет.
Подобная коммуникация через фотографии является, кроме всего прочего, важной составляющей для самоидентификации человека. «Если раньше социальная идентичность определялась контактами с ближайшим окружением, то теперь фотографии дают возможность сформировать практически любой социальный ареал, в рамках которого можно строить (и мыслить) свою идентичность»[180]. Причем приобщение к определенному кругу может происходить не только через изучение самих представителей сцены, но и через принятие и подражание атрибутам их жизни.
Дух времени также вносит свои коррективы в визуальное бытование современных музыкантов. Ярче всего это проявляется в девальвации и унификации изображений. Сегодня фотография артиста как таковая теряет свою ценность. В эпоху бесчисленных фотосессий фотограф уже не столько подглядывает за жизнью музыканта и фиксирует его проживание реальности, сколько занимается созданием декораций и помещает в них артиста во всех возможных вариантах поз и мимики. То есть вместо уникальности момента и индивидуальности персоны, за которой и «охотится» зритель-слушатель, ему в огромных количествах поставляются типажи, «одеваемые» на искомого артиста. «Получив большие массивы фотографий, социум не индивидуализирует, а унифицирует свои представления о природе человека. <…> Фотография теперь представляет не конкретного референта, а более или менее типичного представителя вида»[181]. Тем самым, хотя у слушателя-зрителя и возникает ощущение индивидуального приближения к артисту во время рассматривания его фотопортретов, но действительного проникновения за его публичный (официальный) образ в данном случае не происходит.
Средоточием индивидуальности и центром притяжения внимания публики выбирается лицо музыканта. Оно крупным планом и в различных вариантах тиражируется на сайте и афишах либо (как мы уже замечали) в прямом режиме транслируется на гигантские видеомониторы. Таким способом проблема минимальности визуального контакта с аудиторией на сцене решается техническими средствами, а артист подспудно превращается в оракула, должного мимикой донести смысл исполняемой музыки.
Существует представление о том, что черты лица музыканта должны быть приятными, благородными и интеллигентными. Очень сложно найти у музыкантов неухоженные лица — небритая щетина или растрепанные волосы допускаются только в исключительных случаях. Первое может позволить себе лишь маэстро Гергиев (оправдание — поглощенность творчеством), а второе в качестве «спецэффекта свойскости», призванного разрушить стереотипы академичности, порой встречается в рекламе зарубежных музыкантов[182].
Данные представления о благообразности внешнего облика музыканта наследуют традиции, идущей из XVIII в. Именно тогда, констатирует Л. В. Кириллина, в иконографии великих композиторов и виртуозов начинает проявляться идея «священной мусикии», и художники стремятся различными способами представить музыканта как богоизбранное существо, как выразителя воли Небес. Это стремление могло выражаться в горделивой позе портретируемого и в сияющем небе на фоне — как символе незримо присутствующего божества (портреты Генделя работы Т. Хадсона или через античные музыкальные инструменты (лиры, кифары) и ангелочков-путти (скульптурные изображения Генделя работы Л. Ф. Рубийяка[183]. Апофеоз подобного обожествления музыканта можно обнаружить в портрете Бетховена работы В. Й. Мэлера, где композитор, «одетый и причесанный по последней моде, играет на древнегреческой лире, восседая на фоне античного пейзажа. Музыканта окружают лавр (символ славы) и дуб (символ доблести и мужества) <…>; на заднем плане видны кипарисы (воплощение возвышенной скорби о прекрасном минувшем) и заброшенный храм. <…> Художник явно хотел представить Бетховена как “современного Орфея”, которому предназначено вернуть музыкальному искусству ту великую славу, которой оно пользовалось в древности, когда божественное происхождение музыки мыслилось само собою разумеющимся»[184].
Сегодня же ощущение пребывания над суетой, обращенности музыканта к Богу зачастую передается не через аллегорические символы, а через взгляд музыканта, намеренно направленный в сторону или вдаль, за пределы фотографируемого пространства, а порой еще характернее устремленный куда-то ввысь. При этом не так важно, чтобы исполнитель в этот момент действительно музицировал, — выхватывается (или инсталлируется) сам взгляд в невидимые сферы. Но даже когда на фотографии взгляд исполнителя направлен, казалось бы, на зрителя, он все равно максимально дистанцирован от наблюдателей, так как пребывает в статусе модели. А «взгляд модели в своей конечной инстанции всегда направлен на саму себя, на внутреннее созерцание себя и своего переживания момента. Это взгляд человека, ушедшего в “отрыв” от обыденной окружающей реальности»[185]. Фотографии создают ощущение, что музыкант обладает даром беспрепятственного общения с миром вышним, запредельным, подразумевается, что именно оттуда он черпает свое вдохновение и силы.
Другим лейтмотивом в позиционировании академических исполнителей становится идея их приобщенности к вечности и свободного скольжения сквозь эпохи. Свою временну́ю амбивалентность музыканты чувствуют, можно сказать, на бессознательном уровне. Так, в одном из интервью дирижер Теодор Курентзис на вопрос о том, как бы он хотел выглядеть в глазах окружающих, отвечает: «…Как ангел ностальгии. Как червяк, который любит желтую бумагу, или как монах, проповедующий романтизм. Как отшельник, который пьет кофе и разговаривает с Артюром Рембо и Антоненом Арто…»[186] При всей метафоричности данного высказывания в нем прослеживаются два принципиальных мотива. Во-первых, мотив духовной универсальности классической музыки, которая позволяет говорить обо всем и со всеми, вести диалог культур и межличностное общение художников, понимать разные виды искусства, в том числе современные и вырывающиеся за пределы этико-эстетических ценностей гуманизма[187]. Во-вторых, в приведенной цитате заявлена претензия на свободное перемещение в историческом массиве эпох. Дирижер видит себя в роли посредника между разными временными измерениями, человеком, который может беспрепятственно проникать через толщи столетий.
Желание перемещения во времени можно также найти в коллекциях фотографий музыкантов. Во многих из них есть кадры на фоне старинных интерьеров и архитектуры[188]. Это может быть богато декорированная гостиная некоего особняка, где стоит рояль, или фрагмент античной колонны, на которую опирается исполнитель, в конце концов, к старине может отсылать ажурная резьба пюпитра, которую невозможно встретить у современных роялей. Иногда временна́я «инородность» артиста подчеркивается особенно сильно, с намеренным утрированием контраста. Для этого декорации «под старину» превращаются в руины, и на их фоне музыкант выглядит словно чудом уцелевший «осколок» исчезнувшей эпохи, который присутствует в современном мире на правах раритета[189]. Характерно воспоминание Полины Осетинской о такого рода фотосессии в полуразрушенной усадьбе близ Гатчины: «Дивные ободранные колонны, венский стул и тленный аромат — все было под стать моей идее расположить музыку в порядке постепенного угасания и, наконец, гибели красоты»[190]. Это высказывание по своему настроению очень созвучно мысли Т. Курентзиса — исполнитель осознает себя как уникального носителя утерянной гармонии, всем своим видом манифестирует о несовершенстве современного мира и старается погрузить слушателя-зрителя в ностальгию о прекрасном прошлом[191]. А фото и видеоизображения с атрибутами из этого прошлого превращаются в своего рода запечатленную хронику жизни музыканта вместе с вечной музыкой, свидетельствующую о том, что он, как и классическая музыка, способен «отрываться» от своей эпохи и периодически возвращаться в прошлое.
Другой особенностью, отсылающей к трансцендентной сути в образе академического музыканта, является характерное отношение к телесности. Можно сказать, что до определенного времени в сфере классической музыки существовало негласное табу на телесность. Оно происходило из давнего стереотипа, разделяющего человека на бестелесную духовность и бездуховную телесность. И, как отмечает в своем исследовании И. М. Быховская, этот дуалистический подход, рассекающий человека на тело и разум, с ориентацией на их противопоставление, был приоритетным в истории всей европейской культуры[192].
Классическая музыка, в свою очередь, всегда считалась всецело духовной деятельностью, и на этом основании персона академического музыканта неминуемо приобретала качество бестелесности — до конца ХХ в. никто не думал предъявлять к его телу какие-либо стандарты. Эта тенденция существует и сегодня, но в то же время нельзя утверждать, что телесный дискурс в отношении классических исполнителей полностью игнорируется. Академическая культура, безусловно, противопоставляет себя культуре массовой, но она отнюдь не может избежать ее влияния.
Формально до сегодняшнего дня существует и выполняется правило строгих костюмов и длинных платьев как концертной одежды академических музыкантов. Но, несмотря на то что исполнительницы облачаются в вечерние платья в пол, фасон и отделка этих платьев выдают совсем не аскетичное отношение к телу. Наоборот, исполнительницы начинают источать женственность, приобретают особый шарм и элегантность, которые становятся определяющей частью их имиджа, привилегированным знаком их принадлежности к классическому исполнительству. Современная тенденция такова, что все бо́льшую роль в успехе и популярности классических музыкантов, особенного молодого поколения, играет их соответствие общепринятому эталону красоты, который обуславливается, в том числе, и параметрами фигуры.
Тем не менее тело академического музыканта не может быть самоценным в своей сути, восприниматься в отрыве от его профессиональных навыков. Поэтому главный телесный дискурс разворачивается отнюдь не в связи с фигурой исполнителя, а в ракурсе его взаимодействия с музыкальным инструментом. С этой точки зрения особое внимание должны притягивать к себе руки музыканта, так как в физическом смысле именно они, руки, творят музыку. Руками исполнитель как бы «трогает» самое неосязаемое из искусств, рождающееся под кончиками его пальцев. Именно «устройством» рук музыкант отличается от обычных людей, и кажется, что именно в них находится разгадка его неординарных умений. Причем «хореография рук» характерна как для дирижеров и инструменталистов, так и для вокалистов. Последние с помощью рук не только выражают сценические аффекты, но и как бы опираются на руки, посылая голос в пространство зала.
К рукам музыканта всегда было особое отношение. Так, с рук выдающихся исполнителей и композиторов непременно делали посмертный слепок, который становился реликвией. Этот слепок был как бы материализованным сгустком неуловимого таланта, часть которого оставалась, «консервировалась» в этом мире.
Чтобы лучше понять, в чем заключается визуальная притягательность мануальной пантомимы, творимой музыкантом, необходимо сделать небольшое отступление в сферу художественной литературы. Для героини одной из новелл Стефана Цвейга[193] наблюдение за руками людей стало зрелищем, захватывающим сильнее, чем театр или музыка. Через руки она научилась видеть многообразное проявление самых различных человеческих темпераментов, смотря на руки, она прочитывала характер человека. Но чтобы какие-либо руки начали говорить сильнее и правдивее, чем лицо, им необходимо было оказаться в определенном месте, а именно на зеленом сукне игорного стола. Более того, руки — как считала героиня — это единственно живое за зеленым столом. «…Руки бесстыдно выдают самое сокровенное, ибо неизбежно наступает момент, когда с трудом усмиренные, словно дремлющие пальцы теряют власть над собой: в тот краткий миг, когда шарик рулетки падает в ячейку и крупье выкрикивает номер, каждая из сотни или даже сотен рук невольно делает свое особое, одной ей присущее инстинктивное движение»[194].
Это проницательное наблюдение Цвейга, от лица его героини, с некоторыми оговорками вполне применимо к рукам музыканта. Но в данном случае вместо зеленого стола для проявления «мимики» рук необходим инструмент, причем инструмент непосредственно звучащий. На любой фотографии руки действительно «живут» и становятся индивидуальным отражением только в случае реальной игры на инструменте. При определенном навыке по поведению рук можно даже улавливать, представлена ли на фотографии постановочная или подлинная игра на инструменте. (В связи с этим особый интерес для самих музыкантов представляют сцены из фильмов, где актер или актриса, на самом деле не играя, а лишь изображая музицирование, начинают хаотично размахивать руками и томно запрокидывать голову.)
Тем не менее, при всей значимости и зрелищности играющих рук музыканта, они редко становятся равноправным участником его визуальной презентации. Для объяснения этого парадокса нам необходимо вновь вспомнить об особенностях коммуникации музыканта со своим инструментом. Начиная действительно играть на инструменте, исполнитель вступает с ним в диалог и вольно или невольно отгораживается от стороннего взгляда, у него сразу появляется объект коммуникации, и это уже не подразумевающийся по ту сторону экрана зритель. А как известно, для максимального привлечения внимания фотографии необходимо создавать иллюзию прямого контакта модели (в данном случае музыканта) с созерцающим ее человеком. Таким образом, изображение играющих рук как бы отсекает «третьего лишнего» — самого зрителя, а значит, и смещает цель коммуникации. Хотя в данном случае есть одно исключение — это дирижерский жест, весьма часто мелькающий в афишах (ближайший пример — афиша Пасхального фестиваля с Валерием Гергиевым. Здесь эффект обращения напрямую удается благодаря помещению потенциального зрителя на место оркестра, к которому на самом деле и обращается дирижер (подробнее об этом чуть ниже).
Это же правило «прямого контакта» со зрителем определяет включение в кадр музыкального инструмента исполнителя. Общая закономерность такова, что музыкальный инструмент на фотографии становится отнюдь не равноправным героем, а фоном, который, тем не менее, играет важнейшую роль в идентификации запечатленного человека. В этой связи интересно рассмотреть то, как подаются в кадре взаимоотношения музыканта со своим инструментом, и представить типологию фотографий в зависимости от специализации исполнителей.
Законы рекламной фотографии (а ими и являются фотопортреты музыкантов) требуют создания максимально полного и привлекательного образа портретируемого. Поэтому «для получения нужного воздействия необходимо апеллировать не только к зрению, но и через специальную организацию визуального активизировать другие модальности»[195], в нашем случае — слуховые. Цель фотографа — вызывать у зрителя «слуховую подложку», другими словами — попытаться визуализировать музыку.
Такую виртуозную задачу в художественном отношении намного проще выполнить непосредственно на концерте, уловив одухотворенное лицо музыканта или характерный жест. Но в техническом плане это оказывается довольно проблематично. Во-первых, фотограф ограничен ритуалом академического концерта, на котором вспышки фотокамер (в отличие от поп-концертов) воспринимаются не как показатель успешности солиста, а как отвлекающий (раздражающий) фактор. Во-вторых, при всем совершенстве аппаратуры фотографии «вживую» балансируют между тривиальностью и чрезмерной натуралистичностью. Фото получается или смазанным и обыденным, или — в другой крайности — отталкивает физиологией. Хотя через эту же реалистичность порой пытаются передать энергетику музыки. Так, летящие брызги пота, экспрессивный взмах рук и прилипшие ко лбу пряди волос маэстро Гергиева создают совершенно другую эстетику классической музыки — не возвышенную и отрешенную, а экстатическую и пронзающую.
Жанр фотосессии намного комфортнее и для фотографов, и для их моделей. А музыкальный инструмент при этом используется не только для того, чтобы обозначить специализацию музыканта, но и удостаивается особого внимания.
Крайне редко в студийных фотографиях предполагается реальное звучание инструмента — в большинстве случаев происходит своего рода симуляция присутствия музыки. Но, как ни странно, ощущение того, что инструмент является частью музыканта, не исчезает, а бывает, что и усиливается. Виолончель или скрипка переворачиваются вверх ногами, гитара «зачехляется», принимаемые позы исключают какую-либо возможность игры[196], но взаимосвязь между музыкантом и его инструментом становится еще сильнее. Для сравнения заметим, что когда музыкальные инструменты используются исключительно в качестве эстетического декора, для «пикантной огранки» профессиональных моделей-манекенщиц, то даже при всем подражании жестам и позам музыкантов результат получается прямо противоположный — инструмент так и остается искусственно привнесенным атрибутом.
Секрет возникающего эффекта «сращивания» музыканта с его инструментом заключается в том, что фиксируемое фотокамерой «панибратство» говорит в прямом смысле об отношениях с инструментом, причем исключительно близких, «родственных»; инструмент воспринимается как часть самого музыканта, неотделимая от его натуры. В свою очередь этот феномен отождествления музыканта с инструментом вновь возвращает нас к телесному дискурсу.
Между музыкальным инструментом и человеческим телом существует сложная символическая взаимообусловленность, идущая из архаических представлений о происхождении музыкальных инструментов. Как замечает, а впоследствии убедительно аргументирует О. Величкина, «на самом фундаментальном уровне рассмотрения в роли первоначального, исходного музыкального инструмента выступает само человеческое тело»[197]. Причем эта взаимосвязь между телом и инструментом имеет обоюдно-перетекаемый характер. С одной стороны, инструмент «возникает как бы изнутри тела и мыслится как расширение или наращивание тела, для усиления уже заложенных в нем звуковых возможностей»[198]. И вместе с тем сам инструмент наделяется антропоморфными чертами. Например, у скрипки, виолончели, гитары есть «головка», «шейка» и «тело» (корпус) с талией. Части человеческого тела можно увидеть и в духовых инструментах, которые «нередко связываются с рукой, пальцами, позвоночником или, как отмечал еще Курт Закс, с фаллосом»[199].
Через толщу исторического развития, отделяющую первые примитивные музыкальные инструменты от инструментов симфонического оркестра, музыкант продолжает на интуитивно-физиологическом уровне ощущать эту древнейшую связь между собой, своим телом и инструментом, на котором он играет. Подобно первобытному музыканту, современный академический исполнитель продолжает «очеловечивать» свой инструмент, наделять его характером и душой. Среди высказываний множества музыкантов звучит идея о том, что инструмент для них является родным, любимым другом, членом семьи. И эти близкие взаимоотношения находят свое отображение в визуальной презентации исполнителей. Инструмент обнимают и прижимают к себе, на него облокачиваются или за ним прячутся, но главное — с ним всегда общаются, взаимодействуют, между инструментом и его хозяином непременно существует связь на неком эмоциональном уровне. Музыкальный инструмент — это не только предмет для извлечения звуков, но и существо, с которым исполнитель может быть предельно откровенным, которому он может доверять, более того, исповедоваться.
В данном случае становится понятным и то, почему в отношении академических музыкантов главный телесный дискурс разворачивается именно в ракурсе их взаимоотношений с инструментом, — дело в том, что этот телесный дискурс оказывается неотрывен от духовной составляющей. Музыкальный инструмент (материальное тело) становится объектом для выражения духовных устремлений человека. Тем самым снимается противопоставление духовного и телесного, на новом витке проявляется архаический синкретизм, неразделенность и неразрывность человеческого духа с инструментальным телом.
Взаимоотношения музыканта со своим инструментом вызывают неподдельный интерес и со стороны массовой культуры. Музыкальный инструмент представляется как любимая и дорогая (в том числе и финансово) вещь. В данном аспекте эмоционально-физическая связь музыканта с инструментом оказывается очень созвучна рекламной идее «личных отношений» потребителя с потребляемым, будь то чашечка кофе, косметика, одежда, бытовая техника и т. д. А эта любовь к вещам является тем ментальным основанием, на котором держится вся современная реклама и массовая культура в целом. Таким образом, при всей возвышенности образа академического музыканта он отнюдь не оторван от своей эпохи, ему далеко не безразличны ее ценностные ориентиры и знаки успеха.
Об укорененности академического музыканта в своей эпохе говорит и характер изображения его взаимоотношений с инструментом. Так, рутина ежедневных занятий и бесконечных творческих поисков должна оставаться за кадром. Выхватываются и ищутся исключительно эффектные и неординарные позы. Зрителю неинтересно подглядывать за тем, как музыкант час за часом повторяет один и тот же пассаж. Ему, зрителю, необходима одухотворенность лица, многозначность жеста и нестандартность момента. Поэтому в фотографиях академических музыкантов можно наблюдать те же мотивы развевающихся волос (Копатчинская, Шаповалов, Абакурова) и природной стихии, которые подробно анализировались в предыдущей главе о клипах и кроссоверных исполнителях.
С этой точки зрения, пожалуй, самые фотогеничные инструменты принадлежат струнной группе. Их удивительная «пластичность» в кадре во многом объясняется антропоморфностью. Это свойство позволяет очень органично вписать инструмент в облик самого музыканта, так как форма инструмента с легкостью вторит очертаниям тела фотографируемого. Кроме того, изгибы головки, корпуса и эф подражают изгибам женского тела и привносят даже в самую официальную фотографию некий скрытый эротизм, вне зависимости от пола исполнителя. И вместе с тем эти инструменты принадлежат «высокому» искусству, подразумевают за собой шлейф благородства, создают антураж изысканности, который естественным образом переносится и на облик исполнителя.
Духовые инструменты в этом отношении проигрывают струнной группе. Характерные детали деревянно-духовых инструментов — клапаны, мундштуки — слишком небольшие в сравнении даже с лицом музыканта, а медные инструменты (за исключением трубы), наоборот, зачастую выглядят слишком громоздкими и могут «загородить», «перевесить» фигуру исполнителя.
Рояль, ввиду своей неподвижности, заставляет исполнителя подстраиваться под себя. Причем характерно, что визуальным символом этого инструмента чаще выбирается высоко поднятое крыло, нежели клавиатура, которая может принадлежать любому клавишному инструменту от синтезатора до аккордеона. К тому же в контуры рояля с поднятой крышкой намного эффектнее вписывается фигура самого пианиста. Более того, камера может обнажить «внутренности» инструмента — показать демпфера, колки, струны, тем самым попытаться овеществить и как бы разгадать тайну появления музыкальных звуков.
Если инструменталистам для обозначения своей профессиональной принадлежности достаточно вынести на публику взаимоотношения с инструментом, то вокалистам и дирижерам сделать это намного сложнее. У них нет однозначных символов профессиональной специализации, и даже дирижерской палочки недостаточно для того, чтобы расставить необходимые точки идентификации. Поэтому вокалисты и дирижеры более всех других представителей классической музыки обращаются к телесному дискурсу, в попытке найти способы своей визуальной презентации.
Вокалисты, как представители актерского цеха, видят свою нишу в создании всевозможных образов и типажей. Безусловно, самые «многостраничные» и разножанровые фотоальбомы встречаются именно на персональных сайтах певцов и особенно певиц, потому как внешность особым образом влияет на их успех у публики. «Вообрази красавицу Германии, нежную, голубоокую, lieblich, gemuthlich[200], в которой красота, образование, талант, искренность спорят между собой. Вообрази, что из прелестнейших уст, едва скрывающих два ряда жемчужин, излетают нотки очаровательные, ангельские, и ты будешь иметь только безмолвную тень того, что мы видели и слышали» — так в 1830 году звучала рецензия на концерт немецкой певицы Генриетты Зонтаг[201]. А на протяжении XX и в начале XXI в. в адрес див оперной сцены (от Марии Каллас до Анны Нетребко) весьма часто высказывается мнение, что их успех обеспечивается скорее внешними данными и экстравагантным поведением, нежели неординарными возможностями голосового аппарата.
Облачение в сценический (театральный) костюм — это самый беспроигрышный способ показать свою вокальную специализацию. Но привычка все время быть в маске переходит и в фотографии портретного типа, где подразумевается фокусирование непосредственно на личности исполнителя, ведь, как известно, задача фотопортрета — с помощью фотографических техник передать не только физический облик, но и психологическую суть человека[202]. Но в фотопортретах певцов и певиц редко открывается внутренний мир портретируемого, зачастую продолжается производство образов, теперь уже из окружающей (повседневной) действительности. Избираются типажи бизнес-леди и бизнесменов, а в большинстве случаев — «глянцевых» фотомоделей, облачающихся в дорогие наряды и принимающих искусственные позы.
Что это — игра с массовой модой или желание ей соответствовать? Ответ в том, что в данном случае граница между игрой и реальностью оказывается проницаемой. Певцы всегда были самыми массово востребованными музыкантами, которые импонировали самой широкой публике и помогали «собрать кассу» камерным и симфоническим концертам[203], а сегодня именно оперный жанр пользуется невероятным спросом со стороны массмедиа[204]. Таким образом, певцы как бы находятся в пограничном положении между кланом музыкантов и представителями различных групп общества, они как бы собирают и отражают стереотипы поведения и тех и других.
В свою очередь, дирижер — это «не герой толпы, он герой героев: воплощение власти в глазах всевластных»[205]. Формально, он не играет ни на одном инструменте, но при этом «на картинке» под его жестом подразумевается звучание музыки. Главное в визуальном образе дирижера — найти соотношение в одновременной презентации и себя как неповторимой личности, и коллектива музыкантов, которыми он управляет. Поэтому даже на фотопортрете дирижера, особенно на том, который делается «вживую», всегда домысливается играющий оркестр, те люди, на которых сквозь объектив камеры и направлен его взгляд.
Как мы упоминали ранее, дирижирование — самая визуальная из всех музыкальных специализаций, это профессия мимики и жеста, которая сосредоточена на пластике самого тела, безотносительно какого-либо инструмента. Дирижеру необходимо на полную мощность использовать ресурс своего тела, так как с его помощью он не просто управляет группой людей, а должен выражать содержание самой музыки. При этом существует тонкая грань, когда, как предупреждает выдающийся дирижер и педагог И. А. Мусин, «очень легко перейти от передачи образно-эмоционального содержания музыки к показу собственных переживаний, что не одно и то же»[206]. В последнем случае дирижер «допускает преувеличенную мимику, искусственную позу и т. д., что — как заключает Мусин — производит антихудожественное впечатление»[207]. Здесь начинают проявляться неизбежные противоречия между профессионально-исполнительскими задачами и законами массмедийной презентации. С профессиональной точки зрения «чем более совершенна техника дирижера, тем в большей мере она позволяет пользоваться “скупым” жестом»[208] — то есть быть предельно статичным и внешне (лишь внешне!) отстраненным от звучащей музыки. Но в то же время публика, а вместе с ней и камера, ждет наглядного проявления эмоционального содержания музыки, отображения на лице и в движениях дирижера мельчайших деталей музыкальной мысли, иначе пропадает интерес и желание смотрения всего происходящего действа. Таким образом, мы вновь наталкиваемся на «ножницы» между потребностями самой музыки и интересами массовой культуры.
Но на самом деле обозначенная проблема появилась не сегодня. Заинтересованность внешним видом дирижера всегда была настолько высока, что публика вплоть до конца XIX столетия желала видеть его не спиной, а лицом к себе, несмотря на то что при этом качество исполнения сильно страдало[209]. Сегодня видеомониторы в концертных залах и мощные объективы вездесущих фотографов «разворачивают» дирижера лицом к публике, фиксируют эффектные жесты и пытаются запечатлеть энергетику музыки, тем самым давая публике возможность наверстать вековой «визуальный дефицит» за счет новых технических средств.
В связи с тем, что дирижер неотделим от оркестра, наблюдаются две закономерности его визуального преподнесения. Первая заключается в том, что показателем востребованности и профессиональной компетенции дирижера становится количество музыкантов, выступающих с ним на одной сцене и, соответственно, попадающих в объектив камеры[210]. Другое наблюдение показывает, что хотя дирижер и лидер оркестра, но если он изымается из контекста коллектива и начинает индивидуально позировать на камеру, то эффект получается довольно сомнительный. Мы видим или архетип модели, погруженной в самосозерцание, или архетип «потерянного человека», с блуждающим и порой нелепым взглядом. (Особенно характерны в этом отношении снимки В. Гергиева во время светских раутов[211].) То есть для того, чтобы дирижер выглядел действительно дирижером, ему необходимо быть занятым своей непосредственной профессией, потому что аура дирижера не сохраняется в любых мизансценах и не ощущается на любом фоне.
Последнее правило, по большому счету, распространяется на всех музыкантов, вне зависимости от их специализации. Без музыки музыканты, в том числе и певцы, утрачивают в своем внешнем облике что-то самое важное, что проявляется в них в момент исполнения. Это что-то может быть определено словами: аура, энергетика, одухотворенность, погруженность в музыку. Но вся проблема заключается в том, что отображение реальной жизни музыканта в процессе исполнения публика видеть не хочет (или так думает реклама, что не хочет), так как это будет слишком скучно, обыденно и отстраненно от человека, наблюдающего музицирование. Считается, что реальное исполнение музыки не совпадает с бытующими представлениями об абсолютной духовности, гармоничном эстетизме облика и благообразности академического музыканта.
В этом и проявляется дилемма, в которую закольцовывает музыканта массовая культура, — с одной стороны, его внешность должна соответствовать всем стандартам моды и красоты, а с другой — он ни в коем случае не должен показывать свою укорененность и заинтересованность в этом мире материального и повседневного. Музыкант не может позволить себе жизнедействовать ровно так же, как это делают обычные люди. Он должен находиться где-то за пределами привычного и понятного — в мире прошлого или потустороннего — и лишь изредка появляться в бренном мире, привнося в него своим искусством частицу непостижимого и возвышенного.
Особенно наглядно эти противоречия проявляются тогда, когда академический музыкант оказывается объектом внимания телевизионных программ, причем не собственно музыкальных, а самых различных форматов. Поэтому далее мы намеренно будем рассматривать передачи, идущие в эфире коммерческих телеканалов, так как цели специализирующихся на классической музыке каналов (к которым, в частности, относится и телеканал «Культура») существенно отличаются от приоритетов доминирующих СМИ.
Мы начнем с передач в формате ток-шоу. Известно, что успех ток-шоу во многом зависит от того, сумеет ли ведущий найти подход к приглашенному гостю и задать такую тему беседы, которая была бы интересна как герою программы, так и телевизионной аудитории. Таким образом, ТВ-формат обязывает удерживать баланс между узкопрофессиональными, личными и общезначимыми вопросами. В случае с собеседниками из мира классической музыки эта задача оказывается весьма непростой. Большинство ведущих, если они не являются профессиональными музыкантами, заранее признаются в своей некомпетентности в вопросах академической музыки и зачастую разворачивают разговор на самые широкие околомузыкальные и бытовые, но не специально-музыкальные темы. Закономерность такова, что «на экране сфера личной жизни раскрывается “нараспашку”, а этика рабочего поведения — скрывается как запретная, табуированная тема»[212]. Такую роскошь, как дискуссия о глубинных основаниях и проблемах классической музыки, мог позволить себе лишь Александр Гордон[213].
Тем не менее многие ведущие, заполучая в свою программу представителя классической музыки, пытаются в ходе эфира сами для себя разобраться, в чем же заключается ценность этого искусства. Это может вылиться или в прямой вопрос собеседнику, или в собственные размышления о феномене музыки, степень же проникновения в предмет зависит, конечно же, от эрудиции самого ведущего. В итоге могут прозвучать весьма банальные сентенции или, наоборот, непривычная, но обоснованная точка зрения. Так, к разряду явных ляпов можно отнести вопрос Дмитрия Диброва к Хворостовскому о мелизмах и динамике, в которых заключается уникальность классической музыки («Временно доступен», ТВЦ); или о способах популяризации классической музыки не где-нибудь, а в консерватории, о чем Алина Кабаева спрашивала Михаила Плетнева в своей программе «Шаги к успеху» (Пятый канал). С другой стороны, Татьяна Толстая пыталась объяснить специфику музыки через целостность быстротекущего потока, состоящего из отдельных нот. И это определение, высказанное в беседе с Владимиром Спиваковым в «Школе злословия», выглядело необычным и, тем не менее, убедительным. Со своей стороны, приглашенные музыканты, отвечая на подобные вопросы, находят выход в проведении наглядных параллелей с той сферой, где специализируется сам ведущий, тем самым переводя разговор о «высоких материях» на всем доступные и известные аналогии.
С позиции телевидения вполне объяснимо, что авторы программ стараются вывести своих героев на общепонятные, привычные и порой «житейские» проблемы. Но результат такого «опрощения» оказывается порой непредсказуем. Так, от всей возвышенности и утонченности имиджа может не остаться и следа, как в случае с Анастасией Волочковой, которая с трудом находила ответы на элементарные вопросы об искусстве, задаваемые Авдотьей Смирновой и Татьяной Толстой («Школа злословия», НТВ). Или артист, вызывающий восхищение на сцене, может оказаться фактически «лишним» персонажем в формате «рукодельной» телепередачи. Здесь показателен случай Дениса Мацуева, который, выступая в роли повара в кулинарно-развлекательной программе «Смак», так и не прикоснулся к приготовлению искомого блюда, боясь за сохранность своих пианистических рук[214].
Все эти выходы на предельно приземленные темы и занятия предпринимаются телевидением в интересах зрителя-обывателя, который тем самым начинает «приобщаться сразу ко всему артисту, а не просто к его таланту. Ведь к таланту сколько ни приобщайся, все равно он останется недоступен. Соотносить себя с чьим-то чужим искусством людям нетворческих профессий трудно, а главное незачем»[215]. Поэтому, как бы крамольно это ни звучало, обыватель у телевизора даже ждет, что кумир сцены в обыденной жизни проявит себя не с лучшей стороны. В этом случае телезритель получает уникальный шанс почувствовать себя в чем-то даже «выше», «талантливее» признанного и знаменитого артиста.
Другим приемом из этой серии становится обращение к непрофессиональным увлечениям и хобби академических музыкантов. Например, Гергиев и Мацуев оказываются заядлыми футбольными болельщиками; Плетнев играет в бадминтон, водит вертолет и занимается дайвингом, а Спиваков любит самолично закупать продукты на Парижском рынке. И вновь артист, казавшийся недосягаемым на сцене, на телеэкране превращается в обыкновенного человека с понятными переживаниями и знакомыми привычками. У телезрителя создается впечатление приватного, дружеского общения со знаменитым исполнителем, которое впоследствии непременно «всплывает» и сказывается на восприятии артиста уже в концертном зале.
Еще один востребованный способ рассказать широкой публике о музыканте — это воспользоваться языком рейтинга, всевозможными цифрами и фактами. Это вполне объяснимо, так как понять профессиональный уровень артиста, посмотрев фрагмент его выступления, может далеко не каждый телезритель. Но если ему сказать, что герой программы дает свыше 150 концертов в год, или руководит оркестром, входящим в двадцатку сильнейших коллективов мира по версии солидного журнала, или имеет высокопоставленных персон в своих друзьях, то зритель получает возможность оперировать исчислимыми, а значит, ощутимыми и объективными показателями успешности музыканта. Таким образом, если шоу-бизнес, полностью построенный на рейтинге, порой пытается тщательно скрыть свой прагматизм, то классическая музыка, оказываясь в пространстве массмедиа, должна эти рейтинговые показатели предъявить и артикулировать. Эта закономерность обуславливается опять же тем, что ценность классической музыки должна быть не «умозрительной» (эстетической, духовной), а выражаться наглядно, быть проверяемой и даже материальной.
В связи с этим характерным требованием телевидения по отношению к академическим музыкантам является необходимость демонстрации профессиональных навыков непосредственно в телестудии, здесь и сейчас. Это объясняется также спецификой самого телевидения, привыкшего подтверждать любую информацию «картинкой». Музыканту недостаточно прийти в студию и говорить о музыке, ему желательно еще что-либо исполнить. Поэтому Денис Мацуев, оказавшись гостем программы «Прожекторперисхилтон», в первую очередь садится за рояль, Игорь Бутман также приходит с саксофоном в гости к Максиму Галкину, Дмитрий Дибров предлагает Дмитрию Хворостовскому спеть прямо в студии, Михаил Казиник выступает в аналитической программе «Без цензуры»[216] в дуэте со скрипкой и т. д. Даже Николая Цискаридзе при случае вынуждают станцевать под отнюдь не классическую музыку Deep purple и «Любэ» («Центральное телевидение», НТВ). Если же в студии не оказывается искомого музыкального инструмента, то в эфир непременно монтируется запись выступления артиста. Причем важно, что зачастую показываются самые виртуозные моменты, так как беглость пальцев — это опять же всем понятный и неопровержимый аргумент мастерства. Ровно по этой же причине в видеоряде с концерта предпочтение отдается заключительным пассажам музыкального произведения и следующим далее бурным овациям зрительного зала, как еще одному безоговорочному доказательству востребованности и успешности музыканта.
Таким образом, несмотря на то что академические музыканты заявляют о противоположности, несовместимости «высокого» искусства и их собственной деятельности с запросами и потребностями массовой культуры, характер их взаимоотношений с массмедийной сферой свидетельствует об обратном настрое. Академические музыканты, как представители современного общества, во многом подвержены его стереотипам и комплексам, главный из которых выражается в том, что профессиональная успешность и творческая состоятельность артиста зачастую измеряется степенью его популярности и известности у широкой аудитории. Поэтому так или иначе академические музыканты стремятся соответствовать духу своего времени, отвечать запросам и потребностям современного общества, тем самым актуализируя и подтверждая ценность классической музыки как в глазах общественности, так и для самих себя.
4. Классическая музыка в форматах коммерческого ТВ
Массовая культура не только втягивает в свой водоворот действительных представителей классической музыки, но и «примеряет» ее образы и символы на собственных героев. Причем данная замена настоящих академических музыкантов лицедействующими персонажами снимает многие проблемы в интерпретации собственного содержания классических произведений. В данном случае классическая музыка оказывается привлекательным имиджевым ресурсом, используемым в самых различных контекстах.
Аллюзии на классическую музыку можно увидеть уже в оформлении телевизионных студий. Например, когда в интерьере далекой от классической музыки программы «Временно доступен» (ТВЦ) появляется рояль вызывающе красного цвета с открытой клавиатурой. Что может значить этот инструмент, попадающийся «на глаза» панорамно-кружащейся камере перед началом продолжительного интервью? Так как любой предмет, находящийся в студии и оказывающийся в кадре, несет определенную семантическую нагрузку, то рояль в контексте программы «Временно доступен» можно воспринимать как символ предстоящего публичного самовыражения приглашенного гостя, овеществленную метафору его «сольного» выступления. Подобно тому, как пианист, выходящий к публике, желает донести и представить свое прочтение музыкального произведения, так и от героя в студии ждут откровенного разговора, в том числе о его собственной персоне. «Сольное» интервью, как и сольный концерт, предполагает искренность, более того, исповедальность разворачивающегося действа, вместе с обстоятельностью и внесуетностью. В этой связи уже своеобразной закономерностью выглядел стол с очертаниями рояля в другом интеллектуальном ток-шоу «Школа злословия»[217]. И это был не только отсыл к спасительной классике, знаменующей победу формы над дисгармонией содержания и содержательной пустотой[218], но одновременно и предвкушение виртуозной публичной дискуссии.
В качестве другого примера использования музыкально-инструментальных атрибутов в оформлении студии можно привести выпуски программы «Добрый вечер с Максимом» (Галкиным), приуроченные к различным государственным праздникам[219]. Здесь клавишами рояльной клавиатуры оказался «вымощен» подиум сцены. И когда ведущий начинал по нему ходить, то пол как бы превращался в громадную клавиатуру, на которой вполне возможно играть, но только ногами. Тем самым возникала схожая визуально-образная метафора, и Галкин выступал как «солист», музыкой которого была реакция зала. Более того, время от времени ведущий порывался принять участие в исполнении живой музыки, претендуя дирижировать джаз-бандом, приглашенным для заполнения пауз во время смены действующих лиц.
Желание продемонстрировать свои музыкальные навыки характерно для многих шоуменов отечественного эфира. Особенно ценится игра на каком-либо музыкальном инструменте. Причем важно, чтобы исполнителями оказались не профессиональные музыканты, а любители, которые известны публике совсем в другом «репертуаре». Так, в двух развлекательных шоу — Comedy Club и «Прожекторперисхилтон» — ведущие время от времени меняют микрофон на музыкальный инструмент. (В первом случае на рояле зачастую солирует Гарик Мартиросян, а в «Прожекторперисхилтон» он музицирует уже в составе квартета ведущих во главе с Иваном Ургантом.) Этот трюк — перевоплощение из ведущего в музицирующего и обратно — необходим отнюдь не ради самой музыки, для исполнения которой в студию можно пригласить профессиональных музыкантов. В данном случае принципиальны два момента. С одной стороны, желание предъявить телезрителям разносторонне одаренную личность, которая не только проявляет себя в привычном «разговорном жанре», но и обладает безусловно творческими, а значит, неординарными и запоминающимися навыками. Ведущий предстает как «полифункциональный» персонаж, который с легкостью может жонглировать ролями конферансье и музыканта. С другой стороны, исполняя ту или иную музыку, телеведущий обычно руководствуется своими собственными музыкальными пристрастиями, тем самым публично их декларируя. Следовательно, благодаря музыке он получает возможность раскрыться в своей индивидуальности, через музыку выражаются его внутренние, личностные ценности, который порой могут не совпадать с ценностями, позиционируемыми в самой передаче.
К сфере классики часто прибегают и представители музыкального шоу-бизнеса. Большинство звезд отечественной поп-музыки, особенно старой закалки, в свое время учились в музыкальной школе, училище или даже в музыкальном вузе, тем самым они так или иначе изучали, исполняли, а некоторые даже и сочиняли, академическую музыку. И теперь, оказавшись на гребне массовой культуры и, соответственно, на экранах телевизоров, каждый из них по-разному соотносит себя с миром классического искусства. Для кого-то классика была имиджевым ресурсом для старта — в этом плане показательны примеры Николая Баскова и Анастасии Волочковой. Другие сознательно уходили в эстраду, как более востребованную и прибыльную отрасль музыкантской профессии. Но, делая карьеру в шоу-бизнесе, многие поп-звезды так или иначе прибегают к атрибутам и мотивам классической музыки.
Так, среди дорогих сердцу Димы Билана вещей и предметов — фотографий, наград, дневников — оказывается потрепанный студенческий билет гнесинского училища (передача «Личные вещи», Пятый канал). Игорь Николаев в подробностях описывает свой вступительный экзамен в музыкальное училище при Консерватории и даже присаживается за рояль, чтобы наиграть первые такты «Баркаролы» Чайковского («Бенефис Игоря Николаева. Надежда на любовь», НТВ). Более того, Николаев, а также его коллеги по цеху — Игорь Крутой и Дмитрий Маликов — регулярно примеряют на себя образ академического пианиста-композитора. На многочисленных телевизионных концертах они, облаченные в строгие черно-белые костюмы, играют на рояле, сопровождая выступление поющего их музыку исполнителя. Камеры пристально возвращаются к самозабвенно музицирующему композитору, порой даже оставляя на втором плане официального солиста. В продолжение истории к дуэту с эстрадным композитором приглашаются уже оперные певцы (к Крутому присоединяется Дмитрий Хворостовский, а к Николаеву — оперная дива Карина Сербина и запевший премьер Большого театра Николай Цискаридзе). Дмитрий Маликов идет еще дальше, устраивая шоу Pianomania, в котором весь вечер солирует за роялем и в череде своих композиций исполняет также музыку Рахманинова и Прокофьева. А в телевизионных интервью он неустанно подчеркивает, что этой программой он расширяет рамки своего творчества и становится композитором, пишущим серьезную музыку[220].
Мизансцена с аккомпанирующим на рояле композитором в данном случае очень показательна для понимания того, что же ищут в классике и пытаются через нее выразить состоявшиеся на эстраде музыканты. Как уже говорилось, любой исполнитель, оказавшись за инструментом, предельно минимизирует визуальный контакт с публикой, а это, в свою очередь, противоречит базовому требованию массмедийной презентации — контакту глаза в глаза. В данном случае вектор прямого (или условно прямого через призму камер) общения артиста с публикой замещается диалогом артиста с инструментом или с солистом. Исполнитель за роялем, хоть и окруженный зрителями, как бы остается один на один с музыкой, не замечает присутствия людей вокруг. Так, во всех трансляциях концертов Игоря Крутого взгляд композитора намеренно скользит мимо камеры, фокусируется либо на солисте, либо на оркестре, но чаще всего он как бы застывает в неопределенной точке, избегая быть обращенным непосредственно к телезрителям. Тем самым создается ощущение, что исполнитель словно бы пребывает в другом измерении, он настолько погружен в творчество, вдохновлен и одухотворен самой музыкой, что не замечает ничего и никого вокруг. В таком способе презентации явно прослеживается мотив одинокого художника, который мы подробно разбирали в главе о клипах на классическую музыку. Зрителю предъявляется апофеоз творчества — момент полного уединения и отрешенности среди переполненного концертного зала. Но принципиальная разница между романтическим героем и современным артистом, как уже отмечалось, заключается в том, что одиночество поп-артиста на самом деле оказывается мнимым, постановочным, оборачивается нарциссизмом, не отчуждением от толпы, а, наоборот, ощущением себя в центре ее внимания, еще одним способом подтверждения своей «звездности». Для романтика его одиночество было трагедией, а для поп-исполнителя одиночество в кадре — это триумф. От романтического мировоззрения и классического ритуала берется красивая форма, в которую вкладывается ровно противоположное содержание. Шоу-бизнес всеми силами старается завуалировать тот расчет, который лежит в основе любого бизнеса. Для этого создается и транслируется этот миф свободного творчества, творчества как порыва души и самовыражения, не подчиненного заказу и вообще какой-либо прагматике. Этому мифу и служат всевозможные отсылки к классическому искусству, как к сфере абсолютно духовного.
Другой целью обращения к теме классической музыки представителей шоу-бизнеса и массовой культуры является стремление заявить о своем неординарном профессиональном мастерстве и предъявить публике бесспорные доказательства своего уникального дарования, тем самым повысив престижность своего творчества. Для иллюстрации данного положения мы обратимся к анализу нескольких шоу-проектов коммерческого телевидения, связанных с классической музыкой.
Одним из первых проектов, использующих классическую музыку в качестве имиджевой стратегии, стало реалити-шоу «Русские теноры», выходившее на телеканале СТС осенью 2009 г.[221] Уже само название «Русские теноры» несло определенные аллюзии, и не только на оперное искусство как таковое, но и на знаменитое трио итальянских теноров, собиравшее стадионы и ставшее одним из самых коммерчески успешных проектов. (Заметим, что на поверку среди участников телепроекта наряду с тенорами оказались также баритоны и басы.) Кроме того, словосочетание «русские теноры» — это образ русской вокальной школы, и даже шире — образ самой России как страны всемирно известных певческих самородков (от Шаляпина до Хворостовского). Таким образом, все эти семантические параллели должны были подчеркнуть академическое «происхождение» исполнителей.
Но между тем результатом проекта предполагалось создание кроссоверного вокального квартета, в репертуаре которого были бы как поп-музыка, так и оперные арии в современной аранжировке[222], поэтому именно такого рода произведения доминировали на протяжении всего проекта[223]. При этом разучивание и исполнение композиций проходили под фонограмму и в микрофон. Более того, в кадре отсутствовал вообще какой-либо нотный текст, в руках у конкурсантов во время репетиций в лучшем случае были листки со словами песен. Певцам приходилось петь не в своей тесситуре, а жюри, прежде всего, оценивало артистизм, а точнее, зрелищность выступления, нежели его вокальное качество. Что касается состава жюри, то в нем превалировали не профессиональные музыканты, а продюсеры, среди которых беспрекословным авторитетом по вокальной части признавалась продюсер мюзиклов Екатерина фон Гечмен-Вальдек, на пару с которой участников оценивал бодибилдер Александр Невский.
В самом первом выпуске «Русских теноров» вышеупомянутый Александр Невский говорил о том, что ребята-участники разрушили его стереотипы об оперных певцах как о пожилых людях с лишним весом. Тем самым он озвучил официальную идею проекта — перевернуть общераспространенные представления об академических музыкантах и об оперных певцах в частности. Для этого нужно было показать их в быту — моющими посуду и полы, переодеть в рабочие комбинезоны и отправить на ферму, а если и оставить в парадной одежде, то сделать из певцов официантов — таковы некоторые немузыкальные задания из сценария реалити-шоу, которые опять же должны были дать почувствовать телезрителю свое житейское «превосходство». И при этом каждый раз подчеркивалось, что перевоплощение из оперного певца в эстрадного артиста — это нелегкий и всепоглощающий труд, требующий невероятной самоотдачи, и даже прекрасные вокальные данные участников не гарантируют им успеха на ниве шоу-бизнеса.
Из всего этого следует, что данный телепроект не разрушал стереотипы об оперных певцах, а слагал и транслировал миф о профессии эстрадного исполнителя как об одной из самых трудных специализаций, требующей полного самоотречения и даже жертвенности. И если академическая вокальная школа считается высокой ступенью в пении как таковом, то в логике организаторов проекта она оказывается не просто другим родом вокала, а специализацией на порядок ниже, чем мастерство в сфере музыкального шоу-бизнеса. На данном примере, как и в случае с рекламными роликами, травестирующими ритуал исполнения классической музыки, видно, как через развенчание классических эталонов утверждаются ценности массовой культуры и мифологизируются ее герои.
Если в «Русских тенорах» из певцов с академической «выправкой» пытались сделать поп-артистов, то в британском шоу Popstar to operastar[224] и в его российской адаптации «Призрак оперы»[225] вектор идеи был выбран ровно противоположным — звезды шоу-бизнеса стали пробовать себя в оперном репертуаре.
Несмотря на то что отечественный аналог официально выкупил права на формат зарубежного шоу, тем не менее в сценарий «Призрака оперы» были внесены существенные изменения, которые фиксируют принципиальные различия в подходе к классической музыке отечественной и западной популярной культурой.
Решающим фактором стало приглашение в российский проект звезд «первой величины», уже имеющих свое имя в шоу-бизнесе, тогда как участниками британской версии были восходящие поп-артисты. Это привело к существенным коррективам в регламенте проекта. Прежде всего, была отменена интрига шоу как конкурса на выбывание. То есть если в западном понимании такого рода проект был лишь одним из шансов продемонстрировать свои неординарные умения, то отечественные звезды шоу-бизнеса пропагандировали свое участие в данной программе как высшую ступень своей творческой карьеры и поэтому не могли допустить своего изгнания из круга избранных.
Как и в случае с «Русскими тенорами», репертуар проекта был далек от настоящих классических произведений. Поначалу, замахнувшись на самые сложные оперные арии, поп-артисты весьма сильно «подмочили» свою репутацию, так как отсутствие поставленного голоса и фальшивую интонацию не смогли прикрыть ни затейливая режиссура, ни роскошные костюмы. «Картинка» была блестящей, но вот непрофессионализм певцов было слышно даже «невооруженным» ухом. Поэтому продюсеры шоу стали постепенно «спускать» репертуарную планку, в конечном итоге придя к мюзиклу и народной песне, то есть к жанрам естественного амплуа данного рода артистов. Но при этом жюри и исполнители упорно продолжали убеждать зрителей, что они смотрят «большое» искусство, в то время как от настоящей оперы в буквальном смысле остался лишь призрак в виде названия, театральных декораций и оркестровой ямы с «живым» симфоническим оркестром.
Продюсеры британского проекта Popstar to operastar изначально не скрывали шоу-направленность проекта, открыто заявляя, что аутентичность классической музыки в формате телешоу невозможна. Поэтому и были придуманы такие уловки, как пение в микрофон и транспонирование произведений в удобную тональность. Но вместе с тем прослеживалось стремление к некой достоверности — это и пение под настоящий оркестр, уроки вокала с нотами, концертмейстером и под руководством профессионалов Роландо Вильянсона и Кэтрин Дженкинс. Причем фрагменты этих уроков непременно вводились в презентацию артиста перед его непосредственным выступлением.
В российском же варианте процесс разучивания произведения зачастую игнорировался, никак не обозначался при представлении артиста. И только из оброненных реплик участников становилось ясно, что некоторые из них начали заниматься академическим вокалом. В итоге проект превратился в некое подобие коллективного бенефиса поп-артистов, позаимствовавших сюжеты и атрибуты из оперной «кладовой». В образе какого бы героя ни выходили певцы, они непрерывно продолжали играть самих себя медийных и всенародно любимых. Им не только не хватало актерского мастерства, чтобы перевоплотиться в оперных героев, но к тому же «мешал» груз собственного эстрадного имиджа. Певцы преимущественно играли самих себя, перекрывая своей личностью характер героя и, по сути, превращая выступление в костюмированную пиар-акцию.
Отсыл к классике в данном случае требовался, во-первых, как повод для пышных декораций и как претензия на обладание не «фанерным», а настоящим, природным голосом и талантом. Во-вторых, переход поп-артистов на классический репертуар должен был свидетельствовать о том, что на эстрадной сцене они уже находятся вне конкуренции и вообще каких-либо рейтингов, так как они в принципе вышли за пределы этой сцены в пространство вечной музыки. Более того, те песни, исполнением которых они прославились прежде, автоматически тоже как бы приобретали статус «классических произведений». (Этой претензии стать «живыми классиками» вторит слоган одного из совместных концертов Дмитрия Хворостовского и Игоря Крутого — «Музыка, которая становится классикой на ваших глазах».) Во всех подобных случаях классическая музыка понимается исключительно как «брендовое» словосочетание, с помощью которого произведения современной популярной музыки и их исполнители вписываются в анналы истории великой музыки.
Часть II Герои и символы классической музыки в современном кинематографе
Глава 5 Новая история классической музыки в фильмах о музыкантах прошлых эпох
Кинематограф на протяжении всей истории своего развития проявлял неизменный интерес к миру музыки и к личности музыканта в частности. С количеством фильмов про музыкантов самых разных стилей и направлений могут сравниться разве что фильмы, посвященные актерам. Данная закономерность вполне объяснима, ведь биографии знаменитых артистов по большей части представляют собой уже готовый сценарий с ярко очерченной интригой, динамичным действием и заведомо неординарными героями. И то обстоятельство, что биографии великих музыкантов прошлых эпох неизбежно имеют пробелы и не так хорошо известны широкой аудитории, работает исключительно на руку режиссерскому замыслу, предоставляя невероятную свободу в интерпретации исторических реалий. В рамках нашего исследования мы вынуждены ограничиться анализом кинематографа 1990–2000-х гг., и лишь по мере необходимости будем ссылаться на более ранние экранизации.
1. Правда или вымысел?
По сложившейся традиции при анализе любого фильма, обращающегося к прошлому, исследователи непременно высказываются о правдивости и достоверности изображаемых на экране событий и героев. Такой подход зачастую обнаруживает многочисленные вольности, допущения и упущения режиссеров по отношению к фактам истории. Проблема же, как утверждает Роберт Розенстоун, заключается в том, что записанная история и визуальная история, создаваемая кинематографом, имеют в своей основе совершенно разные языки повествования, кардинально различающиеся по способам развертывания, презентации и интерпретации исторических реалий. Традиционная история имеет дело со словами, а визуальная история создается посредством изображения и звука. И если с помощью слов можно говорить о предельно абстрактных понятиях, то фильм суммирует, обобщает и символизирует посредством конкретных изображений, и, заключает Р. Розенстоун, мы можем только надеяться, что они будут подходящими[226]. Подчиняясь законам драматургии, фильм вынужден придумывать ситуации и вводить вымышленных персонажей, чтобы обеспечивать развитие сюжета, поддерживать остроту переживаний, вынужден упрощать запутанные события, облекая их в правдоподобную драматургическую структуру[227]. Как ни парадоксально звучит вывод Р. Розенстоуна, но «на экране история, чтобы быть правдивой, должна быть вымышленной»[228].
Поэтому изучение исторических фильмов исключительно в ракурсе их фактологической точности мало что дает в понимании как самих фильмов, так и времени, в которое они создаются и которое они воссоздают. На наш взгляд, вопросы о достоверности того или иного исторического фильма следует рассматривать не столько с позиции следования фактам, сколько исходя из того, как подаваемые фильмом «факты» соотносятся с проблемами современности. Ведь известно, что любое обращение к прошлому, в том числе и посредством кино, является одной из попыток осмысления настоящего. Как замечает по этому поводу Р. Макки, «историческая драма шлифует прошлое, превращая его в зеркальное отражение настоящего, проясняя и делая более приемлемыми болезненные проблемы расизма <…>, религиозных распрей <…> или насилия всех видов»[229].
Казалось бы, что с этой точки зрения исторические ленты о музыке и музыкантах заведомо ограничены весьма узким кругом проблем, которые могут быть интересны широкой аудитории. Но практика показывает обратное. Фильмы о музыке и музыкантах прошлого затрагивают проблемы, выходящие далеко за пределы мира искусства и творчества, охватывая вопросы политики и власти, социального положения и успеха, гендерной принадлежности и национальной идентичности. Тема музыки искусно вплетается в тугой клубок социальных взаимоотношений и любовных перипетий, нередко оказываясь лишь поводом для истории совсем о другом.
2. Исторические декорации: формула воздействия
Кинематограф располагает уникальным инструментарием по отношению к истории — ему подвластно создавать иллюзию реальности, иллюзию «ожившей» истории. «Мир, который воссоздается в обычных или мейнстримных фильмах, — отмечает Р. Розенстоун, — подобно миру, в котором мы живем, и воздуху, которым мы дышим, так легко узнаваем, что мы редко задумываемся о том, как такое совмещение возможно. В этом суть. Фильмы хотят заставить нас думать, что они являются реальностью. <…> Даже если мы знаем, [что этот мир вымышленный,] мы легко забываем об этом, чтобы участвовать в событиях, преподносимых нам камерой»[230]. С одной стороны, исторический фильм как произведение искусства неизбежно имеет дело с фантазией, вымыслом и во многом строится на догадках его создателей. Но в то же время он претендует быть отражением действительно происходивших событий, причем воссоздает он их таким образом, что мы, вольно или нет, верим тому, что видим на экране и на время просмотра фильма становимся как бы очевидцами тех далеких эпох. В нашем восприятии исторический фильм сталкивает и напластовывает сразу несколько временных измерений — мы погружаемся в ожившее прошлое и вместе с тем продолжаем пребывать в современности.
История обладает для кинематографа специфической притягательностью, связанной с фактурным богатством исторических декораций и особенностями темпоритма ушедших эпох. Воссоздаваемая на экране история неотделима от роскоши интерьеров, пышных костюмов, условностей этикета, а также от особого хронотопа, присущего тому или иному времени, как замечает М. Макиенко: «У каждого периода истории — собственные “скорости” и особая ритмическая напряженность»[231]. Визуальная насыщенность и инаковость во многом определяют своеобразие исторических фильмов. Мир, разворачивающийся на экране, хоть и несет в себе иллюзию реальности, вместе с тем никогда не выглядит будничным и естественным для современного взора. Даже если экран уверяет нас, что он отражает повседневность прошлого, эта повседневность интересна именно потому, что не является таковой для нас.
В свою очередь, характерная особенность современной цивилизации заключается в тотальной наполненности окружающего пространства устройствами видеонаблюдения и визуального запечатления. Фото- и видеокамеры сегодня присутствуют в нашей жизни повсеместно, и мы уже привыкли к тому, что фиксируют они не только знаменательные моменты и выдающихся личностей, но и самые обыкновенные процессы в жизни самых обыкновенных людей. Формирующаяся в нашем сознании естественность постоянной видеофиксации и мгновенной медиатизации повседневной жизни во многом определяет то, как современный кинематограф показывает нам прошлое.
Так, по наблюдению К. К. Огнева, раньше исторический кинематограф придерживался правила, согласно которому выдающегося деятеля нельзя было показывать в халате, и поэтому подробности обыденной жизни отбрасывались, а герои изображались в основном как общественные деятели[232]. На современном же этапе исторический кинематограф исповедует ровно противоположные идеи, стремясь представить во всех подробностях быт исторических личностей и тем самым показать гения как обыкновенного человека с его отнюдь не всегда приглядными слабостями и житейскими заботами.
По отношению к классической музыке таким поворотным фильмом, изменившим прежние правила преподнесения великих композиторов, стал знаменитый «Амадеус» Милоша Формана, вышедший на экраны в 1984 году. Снятый по пьесе Питера Шафера, этот фильм вызвал смуту в мировом музыковедческом сообществе и полностью перевернул массовые представления о личности незабвенного зальцбургского гения. Однако мало кто из критиков обратил внимание, что этот эксцентричный образ Моцарта по замыслу автора пьесы не претендует на историческую объективность, а рождается в глазах Сальери. Как отмечает Роберт Л. Маршалл, именно в представлении Сальери, как героя пьесы, Моцарт был инфантильным, дурно воспитанным ребенком с отвратительным смехом, который толком не знал, как должно себя вести и одеваться и который получал массу удовольствия от употребления нецензурных выражений[233]. В своей статье об этом фильме Р. Маршалл также отмечает, что П. Шаффер и М. Форман отошли от романтической идеализации Моцарта как трагического героя и создали новую мифологию, согласно которой он был человеком, а отнюдь не фарфоровым ангелом. Более того, продолжает Р. Л. Маршалл, Моцарт «согласно новой мифологии отнюдь не обязательно был восхитительной личностью вообще»[234]. Надо сказать, что образ легкомысленного чудака, воплощенный Томом Халсом, во многом повлиял на последующие кинореинкарнации великого композитора. Так, в фильме Карлоса Сауры «Я, Дон Жуан»[235], повествующем о жизни Лоренцо да Понте, Моцарт в исполнении Лино Гуанчиале является обладателем все того же несдержанного смеха, взбалмошного характера и вздыбленного парика, приличествующего скорее звезде современной панк-сцены, нежели композитору XVIII в.
Заданная М. Форманом линия «панибратства» и «свойскости» по отношению к гениям прошлого продолжает развиваться на современном киноэкране в двух направлениях. Во-первых, существует тенденция морально-этического развенчания великих имен, и Люлли, например, оказывается беспринципным карьеристом и сексуальным развратником («Король танцует»[236]), а Бетховен предстает откровенным хамом и заносчивым эгоистом («Бессмертная возлюбленная»[237], «Переписывая Бетховена»[238]). Тем самым подразумевается, что вершины духа, которые удалось достигнуть композиторам в своей музыке, вовсе не являются прямым отражением духовных качеств их собственной личности. Наоборот, музыкальные достижения как бы противопоставляются «истинным» чертам их характера, как бы воплощают в себе тот идеал, которому сами авторы музыки отнюдь не соответствовали.
Другая линия «обмирщения» неприкосновенных классиков выражается в способах построения мизансцен, когда условно «высокое» (будь то личность самого музыканта или его размышления о музыке) окружается далеко не самыми приглядными бытовыми подробностями. Так, два французских композитора XVII в., де Сент-Коломб и Марэн Марэ, ведут разговор о смысле композиторского творчества, справляя малую нужду в кустах («Все утра мира»[239]). Или нам показывается обрюзгшее тело немолодого Бетховена, за водными процедурами размышляющего об идее служения искусству («Переписывая Бетховена»). Или же вдрызг пьяный Фаринелли заявляется на великосветский прием и пытается объяснить его величеству разницу между музыкой, наполненной истинным чувством, и пустой виртуозностью («Фаринелли-кастрат»[240]). Тем самым современный кинематограф берет на себя роль скрытой камеры, установленной как бы в далеком прошлом и фиксирующей частную жизнь великих людей, не считаясь с тем, является она благовидной или нет. Наоборот, чем менее презентабельной выглядит эта «действительность», тем более правдивым считается кинематографическое повествование и его герои.
Кинематограф не только создает свою частную (альтернативную музыковедческой) галерею портретов великих композиторов, но и претендует дать собственную трактовку их знаменитым шедеврам. Зачастую в фильме содержание того или иного музыкального произведения напрямую обуславливается обстоятельствами и событиями из жизни композитора. Например, мы видим, как, пытаясь удержать в памяти облик умершей горячо любимой жены, Сент-Коломб водит по струнам своей виолы-да-гамба и сочиняет завораживающую по красоте музыку («Все утра мира»). Или как под пальцами Бетховена, пробующего новый рояль в гостиной Джульетты Гвичиарди, рождаются знаменитые фигурации Лунной сонаты («Бессмертная возлюбленная»). Или как под звуки революционного этюда Шопена солдаты оккупационной армии, ворвавшиеся в дом его отца, зверски разламывают рояль композитора («Шопен. Желание любви»[241]). Наконец, нам показывают, как у Люлли и Мольера, желающих высмеять напускную чопорность матери Людовика XIV, возникает замысел бессмертного «Мещанина во дворянстве» («Король танцует»). Прибегая к такому приему наглядной иллюстрации, кино пытается вписать «вечное», дошедшее до нас и звучащее сегодня великое творение в поток конкретных событий. Причем с позиции кинематографа не столь важно, являются ли изображаемые события вымышленными или действительно имевшими место. Для кинематографа важна идея совсем другого порядка — идея растворенности «высокого» в обыденном, идея неразрывности «большого искусства» и стечения как бы случайных жизненных обстоятельств. При этом авторы фильмов наделяются правом давать свое собственное видение как содержания музыкальных произведений, так и того контекста, в котором они создавались, и тем самым представлять широкой публике свою собственную историю классической музыки.
3. Современность под маской прошлого
Как справедливо замечает Кара Маккечни: «Исторический фильм говорит нам больше о том времени, в котором он создан, чем о том времени, в котором происходит его действие»[242]. Фильмы о великих музыкантах прошлого в этом отношении не исключение, и мы можем постоянно наблюдать, как в них регулярно обнаруживает себя современность.
Определяющей тенденцией в данном случае является сосредоточенность на обстоятельствах и ценностях частной жизни, им отдается безусловный приоритет как при развертывании сюжета, так и в прорисовке характеров героев. Подразумевается, что сегодня публику интересует не то, как и какую музыку писал композитор, а прежде всего перипетии его личной жизни. Причем именно с целью создания любовной интриги в сценариях фильмов вводится большинство вымышленных персонажей. Но дело даже не в том, что современные экранизированные биографии великих композиторов изобилуют мифическими возлюбленными, а в том, что эти любовные отношения развиваются исключительно на современный лад. Так, придуманная возлюбленная Вивальди — дочь аптекаря Лаура, — забеременев от композитора-священника, решает не скрывать свою беременность от общества и открыто заявляет о том, что будет воспитывать своего ребенка самостоятельно. Такое поведение, как мы понимаем, было нонсенсом во времена самого Вивальди, но напрямую отсылает к проблеме одиноких матерей, столь актуальной для современного общества. Или же в фильме о Фаринелли, также в любовной линии с вымышленной возлюбленной, поднимается другая проблема современности — тема искусственного оплодотворения. По сценарию фильма выдающийся певец-кастрат так страстно желает стать отцом, что прибегает в этом вопросе к помощи брата, в то время как в реальном историческом контексте связь с кастратами потому и была столь привлекательна, что не имела нежелательных последствий[243]. Эта же тема отцовства звучит в фильме «Бессмертная возлюбленная», в котором Бетховен самым невероятным образом оказывается тайным возлюбленным будущей жены своего брата и «настоящим» отцом ее ребенка, в истории известного как племянник Карл.
Во всех этих сюжетах радости семейной жизни предстают как труднодостижимая или же недостижимая вовсе мечта великих музыкантов. Причем если художник-романтик, типаж которого как бы воплощают эти герои, сознательно обрекал себя на одиночество, противопоставляя филистерский быт идее служения искусству, то в современных фильмах одиночество музыкантов понимается как признак их социальной неполноценности, свидетельство их несложившейся жизни. Подспудно намекается, что выпавшая на долю этих музыкантов посмертная слава меркнет в сравнении с обыкновенным человеческим счастьем, которого они не имели при жизни. Зрителю как бы говорится, что в этом отношении выдающиеся музыканты, безусловно бы, позавидовали ему — рядовому человеку, пусть и не написавшему великой музыки, но сумевшему создать семью и продолжить свой род.
Однако проблемы семейной жизни не идут ни в какое сравнение с тем миром гипертрофированной сексуальности, который кинематограф воссоздает в отношении прошлых эпох и музыкальной культуры того времени в частности. Причина такого повышенного интереса к этой теме связана не только с тем, что сегодня практически ни один фильм не может обойтись без постельной сцены. До предела наполняя повседневность ушедших эпох чувственными удовольствиями, кинематограф тем самым пытается оправдать современную идею сексуальной свободы, наглядно продемонстрировав ее размах в прошлом. Причем музыка в этом отношении оказывается особенно благодатной темой, так как не только сама по себе является одним из чувственных удовольствий, но способна дополнять и усиливать все другие эпикурейские радости.
Так, своеобразным лейтмотивом ряда фильмов о музыкантах является сцена безудержной оргии. Начиная все с того же «Амадеуса», а также в фильмах «Король танцует» и «Я, Дон-Жуан» великие композиторы (в данном случае Моцарт и Люлли) показываются как завсегдатаи роскошных борделей для знати. Такие сцены должны шокировать зрителя не только своей откровенностью, но и тем, что, согласно сценарию, посещение и участие в подобных празднествах плоти является непременной составляющей жизни героев. В таком контексте все высокие духовные устремления, заключенные в музыке этих композиторов, опять же оказываются неотрывны от телесного низа, от удовлетворения самых первичных инстинктивных потребностей. Таким способом утверждается все та же новая мифология обыкновенного человека, которого современный кинематограф настойчиво обнаруживает в ранее неприкосновенной личности гения.
Нередко сексуальная тематика не просто привносит в фильм визуальную пикантность, но определяет смыслообразующую ось драматургии. Например, тот факт, что Вивальди был священником, отнюдь не провоцирует авторов одного из фильмов о нем[244] затронуть проблемы отношений Бога и человека или вопросы веры и духовного служения. Даже проблема совмещения монашеского сана и карьеры светского музыканта намечена в фильме предельно схематично. Более всего авторов интересует обет безбрачия и накладываемый им запрет на мирскую любовь. Сан священника определяет непорочность Вивальди, его недоступность для открытых любовных похождений, делая его облик двойственным и притягательным, так как единственный недостаток героя заключается не в нем самом, не в его характере, а в его статусе. На обет безбрачия смотрят исключительно с мелодраматических позиций — как на особенность, которая обеспечивает шарм и интригу любовной линии сюжета.
По сути, к жанру love story скатываются также и экранизации биографии Шопена[245], где развитие событий строится вокруг знаменитого романа композитора с Жорж Санд. Эта история любви так привлекает современный кинематограф во многом потому, что в ней наглядно проявляет себя смена ролей в отношениях между мужчиной и женщиной, столь актуальная для сегодняшнего дня. Например, в фильме «Экспромт» подробно показывается, как Жорж Санд (Джуди Дэвис) отчаянно пытается завоевать сердце Шопена (Хью Грант) и вынуждена вести себя как заправский кавалер. Она посылает молодому композитору букеты цветов, проникает в его комнату через балкон, поражает его мастерством верховой езды и даже сражается вместо него на дуэли. И если в свое время поведение Жорж Санд воспринималось как открытый вызов общественным устоям, то с позиции сегодняшнего дня оно уже не шокирует, а понимается как начало закономерного процесса женской эмансипации.
Вообще же проблема женской эмансипации оказывается еще одним лейтмотивом современности, который настойчиво обнаруживает себя в историческом кинематографе о музыке и музыкантах прошлого. Главный вопрос, который современность здесь адресует прошлому, связан с отсутствием в официально утвержденной истории музыки женщин-композиторов. Кинематограф, в свою очередь, пытается понять, было ли это связано с объективными причинами творческо-интеллектуального порядка или же вызвано исключительно социальными ограничениями, накладываемыми на женщин в эпохи доминирования мужчин.
Кинематограф дает свой ответ, представляя целую галерею героинь, которые, подразумевается, могли бы стать выдающимися композиторами своего времени. Среди них сестра Моцарта — Наннерль («Наннерль, сестра Моцарта»[246]), супруга Малера — Альма («Невеста ветра»[247]), жена Шумана — Клара («Возлюбленная Клара»[248]) и даже вымышленная помощница Бетховена — Анна Хольц («Переписывая Бетховена»). Как выясняется, каждая из этих героинь обладала ничуть не меньшим музыкальным даром, чем те великие композиторы, рядом с которыми они находились. Однако об их профессиональной карьере не могло быть и речи, ввиду предубеждений общества, запрещавших женщинам серьезно заниматься сочинением музыки и дирижированием. Квинтэссенцию существовавшего положения выражает фраза из фильма «Переписывая Бетховена», вложенная в уста самого композитора, следующим образом прокомментировавшего заявление своей помощницы о том, что она пишет музыку: «Женщина-композитор как собака, которая ходит на задних лапах, — у нее плохо получается, но все удивляются, как она это делает».
Представляя такую версию событий, кинематограф как бы дает нам возможность увидеть историю в сослагательном наклонении. Выясняется, что общепризнанные гении не были безоговорочными и единственными героями своего времени, что были и другие герои, точнее, героини, которые гипотетически могли внести не меньший вклад в историю музыкального искусства, но, увы, не смогли этого сделать ввиду негласного «стеклянного потолка», ограничивавшего свободу их композиторского дарования пределами домашнего музицирования.
Более же тонкая подоплека такого ракурса в интерпретации истории заключается в том, чтобы утвердить идею прогрессивного развития общества. Как замечает Р. Розенстоун, в исторических фильмах «послание, доставляемое на экран, всегда предполагает, что положение дел становится лучше или уже стало лучше. <…> Подобные [мейнстримные] работы всегда устроены так, чтобы оставить у нас следующее чувство: разве мы не счастливы уже потому, что не живем в те темные, полные предрассудков времена? <…> Разве мы не стали значительно богаче и лучше?»[249] Тем самым историческому кино удается не только выявить проблемы современности в прошлом, но и убедить зрителя в том, что решение этих проблем возможно, что, например, сегодня талантливая девушка вполне может сделать успешную карьеру композитора или дирижера.
4. Герои нашего времени
Итак, как мы могли многократно убедиться, в декорациях исторического кинематографа разыгрываются исключительно современные сюжеты. Остается выяснить, каковы их герои — по какому принципу они выбираются и насколько близки своим историческим прототипам. Для этого мы остановимся на трех самых ярких персонах, появившихся на киноэкране в последнее время, — на Бетховене, Фаринелли и Люлли.
Пожалуй, самым востребованным в кинематографе композитором-классиком является Бетховен. Только за последние двадцать лет в кинопрокат вышло сразу четыре фильма о нем — «Бессмертная возлюбленная» Бернарда Роуза в 1994-м, «Героическая» Саймона Селана Джонса в 2003-м, «Переписывая Бетховена» Агнешки Холланд в 2006-м и «Лекция 21» Алессандро Барикко в 2008-м; и такой ажиотаж вокруг имени этого композитора отнюдь не случаен. Как замечает отечественный биограф и исследователь творчества Бетховена Л. В. Кириллина, уже романтики пытались создать свою собственную мифологию бетховенской личности, представив его в образе замкнутого в себе, хмурого, нелюдимого, никем не понятого и совершенно одинокого стареющего гениального музыканта. В то время как «разговорные тетради[250] рисуют другого Бетховена: общительного экстраверта, интересующегося всем на свете <…>, человека достаточно компанейского и знающего толк в дружеских застольях; обладателя острого чувства юмора, способного и пошутить, и получить удовольствие от шуток окружающих»[251].
Современный же кинематограф видит Бетховена прежде всего как человека, бросающего вызов окружающему обществу и его незыблемым устоям, как бунтаря, ниспровергающего любые социальные предрассудки и руководствующегося в своем поведении лишь нормами собственной морали. Причем играющие композитора актеры намеренно утрируют вздорность и прямолинейность его характера, вплоть до того, что представляют его эксцентричным грубияном и самодуром. Не исключено, что потребность именно в таком типе героя является неосознанным запросом со стороны современного общества, где требования политкорректности, толерантности и дежурной вежливости подавляют в человеке любые проявления истинных чувств, заставляют его везде и всюду поддерживать видимость тотальной позитивности бытия. В таком обществе Бетховен заведомо выглядит как антигерой и одновременно как настоящий герой, который не боится быть таким, какой он есть на самом деле, не скрывает своих подлинных переживаний. Более того, экранный Бетховен остро чувствует свое творческое превосходство и требует к себе особого отношения, соответствующего масштабу его дарования, что опять же полностью противоречит демократическим идеям толерантности и равных возможностей.
Но в то же время Бетховена настигает глухота, и в большинстве фильмов показывается трагический процесс того, как он становится, по сути, инвалидом, не приспособленным к нормальной жизни человеком, за права которых так рьяно борется современное общество. Физический изъян Бетховена кроме того, что вызывает у зрителя безусловное сочувствие и жалость к личности самого композитора, интерпретируется как исторический прецедент, самым убедительным образом доказывающий, что люди с ограниченными возможностями способны реализовывать свои таланты, в частности — создавать выдающиеся произведения искусства.
Не случайно, по всем законам голливудского жанра сразу в двух фильмах о Бетховене («Бессмертная возлюбленная» и «Переписывая Бетховена») присутствует сцена громкого триумфа, связанного с первым исполнением его Девятой симфонии. Этот кульминационный эпизод в обеих картинах знаменует победу композитора как над своим недугом, так и над попытками окружавшего его общества «вычеркнуть» стареющего и оглохшего композитора из быстротечной жизни музыкальной Вены. (Лишь в одном, сугубо авторском фильме Алессандро Барикко «Лекция 21» ставится под сомнение не только сам факт триумфа Девятой симфонии, но и гениальность ее замысла.) Ведь массовому зрителю необходим этот триумф, необходимо видеть, как заслуженное признание настигает героя и как торжествует справедливость. Причем успех, выпадающий на долю композитора, должен выглядеть бесспорно массовым! Поэтому в обеих экранизациях нам показывают переполненный публикой зал оперного театра, взрыв аплодисментов после исполнения и вынос композитора из здания театра на руках ликующей толпы. Нетрудно заметить, что весь этот ритуал неистового восторга напрямую отсылает нас к атрибутам почитания современной поп-звезды.
В фильме Жерара Корбье «Фаринелли-кастрат» данный архетип поп-идола, явленный в образе главного героя, прорисовывается с еще большей наглядностью и шиком. В. Зоркий как-то сформулировал, что «рецепт удачного биографического фильма о музыканте известен давно — тяжелое детство, родовая травма, сложные отношения с окружающим миром, тернистый путь к славе. Далее со всеми остановками: первые деньги, первые женщины, первые наркотики, все то же, но уже по второму кругу, падение и кэм бэк в блестках и лучах славы»[252]. Фильм Жерара Корбье сделан ровно по этой схеме, с одной только оговоркой, что формально в нем повествуется о жизни и карьере выдающегося певца XVII в.
Фаринелли, представленный на экране в конце ХХ в., имеет скандальный имидж, замешенный на его половой амбивалентности; он употребляет наркотики, в данном случае — опиум. Его преследуют бессознательные страхи, постоянно отбрасывающие героя к судьбоносному моменту кастрации, причем эти страхи имеют наглядный символ — скакового жеребца как предвозвестника трагедии, которой в действительности не было. В свою очередь появление самого Фаринелли грозит безумством публике, особенно дамам, которые от звуков его голоса то падают в обморок, то испытывают оргазм или же, позабыв все приличия, кидаются на вуаль, брошенную певцом в зал (исключительно современный жест общения с публикой).
Эллин Т. Харрис дает в своей статье детальный и глубокий анализ данного фильма и не только выдвигает целый ряд признаков, которые безоговорочно подтверждают, что в образе Фаринелли представлен типаж звезды современной поп-сцены, но и виртуозно вычисляет конкретного певца — подлинного прототипа образа Фаринелли. Но обо всем по порядку.
Главная тема этого фильма — согласно Э. Т. Харрис — заключается в том, что музыка и секс были так же тесно связаны в опере XVIII в., как и в популярной музыке сегодня[253]. Причем в это пресловутое уравнение секса и музыки вносится один важный нюанс, подразумевающий, что в музыке, как и в сексе, виртуозность как таковая приносит только пустые удовольствия, и лишь музыка и секс с истинным чувством являются исключительным переживанием[254]. Отметим, что подобная мораль обращена именно к современности, так как пытается обнаружить некие ограничительные принципы в идее сексуальной свободы.
Другим характерным мотивом современности, проявляющимся опять же в теме сексуальности, становится проблема половой амбивалентности или транссексуальности. Фаринелли потому и оказывается героем сегодняшнего дня, что его половая принадлежность предельно двойственна. Причем, как отмечает Э. Т. Харрис, кинематограф далек от того, чтобы воплощать на экране исторический типаж кастрата, который зачастую был необыкновенно большого роста, имел развитую, бочкообразную грудную клетку и разговаривал, как и пел, в мальчишеском диапазоне. Стефано Дионизи, играющий роль Фаринелли, имеет мертвенно-бледный, задумчивый облик, разговаривает голосом взрослого мужчины, а поет фальцетом. В этом кастрате «третьего пола» — в мужчине, говорящем мужским голосом, имеющем андрогинную внешность и поющем фальцетом, — Э. Т. Харрис обнаруживает безусловное портретно-имиджевое сходство с фигурой поп-короля Майкла Джексона[255].
Между тем параллели с популярной музыкой настойчиво проявляются также и в форме преподнесения музыкального материала. В фильме Фаринелли выступает на сцене исключительно с отдельными сольными ариями (некоторые из них на самом деле написаны не для кастратов, а для певиц-сопрано). Причем каждый номер обставляется впечатляющими декорациями, осуществляется в роскошных костюмах и сопровождается спецэффектами театральной машинерии. Вкупе с быстрым монтажом и отсутствием содержательного сюжета все это являет собой не что иное, как современный клип, снятый на старинную музыку. И суть всего фильма, подводит итог Е. Т. Харрис, заключается в том, чтобы «возвести в образец современность, оправданную историей»[256].
Спустя шесть лет после выхода «Фаринелли-кастрата» Жерар Корбье выпускает фильм «Король танцует», одним из главных героев которого стал знаменитый французский композитор XVII в. Жан Батист Люлли. Во многом повторяя успешную формулу предыдущего фильма, Корбье вновь представляет в образе старинного музыканта исключительно современного героя, однако на сей раз спектр затрагиваемых проблем выходит далеко за пределы поп-культуры.
Режиссер вновь находит повод для разговора о сексуальных отклонениях — его Люлли оказывается бисексуалом, склонным к содомии, и в сюжете неустанно звучит все та же тема общности музыки и секса. Причем масштаб композиторского дарования Люлли прямо пропорционален странности его сексуальных пристрастий — и его музыка, и его личная жизнь видятся как нечто ненормальное, разрушающее рамки дозволенного и общепринятого, но вместе с тем как нечто безотчетно притягательное, загадочное и волнующее.
Люлли в глазах придворных Людовика XIV воплощает все мыслимые и немыслимые пороки. Обладатель ярко выраженной южной внешности — смуглой кожи, носа с горбинкой и шапки спутанных черных кудрей, он — выскочка-иностранец, выходец из низов, невоспитанный и заносчивый, необузданный и импульсивный, всем своим поведением попирающий этикет самого изысканного двора Европы. В довершение всего Люлли имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, которую даже не пытается скрыть. Ему все время указывают на его место слуги и потешника, а он претендует быть не только законодателем музыкальных вкусов времени, но властителем дум самого короля и генератором тех новых ценностей, которые он, Люлли, вместе с Мольером пытаются привить великосветскому обществу. Этот бастард переворачивает жизнь двора вверх дном, задает новые правила игры, и уже сам Король-солнце начинает танцевать под его скрипку (в прямом и переносном смысле слова).
Другой вопрос, насколько данный образ близок к историческим реалиям? На портретах Люлли мы не найдем ни ярко выраженной южной внешности, ни вызывающего взгляда — на них запечатлен благовоспитанный европеец XVII в., дородной фигуры и в окладистом парике. К тому же, как известно, Италия в те времена была общепризнанным монополистом, поставлявшим лучших композиторов для всех дворов Европы. По версии же Корбье, основателем национальной композиторской школы Франции был, по сути своей, дикарь-эмигрант, и именно его талант лежит в основании исторической славы французской музыкальной культуры.
Так кого же все-таки предъявляет нам Корбье под именем Люлли? Ответ станет очевидным, если вспомнить особенности миграционной политики Франции на протяжении ХХ в. В этом фильме о композиторе далекого XVII в. обнаруживают себя самые актуальные проблемы национальной идентичности современных французов, да и европейцев вообще. Здесь утверждается один из основополагающих аспектов все той же идеи толерантности, заключающийся в том, что за счет включения культуры других этносов общенациональная культура страны только выигрывает, становится более яркой, глубокой и многогранной. Именно поэтому, согласно Корбье, основы высокого музыкального искусства Франции заложил крикливый выходец из итальянской провинции.
Глава 6 Пункт покушения — оперный театр
Не секрет, что оперное искусство и кинематограф обнаруживают между собой более чем тесные связи и поразительные исторические параллели — начиная от законов внутреннего устройства, обусловленных синтезом искусств, и заканчивая аспектами социального функционирования.
Так, одной из общих проблем для оперы и кино является проблема зрелищности. Достаточно вспомнить о размахе и пышности театральной машинерии эпохи барокко, чтобы провести прямые параллели с манией спецэффектов, которой одержима современная киноиндустрия. Как в свое время жажда множественных перемен декораций определяла развитие оперного действия, а театральный инженер был главным лицом всей постановки, так и сюжет (и успех) современных блокбастеров находится в прямой зависимости от количества спецэффектов, умещенных в сантиметре кинопленки.
Одним из таких спецэффектов для современного кинематографа являются здание и интерьеры оперного театра. Его пространство используют не только в визуальном аспекте — в качестве впечатляющих и незатертых декораций, — но и как семантически многослойный символ, неминуемо сообщающий некие смыслы порой совершенно бессмысленному действию.
Оперный театр воспринимается кинематографом прежде всего как зримый символ социальной иерархии, причем ее высших ступеней. В подавляющем большинстве фильмов оперный театр представляется оплотом респектабельности, местом встречи и общения аристократов. Несмотря на то что исторически архитектоника ярусного театра с ложами, галеркой и партером являет собой срез самых разных слоев общества, для кинематографа вся находящаяся в оперном театре публика априори является аристократической и избранной.
Не случайно оперные интерьеры так часто мелькают в картинах, повествующих о жизни высшего света прошлых эпох. Обтянутая темно-красным бархатом ложа неминуемо уводит воображение зрителя прочь от современности, в частности от канонов толерантного общения. Исторически конструкция ложи такова, что позволяет одновременно быть на публике и в то же время сохранять приватность, четко очерчивать круг приближенных особ. Такая привилегия говорит об исключительном статусе находящихся в ложе людей, и потому уже одним своим видом ложа символизирует далекое прошлое, времена строгой сословной дифференциации.
Причем вся роскошь убранства оперного театра и происходящее на сцене действие зачастую подается в исторических фильмах как нечто само собой разумеющееся, как часть привычного, а порой даже тяготящего ритуала светского общения[257]. Для героев кинокартин, действие которых разворачивается в XVII–XIX вв., посещение оперы зачастую не является экстраординарным событием, и в театр они приходят не столько ради спектакля или музыки, сколько ради соблюдения условностей этикета, для поддержания своего реноме (что на самом деле вполне соответствует историческим реалиям). И совсем с другим отношением посещают оперу герои современности.
1. Эффект Золушки
Если для персонажей исторических лент визит в оперный театр представляется во многом рутинным долгом, то для героев современности поход в оперу становится стимулом для кардинального внешнего и нередко внутреннего преображения. Одним из ярких кинематографических клише, связанных с оперным театром и классической музыкой вообще, является сцена любовного свидания в опере (или, как вариант, на филармоническом концерте). Причем кинематограф любит играть с привычными стереотипами, и поэтому в оперный театр зачастую отправляются герои, социальный статус и профессия которых подразумеваются предельно далекими от мира классической музыки и оперы в частности. Так, в фильме «Военно-полевой роман» это продавщица пирожков Люба (Наталья Андрейченко), в картине «Во власти луны» — дочь слесаря Лоретта (Шер), а в знаменитой «Красотке» Гарри Маршалла оперный театр впервые в жизни посещает проститутка Вивьен (Джулия Робертс). Вполне закономерно, что этой канонической сцене свидания в оперном театре предшествует не менее каноническая сцена превращения героини из вульгарной или, наоборот, ничем не примечательной девицы в ослепительную даму в вечернем платье, в туфлях на шпильках и с элегантной прической. При этом вместе с поразительной сменой внешнего облика зачастую изменяется и манера поведения героини, ее отношение к самой себе, а также отношение к ней окружающих. Ее начинают провожать взглядом, услужливо открывать пред ней двери и откликаться на любой ее каприз. Именно оперный театр позволяет представить этот пресловутый эффект Золушки максимально ярко, за считаные кадры превратив героиню не просто в привлекательную женщину, а в истинную леди.
Однако это впечатляющее перевоплощение оказывается лишь декорацией, настолько же временной и призрачной, насколько завораживающей и идеальной. В развитие событий вдруг вкрадывается некая деталь, которая выдает всю условность произошедшей метаморфозы, — у героини вдруг ломается каблук, или она неожиданно сталкивается со старыми знакомыми, или же отвечает невпопад на элементарный вопрос. Происходит нечто, что раскрывает весь маскарад; разыгрываемая героиней роль оказывается для нее неестественной, чужой, «взятой напрокат». Да, в оперном театре срабатывает механизм «социального лифта», благодаря которому герои могут ощутить себя совершенно в ином, непривычном для них статусе, побыть теми, кем на самом деле не являются, но действует этот механизм зачастую только в пределах самого оперного театра.
Такое несовпадение желаемого статуса с реальным может использоваться в качестве выразительного драматического приема, как это происходит в ленте Энтони Мингеллы «Талантливый мистер Рипли». Как и в предыдущих примерах, одна из сцен фильма происходит в оперном театре, где Том Рипли (Мэтт Дэймон) пытается предстать сразу в двух амплуа — самого себя как надоедливого компаньона Дики Гринлифа и в роли самого Дики Гринлифа — убитого им накануне баснословно богатого баловня судьбы. Причем для Тома Рипли на кону этой двойной игры оказывается его репутация и угроза тюремного заключения. Герой виртуозно справляется с этой задачей, единолично разыгрывая одновременное присутствие в опере двух разных человек. Пространство оперного театра дает ему необходимый кураж, рождает чувство, что он действительно принадлежит к высшему обществу, в которое так стремится попасть. Но, как выясняется, эта иллюзия исчезает за стенами оперного театра. Так же, как в ранее описанных сюжетах блистательная дама, покинув оперный театр, вновь превращается в «Золушку», так и лощеный денди на следующий день после представления вынужден снова надеть маску неприметного зануды-очкарика.
В то же время все эти «герои с улицы», попадающие в оперный театр как бы случайно, в большинстве случаев искренне проникаются действием, происходящим на сцене, — полностью погружаются в музыку, сопереживают героям, и в конце спектакля в их глазах непременно блестят слезы. Создается иллюзия, что поклонником оперного жанра может оказаться любой человек, вне зависимости от своего социального статуса. То есть наряду с аурой избранности и великосветскости, утверждаемых в отношении оперы, присутствует и безотчетное стремление показать, что истинным ценителем оперы может оказаться кто угодно. Подразумевается, что оперу отнюдь не надо понимать и знать, ее достаточно чувствовать. И именно искренний отклик на музыку говорит нам о том, что этот «герой с улицы» и есть настоящий герой, пусть он и заимствует чужое амплуа, но внутренне он безусловно является личностью и имеет право быть частью этой избранной публики.
2. Ловушка киллера
Образ оперного театра как оплота респектабельности и храма высокого искусства подрывают не только «герои с улицы», но и злодеи различных мастей, превращающие оперу в театр криминальных действий. В целом ряде современных фильмов оперный театр становится местом преступных заговоров, изощренных убийств и оглушительных перестрелок. Из мейнстримных примеров здесь можно привести третью часть «Крестного отца» Френсиса Форда Копполы (1990), «Пятый элемент» Люка Бессона (1998), одну из серий приключений современного Шерлока Холмса под названием «Игра теней» (2011 г., реж. Гай Ричи), а также эпизоды из бондианы — «Искры из глаз» (1987 г., реж. Джон Глен) и «Квант милосердия» (2008 г., реж. Марк Форстер). Вообще же мотив убийства (или убийца) в опере имеет весьма представительную, в том числе и кинематографическую, традицию — от голливудских мелодрам до фильмов ужасов[258], а возглавляет список знаменитая история «Призрака оперы».
Во всех этих сюжетах внешняя пышность и парадность оперного театра оказывается лишь фасадом, за которым скрываются жуткие тайны и действуют изощренные злодеи. Безопасность мира высокой культуры и оперного театра оказывается обманчивой. Как тонко замечает по этому поводу Томас Фэйхи, «не только тюрьмы и полиция являются символами общественной безопасности, но и наши понятия относительно искусства (классической музыки, литературы, живописи) как знаков воспитания, полагаемых также еще одним слоем безопасности. Мы часто уверены, что пространства, ассоциируемые с высокой культурой, каким-то образом изолированы от повседневной жестокости. <…> Бесчеловечная жестокость [героев, связанных с классической музыкой] так шокирует потому, что подрывает наше чувство безопасности, делает культуру, наподобие ножа или пистолета, инструментом для насилия»[259].
При этом если местом преступления выбирается оперный театр, то, по замыслу кинорежиссеров, размах и изощренность насилия должны соответствовать грандиозности оперного театра и виртуозности самого жанра оперы. Не случайно те преступления, что планируются или совершаются в оперном театре, предполагают глобальные, эпохальные последствия. В «Крестном отце» замышляемое убийство Майкла Корлеоне должно напрямую повлиять на развитие мировой экономики, в «Пятом элементе» происходящая во время выступления Дивы Плавалагуна схватка должна решить уже судьбу всего человечества; также и Шерлок Холмс с Джеймсом Бондом, попадая в оперный театр, пытаются предотвратить коварные заговоры общемирового масштаба. Художественный эффект оправдывает вложения! Когда параллельно со сценическим действием оперного спектакля разворачиваются события, должные определить судьбу всего мира, то бессмертная опера и разыгрываемое преступление начинают казаться как минимум соразмерными. Более того, действие оперного спектакля, беззаботно разворачивающееся в преддверии гибели всего мира, уже никак не может тягаться со значимостью событий, происходящих в фильме, сценическое представление отходит на второй план, одновременно продолжая эффектно оттенять действие экранное — очередную перестрелку за мировое господство. Авторы фильма с нескрываемым упоением демонстрируют гигантскую пропасть между «чистым», оторванным от жизни искусством и «реальной» угрозой, которая нависает над ничего не подозревающей публикой в зале.
С другой стороны, не меньшая опасность может исходить из самого театра — начиная от громоздких механизмов театральной машинерии, которые регулярно становятся причиной гибели людей, и заканчивая никому не ведомыми катакомбами оперного театра, где орудует всевозможная нечисть и злые гении. В данном случае конфликт основывается на противопоставлении идеалистического мира оперы, который видит зритель на сцене, и тех коварных и кровавых интриг, что творятся за кулисами.
Самым знаменитым воплощением этого конфликта является бессмертный роман Гастона Леру «Призрак оперы», где имеются все составляющие как для фильма ужасов, так и для мелодрамы, что подтверждают многочисленные и разнообразные экранизации[260]. Вместе с тем в этом сюжете присутствует нечто большее, позволившее роману оставаться крайне актуальным и популярным вплоть до сегодняшнего дня. Мы же рассмотрим этот сюжет и несколько его последних экранизаций с позиции того, как претворяется образ оперного театра.
Наряду с действующими персонажами оперный театр является одним из главных героев романа Леру. Без здания Парижской Гранд-опера рушится весь размах и смелость авторского замысла, согласно которому театр видится проекцией мироустройства. Однако тот, кто управляет этим миром, обитает в подземелье, то есть проживает в «аду». Модель мироздания оказывается перевернутой, так же перевернуты центры власти, а следовательно, и привычная социальная иерархия. Исследователи романа отмечают, что сама фигура главного героя — Эрика — для восприятия современников Леру, людей начала ХХ в., была вызывающе двойственной и странной. Эрик подрывал основы западноевропейского менталитета, заставлял общество пересмотреть отношение к понятию «другого», к людям другой расы, другого социального статуса и другого размаха таланта.[261] Для рядовых читателей романа Эрик выглядел, по сути, дикарем и самозванцем, который единолично заправляет святая святых высшего света и всей западноевропейской культуры. Он властвует в знаменитом (и реально существующем!) оперном театре.
Более того, согласно роману, Эрик был одним из архитекторов здания театра — именно он спроектировал его пугающее зеркальное продолжение под землей. Живший в начале ХХ в. Леру через такое художественное «достраивание» парижской Гранд-опера безотчетно воплощал веру эпохи в силу технического прогресса, подпитывал всеобщую увлеченность достижениями инженерной мысли. Создавая в воображении читателей этот многоуровневый и хитроумно устроенный подземный мир оперного театра, Леру во многом проецировал другой подземный мир — недавно изобретенный и вполне реальный — метрополитен.
Одна из причин бессмертия «Призрака оперы» в том и заключается, что каждая эпоха могла находить в этом сюжете свои собственные смысловые акценты, в том числе по-разному выстраивая пространство оперного театра. Чтобы убедиться в этом, мы остановимся на трех последних киноверсиях знаменитого сюжета.
Первая из них, снятая в 1990 г. Тони Ричардсоном с Чарльзом Дэном и Тэри Поло в главных ролях, относится к жанру мелодрамы. В целом при достаточно точном следовании литературной основе в данной экранизации оказываются предельно сглаженными изначальные социальные конфликты. Герои, которые формально должны сильно разниться по общественному положению и вести себя подобающим образом, в своих отношениях не обнаруживают каких-либо существенных социальных предубеждений. Так, граф де Шаньи запросто общается со швейцаром как со старым другом, поверяя ему свои сокровенные чувства. Кристина Дайе, формально работающая костюмершей примадонны, оказывается в числе приглашенных на званый вечер оперной труппы, где выступает в дуэте с самой примадонной Карлоттой. Исчезает и вся инородность фигуры Эрика, который, согласно сценарию, с самого рождения постоянно жил в театре, более того, он оказывается тайным и горячо любимым сыном уволенного директора оперы, его другом и незаменимым советчиком. Перед нами разворачивается мир семейных взаимоотношений, где даже новый директор оперы и примадонна являются мужем и женой. А театр, при всей помпезности и грандиозности его фасада, украшенного величественными статуями и колоннами, по сути, понимается как большой дом, в котором проживают герои. Здесь каждому находятся свои апартаменты — просторные комнаты для нового директора и его жены, подземная усадьба с садом для Призрака и скромная каморка для Кристин. В фильме оперный театр понимается не только и не столько как публичное пространство, сколько как пространство сугубо личное, некий прообраз домашнего очага, родового замка, со своими тайными комнатами и «скелетами в шкафу». И именно этот дом-театр становится для героев приютом, местом спасения от одиночества.
Совсем другой образ закрепляется за оперным театром в фильме Дарио Ардженто, вышедшем на экраны в 1998 г. Режиссер знаменитых фильмов ужасов, признанный мастер джиалло[262] выстраивает пространство оперного театра в лучших традициях хоррора, превращая театр в гигантскую камеру пыток и одновременно кунсткамеру, где собраны самые невероятные типы полуживотных-полулюдей. Главным из них является сам Призрак, который, согласно легенде, был спасен и «воспитан» крысами. Подразумевается, что от них он унаследовал жестокость и маниакальную тягу к изощренным убийствам. Другие герои имеют не менее кровожадную и отталкивающую репутацию. Среди них — Крысолов и сопровождающий его зверские облавы карлик, слащавые директора оперы, беззастенчиво совращающие малолетних учениц балетной школы. Помимо монстрообразных персонажей и крыс, в оперном театре в больших количествах обитают летучие мыши, ящерицы, черви, а подземелье изрешечено лабиринтами острых сталактитов, на которые Призрак регулярно насаживает тела своих жертв.
Казалось бы, создаваемая Ардженто картина принципиально противоположна традиционным представлениям об опере. Театр становится чистилищем, исчадием порочности, жестокости и разврата, которые царят здесь вместо искусства. У неподготовленного зрителя нагнетаемый страх, льющаяся кровь, изощренные увечья и пытки вызывают безусловное отторжение. Однако суть режиссерской концепции определяется законами жанра и заключается в том, что экранное убийство — это, в своем роде, тоже искусство, не менее высокое и изящное, нежели опера. И то и другое — зрелище, доставляющее удовольствие; и то и другое, чтобы оценить, надо понимать, — ведь изначально мир оперы не менее условен, чем мир хоррора. Как отмечает Дмитрий Комм, в фильмах Ардженто «граница между иллюзией и реальностью полностью стирается. Герой оказывается в сюрреалистическом мире, населенном фантомами и монстрами подсознания»[263]. А что, как не музыка, тем более в сочетании со сценическим действием, способствует пышному цветению этого мира мрачных иллюзий?
В третьей из рассматриваемых нами экранизаций, в «Призраке оперы» 2004 г., основанном на мюзикле Ллойда Уэббера, как и в большинстве предыдущих интерпретаций многие важные детали романа Леру изменены или вовсе отсутствуют. Конфликты социального положения героев оказываются вновь сглаженными, но на этот раз иначе. Мадам Жири из недалекой экономки превратилась в утонченную, знающую себе цену наставницу балерин. Кристин Дайе из дочери бродячего скрипача стала дочерью музыканта с мировым именем. О низком происхождении Эрика вообще умалчивается, так же как и о балаганном прошлом итальянской примы Карлотты. Новые менеджеры оперы из представителей аристократического сословия превратились в дельцов, разбогатевших на переработке мусора. Современному зрителю представлена совсем иная, нежели в романе, картина социального положения героев. Люди оперы, артисты (даже если это и отрицательные персонажи) здесь подаются как люди изначально довольно высокого социального статуса, мерилом которого прежде всего выступает наличие музыкального таланта. А все дикарство и инородность, что несла в себе фигура Эрика в романе Леру, оказывается заключенным в забавной механической обезьянке в восточном наряде, которая мелькает в фильме как его любимая игрушка и одновременно альтер-эго.
Пространство оперного театра, воссоздаваемое в фильме-мюзикле, исполосовано всевозможными лестницами — это и широкая парадная лестница в холле, и винтовые лестницы за кулисами, а также пролеты высотных декораций. Театр предстает как сложноорганизованная, многоуровневая система, с четким разделением функций каждого находящегося в ней человека. Это своеобразный конвейер, основанный на отлаженной работе костюмеров, гримеров, рабочих сцены и многочисленных статистов. Чего стоит эпизод одевания Карлотты в пышное платье, летящее на нее с верхних ярусов декораций! Изощренные инженерные конструкции присутствуют не только на сцене и за кулисами, но и в пещере Призрака, оборудованной поднимающимися из воды канделябрами, фонтанами и всевозможными люками и решетками.
Во всей этой трактовке вырисовывается образ оперного театра как фабрики по производству зрелищ. Многоступенчатые конструкции передают размах и пышность, создают ощущение сложно устроенного и густонаселенного механизма. И в то же время нельзя забывать, что возникающая многоуровневость определяет положение действующих лиц, исходя не из их классовой принадлежности, а согласно творческой одаренности, что напрямую отсылает нас к мифологии звезды в массовой культуре. Оперный театр, который, заметим, потерял в мюзикле прямую отсылку к Гранд-опера, предстает своего рода прообразом индустрии шоубизнеса, своеобразной «фабрикой звезд», не менее иерархичной, нежели само общество, но функционирующей совсем по другим законам.
3. Корабль дураков
В кинематографе обнаруживается сразу несколько знаковых картин, где метафорическим символом оперного театра выступает корабль. В феллиниевском «И корабль плывет» (1983) это роскошный лайнер, на котором оперная труппа и поклонники провожают в последний путь прах знаменитой оперной дивы. В фильме Вернера Херцога «Фитцкарральдо» (1982) главный герой, одержимый идеей построить в перуанских джунглях настоящий оперный театр, устанавливает на мачту своего корабля патефон, поющий голосом Карузо, и отправляется в гости к дикому племени индейцев. В «Пятом элементе» Люка Бессона интерьеры оперного театра воссоздаются уже в пространстве космического корабля-отеля «Флонтон», что повторяется и в фильме-пародии Алана Голдштейна, вышедшей в российский прокат под названием «Шестой элемент» (оригинальное название «2001: A space travesty», 2000 г.).
Какой бы странной ни казалась данная метафора, однако между оперным театром и кораблем обнаруживаются достаточно тесные взаимосвязи. Прежде всего, — визуальные. Оперный театр имеет ярусы с ложами, а корабль — палубы с каютами. И как ярусы разграничивали театральную публику по социальному статусу, так же и палубы разделяли пассажиров по классам, то есть и ярусы, и палубы являют собой зримые формы социальной иерархии людей.
Корабль представляет собой нечто гигантское, внушительное, впечатляющее своими размерами и устройством. В его внутренностях заключены мощные и сложные механизмы — неопровержимое свидетельство технического прогресса и изобретательского гения человека. Причем в более современных фильмах («Пятый элемент», «2001: A space travesty») интерьеры оперного театра встраиваются в пространство уже космического корабля, как следующей ступени технической эволюции. В свою очередь, опера также является одним из вершинных достижений западноевропейской культуры, свидетельством творческого гения человека.
Однако вне водной стихии корабль подавляет своим масштабом и вместе с тем оказывается совершенно неповоротливой, фактически бесполезной конструкцией. Кораблю, чтобы продемонстрировать свою мощь и предназначение, необходимы большие массивы воды. В фильме «Фитцкарральдо» есть драматичный кульминационный эпизод, когда племя индейцев, поверив в божественность прибывшего к ним белого человека, решает помочь ему перетащить корабль через холм-перешеек между двумя реками. И тогда корабль, который совсем недавно так плавно и живописно скользил по реке, мгновенно превращается в неподъемную груду металла, которая выглядит предельно инородно и даже варварски на фоне зелени джунглей и племени индейцев, которые пытаются с помощью веревок и брусьев протащить корабль по суше. У зрителя возникает резонный вопрос: а стоит ли оперный театр, который по замыслу героя должен будет возникнуть в результате этого путешествия, всех этих колоссальных затрат и жертв? Основная же режиссерская идея обнаруживается в том, что опере как жанру необходимы не меньшие ресурсы для существования. Опера точно так же может оказаться громоздким и бессмысленным артефактом вне соответствующей культурно-общественной среды, то есть без публики, которая будет находить в ней некие актуальные и важные для себя смыслы.
Схожий образ возникает в фильме Федерико Феллини «И корабль плывет» в фигуре носорога, которого на подъемном кране поднимают на борт крейсера. С одной стороны, здесь прослеживается прямая отсылка к оперному реквизиту, который, особенно в эпоху барокко, нередко включал всевозможных крупногабаритных животных. Однако в сравнении с пассажирами корабля — людьми по большей части с крайне обостренной психикой — неповоротливость, неуклюжесть и инородность несчастного животного проступает впечатляюще ярко и становится важным смысловым акцентом. Особенно когда этот носорог начинает источать неприятный запах, что приводит в полное замешательство благородную публику. В этой жанровой сценке обнаруживается вся полярность этих миров — людей оперы и носорога, «высокой» культуры и дикой природы, искусства для эстетов и монстрообразного существа. И вместе с тем монстрообразное существо необходимо этому непрестанно рефлексирующему обществу как некая опора, находящаяся вне их сложного запутанного мира. На фоне массивного, заскорузлого животного проявляется вся выспренность и утонченность их духовной организации, и вместе с тем носорог свидетельствует о существовании некоего другого мира, пусть и бесконечно далекого от них, но тем более целостного и действительного.
На самом деле в большинстве фильмов, где оперный театр обнаруживает параллели с кораблем, режиссеры довольно пессимистично видят перспективы дальнейшего существования оперы в современном мире. Во-первых, они не случайно выселяют оперу на корабль, то есть по сути извлекают ее из привычной среды пребывания. Во-вторых, большинство этих кораблей обречены на неминуемую гибель — потопление («И корабль плывет», «Фитцкарральдо») или взрыв («Пятый элемент»). Но внешняя угроза — это лишь следствие катастрофы, которая обусловлена изнутри: достаточно приглядеться к пассажирам этих кораблей.
Публика «оперных» лайнеров в кино предельно разнородна и пестра. Это собрание самых невероятных человеческих характеров: мнительных и самовлюбленных, наивных и расчетливых, властолюбивых и безобидных, состоятельных и прикидывающихся таковыми. Объединяет этих пассажиров незаурядность, причудливость и яркая хара́ктерность их натур. Несмотря на всю свою несхожесть, они собираются в опере или же на корабле, но оказываются в одном месте совершенно по различным причинам, с разными целями, и при этом приверженность опере отнюдь не является объединяющей их идеей.
Эти корабли напрямую отсылают к образу корабля дураков, который занимает особое место в истории культуры. Кто их пассажиры — умалишенные или провидцы, отбросы общества или не принятые им гении, спасители мира или последние грешники? Куда они направляются — в рай или в ад, в прекрасное будущее или в забвение прошлого? В большинстве случаев ответы не ясны. Так, космический корабль «Флостон» в «Пятом элементе» рекламируется как рай, но события, разворачивающиеся на нем, скорее подходят под описание Судного дня, апокалипсиса. В очередной раз человечество показывается на краю гибели, но каковы причины этой катастрофы? Возможно, они заключаются в том, что все достижения технического прогресса, триумф материальных благ и комфорта не могут скрыть тотальную бездуховность и абсурдность непрерывной гонки за власть. Не потому ли Корбен Даллас — простой таксист со спецназовским прошлым — решает бороться за мир во всем мире лишь после выступления инопланетной оперной дивы, не в музыке ли Доницетти он услышал то, ради чего еще стоит пожить на этом свете?
Глава 7 Музыкальный инструмент как киногерой
С древнейших времен человек не только играл на музыкальных инструментах, но и вкладывал в их звучание множественные смыслы. Понимание музыкального инструмента всегда выходило далеко за пределы его непосредственных функций — извлечения звуков. Инструмент включался в круг взаимоотношений с различными понятиями и явлениями, становился многозначным символом, а также объектом художественной интерпретации. К настоящему моменту история культуры располагает бесчисленным количеством примеров семантической поливариантности в понимании музыкальных инструментов, чему посвящены специальные работы о роли музыкальных инструментов в архаических обрядах[264], античной культуре[265], библейских текстах[266], художественной литературе[267], живописи[268] и поэзии[269], также исследованы особенности преподнесения музыкальных инструментов на телевизионном экране[270]. В данной же главе мы рассмотрим закономерности присутствия музыкальных инструментов в современном кинематографе, наблюдая, какие смыслы и образы закрепляет за ними нынешняя эпоха.
На протяжении всей истории кинематографа музыкальный инструмент вызывал неподдельный интерес и оказывался весьма притягательным символом. Причина столь пристального внимания заключается как раз в возможности поливариантного толкования музыкального инструмента, роль которого может определяться и интерпретироваться предельно разнообразно и широко.
Во-первых, музыкальный инструмент являет собой «некое чудесное совпадение звукового и зримого <…>, бестелесного (интонирования) и телесного (орудие, конфигурация, движение)»[271]. Для кинематографа музыкальный инструмент в широком смысле — это сама музыка, воплощенная в материальной оболочке; эмоционально-звуковая субстанция, запечатленная в зримой форме. И наоборот, музыкальный инструмент — это некий предмет, подразумевающий безусловную духовную составляющую, непременно имеющий собственную ауру. Таким образом, инструмент гармонично совмещает в себе и предметную форму, и духовное начало, для которого обычно нелегко найти конкретные визуальные образы.
Во-вторых, кинематограф располагает большой степенью свободы в определении характера своего отношения к музыкальному инструменту и его роли в происходящем. Инструмент может пониматься исключительно как реквизит для аттракциона, ни к чему не обязывающий фон для драматического действия. А при ином подходе музыкальный инструмент может стать полноправным героем киноповествования, определяющим драматургию всего фильма.
Наконец, амбивалентность музыкального инструмента проявляется, в том числе, и в амплитуде закрепляемых за ним духовно-нравственных качеств. Так, в кинематографе нередко происходит полное развенчание традиционных представлений о музыкальном инструменте как о носителе гармонии и символе самосовершенствования человека. В этом случае музыкальный инструмент становится не только инициатором остросюжетного действия, но и причиной глубоких внутренних конфликтов героев.
Следует заметить, что подобная инверсия образа музыкального инструмента на протяжении всей истории культуры происходила и происходит постоянно. Музыкальный инструмент всегда был двойственным символом. С одной стороны, он мог пониматься как квинтэссенция самых возвышенных устремлений человека, его способ общения с Богом и познания истины (например, в Библии легендарный царь Давид, автор псалмов, неразрывно ассоциировался с арфой; Господь сошел на гору Синай для разговора с Моисеем под мощный глас трубы, а в средневековой иконографии музицирующие на различных инструментах ангелы воплощали собой гармонию сфер)[272]. С другой стороны, музыкальные звуки считались источником чувственных удовольствий, пробуждающих в человеке низменные инстинкты и порочные влечения. Не случайно в одном из иконических сюжетов живописи «Выбор Геркулеса» аллегорией порока являлась женская фигура с музыкальными инструментами, а в знаменитом триптихе Иеронимуса Босха «Сад удовольствий» ад переполнен причудливыми музыкальными инструментами, символизирующими разгул похоти.
Осознанно или нет, кинематограф унаследовал многие из этих тенденций неоднозначного понимания музыкальных инструментов, вместе с тем создав свои собственные подходы и лейтмотивы в их интерпретации. В истории кино представлено достаточное количество лент, в сюжете которых участвуют музыкальные инструменты, и многие из этих фильмов стали знаковыми для своего времени. Из зарубежной фильмографии можно привести такие картины, как «Андалузский пес»[273] Луиса Бунюэля (1929), «Великая иллюзия»[274] Жана Ренуара (1937), «Касабланка»[275] Майкла Кертиса (1942), «В джазе только девушки»[276] Билли Уайлдера (1959), «Царь Эдип»[277] Пьера Паоло Пазолини (1967), «Гибель богов»[278] Лукино Висконти (1969), «Высокий блондин в черном ботинке»[279] Ива Робера (1972), «Разговор»[280] Френсиса Форда Копполы (1974). В истории отечественного кино можно вспомнить «Веселых ребят» (1934) и «Волгу-Волгу» (1938) Григория Александрова, «Цвет граната» (1968) Сергея Параджанова, «Мы из джаза» Карена Шахназарова (1983), «По главной улице с оркестром» Петра Тодоровского (1986), телевизионный фильм Эльдора Уразбаева «Визит к Минотавру» (1987), «Такси-блюз» Павла Лунгина (1990). Однако безоговорочно возглавляет этот список примеров «Репетиция оркестра» Федерико Феллини (1978), на которой в связи с нашей темой необходимо остановиться подробнее.
В этой картине Феллини нашел уникальный прием, когда каждый музыкальный инструмент отождествляется с конкретным живым человеком — тем или иным героем. Достигается этот эффект сращивания инструмента и персонажа исключительно с помощью киноязыка. Во-первых, через «портретное» сходство музыкальных инструментов и типажей актеров, а во-вторых, через выбранную форму псевдотелевизионного репортажа.
Благодаря своему таланту подбирать актерские типажи Феллини добивается того, что даже внешне музыканты невероятно похожи на свои инструменты — лощеная красотка-пианистка и ее отполированный рояль; полысевшие, в помятых пиджаках виолончелисты и их потертые старинные виолончели; упитанный, с мягкими чертами лица тубист и его дородный, округлый инструмент. Более того, музыканты делят со своим инструментом не только внешность, но и характер. Вся концепция фильма строится на том, что персонаж, начиная рассказывать о своем инструменте, ненароком сбивается на рассказ о самом себе. Судьбы человека и его инструмента оказываются столь взаимосвязаны и переплетены, что герои полностью отождествляют себя со своими профессиональными атрибутами, как бы срастаются с ними и внешне и внутренне. Даже ведут себя музыканты так, как должны вести себя согласно стереотипам, закрепленным за их инструментами. Например, когда флейтистке напоминают, что ей полагается быть чуточку сумасшедшей, то она тут же прокатывается колесом; ударники, похваляясь своей репутацией веселых красавцев, не преминут бросить в камеру томный взгляд; гобоист немного зануден, а трубач, наоборот, источает жизнерадостность ровно из этих же соображений. Через весь фильм проходят герои, рассказывающие о своей судьбе, неразрывно связанной с выбранным инструментом, более того, предопределенной именно им.
Без инструментов музыканты теряют свое лицо не только в визуально-хара́ктерном, но и в морально-нравственном плане. На перерыве в баре или во время бунта против дирижера они моментально превращаются в обыкновенных, заурядных людей, утрачивают свою индивидуальность, становятся частью толпы и проявляют себя в самом неблаговидном свете. Их бытовые привычки и насущные проблемы выступают профанным контрапунктом той возвышенной идее служения музыке и искусству, которой, по мысли дирижера, обуславливается само существование оркестра. В финале фильма эта метаморфоза достигает своего апогея, когда оркестранты, вновь взявшиеся за инструменты после крушения стены, выглядят как марионетки, заведенные куклы, окончательно потерявшие человеческий облик. Но происходит чудо, и под их угловатыми, механистичными движениями рождается музыка, оркестр наконец-то начинает играть слаженно. Люди становятся инструментами, но в их совместных действиях начинает проступать некий высший смысл, появляется слышимый результат их взаимодействия — звучит музыка. На протяжении всего фильма, эпизод за эпизодом, развенчивался миф о сакральности музыки и ее исполнителей, чтобы в финале ленты возродиться вновь из-под обломков разрушенного здания, испорченных отношений и всеобщего хаоса.
Принципиально важно, что при всей фантасмагоричности происходящего в «Репетиции оркестра» Феллини удалось «оживить» и одухотворить музыкальные инструменты весьма реалистичными приемами. Они раскрываются через облик и характер своих владельцев — предельно правдоподобных персонажей, — через психологическую связь с ними. Здесь нет как таковых спецэффектов, наоборот, заявлена претензия на документальность, которая и есть спецэффект, позволяющий раскрыть характер не только героя, но и его инструмента.
В истории кино «Репетиция оркестра» стоит особняком — и по найденным Феллини художественно-выразительным средствам, и по степени режиссерского погружения в проблему. Уникальность феллиниевского шедевра особенно остро проявляется в сопоставлении с современными лентами, и именно поэтому мы рассмотрели данный пример в экспозиции статьи. Во-первых, для того, чтобы впоследствии нагляднее проследить изменения, произошедшие в кинематографе. Во-вторых, чтобы отчетливее обозначить методологический подход, лежащий в основе данного исследования.
Символические подтексты, что подразумеваются или возникают незапланированно при появлении в кино музыкального инструмента, зачастую не укладываются в систематику традиционного инструментоведения. Его методологии оказывается недостаточно, чтобы «расшифровать» возникающие смыслы и сам феномен пристрастия кинематографа к образам музыкальных инструментов. Тембр, форма музыкального инструмента, способ звукоизвлечения и закрепленная за ним прежде семантика в большинстве случаев отступают на второй план. Кинематограф вырабатывает свои подходы в понимании и использовании музыкальных инструментов. Главным модератором смыслов в данном случае становится соотношение образа инструмента с общим образно-фабульным контекстом фильма.
Диапазон вовлеченности инструмента в происходящее действие, как уже говорилось, может варьироваться от исключительно декоративных, фоновых функций вплоть до роли главного инициатора сюжетных поворотов. Однако даже второстепенное присутствие музыкального инструмента нередко обнаруживает «болевые точки» современной культуры и вскрывает неразрешимые проблемы в понимании окружающего мироустройства. Поэтому, приступая к анализу современного этапа в обращении кинематографа с музыкальными инструментами, мы намеренно привлекаем к работе самый широкий спектр примеров, дабы представляемая картина была максимально полной и объемной.
1. Развенчание с развлечением
Музыкальный инструмент придает фильму особую эстетичность и визуальную наполненность, сообщая кадру самодостаточность, вне зависимости от того, какие смыслы подразумеваются за изображением. Именно поэтому инструмент нередко используется как «самоиграющий» эффект, применяемый вне тесной связи с разворачивающимся действием, а лишь дополняющий и расцвечивающий его.
Так, в одной из серий бондианы «Искры из глаз» (реж. Джон Глен, 1987) девушкой агента 007 оказывается виолончелистка. Она обладает стандартным набором качеств, необходимых спутнице супергероя, — модельной внешностью, природным очарованием, сноровкой в обращении с оружием и всевозможными видами транспорта (от внедорожника до военного самолета). Казалось бы, то обстоятельство, что она является виолончелисткой, помогает выделить ее из череды подруг Бонда, сделать ее образ более привлекательным, трогательным и запоминающимся. Однако фактически навыки игры на виолончели не играют никакой роли ни в характере самой героини, ни в развитии сюжета, а становятся той номинальной «изюминкой», которой девушка агента должна обладать по определению.
По сути, действительно ощутимые дивиденды в интригу данного фильма привносит не столько девушка-виолончелистка, сколько ее инструмент. Виолончель становится мишенью для стрельбы и одновременно суперскоростным транспортным средством, когда верхом на футляре главные герои лихо скатываются по горнолыжной трассе, уходя от преследователей. Или же из-за своей громоздкости инструмент выступает поводом для шутливой перебранки между героями. Выяснив, кто на самом деле оплатил покупку страдивариевской виолончели, Бонд нащупывает и раскрывает преступный заговор, а потом преподносит инструмент в качестве дорогого подарка, рассчитывая завоевать расположение девушки. На протяжении всего действия виолончель периодически появляется в кадре, чтобы сделать его более динамичным, захватывающим и визуально притягательным. Музыкальный инструмент, несмотря на всю свою необычность (и даже благодаря ей), пластично вписывается в формулу экшен-фильма, становится одним из необременительных аксессуаров, легко дополняющих занимательный сюжет.
Однако в одном из эпизодов этой же серии бондианы обнаруживается неожиданная подмена, когда в футляре место виолончели занимает винтовка. Данный мотив хранения в футляре музыкального инструмента огнестрельного оружия является одним из излюбленных в кинематографе, в какой-то степени даже штампом. Из знаменитых примеров можно привести фильмы «Высокий блондин в черном ботинке» Ива Робера (1972), «Леон» Люка Бессона (1994), трилогию Роберта Родригеса «Музыкант» («Иль марьячи», 1992), «Отчаянный» (1995), «Однажды в Мексике» (2003) и отсылающий к ней боевик «Шестиструнный самурай» Лэнса Маджиа (1998).
Понимается ли подобный прием исключительно как спецэффект или же за ним скрываются некие другие, далекоидущие смыслы? На первый взгляд, такое использование футляра привносит в фильм прежде всего изрядную долю развлекательности и зрелищности, ограничиваемых лишь фантазией режиссера. Например, в футляре от гитары можно уместить любой боевой арсенал от пистолета и гранат до пуле- и огнеметов, а потом наводить кофр на врага и устранять всех «плохих парней» разом, даже не расчехляя «инструмента» («Отчаянный», «Однажды в Мексике»). Захватывающее зрелище обеспечено сполна!
В своей сути данный эффект основывается на принципиальном несовпадении внешней формы (футляра) и ее действительного наполнения (оружия). Традиционная репутация музыкального инструмента и его владельца никак не предполагает проявления какого-либо насилия и жестокости. Музыкант априори мыслится носителем исключительно гуманистических ценностей, его образ никак не ассоциируется с обликом бандита или убийцы[281]. Интрига строится на противопоставлении и одновременно сопоставлении музыкального инструмента как символа духовного самосовершенствования человека и оружия — символа физического уничтожения и смерти. Найти более несовместимые понятия сложно, поэтому эффект и получается столь ошеломляющим, выходя далеко за рамки собственно спецэффекта и аттракциона.
Музыкальный инструмент в футляре объективно является одним из символов классической культуры. Помещенный на место музыкального инструмента «ствол» волей-неволей оказывается в роли символа современности, при этом, опять же на подсознательном уровне, задается идеализированная концепция прошлого и критическая концепция современности как бытия, где нет места высокому искусству, зато война и насилие вездесущи.
Кинематограф идет еще дальше и помещает оружие уже внутрь самого инструмента. Так, гитара используется в качестве контейнера для транспортировки наркотиков («Отчаянный») или же «ножен» для меча («Шестиструнный самурай»), а под крышку шикарного белого рояля устанавливается мощный взрывной механизм, срабатывающий при нажатии клавиши («Долина волков: Ирак», реж. Сердар Акар и Садуллах Сентюрк, 2006)[282]. Таким образом, опасность проникает еще глубже, оказывается заключенной внутри инструмента и неотделимой от него. Уже сам инструмент начинает пониматься как источник отнюдь не созидательного творческого начала, а смертоносной энергии. Поэтому следующий далее по сценарию акт его демонстративного разрушения делается неизбежным и оправданным, не трагедией, а торжеством справедливости, неминуемой расплатой за ту угрозу, что нес в себе этот объект. Настоящим искусством, будоражащим воображение зрителя, становится уже не игра на музыкальном инструменте, а сцена его гибели, которую камера смакует замедленной съемкой.
Использование музыкального инструмента в таком контексте обнаруживает полное отсутствие прежних оазисов безопасности, зло может запросто оказаться в личине добра, и в окружающем мире больше нет незыблемых основ. Вместе с крушением музыкального инструмента происходит болезненное, но неизбежное крушение старого мироустройства. Все оказывается переменчивым и двойственным, непредсказуемым и потенциально опасным. За этим, казалось бы, сугубо развлекательным киношным трюком вскрывается проблема тотального недоверия и полного разочарования в прежде безусловных ценностных ориентирах. Утрачены не только те смыслы, что раньше находил для себя человек в искусстве, утрачено само искусство как таковое. Оно теперь источник не прекрасного и совершенного, а прямо противоположного начала, несущего с собой разрушение и катастрофу.
Кинематограф создает пространство, в котором убийство и насилие являются нормой жизни. В этом мире тотальной и узаконенной жестокости герои вынуждены стрелять и убивать, отвечая агрессией на агрессию, так как другим способом им в этом новом мире просто не выжить. И если в первом фильме трилогии о мексиканском музыканте («Иль Мариачи») в его футляре периодически еще обнаруживалась гитара, то в двух других частях кофр служит герою исключительно местом хранения боеприпасов. При этом подразумевается, что гитарист, переквалифицировавшийся в головореза, проливает чужую кровь отнюдь не по доброй воле. Мариачи каждый раз становится заложником обстоятельств и людской подлости, так же как и двенадцатилетняя Матильда в «Леоне», в распоряжении которой оказывается скрипичный футляр, укомплектованный винтовкой.
Получается, что вместо вынесения приговора всем, кто использует футляры музыкальных инструментов не по назначению, кинематограф склонен в ряде случаев показывать, что это жестокость мира заставляет человека превращать футляр в носитель средств защиты или мести, и всякая вина и ответственность с героев в этих случаях слагается. Более того, подмена содержания футляра обнажает глубокий внутренний конфликт этих действующих лиц с окружающей действительностью. Такие герои никак не преступники, наоборот, они — жертвы, жертвы несправедливого, безжалостного и предельно опасного мира. То, что в футляре от музыкального инструмента они вынуждены хранить оружие, становится их личной трагедией, и таких героев никак нельзя обвинять, им можно только сочувствовать.
Несмотря на то что музыкальный инструмент в подобной сюжетной схеме формально как бы отсутствует, однако это отсутствие обнаруживает острый духовный конфликт, передает ощущение беззащитности современного человека перед опасностью и непредсказуемостью окружающего его мира.
2. Эрос и его музы
Другой популярной в современном кинематографе темой с участием музыкального инструмента являются всевозможные сцены соблазнения и любовных отношений. Востребованность музыкального инструмента в качестве эротического объекта обуславливается в первую очередь тем, что практически любой музыкальный инструмент позволяет решить постельную сцену в весьма нестандартном ключе — как в визуальном, так и в смысловом плане.
Самым часто встречающимся в подобном контексте инструментом является виолончель. «Иствикские ведьмы» (реж. Дж. Миллер, 1987) и «Жестокие игры» (реж. Р. Камбл, 1999), «Невиновные» (реж. Г. Маркетт, 2000) и «Дом на турецкой улице» (реж. Б. Рейфелсон, 2002) — вот далеко не полный список тех лент, в которых занятия на виолончели становятся частью сцен соблазнения. Такой подход объясняется не только антропоморфической схожестью виолончели с силуэтом женского тела и звуком, близким по тембру к человеческому голосу. Предельно эротичной подразумевается сама поза игры на этом инструменте. Камера непременно задерживается на полурасставленных ногах исполнителя, охватывающих корпус виолончели, призывая воображение зрителя рождать отнюдь не музыкальные ассоциации.
Виолончель помещается в любовную сцену на правах полноправного участника и в то же время сохраняет свой статус неодушевленного предмета. Герои обнимают ее всем телом и томно водят смычком по струнам, играют на ней сразу вдвоем, плотно прижавшись друг к другу. Виолончель позволяет принимать самые откровенные позы. При этом герои формально занимаются как бы музицированием, под видом которого скрываются сугубо чувственные удовольствия. Благодаря присутствию в кадре виолончели создается отсыл к идее счастливого любовного треугольника и даже «любви втроем», при этом «третий» остается не более чем музыкальным инструментом.
Идеи подобной трактовки музыкального инструмента напрямую воплощают архаические представления о природе музыкальных инструментов. Именно в архаических культурах классификация инструментов происходила на основе противопоставления мужского и женского начал с достаточно прозрачной символикой. Как замечает по этому поводу Т. В. Цивьян, «инструменты с объемными резонаторами, восходящие к сосудам, а те, в свою очередь, к плодам соответствующей формы (тип калебасы или тыквы), воспринимающимся как аналоги естественных полостей и углублений в земле, достаточно буквально воспроизводят женское лоно. Соответственно, мужское начало представляется инструментами или деталями, восходящими к стволу, стеблю, палке и т. п. Способ извлечения звука — удары, трение — сопоставляются с сексуальным актом, а в более широком смысле с актом творения вообще»[283].
Кинематограф, в свою очередь, недалеко уходит от подобных параллелей. В случае с виолончелью форма инструмента напоминает обнаженное женское тело, а техника игры — медленное ведение смычком по струнам, как бы их «поглаживание», или, наоборот, яростное, ударное спиккато — обнаруживает прямые аналогии с актом любви. Все требования цензуры формально соблюдены, и в то же время музыкальный инструмент автоматически возвышает утехи плоти, так как между героями начинает подразумеваться близость не только физического, но и духовного порядка. Благодаря присутствию в постельной сцене инструмента удается вновь уравнять акт любви и акт творения (творчества) и тем самым придать характерной для современного кинематографа гипертрофированной сексуальности форму возвышенного духовного экстаза.
Музыкальный инструмент позволяет преподнести постельную сцену максимально эффектно и театрально, как бы выводя интимный процесс на уровень публичного выступления. Кинозритель получает возможность ощутить себя уже не в роли подглядывающего «в замочную скважину», а тем, ради кого это представление устраивается. Причем то, что не способна (опять же из соображений цензуры) передать «картинка», может быть полностью отдано на откуп музыкальному сопровождению. Например, в фильме «Красная скрипка» (реж. Ф. Жерар, 1998) есть несколько эпизодов, где вымышленный знаменитый английский скрипач Фредерик Поуп совмещает сочинение музыки с занятиями любовью, так как, согласно легенде, вдохновение к нему приходит исключительно вместе с оргазмом. При этом те подробности «творческого» акта, что вуалирует камера, до мельчайших подробностей выражаются в музыке. Тем самым создается особая пикантность, подогревающая воображение зрителя, которому не показывают происходящее напрямую, а заставляют «домысливать слухом». Благодаря присутствию инструмента и звучанию музыки в пресловутой постельной сцене появляется интрига, особая визуальная изысканность и множественные смыслы, которые можно интерпретировать бесконечно долго и разнообразно.
Кинематографу удается обнаружить скрытую эротичность даже в тех инструментах, конструкция которых этого, казалось бы, никак не предполагает. Так, вторым по популярности инструментом в сценах соблазнения является рояль. Уже мизансцена совместного музицирования за роялем молодой пары, столь часто возникающая в костюмных мелодрамах, выглядит на грани светских приличий, конечно же, по меркам воссоздаваемых на экране эпох. ХХ век в этом отношении идет далеко вперед, и рояль уже становится оплотом недвусмысленных поз — начиная от пианистки и фаготиста, занимающихся любовью под роялем, в «Репетиции оркестра» Феллини (1978) и вплоть до канонической сцены из «Красотки» Грегори Маршалла (1990), где уже сам рояль выступает в качестве спонтанного ложа любви. Однако в подобном контексте инструмент скорее создает изысканную ауру и декорацию всей сцены, нежели несет собственную символическую нагрузку. А вот в фильме «Вероника решает умереть»(реж. Э. Янг, 2005) рояль действительно становится участником «любви втроем», причем в роли «третьего» оказывается юноша, наблюдающий за мастурбирующей за инструментом Вероникой. На протяжении этой сцены разворачивается мотив одиночества в сексуальности, которая не находит должной реакции со стороны живого человека и вынужденно направляется на неживой атрибут культуры. Вероника устраивает для аутиста Эдварда двойной приватный концерт — герой смотрит на девушку за роялем и в то же время наблюдает эротическое шоу. Причем музыкальный инструмент в данном случае понимается уже как опасный соперник, которому в какой-то момент отдают предпочтение перед живым героем. И чем активнее музыкальный инструмент включается во взаимоотношения героев, тем сильнее проявляется драматический эффект его присутствия, и из предмета антуража он все более становится полноправным героем кинематографического повествования.
3. На пути к герою
На следующей ступени этого движения от предмета интерьера к полноправному герою музыкальный инструмент предстает в роли посредника между своим владельцем и внешним миром, вплоть до того, что оказывается его символическим двойником.
В данном отношении наиболее показателен образ пианистки Ады в ленте Джейн Кэмпион «Пианино» (1993)[284]. Аутичность и интровертность характера главной героини усилена немотой, не позволяющей ей полноценно взаимодействовать с окружающими. Своеобразным голосом героини становятся звуки рояля, который она везет с собой через океан, отправляясь к нареченному мужу в Новую Зеландию. С помощью рояля Ада как бы отгораживается, дистанцируется от окружающего мира, ей не требуется общения с людьми, так как она находит выражение своим эмоциям через тончайшую связь с инструментом. Причем, несмотря на то что действие фильма происходит в начале XIX в., в нем звучит музыка современного композитора Майкла Наймана, который намеренно не предпринимает никаких попыток стилизации саундтреков под музыку воссоздаваемой эпохи. Тем самым исполняемые героиней композиции многократно усиливают ее диссонанс со средой. Местные кумушки не принимают Аду не потому, что та играет на рояле (некоторые из них и сами владеют этим навыком), но потому, что ее музыка разительно отличается от привычной им, ее музыка для них непонятна, она пугает и вызывает подозрения. Оба героя — хрупкая пианистка и ее громоздкий рояль одинаково загадочны и чужды в той среде, в которую их забрасывает судьба. Они — инородные тела в суровом быте колонизируемой Новой Зеландии.
Роль музыкального инструмента, как одного из участников взаимоотношений героев, оказывается предельно амбивалентной в большинстве картин, выводящих на авансцену музицирующих персонажей. Как правило, «омузыкаленные» герои обнаруживают фатальную несостоятельность во взаимодействии с окружающим их миром. Они могут производить впечатление грубых, высокомерных людей, бросать вызов традиционной учтивости, держаться подчеркнуто отстраненно от других, создавать себе репутацию отщепенца, изгоя, героя-одиночки. Таковы, например, Дейви Джонс — морской дьявол из «Пиратов Карибского моря» (реж. Г. Вербински, 2006), вызывающий своей игрой на органе морские бури; музицирующие на рояле вампир Эдвард из «Сумерек» (реж. К. Хардвик, 2008) и доктор Хаус, скрипачи-любители Шерлок Холмс в британском сериале «Шерлок» (реж. П. Мак-Гиган, 2010) и капитан Джек Обри в фильме «Хозяин морей» (реж. П. Уир, 2003). Или наоборот, подобно кэпионовской Аде, увлеченные музыкой герои могут оказаться слишком стеснительными, ранимыми и беспомощными. Обращаясь к музыке и своему музыкальному инструменту, они пытаются скрыться от агрессивности большого мира, от его несправедливости и неразрешимых проблем.
С одной стороны, музыкальный инструмент как бы замыкает на себе эмоциональные переживания героя, так как тот может отстраниться от внешней суеты. Музицирование становится спасительной и безопасной альтернативой человеческому общению, а инструмент занимает все внимание героя, избавляя его от зачастую болезненной и тягостной необходимости взаимодействия с окружающим миром.
С другой стороны, именно инструмент помогает герою найти своих единомышленников, тех немногих людей, которым удается услышать и понять его необычный внутренний мир. Так, казалось бы, брутальный, неотесанный колонизатор Бейнс, не умеющий даже читать, никак не мог претендовать на роль возлюбленного чопорной и нелюдимой Ады. Однако он единственный из всех смог научиться слышать и понимать ее музыку, пробудив тем самым ответную страсть и в ней.
Во всех примерах подобного рода музыкальный инструмент выступает как проводник особого мирочувствования героя, как внутренний голос неординарного человека, слышимый теми, кому его дано услышать. Музыка и музыкальный инструмент образуют особую систему духовных фильтров, эмоционально-энергетийный лабиринт, путешествуя по которому герои находят «своих» людей, тех, кто способен понять и принять их необычный внутренний мир[285].
Если музыка наделяет персонажа особой духовностью, то музыкальный инструмент понимается как голос этой души. Инструмент не только начинает связываться с музыкой и искусством вообще, но становится внутренним «я» конкретного персонажа. В музыкальном инструменте как бы материализуется, овеществляется душа героя. Подобный подход напрямую соотносится с еще одним древнейшим мотивом перевоплощения человека в музыкальный инструмент, который является реинкарнацией его души в материальной оболочке[286].
Так, в картине «Хозяин морей» есть эпизод, когда близкий друг капитана Джека Обри и по совместительству его партнер по камерному ансамблю доктор Стивен Матьюрин оказывается при смерти. Пустующее место доктора за пультом «занимает» его виолончель. Взглянув на нее, капитан Джек принимает решение переступить через свои планы ради спасения жизни друга. Музыкальный инструмент настолько срастается с образом персонажа, что становится его визуальным замещением, персонифицируется и воспринимается как символический двойник своего владельца.
В рассматриваемом нами фильме «Пианино» данная метафора прорастает еще глубже, и не только потому, что главная героиня — немая и в контакте с внешним миром музыкальный инструмент замещает ее голос. Рояль вторгается в любовный треугольник действующих лиц, оказываясь как бы четвертым участником происходящей драмы. Сначала именно он удерживает первенство, выступая в роли единственного героя помыслов нелюдимой пианистки. Впоследствии он становится поводом для ритуального соблазнения: Ада заключает сделку с Бейнсом и регулярно ходит к нему заниматься, чтобы клавиша за клавишей «выкупить» свой инструмент. В итоге рояль начинает играть роль сообщника и символа тайной любовной связи, в знак которой Ада приносит в жертву уже сам инструмент, «вырвав» одну из клавиш и послав ее с дарственной надписью своему возлюбленному. И это ритуальное оскопление рояля знаменует победу Бейнса в дуэли с музыкальным инструментом. Символично, что впоследствии героиня сама лишается пальца на руке, то есть связь между ней и роялем начинает мистическим образом проявляться на физическом, телесном уровне.
Как говорилось выше, в мифологии подобный мотив перевоплощения героя в музыкальный инструмент понимается как реинкарнация — переход к следующей и зачастую более высокой стадии его существования. В данном же фильме схожая идея получает ровно противоположное истолкование. В кульминационном эпизоде сброшенный в море рояль тянет за собой на дно и Аду. И только чудом вырвавшись из этого плена, окончательно расставшись с инструментом, героиня начинает жить собственной жизнью — учится говорить и обретает полноценную семью. Оказывается, именно рояль стоял на пути ее подлинного счастья, был источником тайных страхов и угнетающих комплексов, громоздкой преградой к настоящим чувствам.
Музыкальный инструмент вновь выступает в роли предельно амбивалентного и неоднозначного символа. Подобная трактовка музыкального инструмента как неподъемной ноши встречается еще в 1929 г. в легендарной сюрреалистической короткометражке Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали «Андалузский пес». В одном из эпизодов фильма герой тащил за собой два рояля, нагруженные тушами мертвых ослов и повисшими на веревке священниками. С. Кудрявцев отмечает цитатность вышеописанного финала кэмпионовского «Пианино», в котором рояль становится воплощением комплексов героини и носителем «подавляющих норм морали, культуры и цивилизации»[287].
В фильме «Солист» (реж. Дж. Райт, 2009) символически многозначная ноша в виде музыкального инструмента обрастает дополнительными предметами — швабрами, ведрами, одеялами, мусорными пакетами и предметами маскарадного гардероба. Все это вместе с виолончелью составляет содержимое тележки из супермаркета, которую бродяга Натаниель всюду таскает за собой, отказываясь с ней расстаться даже при выходе на сцену. Тележка является для героя и домом на колесах, благодаря которому он может устроиться на ночлег где пожелает; и символом материального благосостояния, подтверждающим его гражданские права на владение имуществом. Тележка вмещает весь незамысловатый скарб неудавшегося музыканта, от которого он не в силах отказаться так же, как не способен излечиться от шизофрении и реализоваться в своей профессии.
Список примеров подобной интерпретации музыкального инструмента как бремени духовно-нравственных проблем может быть достаточно длинным[288]. Во всех подобных сюжетах музыкальный инструмент оказывается чем-то бóльшим, чем подразумевается изначально. Инструмент предстает опредмеченным носителем неразрешимых конфликтов героя с самим собой и с внешним миром, символическим хранилищем его болезненных страхов и тяготящих привязанностей. С одной стороны, музыкальный инструмент выступает как преданный друг персонажа, его внутренний голос и незаменимый посредник в отношениях с окружающим миром и людьми. Но в то же время инструмент замыкает на себе те трагические противоречия как внешнего, так и внутреннего порядка, которые кардинальным образом влияют на характер и судьбу героя. Выясняется, что связь между ним и музыкальным инструментом имеет оборотную сторону. Занятия на инструменте оказываются сродни воздействию наркотических средств, и чем больше герой погружается в мир грез и иллюзий, тем болезненнее и драматичнее возвращение к действительности. За приобщение к эмоционально-энергетическому потенциалу музыки взимается плата, которая может оказаться непосильной для духовно-волевых ресурсов личности. Инструмент порабощает своего владельца, завоевывает разум и душу, начиная довлеть над героем и его отношениями с окружающими. Из объекта духовного самосовершенствования инструмент превращается в символ пагубного аутизма, замкнутости духа, нравственного бремени, принципиально изменяя как свой первоначальный образ, так и характер играющего на нем героя.
Данный ракурс вновь, как и в случае с укомплектованным оружием футляром, обнаруживает незапланированный выход современного кинематографа из парадигмы классической культуры. Изначально кино обращается к музыкальному инструменту как к эстетически положительному символу, свидетельствующему об утонченной духовной организации героя. Однако служение музыке (впрочем, как и любому другому искусству) требует от человека жертв, без которых достичь вершин духа и овладеть мастерством невозможно. Проблема заключается в том, что кинематограф, а вместе с ним и современное общество не желают приносить эти жертвы, готовность к самоотречению ради музыки отсутствует.
Искусство утрачивает статус высшей ценности, теряет право на обязанность человеческого служения и аскезы. Кинематограф фиксирует, как меняется отношение человека к любым ценностям, лежащим вне его индивидуалистических целей, потребностей и интересов. Человек отстаивает право самостоятельно определять степень своей вовлеченности в процесс творчества, по собственной воле «болеть» искусством и «выздоравливать» от него, добровольно становиться «рабом муз» и добровольно же высвобождаться из этого «рабства». Кинематограф во множестве вариаций показывает, что беззаветное служение искусству пагубно и как любая зависимость неминуемо приводит к трагедии. Искусство не стоит тех жертв, которых требует от человека, оно отнюдь не самоценно — сегодня его ценность определяется тем, насколько оно помогает человеку жить с должным вкусом и комфортом. А музыкальный инструмент в такой парадигме может быть не более чем изысканным атрибутом в имидже человека, но никак не бременем его души.
4. В главной роли без слов
На следующей стадии включения музыкального инструмента в драматургию фильма он выступает уже в качестве главного героя. Но чтобы получить эту роль, инструменту необходимо помимо материальной формы обрести еще и собственную духовную составляющую.
При всей духовности музыкального инструмента, изначально присутствующей в его образе, он остается лишь объектом предметного мира ровно до тех пор, пока не соприкасается с человеком. Именно человек одушевляет музыкальный инструмент, наделяет его качествами живого существа, закрепляет за ним характер и начинает обращаться с инструментом как с себе подобным.
В истории культуры наделение инструмента душой и духовностью, подчеркивание его антропоморфности понималось как «высшая похвала, по сути приравнивающая инструмент, созданный руками человека, к самому человеку, венцу творения»[289]. В кинематографе подобное сопоставление далеко не всегда оказывается в пользу человека, который по многим как духовно-нравственным, так и физическим параметрам может значительно уступать музыкальному инструменту.
Именно на древнейшем мотиве переселения души человека в корпус музыкального инструмента основывается интрига уже упоминавшегося фильма Франсуа Жерара «Красная скрипка». Действие этой картины сплетено из пяти на первый взгляд разрозненных сюжетов, героев которых объединяет скрипка итальянского мастера XVII в. Николо Буссотти. Первый эпизод посвящен истории появления самой скрипки, изготовление которой Буссотти завершил в день смерти своей жены при родах. Незадолго до этого гадалка предсказывает несчастной женщине долгую, наполненную событиями и людьми жизнь. И предсказания, зашифрованные на каждой из пяти карт Таро, сбываются, но в весьма специфичной форме.
В следующих за этим эпизодах главной героиней повествования становится уже скрипка, которая путешествует сквозь эпохи и континенты, управляя судьбами людей на протяжении трех столетий — в императорской Вене и викторианской Англии, в маоистском Китае и на аукционе, происходящем в наши дни в Монреале. На скрипке музицируют воспитанники монастыря и цыганские бароны, она звучит в роскошном концертном зале, а потом годами пылится в лавке китайского старьевщика. Скрипка обладает уникальным магнетическим звуком и податлива для любой музыки, но ее роль оказывается роковой в судьбе тех, кто играет на ней.
Тайна скрипки раскрывается в финале, когда действие фильма вновь возвращается к исходной точке — в день смерти жены скрипичного мастера и в ту ночь, когда он завершает изготовление своего лучшего инструмента. Нам показывают, как в уединенном ритуале прощания со своей женой Буссотти делает из ее волос кисть для покрытия скрипки лаком, добавляя в его состав также кровь своей безвременно почившей супруги. Таким образом в корпусе скрипки оказалась заключенной душа этой женщины, и те события, что предсказывала ей гадалка, одно за другим воплощались, но уже в судьбе скрипки.
Во всех перипетиях этого лихо закрученного сюжета необходимо отметить несколько принципиально важных моментов. Прежде всего, очередное претворение на современном киноэкране архаических мотивов, связанных с переселением души человека в корпус музыкального инструмента. Но чтобы переселение состоялось, оно должно иметь явно выраженные атрибуты, такие как кровь и волосы усопшей, использованные в изготовлении инструмента. Тем самым душа женщины, с одной стороны, получает новое тело и в то же время обретает бессмертие. Для нее больше нет преград — теперь она способна преодолевать любые временны́е и пространственные расстояния, оказывается востребованной в самых разных обстоятельствах людьми различных эпох, социального статуса, культуры и национальности. Возможности скрипки оказываются несопоставимы с возможностями человека. Подразумевается, что люди, которые взаимодействуют с этой скрипкой, по сути соприкасаются с вечностью. Причем эта прямая связь между эпохами в фильме постоянно подчеркивается — то с помощью слов гадалки, каждый раз предваряющей содержание предстоящего эпизода, то за счет монтажа, когда, например, звуковая вибрация, которой проверяются акустические показатели скрипки перед аукционом в наши дни, отзывается схватками беременной женщины в XVII в.
Другим лейтмотивом фильма является проблема ценности скрипки — кто ее определяет и в чем она выражается. Не случайно сценой, сцепляющей кажущиеся поначалу разрозненными эпизоды, оказывается сцена аукциона, к которой неоднократно возвращается действие и которая принесла режиссеру фильма львиную долю признания за виртуозную работу с драматургическим временем и пространством. Для одних героев скрипка не представляет особого интереса, так как они не умеют распознать ее неповторимый звук, им не дано услышать ее уникальный голос. Для них ценность скрипки равна стоимости драгоценного камешка, украшающего ее гриф (который, к слову, выковыривает китайский старьевщик, пытаясь получить хоть какую-то выгоду от инструмента). Постепенно ценностью скрипки становится время, прошедшее с момента ее создания, и имя мастера. Именно по этим параметрам она получает высокую стартовую цену на аукционе. И лишь избранные герои ценят скрипку за ее голос, за те невероятные звуковые качества, что сокрыты в ней, за «безупречное слияние науки и красоты», как формулирует один из героев. В конечном итоге именно этим людям скрипка и служит, только в их руках «оживая» и раскрывая свои истинные возможности.
Здесь в параллель к рассматриваемому нами фильму Франсуа Жерара было бы нелишним вспомнить о «Репетиции оркестра» Феллини, чтобы получить возможность отчетливо увидеть изменения, произошедшие в интерпретации кинематографом музыкального инструмента. (В данном сопоставлении мы заведомо опустим вопросы художественных достоинств двух картин, так как они изначально находятся в разных «весовых категориях». Фильм Феллини — это безусловный шедевр авторского кино, в то время как «Красная скрипка» — это все-таки конъюнктурный блокбастер, хоть и снятый с претензией на индивидуальный режиссерский почерк.)
И в «Репетиции оркестра» Феллини, и в «Красной скрипке» Жерара мы наблюдаем историю оживления и одушевления музыкальных инструментов, превращение их в основных героев действия, определяющих содержание фильма и его драматургию. Но сам процесс одушевления и те смыслы, которые при этом подразумеваются, оказываются принципиально отличными. Жерар, так же как и Феллини, сплетает в тугой узел судьбы людей и музыкального инструмента, однако связь между героями пролегает отнюдь не в пределах повседневности и вообще не укладывается в привычные представления о времени и пространстве. Если в «Репетиции оркестра» мир музыки и музыкантов на поверку выглядит весьма заурядным, обыденным, полным бытовых недоразумений и неурядиц, то в «Красной скрипке» мир музыки, наоборот, предстает предельно магическим, сверхъестественным, всеобъемлющим и бесконечным, не имеющим ни экзистенциальных, ни физических границ. Данный мир заключен уже не в людях, не в самих музыкантах, как это было у Феллини, а в конкретной скрипке, обладающей сверхвозможностями. Инструмент подчиняет себе уже не только судьбы людей, но и становится ипостасью человеческой души. Однако между скрипкой и тем, кто на ней играет, уже не происходит того сращивания характеров, которое определяет феллиниевский сюжет. Красная скрипка независима от тех, кому принадлежит, люди в ее судьбе встречаются и исчезают, у нее свой собственный фатум, не подчиняющийся никому.
В «Репетиции оркестра» люди «проигрывают» музыкальным инструментам и музыке как таковой в своем морально-этическом облике, а в «Красной скрипке» главное преимущество инструмента в сравнении с людьми заключается в бессмертии. Скрипка неподвластна времени и именно поэтому становится главным героем всего действия. Старинная скрипка воплощает целый комплекс желаний современного человека — мечту о вечной молодости, стремление к путешествиям не только в пространстве, но и во времени, возможность власти над судьбами других людей. Скрипке удается это сполна, она независима от обстоятельств, легко преодолевает любые препятствия и не теряет при этом своих уникальных качеств. Она ценима и ценна, прекрасна и неповторима, одним словом, по всем характеристикам вполне соответствует образу супергероя наших дней.
Сопоставление двух кинолент наглядно фиксирует произошедшую смену ценностных парадигм. Феллини в «Репетиции оркестра» удается создать синтез современных форм (телевидение, интервью, человеческие типажи) и классического понимания искусства, которое, несмотря ни на что, видится высшей целью человеческого существования. Какие бы идеалы ни развенчивал Феллини, он неизменно верит в высокое искусство и при этом руководствуется принципами не менее высокого гуманизма. В «Репетиции оркестра» человек и предмет объединяются под знаком духовности, неразрывной эмоционально-энергетийной связи — оркестранты не мыслят своего существования без музыкальных инструментов, так же как дирижер — без оркестра, а музыка не может звучать, иначе говоря — жить, без людей. Содержание, художественная ткань и символика всего фильма «направлены на то, чтобы пробудить в людях чувство личной ответственности за состояние своих и общих дел, чтобы заставить осознать необходимость иметь свой внутренний ориентир, внутренний компас, чтобы вызвать у каждого человека глубокое волнение и боль за судьбы других людей, за судьбу своего общества и всего человечества»[290].
В «Красной скрипке», наоборот, возникает образ мира, где самое интересное — это отнюдь не живые люди, а то, что вне их, нечто сверхчеловеческое, иррациональное, магическое. Люди в данном контексте лишь пешки, марионетки, в лучшем случае — «сырье», «ингредиент» для создания совершенного по форме и звуку музыкального инструмента. Духовная сущность самих людей не интересна, любопытен выход за пределы гуманистической картины мира и наделение душой материального объекта, увлекательна игра в неоархаическое сознание. Эта игра претенциозна, сдобрена изрядной долей спецэффектов и исторических реминисценций, но человек как таковой оказывается вне этой игры оттого, что его возможности ничтожно малы, не выдерживают никакого сравнения с потенциалом вечного времени и бесконечного пространства. Игра, чтобы быть захватывающей, должна выходить за переделы обыденного и объяснимого, иначе она рискует быстро надоесть или же открыть нечто нелицеприятное для узнавания в глубинах собственного человеческого сознания. Именно поэтому в такой игре намного безопаснее быть в роли развлекаемого зрителя, нежели одним из ее действующих героев. Жерар строго выдерживает эту дистанцию между событиями, разворачивающимися в фильме, и зрителем, не обременяя его восприятие какими-либо духовно-нравственными конфликтами и идеями. В данном контексте музыкальный инструмент, несмотря на то что формально выступает в роли главного героя, используется режиссером предельно утилитарно. Скрипка необходима как некий артефакт для квазиутонченной интриги, для возможности сценарного пролета сквозь эпохи и для иллюзии власти над временем, одним словом, для того, чтобы можно было претендовать на статус «фильма не для всех» и при этом быть понятным большинству.
5. Универсум под крышкой
До этого момента мы наблюдали превращение музыкального инструмента из предмета антуража в полноправного героя с собственным характером, судьбой и даже душой. На следующей стадии «внедрения» в драматургию фильма музыкальный инструмент разрастается до масштабов универсума. Именно в качестве таких символов, вбирающих в себя мироздание, в кино нередко фигурируют орган и рояль — два инструмента-титана как по масштабно-пространственным, так и по смысловым характеристикам. Кинематограф вполне осознанно обращается к этим музыкальным «мастодонтам», которые привносят в кино многослойный шлейф значений, закрепленных за ними в культуре и истории.
Сложность, многодетальность конструкции органа и рояля, а главное — максимальная наглядность многоступенчатого процесса звукоизвлечения позволяют проводить прямые параллели между устройством этих инструментов и устройством мира[291]. Их клавиатура — это упорядоченная система, где каждая клавиша (как и человек) лишь часть некоего большого сложноорганизованного механизма. За сводом труб органа или под крышкой рояля скрывается универсум, в котором все отлажено, взаимосвязано и где заключена сама гармония. Музыкальный инструмент становится своеобразной проекцией упорядоченности мироздания, благодаря которой можно в какой-то степени преодолеть хаос окружающего мира.
Соответственно, тот, кто сидит за инструментом, управляет этой моделью универсума, и не исключено, что его власть простирается значительно шире. Не случайно на рояле, а особенно на органе в кинематографе играют персонажи, имеющие сверхполномочия и способности, претендующие быть над остальными, быть выше и могущественнее других. Степень их властных притязаний может варьироваться, но так или иначе эти герои стремятся управлять неким множеством людей, подчинять своей воле их жизни, души или как минимум эмоции.
Например, в фильме «Клуб неудачниц» (реж. Дж. Мак-Кэй, 2001) молодой плейбой, разнорабочий и по совместительству органист в местном церковном приходе, подробно описывает то, как, манипулируя с помощью музыки настроением присутствующих на похоронах людей, он заставляет их задуматься о своих грехах, раскаянии и вечности, заведомо зная, в каком месте гармонической модуляции прихожане начнут плакать. Схожие полномочия пастыря заблудших душ берет на себя и органист-охранник профилактория преступлений в блокбастере Стивена Спилберга «Особое мнение» (2002). На первый взгляд этот герой лишь винтик в системе, но именно под его присмотром оказываются тела несостоявшихся преступников, для которых он играет на органе, тем самым как бы поддерживая необходимый духовно-нравственный климат (в то время как автоматизированная система поддерживает климат для пребывания их тел в анабиозе). Два других, более знаменитых органиста современного кинематографа претендуют распоряжаться уже не только душами, но и судьбами. Морской дьявол Дейви Джонс («Пираты Карибского моря») порабощает души людей, превращая их в полуразложившихся призраков, а конгениальный Эрик («Призрак оперы») заправляет всем театром, заставляя и труппу, и зрителей поверить в свое безоговорочное и безграничное господство. И то, что оба этих далеких от нравственных идеалов героя периодически предаются игре на органе, вступает вразрез как с изначальным образом инструмента, так и с традиционной картиной мироздания.
В истории культуры орган неразрывно связан с христианством и является главным музыкальным инструментом католического богослужения. В этой религиозной картине мира посредством звуков органа с людьми общается сам Бог, а органист — проводник Божьего гласа на земле. В случае же с Дейви Джонсом и Эриком властью Бога наделяется уже тот, кто сидит за органом, но на самом деле является дьяволом. Схожий мотив подмены рая адом прослеживается в недавней экранизации «Великого Гэтсби» (реж. Баз Лурман, 2013), когда оснащенный органом и залитый неоновыми огнями особняк Гэтсби на самом деле оказывается вертепом. Категории добра и зла перевернуты, а орган в свою очередь должен знаменовать размах и непререкаемость власти героя.
Любая проекция универсума, в том числе и явленная в виде музыкального инструмента, неминуемо затрагивает тему соразмерности власти Бога и возможностей человека. В фильме «Легенда о пианисте» (реж. Дж. Торнаторе, 1998) эта дилемма выливается в ключевой драматический конфликт. Главный герой фильма — блестящий пианист-самоучка Дэнни Будманн — родился и всю свою жизнь прожил на корабле, курсирующем между Европой и Америкой. Единственный раз в жизни решив сойти с трапа корабля, Дэнни так и не смог совершить этот поступок, испугавшись бесконечности открывавшегося перед ним мира. Корабль, как и клавиатура рояля, являет собой строго очерченное пространство, а мир, по выражению Дэнни, — это рояль Бога, несоразмерный простому смертному. Пианист не решается сойти с корабля, так как считает, что сядет за чужой рояль, музыку которого он не в состоянии сыграть. В итоге Дэнни отказывается и от блестящей карьеры, и от любви, и даже от собственной жизни, обрекая себя на смерть вместе с подлежащим утилизации судном. Рояль из универсума превращается в гроб, в котором заключены нереализованные таланты и несбывшиеся надежды героя.
«Легенда о пианисте» — это история противостояния двух миров. Есть мир Дэнни с непрерывной музыкальной импровизацией, с нарисованными звуками портретами людей и человеческих эмоций. А есть объективный мир — суровый и бесконечный, в котором, чтобы выжить, необходимо действовать и бороться. По ходу фильма мир Дэнни, эпицентром которого является рояль, неотвратимо исчезает, разрушается под напором внешних обстоятельств. Стихия звуков оказывается слишком призрачной, плохо поддающейся фиксации[292] и оттого непрочной, предельно уязвимой. В конечном итоге из двух развертывающихся на экране универсумов настоящим оказывается тот, что находится за пределами рояля и корабля, и именно этот мир одерживает победу над миром Дэнни.
Однако в современном кинематографе есть и обратные примеры, когда выясняется, что универсум, в котором существует герой, является насквозь вымышленным и лживым, а подлинная реальность, более того, подлинное сознание самого героя оказывается заключенным внутри рояля.
Такая модель мироустройства явлена в самом что ни на есть мейнстримном образце современной киноиндустрии — блокбастере Лена Уайзмана «Вспомнить все» (2012). По ходу действия фильма, события которого разворачиваются в 2032 г., главный герой обнаруживает, что пребывает в «реальности», искусственно вживленной в его сознание, — ему заменили имя, биографию, профессию, жену и даже воспоминания. Стремясь прорваться сквозь круговой заговор, герой добирается до своей прежней квартиры, посредине которой стоит рояль. К своему удивлению, он умеет играть на этом инструменте — пусть нескладно, фальшиво, но под его пальцами рождаются отрывки сонат Бетховена, которые в свою очередь становятся ключом к появлению на крышке рояля виртуального дисплея. На этом дисплее герой не только видит себя прежнего, но и вступает со своим подлинным «я» в интерактивный диалог, узнавая, кто он есть на самом деле и в чем заключается его миссия.
Рояль в данном контексте оказывается своеобразным черным ящиком памяти, местом хранения (или даже захоронения) предыдущей жизни героя, которая возникает из небытия и возвращается к нему, словно воскресшая душа, вновь обретшая свое тело. Интерпретировать данную мизансцену можно бесконечно долго, находя в ней все новые смысловые пласты. Например, как высокие технологии будущего органично встраиваются в корпус музыкального инструмента из прошлого. Или, что даже если у человека стирают память и вживляют чужое сознание, его музыкальные навыки остаются при нем, то есть располагаются где-то глубже подкорки и не подлежат отчуждению ни при каких обстоятельствах. Главный же посыл прослеживается в следующем: при всей иллюзорности, второстепенности и необязательности мира музыки именно она может стать спасительным выходом из окутанного ложью и опасностью чужого мира. Кинематограф пытается увидеть свет в тоннеле безрадостного будущего, и мир не безнадежно потерян ровно до тех пор, пока в нем остается время и место для пары нестройных аккордов бетховенских сонат.
* * *
Проследив целый ряд фильмов, привлекающих в свое повествование музыкальные инструменты, мы наблюдаем, как присутствие, казалось бы, частной, отвлеченной детали может выстраиваться в особый пласт смыслов, не всегда считываемых с ходу, но, во-первых, оказывающих важное влияние на драматургию фильма, а во-вторых, вскрывающих важные проблемы современного общества.
Нельзя не признать, что в современном кинематографе символика музыкальных инструментов получает новую жизнь — столь популярно, разнообразно и насыщенно их присутствие в фильмах. Однако эта востребованность отнюдь не являет собой упорядоченную систему символов, которая прослеживается, например, в библейских текстах. Кинематограф не стремится к систематизации и универсализации значений, закрепленных за теми или иными музыкальными атрибутами, несмотря на то что создает в их отношении определенные штампы.
В музыкальном инструменте для кинематографа ценна именно невозможность однозначного толкования. Любой музыкальный инструмент может пониматься как угодно, возникать в каком угодно контексте и нести произвольное содержание. Он становится самостоятельным элементом современного киноязыка, так как перестает быть привязанным к какой-либо исторической традиции, но, прежде всего, должен работать на развитие сюжетной линии и развлечение зрителя. Музыкальный инструмент удобен тем, что его появление в фильме создает некий эстетизированный вакуум, который зритель может по своему усмотрению заполнять любыми смыслами и образами. Несводимость к единственно верной модели интерпретации как раз и есть искомое преимущество музыкального инструмента в кинематографическом тексте. В фильме сразу же появляется и смысловой, и зрелищный объем, прорисовывается запоминающаяся фактура, создается целый пласт дополнительных образов.
Характер присутствия музыкальных инструментов в кинематографе демонстрирует предельную свободу обращения современной культуры с символами культуры прежней, классической. Больше нет негласного трепета перед миром музыки и ее атрибутами, которые столь очевидны еще у Феллини, хотя с момента выхода его «Репетиции оркестра» прошло чуть более трех десятилетий. Теперь кинематограф самостоятельно, не оглядываясь на авторитет прошлого, определяет контексты, в которых уместно появление музыкальных инструментов, и типажи героев, которым на этих инструментах суждено играть. Также свободно варьируются степень «вживления» музыкального инструмента в драматургию фильма и закрепляемые за ними значения. Однако кинематограф не учитывает одного — обращение к классической культуре и ее символам, как рентген, высвечивает то, что происходит с культурой нынешней. Другими словами, интерпретация классики ставит диагноз прежде всего современности.
Например, как мы могли наблюдать, характер взаимоотношений современного кинематографа с музыкальными инструментами обнаруживает чувство вездесущей и непредсказуемой угрозы, исходящей из внешнего мира; страх перед неуправляемой зависимостью от музыки и творчества, боязнь беззаветного служения искусству. Вектор современного мировосприятия прочно застыл на приоритетах индивидуализма, и вместе с тем веры в потенциал самого индивида, отдельно взятого человека, становится все меньше. Поэтому столь часто затрагиваются пласты архаического сознания, становится необходимым выход в сферу магического, мифологического и обращение к коллективному бессознательному, избавляющие человека от бремени личной ответственности.
В зеркале кинематографа музыкальный инструмент — это, с одной стороны, предмет, удерживающий человека в привычной реальности, символ традиционных ценностей и упорядоченного мироустройства. Именно поэтому он востребован в картинах о тотально технологизированном будущем, как неизменный и всеми узнаваемый атрибут, которому находится место среди летающих автомобилей и встроенных повсюду виртуальных дисплеев. С другой стороны, музыкальный инструмент способен увести воображение человека прочь из подлинной действительности, не случайно так часто герои, играя на инструменте, пытаются скрыться от объективной реальности, уйти в мир грез и творческого самовыражения. В этом отношении музыкальный инструмент, по сути, оказывается тождественен самому кинематографу, точнее — киноэкрану, также способному и отражать некую реальность, и увлекать за собой в бескрайний мир вымышленного.
Глава 8 Убийственная сила классической музыки — мир насилия и высокого искусства
Классическая музыка и насилие — понятия равно фундаментальные, но на первый взгляд никак не сопоставимые. И то и другое — универсальные категории, заключающие в себе проблемы и смыслы, актуальные во все времена, другой вопрос, что мы привыкли располагать эти категории на противоположных полюсах социального мира. Однако в современной культуре, и в частности на киноэкране, существует устойчивая тенденция сближения классической музыки с миром насилия, фиксирующая не только неожиданные точки пересечения, но и характерные сдвиги, происходящие в обществе.
Как известно, изображение насилия и жестокости вторгается в одну из самых пограничных и табуированных сфер человеческого сознания, что, в свою очередь, гарантирует экранному зрелищу притягательность и динамичность — одним словом, является залогом хорошего приема у зрителя. «Насилие киногенично, — пишет О. Ковалов, — оно придает кинематографическим образам чувственную убедительность»[293]. В этой же дискуссии на страницах журнала «Искусство кино» режиссер Н. Лебедев метко указывает и на содержательную подоплеку в изображении насилия, которое в искусстве становится формой выражения драматического конфликта, а шок от созерцания насилия является способом достижения катарсиса у зрителей[294].
Между тем интенсивная эксплуатация темы насилия, которым буквально пропитан современный экран, привела к тому, что прежде действенные приемы, заставлявшие зрителя не только сопереживать, но и задумываться о природе жестокости, перестали работать. Изображение насилия все чаще оказывается самоценным, из акта его демонстрации полностью выхолащиваются какие-либо рефлексивные подтексты. В связи с этим Д. Драгунский констатирует, что современный экран заполнило «грубое, примитивное насилие, не отягощенное атеистическими, социологическими, психологическими и т. п. размышлениями (столь характерными для художественной презентации насилия в прошлые эпохи)»[295]. Но как выясняется, такое немотивированное насилие, жестокость без интриги, перестает быть интересным зрителю. Безусловно, оно развлекает, но, увы, не трогает, не поражает и не впечатляет, становится слишком предсказуемым и оттого пресным.
Именно в этот момент, в поисках средств, способных вернуть экранному насилию его былую силу воздействия, кинематограф начинает втягивать в свое пространство дополнительные символы и редуцировать нетривиальные ассоциации, обращаясь к сфере художественной культуры, в том числе к классической музыке. В данном случае игра строится по принципу от противного — чем более несовместимыми и полярными кажутся понятия, смешиваемые в одном «зрелищном флаконе», тем более ярким, взрывным и, соответственно, интригующим подразумевается результат их воздействия. Классическая музыка при этом не может оставаться тождественной самой себе. Включение музыкального произведения внутрь кинематографического повествования принципиальным образом влияет как на восприятие содержания самого произведения, так и на имидж классической музыки в целом. Восприятие музыкального произведения начинает определяться драматургическим замыслом фильма, а на более общем уровне кинематограф претендует на создание собственной мифологии классической музыки. В этом процессе «редизайна» классики отсекаются «лишние» смыслы, вуалируются «неудобные» темы и пересматриваются устоявшиеся каноны интерпретации. Кинематограф помещает классическую музыку в необходимый ему контекст и слышит в ней то, что хочет услышать, перенастраивая под свой камертон и зрительское восприятие. В рамках главы мы рассмотрим три сценария взаимоотношений классической музыки с миром насилия, которые можно условно выделить в кинематографе двух последних десятилетий.
1. Дух против силы
В первом, относительно традиционном подходе классическая музыка и насилие берутся как два полюса человеческой природы, а их совмещение становится самодостаточным драматургическим приемом, который основывается на контрасте между безусловной гуманностью выбираемой музыки и предельной антигуманностью событий, разворачивающихся на экране. Классическая музыка противопоставляется насилию как символ духовной чистоты и непогрешимости, как некий эталон, заключающий в себе лучшие проявления человеческой натуры. Несмотря на то что история музыки полна произведений, воплощающих в себе образы смерти, темных сил, беспощадного рока и неотвратимой трагедии, изначально кинематограф понимает классику как безусловную антитезу зла и, в частности, как средство преодоления жестокости и несправедливости окружающего мира.
Именно такая концепция противопоставления лежит в основе фильма Романа Поланского «Пианист» (2002). Чтобы обнажить предельную беззащитность и неприкаянность человека перед ужасами фашизма и репрессий, Поланский останавливает свой выбор на герое-пианисте, профессия которого абсолютно чужда и бесполезна на войне. Как заметил Дмитрий Десятерик, уже одним названием фильма Поланский задает серьезнейший, фундаментальный конфликт «между какофонией войны и благодатью музыкального дарования, скрежетом кровавых жерновов и сверхчувствительным слухом»[296].
Главный герой — пианист Владислав Шпильман — оказывается абсолютно беспомощным в условиях военного времени, потому как разверзающаяся на его глазах катастрофа до самого конца отказывается укладываться в его голове. Он может сколь угодно глубоко переживать за гибнущих на его глазах людей, испытывать колоссальные душевные муки и отчаянно хвататься за жизнь, но противостоять злу действием он не в силах, пианист не может начать убивать, чтобы не быть убитым. Даже когда героя принимают в группу сопротивления, он предпочитает сбежать и отсиживаться в полуразрушенных зданиях, и причина такого поступка героя отнюдь не в трусости, а в трагической несовместимости законов войны с законами его личной морали.
Многие критики, несмотря на то что в основе фильма лежит судьба реального человека, упрекали Романа Поланского в искусственности финального хеппи-энда или как минимум предъявляли автору счет за нравственное малодушие героя[297]. Однако фильм повествует ровно об обратном — о том, как духовная сила может противостоять физическому насилию и в конечном итоге выиграть это сражение. Да, Шпильман полностью беззащитен и беспомощен в условиях войны, но благодаря профессии у него есть альтернативный мир — мир музыки, которая помогает ему выжить. Как замечает по этому поводу Мария Елисеева, «музыка не дает ему сойти с ума и сдаться», а кроме того «именно талант пианиста спасает Шпильману жизнь в самом буквальном смысле — когда немецкий офицер Хозенфельд обнаруживает музыканта на территории гетто. Ценитель классической музыки, сам пианист-любитель, Хозенфельд помогает не просто отчаявшемуся больному еврею, а именно музыканту»[298].
Картина Поланского напрямую затрагивает еще одно важнейшее качество музыки — ее неотчуждаемость от носителя, ее неотделимость от человека. Шпильман потерял на войне все, что имел в прежней жизни, — и материальное благосостояние, и всех самых близких людей. В конечном итоге он теряет и человеческий облик, превратившись в обросшего, истощенного изгоя в лохмотьях, все существование которого сводится к маниакальному поиску пропитания. Музыка — это то единственное, что остается у Шпильмана из прошлого и благодаря чему он вновь возвращается к нормальной жизни.
Идея о том, что музыку нельзя отобрать с помощью физической силы, прослеживается также в другом не менее знаменитом голливудском фильме — «Побег из Шоушенка»[299]. В одном из эпизодов главный герой фильма блестящий финансист Энди Дюфрейн, приговоренный за несовершенное убийство на пожизненный срок, получает от сената штата долгожданную благотворительную помощь в виде нескольких коробок со старыми книгами и пластинками. Воспользовавшись моментом, Энди ставит запись дуэта Сюзанны и Графини из «Свадьбы Фигаро» и, решив сыграть ва-банк, с помощью громкой связи озвучивает моцартовской музыкой всю территорию тюрьмы.
В этой сцене для нас важно два принципиальных момента. Первый: то, как люди, считающиеся отбросами общества и в большинстве своем предельно далекие от классической музыки, даже не подозревающие о ее существовании, испытывают катарсис от оперы Моцарта. Музыка заполняет все пространство тюрьмы, преодолевая не только физические, но и социально-духовные границы. Несмотря на то что заключенные не понимают языка, на котором поют «эти две прекрасные итальянки», их пение несет в себе некий универсальный код и проникает в сердца самых жестоких и заматерелых преступников, на мгновение даруя ощущение свободы.
Другим принципиальным моментом является характер этой свободы, который формулирует для себя Энди. Для него музыка Моцарта необходима, чтобы вновь почувствовать себя личностью, ощутить внутри себя нечто, что не может у него отобрать никто. Энди называет это ощущение надеждой. По сути же, музыка становится точкой духовной опоры, которая удерживает человека в мире, когда у него отняли все другие нравственные ценности — свободу, человеческое достоинство, веру в справедливость, надежду на спасение. Музыка оказывается способной если не заменить эти ценности, то хотя бы дать ощущение, что они в этом мире все еще существуют. Да, классическая музыка несовместима с миром насилия, но вместе с тем она оказывается в нем необходимой, так как может противостоять миру зла и в конечном итоге — помочь выбраться из него.
Еще одним примером подобного ухода в мир классической музыки с целью противостоять наступающей жестокости является фильм Жака Одияра «Мое сердце биться перестало» (2005)[300]. Сопоставив ту среду, в которой действуют герои вышеперечисленных трех кинолент («Пианиста», «Побега из Шоушенка» и «Мое сердце биться перестало»), мы можем обнаружить определенную тенденцию. Герои «Пианиста» и «Побега из Шоушенка» оказывались в объективно суровых условиях — на войне и в тюрьме, причем сюжет обеих картин развивался на исторической дистанции в пятьдесят лет. Эти два обстоятельства подспудно давали зрителю повод надеяться, что сегодняшний мир уже не столь жесток и несправедлив. Действие фильма «Мое сердце биться перестало» происходит в Париже наших дней, однако современный мегаполис на поверку оказывается не менее агрессивным и беспощадным, нежели война и тюрьма середины XX в. Ощущение опасности и беззакония, которые в двух предыдущих картинах были локализованы историческими обстоятельствами, здесь оказались растворенными в городском воздухе, неотделимы от жизни обыкновенных людей. Таков неутешительный диагноз современной эпохи.
С позиции внешнего благополучия жизнь Томá Серá — главного героя фильма «Мое сердце биться перестало» — выглядит вполне успешной. Он молод, харизматичен, обладает пробивным характером и проворачивает выгодные сделки с недвижимостью, путем принудительного выселения из старых домов их предыдущих владельцев-мигрантов. Его жизнь полна драйва — разборки с нелегалами, посещение ночных клубов с непременной дракой на кулаках, встречи с девушками легкого поведения. Однако Томá начинает ощущать бессмысленность такого стиля жизни, вступая в конфликт как с окружающей средой, так и с самим собой.
Он ухватывается за первую призрачную возможность выйти из мира полукриминального бизнеса. Случайно встретив бывшего импресарио своей матери, который напомнил ему о его нереализованном таланте пианиста, Томá решает пройти у него прослушивание и переквалифицироваться в профессионального музыканта. Герой подсознательно чувствует, что его затея заведомо обречена на провал, тем не менее он рьяно приступает к занятиям, стремясь восстановить былую пианистическую форму. Режиссер добивается впечатляющего эффекта, показывая, как герой днем берет уроки музыки у интеллигентной пианистки-китаянки, а ночью устраивает погром в квартале мигрантов — запускает в их квартиры крыс и раскорчевывает арматуру бейсбольной битой. По большому счету музыка оказывается необходимой главному герою в качестве эмоциональной терапии, некой пусть и призрачной, но все же альтернативы миру насилия и алчности. Томá не сможет стать профессиональным пианистом не столько потому, что ему не хватает исполнительской практики или техники. Фиаско предрешено тем, что ни внутреннее состояние героя, ни окружающая его действительность несовместимы с характером исполняемой им музыки. В интерпретации Томá прорывается нервозность, издерганность и агрессивная импульсивность его натуры, такое исполнение не предназначено для чужих ушей, так как слишком личностно и сумбурно. И вместе с тем эти мгновения музицирования жизненно необходимы герою, чтобы выстоять перед циничностью и жестокостью окружающего его мира.
Таким образом, за классикой признается безусловное гармонизующее начало, которое способно сгладить противоречия между внешними обстоятельствами и внутренними потребностями прибегающих к ней героев. При этом умалчивается, что в своей сути классическая музыка отнюдь не так светла и «безоблачна», каковой она предстает в подобном контексте. Противоречивая динамика музыкальной драматургии максимально скрадывается, чтобы как можно отчетливее обозначить драматургический конфликт самого фильма. Вместе с тем подобный подход является вполне традиционным взглядом на иерархию социальных и духовных ценностей. В нем еще просматриваются границы между искусством и насилием, внутренней свободой и давлением внешних обстоятельств, между идеальным и обыденным.
2. Горячие головы и хладнокровные эстеты
Но нетрудно догадаться, что в кинематографе существует ровно противоположный подход в толковании классической музыки, переворачивающий устойчивые стереотипы и низвергающий идеалы высокого искусства вместе с ним самим. Первым этапом на этом пути становится включение символов и атрибутов классической музыки в сцены насилия. Так, одним из устойчивых мотивов, как уже говорилось, является футляр, где вместо музыкального инструмента (скрипки, гитары, виолончели) лежит оружие. В качестве ближайших примеров можно вспомнить трилогию Роберта Родригеса «Эль Марьячи», «Отчаянный» и «Однажды в Мексике» (1992, 1995, 2003), а также «Леона» Люка Бессона (1994). Другим символом классической музыки, регулярно превращающимся в арену для эффектных киношных убийств и кровавых интриг, является — и об этом тоже речь уже шла — оперный театр. (Для примера назовем хрестоматийную сцену из «Пятого элемента» все того же Люка Бессона (1997), пару эпизодов из бондианы[301], современную экранизацию Шерлока Холмса[302] и знаменитый «Призрак оперы»[303].)
Интрига подобных сцен строится на противопоставлении и одновременно сопоставлении символов духовного самосовершенствования человека (коими являются музыкальный инструмент и оперный театр) с актом физического уничтожения и смерти, с которыми они начинают неразрывно ассоциироваться. Найти более несовместимые понятия сложно, поэтому эффект и получается столь ошеломляющим, выходящим далеко за рамки собственно спецэффекта и аттракциона.
Использование символов классической музыки в таком контексте обнаруживает, что зло может запросто оказаться в личине добра, а в окружающем мире больше нет незыблемых основ безопасности. Вместе с развенчанием классических символов происходит болезненное, но неизбежное крушение старого мироустройства. Все оказывается переменчивым и двойственным, непредсказуемым и потенциально опасным. За этими, казалось бы, сугубо развлекательными кинотрюками скрывается проблема тотального недоверия и полного разочарования в прежде безусловных гуманистических ориентирах. Утрачены не только те смыслы, что раньше находил для себя человек в искусстве, утрачено само искусство как таковое. Оно теперь источник не прекрасного и совершенного, а прямо противоположного начала, несущего с собой разрушение и катастрофу.
Музыкальный инструмент и оперный театр — это лишь знаки классической музыки, которые кинематограф активно использует не по их прямому назначению. Куда более тонкий драматургический эффект получается, когда искренней страстью к классической музыке наделяются герои, совмещающие любовь к прекрасному с не менее сильной тягой к насилию. Здесь мы вынуждены немного отклониться от заданных хронологических границ статьи и вспомнить точку отсчета этой темы, заданную «Заводным апельсином» Стенли Кубрика. Вышедший на экраны в 1971 г., этот фильм, прежде чем стать культовым, вызвал взрыв негодования и отторжения, не столько откровенностью и изощренностью демонстрируемых в нем сцен насилия, сколько совмещением в облике главного героя — Алекса Деларжа — бесшабашной жестокости и искренней любви к Девятой симфонии Бетховена. Однако то, что так шокировало и раздражало первое поколение зрителей «Заводного апельсина», на сегодняшний день стало штампом. Так, К. Рычков, проанализировав наиболее успешные коммерческие фильмы США последнего десятилетия, приходит к выводу, что «среди героев, предпочитающих классику прочей музыке, больше всего отъявленных злодеев и гангстеров»[304]. Почему же прием, задумывавшийся как эпатаж, стал нормой? Как изменились характеристики слагаемых в уравнении классики и насилия и, главное, как изменилось восприятие самого этого уравнения? Чтобы более отчетливо увидеть произошедшие перемены, попробуем сопоставить кубриковского Алекса с не менее знаменитым злодеем, но уже 90-х гг., доктором Ганнибалом Лектером[305].
Алекса и Лектера, помимо страсти к экзальтированному насилию, объединяет незаурядное творческое дарование, они оба — артистические натуры, легко меняющие свои амплуа. Дж. Нэрмор обращает особое внимание на эти способности Алекса, который может «из дьявола превращаться в ангела, из монстра в клоуна, из поэта в сорванца, из соблазнителя в жертву, из афериста в простака»[306]. Лектер, в свою очередь, также непрестанно жонглирует ролями больного и врача, осужденного и обвинителя, интеллектуала и маньяка. Тем не менее причины агрессии, исходящей от этих двух героев, принципиально разнятся. Алекс мыслится жертвой общества, которое сначала ненароком «взрастило» в нем тягу к ультранасилию, а потом подвергло его самого не менее антигуманной процедуре «излечения». Лектер же предстает в роли негласного кукловода, неуязвимого «серого кардинала», исподволь управляющего поступками людей, находящихся как по ту, так и по другую сторону закона. Эти существенные отличия в мировосприятии героев обуславливают и их поступки. Преступления Алекса — это по большей части импровизация, предельно жестокая, но спонтанная «забава», а в основе действий Лектера лежит тончайший, скрупулезный расчет — каждый ход разыгрываемого убийства Лектер знает наперед. Столь же разнится характер их привязанности и к классической музыке. То влечение, которое испытывает Алекс к Девятой симфонии Бетховена, воспринимается случайным, является как бы побочным, никем не предусмотренным эффектом и по сути никак не сказывается на разыгрываемых им нападениях[307]. Лектер же искусно вплетает произведения искусства в свои преступления. В «Молчании ягнят», в знаменитой сцене истязания охранников, он, исполняя Гольдберг-вариации Баха, усыпляет бдительность полицейских и выигрывает время для расправы над ними[308].
В этом кроется суть разницы отношения к классической музыке и самих двух героев, и исторических периодов, в которых они стали популярны. Для Алекса классика — это его сокровенное хобби, он не стремится с ее помощью казаться лучше, чем есть на самом деле, как высказывался по поводу своего героя Кубрик: «Алекс не пытается скрыть свою развращенность и порочность ни от себя, ни от зрителя»[309]. Для Лектера же классическая музыка наравне с развитым вкусом, аккуратной одеждой и изысканной речью необходима, чтобы, по меткому наблюдению Т. Фейхи, «убаюкать» жертв, а заодно и зрителей, внушить ложное чувство безопасности, стать «дымовой завесой для взрывного насилия и гнева»[310]. Иначе говоря, Алекс классической музыкой искренне увлечен, а Лектер ее использует, и это два диаметрально противоположных подхода к «высокому искусству».
В случае с Алексом классическая музыка не несет «персональную ответственность» за характер и поведение своего поклонника. Сам Алекс во время принудительного «лечения», при котором кадры фашистских репрессий сопровождаются музыкой Девятой симфонии, в сердцах восклицает: «Бетховен ничего плохого не делал. Он только писал музыку» — этой репликой оправдывая свою привязанность к его шедевру. Так же и эпоха конца 1960-х — начала 1970-х гг., которой принадлежал Алекс, никак не связывала захлестнувшую общество волну протестных движений[311] с закономерностями истории и развития западной цивилизации.
Лектер же обставляет свои преступления так, что на классическую музыку ложится определенное бремя ответственности за творящееся насилие. Произведение искусства не только вплетается в ход преступления, но и становится своего рода эталоном, совершенству замысла которого подражают, разыгрывая кровавое преступление. Всем должно стать понятно, что убийство — это тоже «произведение искусства», со своей формой, интригой, смыслом и стилем исполнения[312].
При всей включенности классической музыки не только в драматургическую, но и в аудиовизуальную ткань «Заводного апельсина» сама музыка не меняется. Наоборот, найденный Кубриком прием демонстрации сцен насилия под «аккомпанемент» классики тем и знаменит, что создает эффект остранения и условности. Музыка устанавливает дистанцию для реалистичного восприятия происходящего на экране, обнаруживает полную несовместимость своего содержания с содержанием экранного действия, что и образует неподражаемый кубриковский гротеск. Современный же кинематограф идет другим путем, «вживляя» классическую музыку внутрь мира насилия. Классика становится «второй кожей», маской убийцы, должной до поры до времени прикрывать истинное лицо героя, чтобы последующее разоблачение было максимально неожиданным, ошеломляющим и в то же время правдоподобным. Тем самым подразумевается, что идеи и ценности, заключенные в классике, так же двойственны, как двуличны персонажи, прибегающие к этой музыке в качестве прикрытия. Кинематограф вновь и вновь обнаруживает картину полного неверия и недоверия нынешнего общества к традиционным идеалам, провоцирует сомневаться и не бояться проверять эти идеалы «на прочность».
Подобное использование классической музыки нарушает не только стереотипы восприятия искусства и выражаемых им ценностей, но и делает вновь актуальной тему социальной стратификации и связанных с ней норм поведения. Ганнибал Лектер причисляет себя к людям высшего общества и демонстративно дает понять это окружающим — имеет привычки интеллектуала, гурмана и эстета, он до поры до времени подчеркнуто вежлив и учтив, в том числе по отношению к своим будущим жертвам. Более того, у него даже есть свой кодекс чести, согласно которому он не покушается на тех, кого считает равным себе по интеллектуально-нравственным качествам.
Пожалуй, еще более ярко и наглядно, нежели в случае с Ганнибалом Лектером, эта проблема социальной иерархии и художественных пристрастий проявляется в фильме Энтони Мингеллы «Талантливый мистер Рипли» (1998). Поступками Тома Рипли — неказистого настройщика роялей из Принстонского университета, подрабатывающего время от времени официантом, — движет желание войти в избранное общество. На этом пути оба судьбоносных шанса, которые Рипли с блеском использует, связаны с музыкой. Первый шанс предоставляет классика, когда Тому удается завоевать расположение судостроительного магната Гринлифа, аккомпанируя знакомой певице на одном из великосветских приемов. А на следующем этапе, стремясь втереться в доверие к его блудному сыну Дикки, Том муштрует свой слух уже на джазовых композициях.
Приторно правильный, старомодный и провинциальный Том, носящий один и тот же твидовый пиджак при любой погоде, является антиподом лощеного, грациозного и беспечного прожигателя жизни Дикки Гринлифа. И этому противопоставлению характеров отчасти вторит противопоставление музыкальных пристрастий — чинной классики и фривольного джаза. Однако именно Том, убив Дикки и виртуозно выдавая себя за него, занимает желаемое место на социальной лестнице.
Как и для Ганнибала Лектера, классическая музыка становится для Тома Рипли выгодным камуфляжем, помогающим ему войти в круг избранных. Высший свет принимает именно Тома — приглаженного, учтивого и посещающего оперный театр, а не ветреного шалопая Дикки, проводящего досуг в злачных джазовых клубах и просаживающего деньги отца в праздном безделье. Тому действительно удается занять место Дикки, со временем он становится внешне неотличим от людей высшего света, однако внутри — все более беспринципным и расчетливо-жестоким, совершающим одно убийство за другим. Такова цена, которую приходится заплатить его личности, чтобы считаться своим в окружении богатых и успешных и чтобы среди прочих привилегий иметь возможность музицировать на собственном рояле.
И в случае Ганнибала Лектера, и в истории Тома Рипли мы наблюдаем полную инверсию привычных ценностных ориентиров. Кинематограф, а вместе с ним и общество пересматривают традиционные культурные, социальные и морально-нравственные границы. В этом процессе классическая музыка, с одной стороны, сдает свои позиции непререкаемого авторитета и нравственного абсолюта, а с другой — оставляет за собой право присутствия в современности, право быть включенной в новую мифологию изменяющегося общества. Пусть контекст, в котором она оказывается, никак не связан с ее искомым содержанием, но, на наш взгляд, в данном случае важны, во-первых, сам факт ее присутствия, а во-вторых, та впечатляющая популярность, которой добиваются благодаря ей герои предельно далекие от классических идеалов.
3. По ту сторону идеалов
Мы рассмотрели два сценария, где классическая музыка присутствует в драматургической ткани фильма. В первом случае классика — источник мощной духовной энергии, с помощью которой можно противостоять жестокости и несправедливости окружающего мира. В другом случае классическая музыка и ее символы выступают в роли обманчивой «ширмы», скрывающей коварные цели и преступные замыслы приверженных ей героев. Существует и третий сценарий. В нем мир насилия олицетворяет сам мир классической музыки. К нему часто обращаются режиссеры авторского кино. В их объективе оказываются герои-музыканты, и зрителю открывается неприглядная картина о глубоких психологических, моральных и социальных отклонениях, обуславливаемых классической музыкой как профессией. Два самых ярких примера такого рода — широко известная «Пианистка» Михаэля Ханеке (2001) и «Четыре минуты» Криса Крауса (2004), также повествующая о судьбе пианистки — заключенной женской колонии строгого режима.
В свое время «Пианистка» Ханеке вызвала шквал острых дискуссий в киносообществе и неприятие, колеблющееся от недоумения до брезгливого отторжения у неподготовленных зрителей. Возмущение провоцировала прежде всего сюжетная канва, в которой Эрика Кохут — всеми уважаемый профессор консерватории — оказывается извращенной эротоманкой и патологической садомазохисткой. При этом своими поступками она доводит влюбленного юношу Вальтера Клеммера до состояния такой же маниакальной перверсии, которой страдает сама.
В отличие от Эрики главная героиня фильма «Четыре минуты» пианистка Дженни фон Лебен своим поведением демонстрирует презрение к каким-либо условностям и нормам морали. Осужденная за убийство, она считается самой буйной заключенной тюрьмы и регулярно ввязывается в потасовки с охранниками. Эта неуправляемая агрессия уживается в ней с не менее неординарным пианистическим дарованием. Такое совмещение в одной личности исполнительского таланта и грубой, неконтролируемой, разрушительной энергии вызывает недоумение и шок, является сюжетообразующим конфликтом всего фильма.
Однако оба режиссера, как тонкие диагносты современного общества, имели цель не просто шокировать зрителя извращенной жестокостью героев, напрямую связанных с высоким искусством, но и показать, как эта жестокость культивируется, обуславливается двумя главными факторами — выбранной профессией и окружающим их обществом. В отношении «Пианистки» Ханеке о связи между «высоким» искусством и девиантным поведением главной героини упоминали практически все, писавшие о фильме[313], однако, на наш взгляд, наиболее грамотно и глубинно проследить эту связь удалось Л. Березовчук, на статью которой мы будем во многом опираться[314].
Несмотря на богатую кинематографическую традицию и выбранную тему, Ханеке в своем фильме практически не включает непосредственное звучание классической музыки внутри сцен насилия или аморальных действий героев[315]. Режиссер, во-первых, использует музыку на знаковом уровне, проводя от нее тонкий пунктир к характеру и судьбе главной героини[316]. Во-вторых, с помощью музыки Ханеке исследует проблему деформации личности под воздействием профессии, на чем мы остановимся подробнее.
Специфика взращивания музыкального дарования предполагает, что с детства большую часть своей жизни музыкант посвящает занятиям на инструменте. Однако выясняется, что потенциально безграничный мир музыки предельно ограничивает реальный мир занимающегося ею человека. Как формулирует Л. Березовчук, исполнение музыки — это акт трансцендирования от реальности, музыкант, занимаясь на инструменте, «едва ли не в прямом смысле “выпадает” из настоящего времени, переходя в мифологически-универсальную “вечность” музыкального образа»[317]. В итоге такого постоянного пребывания в мире звуков музыкант рискует оказаться не приспособленным к жизни в обществе. Именно эта проблема является смысловым центром рассматриваемых нами кинолент.
Решающую роль в «выпадении» обеих героинь из общепринятой нравственной парадигмы играют их родители, для которых дети становятся инструментом удовлетворения амбиций. Мать Эрики отслеживает каждый шаг своей великовозрастной дочери, отказывая ей в праве на личную жизнь, доводя этот контроль до абсурда. В итоге у Эрики оказывается неудовлетворенной потребность самого нижнего инстинктоидного уровня — половая. Вынужденная компенсировать свое сексуальное влечение вне норм, принятых в обществе, тайком в кабинке секс-шопа, Эрика усваивает исключительно извращенную, аморальную модель взаимоотношений между мужчиной и женщиной, которую потом и пытается реализовать в своих отношениях с Вальтером[318]. Таким образом, ее девиантность, хоть и кажется на первый взгляд немотивированной, не согласующейся с обликом профессора консерватории, на самом деле детерминирована системой воспитания и самим обществом, которое вменяет ей этические и статусные стереотипы поведения.
В параллельно рассматриваемом нами фильме «Четыре минуты» причины неуправляемой агрессии, которую проявляет Дженни по отношению к окружающим, также обусловлены особенностями воспитания. Из Дженни, как и из Эрики, с детства пытались воспитать профессионального музыканта. Так же, как и Эрика, она оказалась инструментом для удовлетворения амбиций отца, который к тому же испытывал к ней эротическое влечение. В отличие от Эрики Дженни решилась на бунт, и ее история — это как бы альтернативный путь, ведущий прочь из мира классической музыки. Однако приносящий не меньше проблем и испытаний.
Если Эрика так или иначе находит свое призвание в классической музыке, получает благодаря ей возможность самореализации, то для Дженни академическое исполнительство оказывается тюрьмой духа, в которой ее темпераменту и дарованию тесно. Для нее классика — это оковы гармонии, искусственной сдержанности, а также лицемерия и насилия, прикрываемых разговорами об идеалах высокой культуры. Искусство, призванное пробуждать индивидуальное сознание, начинает использоваться в противоположных целях — для подавления и угнетения личности. Более того, классическая музыка не идет ни в какое сравнение с искренностью и подлинностью той музыки, что прорывается из Дженни. Классика проигрывает по масштабам дарованию героини, оказывается неспособной отразить те проблемы, что по-настоящему волнуют ее.
По сюжету фильма дарование Дженни почувствовала местная учительница музыки — фрау Крюгер, которая взялась подготовить арестантку к конкурсу академических исполнителей. Пройдя несколько отборочных прослушиваний, Дженни удостаивается чести выступить на гала-концерте лауреатов. И этот шанс она использует сполна, превращая его в четыре триумфальные минуты свободы самовыражения. Из заявленного концерта Шумана вдруг начинает прорываться собственная музыка Дженни — дикарская, безудержная, ритмически нервная, эмоционально откровенная и вместе с тем завораживающая, «закольцовывающая» слушателей, покоряющая звуковым драйвом. Эта музыка оказывается близка всем слушателям в зале, которые устраивают Дженни оглушительную овацию.
Оба фильма хоть и посвящены, казалось бы, специфике музыкантской профессии, на самом деле затрагивают очень широкий пласт проблем современного общества (почему и воспринимаются так болезненно). Они вскрывают острые противоречия между регламентированными ценностями современного общества и тем, какова реальная цена, которую оно платит за воплощение этих ценностей в жизнь. В обоих фильмах видно, как «показанная на экране жизнь категорически и фундаментально не соответствует всем обиходным — мировоззренческим, философским, идеологически-пропагандистским, информационным — стереотипам, циркулирующим в обществе, внедряемым массмедиа в сознание всех без исключения людей»[319]. Обнаруживается «катастрофическое и трагическое для всех — для общества, для конкретного индивидуума и людей, которые его окружают, — несоответствие между потребностями, желаниями и реальными возможностями их осуществить»[320]. Сфера классической музыки служит режиссерам в качестве модели мироустройства, своеобразным микрокосмосом, на примере которого значительно нагляднее видны изъяны современности. Пусть это сопоставление оказывается весьма категоричным, однако, с другой стороны, классика в очередной раз подтверждает свою актуальность, выступая в качестве индикатора самочувствия современного общества.
Заключение
На протяжении всей истории западноевропейской музыки границы между массовыми и элитарными жанрами были проницаемы и подвижны. Так, сложнейшие полифонические хоралы писались на темы народных песен; ранние квартеты и даже симфонии Гайдна имеют корни в традициях застольной музыки; мелодии оперных арий в XIX в. часто входили в репертуар городских духовых оркестров, игравших на площадях и в парках; а бытовые песни и танцы, благодаря творчеству Шуберта и Шопена, начали звучать с большой концертной сцены. Схожими примерами стилистического взаимообмена изобилует и музыкальная культура ХХ в. — от цитирования эстрадных шлягеров в балетах Шостаковича и симфониях Шнитке до появления и становления жанра рок-оперы.
В современной ситуации, с одной стороны, внутренний разрыв между элитарной и массовой, между академической и эстрадной музыкой непреклонно увеличивается. Но как бы в противовес этому окончательно отменяется иерархия контекстов звучания — любая музыка может восприниматься и как автономное произведение, и как фон окружающей среды. При этом важно не то, где звучит та или иная музыка, а то, насколько она соответствует контексту своего звучания. Размываются границы между искусством и повседневностью, между восприятием художественного произведения и самыми тривиальными бытовыми действиями и предметами. «Благодаря развитию новых технологий складывается парадоксальная ситуация: феномены высокой культуры, с одной стороны, продолжают свое бытие в прежнем качестве неких стандартов, образцов искусства, с другой — претерпевают трансформацию и, сохраняя оболочку, внешнюю форму, изменяются в существенных своих характеристиках и начинают функционировать как предметы масскульта»[321].
Однако массовую культуру в классической музыке интересует не столько ее музыкально-содержательная составляющая, сколько дополнительные, «побочные» смыслы и образы, сопряженные с ней. Циркуляция в массовой культуре личностей, идей и произведений из сферы классической музыки создает определенную атмосферу и обозначает систему ценностей, транслируемых в общественное сознание. Художественное явление — классическая музыка — в массовой культуре начинает восприниматься как реклама, в широком значении этого слова, — реклама высокой нравственности, бесспорных и всеми одобряемых, правильных ценностей, более того, она может стать рекламой любого товара или акции, в зависимости от контекста и рационально транслируемых с ее помощью смыслов. При этом не только аудитория может не подозревать, что в составе какого-либо произведения массовой культуры содержится классическая музыка, но и характер использования классики может коренным образом противоречить ее искомому содержанию. Более того, количество обращений к классической музыке увеличивается прямо пропорционально уходу прочь от ценностей и принципов самой классической культуры. Массовая культура и массмедиа могут не просто нивелировать искомое содержание музыки, а заменять его своими собственными смыслами, идущими вразрез с первоначальной сущностью классики.
Вместе с тем нарастающий спрос на классическую музыку со стороны массовой культуры свидетельствует о предельной неоднородности и несамодостаточности последней, которая все острее нуждается в семантической энергии из других культурных пластов. Классика попадает в эпицентр поиска массовой культурой эффективных символов и образов, оказываясь одним из самых актуальных источников. И если раньше, в ситуации стилистического взаимообмена между элитарной и массовой музыкой, последняя заимствовала из классического искусства лишь внутреннюю логику, которую обрабатывала собственными средствами и делала неузнаваемой, то сегодня массовая культура открыто затягивает в свое пространство уже целые фрагменты, самостоятельные произведения и образы из классики. Конечно, современная массовая культура также пропускает классическую музыку через множество технологических и эстетических фильтров, но при этом ей необходимо, чтобы аллюзии оставались ощутимыми и наглядными, чтобы у публики создавалось впечатление, что ей предъявляется произведение отнюдь не массовой культуры.
И по сути, так оно и есть. Вместе с аллюзиями, символами и атрибутами из музыкальной классики в массовую культуру проникают несвойственные для нее проблемы и смыслы, уже не позволяющие причислять новообразовавшиеся феномены всецело к сфере массовой культуры. Частота использования и разнообразие контекстов звучания отдельных классических произведений изменяют их восприятие, но, тем не менее, не делают их массовым искусством. В этом противоречивом процессе взаимодействия классической музыки и массовой культуры происходит рождение и закрепление их «третьего» качества, все чаще обозначаемого через понятие популярной культуры.
А. В. Захаров тонко фиксирует изменения в функциях массовой культуры — на современном этапе она является уже не субстратом, а формой, в которой функционирует общественное сознание. Сегодня массовой культуре «безразлично, во что верят или что думают отдельные субъекты, — важно, что они используют одни и те же коммуникативные каналы. Она интегрирует общество не с помощью идей, а с помощью технологий»[322].
Наполнением же этой формы как раз и становится популярная культура, в которой происходит синтез, иногда конфликт, а порой травестирование классической музыки приемами массовой культуры. Популярная культура оказывается способной объединять феномены самого разного порядка, потому что она «самоопределяется не через отталкивание от других, инокультурных форм и образцов, а через их присвоение»[323]. Популярная культура не ставит себе цели переосмысливать или интерпретировать содержание самой классической музыки. Классика необходима популярной культуре для расширения ассортимента культурных продуктов, доступных для восприятия широкой аудитории и вместе с тем обладающих необычными, «экзотическими» свойствами. Популярная культура старается совместить на своей территории явления массового и элитарного характера и тем самым ввести «высокое» искусство, исторически сформировавшееся до возникновения массового общества, в парадигму современной культуры.
Один из таких способов адаптации классической музыки к новым реалиям связан с использованием ее в процессах потребления, которые приобретают сегодня колоссальный размах и вторгаются во все, в том числе и духовные, сферы жизни современного общества. Но вместе с тем потребительские интересы, так же как и массовая культура, перестают быть самодостаточными, уже не в состоянии беспрерывно умножать потребности, в стремлении заполнить ими зияющую пустоту человеческого бытия. И чтобы оправдать необходимость бесконечных трат и покупок, найти для них духовные и эстетические императивы, в процессы потребления включаются всевозможные аллюзии на «высокое» искусство, которое должно сгладить и «облагородить» прагматику потребительской индустрии. Включение классической музыки в рекламную коммуникацию предоставляет возможность сопоставить потребление и творчество как равноценные явления, позволяет иллюзорно увязать коммерческие интересы с возвышенными этическими идеалами.
Массовая культура не только активно втягивает в свое пространство различные образы и символы из классической музыки, но и весьма ощутимо воздействует на характер современного бытования самой классической музыки.
Во-первых, анонимность, свойственная и массовой, и популярной культуре, влияет на то, что в современной презентации классической музыки зачастую игнорируется личность ее композитора. Нынешняя эпоха стремится присвоить себе авторство классической музыки, изымая фигуру композитора как из медийной, так и из традиционной среды бытования классики. Классические произведения различными способами отчуждаются от своих настоящих авторов — переинструментовываются и аранжируются средствами поп-музыки, сокращаются, «режутся» на фрагменты и «дописываются» в соответствии с требованиями контекста, в который они помещаются. Из классического произведения свободно изымаются или, наоборот, в него внедряются любые структурные элементы, что ведет к частичному или полному изменению его семантики и архитектоники. В свою очередь на роль создателей классической музыки начинают претендовать музыканты-исполнители, вымышленные персонажи рекламной и киноиндустрии, рядовые современные индивиды, потребители культурного продукта и даже неперсонифицированные явления, такие как современная среда человеческого обитания. Все они получают максимальную свободу интерпретирования и манипулирования классической музыкой. Тем самым классика начинает пониматься как часть исторического наследия современного общества, которым оно может распоряжаться по своему усмотрению на правах абсолютных обладателей, не обязанных ни перед кем и ни перед чем отчитываться в своих действиях.
Во-вторых, несмотря на провозглашаемое академическими музыкантами отстранение от сферы массовой культуры, они во многом попадают под влияние ее законов и постулатов. Согласно одному из них, степень популярности и известности явления напрямую характеризует степень его жизнеспособности, качества и значимости в современной культуре. На этом основании в современном обществе бытует идея, что классическая музыка непременно должна быть востребована широкой аудиторией, иначе она в какой-то степени теряет свое абсолютное совершенство и самодостаточность. Это влечет за собой ментальные противоречия между желанием современных академических музыкантов быть представленными в массмедийном потоке и немассовым характером самой музыки.
Вышеперечисленные причины заставляют академических музыкантов вести двойную игру с публикой. С одной стороны, они различными способами вуалируют свою принадлежность нынешнему времени и часто создают образ человека из другой эпохи, не вписывающегося в ритмы жизни и интересы современного общества. Или, наоборот, пытаются выглядеть ультрасовременными и модными персонами, как бы «невзначай» владеющими неординарными навыками игры на классических инструментах и поставленным оперным голосом. При этом и те и другие музыканты нередко проявляют себя в жанрах массовой культуры, а также вводят в формы «живой» презентации классической музыки приемы и технологии из сферы шоу-бизнеса.
Нельзя не учитывать, что обращение к массовой культуре представителей классической музыки во многом обуславливается необходимостью финансового обеспечения сферы «высокого» искусства, так как сегодня коммерческая успешность, вне зависимости от характера деятельности, подчиняется законам массового рынка. Чтобы иметь средства к существованию в сегодняшнем дне, классическая музыка больше не может быть сугубо элитарным и автономным искусством, она должна быть представленной в общем потоке массмедиа и массовой культуры. Проблема же заключается в том, что, попадая под воздействие этих законов, представителям классической музыкальной культуры очень сложно регулировать степень своей реальной погруженности, внутренней вовлеченности в процессы массовизации.
Массовая культура приучает публику воспринимать классическую музыку в парадигме всеобщей развлекательности или рекламы, борьбы за высокий общественный статус, высокое место в социальной иерархии. Классика становится элементом общего шоу, знаком престижа, изысканного вкуса, высокого качества и преподносится в контекстах, далеко уводящих прочь от тех смыслов, которые выражает сама музыка. Тем самым массовая культура заявляет свои права на режимы преподнесения, трансляции и промоушена классической музыки; приучает к тому, что классическая музыка является одним из ее элементов и в то же время одним из «других» элементов, принадлежит «другой» культуре, которая тем и интересна, что может дополнить, разнообразить повседневную жизнь, а также служить обозначением социального статуса, структурировать явления повседневности, создавать игровое поле культурных символов, образов, аллюзий. Массовая культура освобождает аудиторию от духовных обязанностей по отношению к классической музыке и приучает к возможности манипулировать классикой, обнаруживая в ней высокий потенциал социального функционирования.
Приложение 1. Список рекламных роликов
Продукты питания
1. Шоколад «Fruit&Nuts» (звучит Танец Феи Драже из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик»).
2. Шоколад «Picnic» (сцена в оперном театре).
3. Шоколад «Starburst» (сцена в оперном театре).
4. Шоколад «Snickers» (с А. Волочковой).
5. Шоколад «Вдохновение» (сцена танца на фоне Большого театра).
6. Шоколадные конфеты «M&M» (звучит Танец Феи Драже из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик»).
7. Чипсы «Doritos» (сценка в оперном театре)
8. Жевательная резинка «Extra» (сцена в оперном театре).
9. Жевательная резинка «Trident Splash» (сцена в оперном театре).
10. Лапша быстрого приготовления «Энциклопедия вкуса» (ария Папагено из оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта»).
11. Макароны «Barilla» (звучит стилизация под оперную арию).
12. Продукты быстрого приготовления «Ragu» (звучит «Застольная песня» из оперы Дж. Верди «Травиата»).
13. Томатная паста «Leggo’s Tomato» ролик «Rhapsody in Red» (звучит песенка Герцога из оперы Дж. Верди «Риголетто»).
14. Кукуруза «Бондюэль» (звучит главная партия Увертюры к опере Дж. Россини «Вильгельм Телль»).
15. Хлеб «Hovis» (ролик 1973 г., звучит главная тема II-й части 9-й симфонии А. Дворжака).
16. Хлопья для завтраков «Rice Krispies» (ролик 1960-х гг., звучит ария Паяца «Смейся, Паяц» из оперы «Паяцы» Р. Леонковалло).
17. «Coca Cola» ролик «Похищение» (звучит тема Пети из оркестровой сюиты С.С. Прокофьева «Петя и волк»).
18. «Coca Cola» (ария Паяца «Смейся, паяц» из оперы Р. Леонкавалло «Паяцы»).
19. «Pepsi» (сценка в оперном театре).
20. McDonalds, ролик «Piano Recital» (звучит «К Элизе» Л.В. Бетховена).
21. Минеральная вода «Vöslauer» (2 ролика с Анной Нетребко)
22. Корм для кошек «Whiskas» (звучит «Неаполитанская песенка» П.И. Чайковского).
23. Корм для кошек «Whiskas» (звучит «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского).
Алкогольные напитки
24. Пиво «Бавария» (звучит стилизация под канон И.С. Баха).
25. Пиво «Bud Light» (сценка в оперном театре).
26. Пиво «Carlton Draught» (звучит «О, Фортуна» из «Кармины Бурана! К. Орфа).
27. Пиво «Grolsch» («симфонический» оркестр из бутылок).
28. Пиво «Heineken» («симфонический» оркестр из бутылок).
29. Пивной дом «Radeberger Pilsner» (лицо бренда Анна Нетребко).
30. Ликер «Bailes Irish Cream» (звучит «Баркарола» из третьего акта оперы Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана»).
31. Виски «Ballantine’s», ролик «Underground» (звучит ария Валли «Ebben?.. Ne andro lontano» из одноименной оперы А. Каталани).
32. Водка «Smirnoff» (сценка в оперном театре).
Техника (автомобили, телефоны и пр.)
33. Alfa Romeo «Spider» (звучит дуэт Сюзанны и Графини из третьего акта оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»).
34. Audi ролик «Emociones» (стилизация под Ф. Шопена).
35. Audi «Increscendo» (звучит финал Сонаты A-dur В.А. Моцарта, так называемое Турецкое рондо).
36. Audi А4 ролик «Car Carrier» (звучит «Лето» из «Времен года» А. Вивальди).
37. Audi A6 ролик «Avant Advertisement» (звучит ария «Open road» из оперетты «Цыганский барон» И. Штрауса-сына, стилизованная под оперную арию).
38. Honda (академический хор имитирует звуки машины).
39. Hyundai Sonata (звучат фрагменты Патетической сонаты Л.В. Бетховена, Прелюдии С.В. Рахманинова g-moll op. 23 № 5).
40. Hyundai Sonata (звучит Адажио из фортепианной сонаты Моцарта № 16 (K. 570).
41. Hyundai Sonata ролик «Luxury» (звучит концерт Моцарта для клавесина с оркестром Es-dur).
42. Hyundai Sonata 2011 (звучит фрагмент «Осени» из «Времен года» А. Вивальди).
43. FIAT Tipo (стилизация под действие итальянской оперы).
44. Ford Focus ролик «Beautifully arrangement» («оркестр» из запчастей автомобиля).
45. Lexus SL «Opera» (звучит фрагмент арии Виолетты «Addio, del passato» из третьего акта оперы «Травиата» Дж. Верди).
46. Lexus (совместный ролик с Оперным театром Сан-Франциско, звучит стилизация под итальянскую оперную арию).
47. Lincoln Navigator (звучит американская песня «Home on the range», стилизованная под классическую итальянскую оперу).
48. Mercedes C–Class Estate (Стилизация под «Реквием» В.А. Моцарта)
49. Nissan Qashqai (звучит ария Виолетты «Sempre libera» из оперы Дж. Верди «Травиата»)
50. Renault ролик «Балет машин» (звучит «Балет снежных хлопьев» Ж. Оффенбаха из оперы «Путешествие на луну»)
51. Renault Clio RS (звучит Вальс И. Штрауса)
52. Сотовый телефон «ATT» ролик «Piano» (звучит финал Патетической сонаты Л.В. Бетховена).
53. Сотовые телефоны О2 (с Анной Нетребко).
54. Телефон LG “Secret” (звучит ария «Un bel di vedremo» из оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй»).
55. Оператор связи «Vodafone» (звучит «Увертюра 1812 года» П.И. Чайковского в исполнении мобильных телефонов).
56. Видеоигра «Black» (звучит «Сарабанда» Ф. Генделя).
57. Телевизоры Sony Bravia (звучит увертюра к опере Дж. Россини «Сорока-воровка»).
58. Телевизоры «Loewe» (пародирования сцены из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро»).
59. Украинская реклама Microsoft (стилизация под виртуозную фортепианную музыку).
Прочее
60. Ювелирная компания «Piaget» (сценка в оперном театре).
61. Ювелирный дом «Chopard» (лицо бренда Анна Нетребко).
62. Ювелирный дом «Cartier» (лицо бренда Анна Нетребко).
63. Туалетная вода Old Spice (звучит «O, Fortuna» из «Кармины Бурана» К. Орфа).
64. Туалетная вода Egoiste от «Chanel» (звучит «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева).
65. Парфюмерия Jean Paul Gaultier (звучит ария Нормы «Casta Diva» из оперы Дж. Пучинни «Норма»).
66. Краска для волос «Brillance Intense Couleur» фирмы «Schwarzkopf» (лицо бренда Анна Нетребко).
67. Косметическая фирма L’OCCITANE, туалетная вода «Ruban d’Orange» (звучит «Застольная песня» из оперы «Травиата» Дж. Верди).
68. Сеть магазинов женской одежды Saga Falabella (звучит «Осень» из «Времен года» А. Вивальди).
69. Джинсы Levi’s «Свобода движения» (звучит «Сарабанда» Ф. Генделя).
70. Nike, ролик «Charles Barkley of Seville» 1993 г. (звучат фрагменты из оперы Дж. Россини «Сивильский цирюльник»)
71. Клей «Three Bond» (звучит стилизация под симфонии венских классиков).
72. Радио «Choice FM» (звучит ария Нормы «Casta Diva» из оперы Дж. Пучинни «Норма»).
73. Телевизионная кампания «Nickelodeon» (пародия на сцену в оперном театре).
74. Дезодорант VO5 (звучит сцена из оперы «Чио-чио-сан» Дж. Пучинни).
75. Средство от аллергии «Nasonex» (звучит обработка «Полета Шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова).
76. Моющее средство Magistral, выпускаемое компанией «Procter & Gamble» (звучит «Ода к радости» из финала 9-й симфонии Л.В. Бетховена в исполнении на бокалах).
77. Сантехника «Kohler» (звучит ария Фигаро «Largo al factotum» из оперы «Севильский цирюльник» Дж. Россини).
78. Банк DnB NOR (звучит Ария D-dur из оркестровой сюиты И.С. Баха).
79. Заёмная кампания «Beat» (образ оперной певицы)
80. Финансовая кампания «J.G. Wentworth» (сценка в оперном театре).
81. Авиакомпания «British Airways» (звучит «Дуэт цветов» из оперы Л. Делиба «Лакме»).
Приложение 2. Список клипов на классическую музыку
1. Ассия Ахат «Увертюра» (попурри на темы ре-минорной Токкаты И.С. Баха и «Грозы» из «Времен года» А. Вивальди).
2. Струнный квартет Bond «Fuego».
3. Струнный квартет Bond «Victory» (на тему увертюры Дж. Россини к опере «Севильский цирюльник»).
4. Струнный квартет Bond «Wintersun».
5. DBSK, BoA, and The Trax «Tri-Angle» (Клип 3-х корейских звезд шоубизнеса, в котором звучит мотив сороковой симфонии В.А. Моцарта)
6. Жанин Жансен, Итамар Голан (Janine Jansen, Itamar Golan) «Apres un Reve» (Г. Форе. «Пробуждение»).
7. Tornado Classic «JS Bach» (композиция на тему до минорной прелюдии из II т. «ХТК» и «Шутки» из оркестровой сюиты И.С. Баха).
8. Мадлена Кожена (Magdalena Kozena) «Lascia ch’io pianga» (одноименная ария Альмирены из оперы «Ринальдо» Г.Ф. Генделя).
9. Максим Мрвица (Maksim Mrvica) «Habanera» (парафраз на тему из оперы Ж. Бизе Кармен).
10. Максим Мрвица (Maksim Mrvica) «The Flight of the Bumble-Bee» (Аранжировка темы «Полета шмеля» из оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова).
11. Мейра (Meyra) «Adagio» (парафраз на тему «Адажио», приписываемого Т. Альбинони).
12. Милен Класс (Myleene Klass) «Toccatta and Fugue» (парафраз на тему ре-минорной Токкаты и фуги И.С. Баха).
13. Густаво Монтесано (Gustavo Montesano) «Moonlight Rumba» (на тему «Лунной сонаты» Л.В. Бетховена).
14. Густаво Монтесано (Gustavo Montesano) «Tango Adagio» (парафраз на тему «Адажио», приписываемого Т. Альбинони).
15. Пласидо Доминго (Placido Domingo) «Core ‘ngrato» (на песню итальянского композитора С. Кардилло (Salvatore Cardillo).
16. Райдан (Rhydian) «О, Fortuna» (на тему из «Кармины Бурана» К. Орфа).
17. Сара Брайтман (Sarah Brightman) «Ave Maria» (парафраз на музыку Ф. Шуберта).
18. Доминик Миллер (Dominic Miller) «Adagio» (парафраз на тему «Адажио», приписываемого Т. Альбинони).
19. Анастасия Максимова «Аве Мария» (на тему В. Вавилова, приписываемую Каччини).
20. Ванесса Мей (Vanessa Mae) «The Violin Fantasy» (на темы скрипичного концерта А. Вивальди и сонаты Дж. Тартини «Дьявольские трели»).
21. Ванесса Мей (Vanessa Mae) «Toccata and fugue» (парафраз на ре минорную «Токкату и фугу» И.С. Баха).
22. Ванесса Мей (Vanessa Mae) «Devil’s trill» (парафраз на тему сонаты Дж. Тартини «Дьявольские трели»).
23. Ванесса Мей (Vanessa Mae) «Storm» (парафраз на тему «Грозы» из «Времен года» А. Вивальди).
24. Альберт Майер (Albrecht Mayer) «Pavane» (Г. Форе «Павана», op. 50).
25. Андреас Сколл (Andreas Scholl) «The Cold song» (ария Гения Холода из оперы «Король Артур» Г. Перселла).
26. Дэвид Гаррет (David Garrett) «The 5th» (Парафраз на главную партию I части 5-й симфонии Л.В. Бетховена).
27. Джошуа Белл (Joshua Bell) в рекламе парфюмерии Монблан (исполняет фрагмент «Грозы» из «Времен года» А. Вивальди).
28. Джошуа Белл (Joshua Bell) «Tambourin Chinois» (Ф. Крейслер. Китайский тамбурин).
29. Джошуа Белл (Joshua Bell) «Hungarian Dance № 1» (И. Брамс. Венгерский танец № 1).
30. Итальянский камерный оркестр «I Musici» («Музыканты») «Времена года» А. Вивальди.
31. Виктор Зинчук «Полонез Огинского».
32. Виктор Зинчук «Каприс Паганини» (парафраз на ля-минорный скрипичный каприс Н. Паганини).
33. Максим Венгеров «La Ridda Dei Folletti» («Хоровод гномов» А. Баццини).
34. Анджела Георгиу (Angela Gheorghiu) «Casta Diva» (ария Нормы из одноименной оперы В. Беллини).
35. Анджела Георгиу (Angela Gheorghiu) «Habanera» (из оперы «Кармен» Ж. Бизе).
36. Анджела Георгиу (Angela Gheorghiu) «Un bel di» (ария Чио-чио-сан из оперы «Мадам Батерфляй» Дж. Пуччини).
37. Игорь Бутман, Юрий Башмет «Вокализ» (С. Рахманинова).
38. Стинг (Sting) И.С.Бах. Прелюдия из виолончельной сюиты № 1 (G-dur). (Балерина — Алессандра Ферри, режиссер Фабрицио Ферри).
39. Анна Нетребко «Crudele! — Ah no, mio bene!» (ария Донны Анны из оперы В.А.Моцарта «Дон Жуан»). Клип входит в фильм «Женщина. Голос», режиссер Винсент Паттерсон (Vincent Paterson).
40. Анна Нетребко «Quando me’n vò» (Musette’s Waltz). (Вальс Мюзетты из оперы Дж. Пуччини «Богема»). Клип входит в фильм «Женщина. Голос», режиссер Винсент Паттерсон (Vincent Paterson).
41. Анна Нетребко «Ah! Je ris de me voir» (ария Маргариты «с жемчугом» из оперы «Фауст» Ш.Гуно). Клип входит в фильм «Женщина. Голос», режиссер Винсент Паттерсон (Vincent Paterson).
42. Анна Нетребко «Měsíčku na nebi hlubokém…» (ария Русалки «Месяц мой, в дальнем поднебесье» из одноименной оперы А. Дворжака). Клип входит в фильм «Женщина. Голос», режиссер Винсент Паттерсон (Vincent Paterson).
43. Моджика Эрдманн (Mojca Erdmann) «Ach, ich fühl‘s, es ist verschwunden!» (ария Памины из оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта»).
44. Патрисия Петибон (Patricia Petibon) «Quando Voglioquot» (ария Клеопатры из оперы «Цезарь в Египте» Г.Ф. Генделя)
45. Джулия Фишер (Julia Fischer) А. Вивальди «Времена года» совместно с английским камерным оркестром Academy of St Martin in the Fields (ASMF).
Иллюстрации
1. Кадр из ролика автомобиля Ford Focus «Ода к форду / Ode to a ford». Режиссер: Ноам Мурр. Композитор: Крейг Ричи. Ogilvy Advertising London, UK.
Как убеждает нас реклама, машина настолько совершенна, что ее технические детали могут стать основой для извлечения прекрасных звуков
2, 3. Кадры из рекламного ролика радио Choice-FM «Kill The Gun». В ролике звучит ария Нормы «Casta Diva» из оперы Дж. Пучинни «Норма». Режиссёры: Малкольм Венвилль, Шон Де Спаренго. Арт-директор: Хью Уильямс. Копирайтер: Гари Уолкер. Abbott Mead Vickers BBDO, London.
Сочетание отрешенной, возвышенной мелодии арии-молитвы и замедленной съемки создает завораживающую красоту разрушения — это и разлетающиеся красочные брызги, и энергетика взрыва, заполняющая собой все пространство кадра. Мы видим, как уничтожается плоть, но у предмета в этот момент появляются эстетические свойства, он перестает быть продуктом питания, становясь объектом искусства. Возникающее противоречие между умиротворенной, льющейся музыкой и постоянным процессом уничтожения превращается в особый эффект любования одновременно прекрасным и разрушающимся
4, 5. Кадры из клипа Ассии Ахат «Увертюра». Попурри на темы ре-минорной Токкаты И.С. Баха и «Грозы» из «Времен года» А. Вивальди. Режиссёр: Игорь Иванов. Оператор: Алексей Степанов
…главное, чтобы стихия била через край, была угрожающей, но не пугающей, а эффектной, завораживающей в своей мощи, — ведь она призвана наполнить кадр динамикой, энергетикой и зрелищностью. На самом деле такая «стихия» не что иное как спецэффект, который в отличие от настоящей природной стихии всегда дозирован, просчитан и зачастую является постановочным
6. Анна Нетребко в клипе на арию из оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта. Режиссёр и сценарист: Винсент Пэтерсон.
7. Анна Нетребко в клипе на арию из оперы «Русалка» А. Дворжака. Режиссёр и сценарист: Винсент Пэтерсон.
Моцартовская Донна Анна в арии «Crudele! Ah no, mio bene!» говорит о любви к жениху и скорби об отце, а в клипе с Анной Нетребко в условном пространстве вокруг певицы танцуют мускулистые люди-деревья. Женственность и задушевность арии Русалки в другом ее клипе трансформируются в мизансцену томления с элементами эротики
8. Валерий Гергиев
© Пресс-служба Благотворительного фонда «Фонд Валерия Гергиева»
… летящие брызги пота, экспрессивный взмах рук и прилипшие ко лбу пряди волос маэстро Гергиева создают совершенно другую эстетику классической музыки — не возвышенную и отрешенную, а экстатическую и пронзающую
9. Виолончелист Денис Шаповалов. Фото В. Мышкина
Виолончель или скрипка переворачиваются вверх ногами, гитара «зачехляется», принимаемые позы исключают какую-либо возможность игры, но взаимосвязь между музыкантом и его инструментом становится еще сильнее
10. Пианист Денис Мацуев. Фото Е. Евтюхова
…рутина ежедневных занятий и бесконечных творческих поисков, должна оставаться за кадром. Выхватываются и ищутся исключительно эффектные и неординарные позы. <…> зрителю, необходима одухотворенность лица, многозначность жеста и нестандартность момента
11, 12. Стефано Дионизи в роли Фаринелли. Кадр из фильма «Фаринелли-кастрат», 1994. Режиссер Жерар Корбьо. Сценарий: Андре Корбьо, Жерар Корбьо, Марсель Болье. Оператор: Вальтер ван ден Энде. Композитор: Иоганн Адольф Хассе
В этом кастрате «третьего пола» — в мужчине, говорящем мужским голосом, имеющем андрогинную внешность и поющем фальцетом, — Э. Т. Харрис обнаруживает безусловное портретно-имиджевое сходство с фигурой поп-короля Майкла Джексона
13, 14. Шер. Кадры из фильма «Во власти луны», 1987. Режиссер: Норман Джуисон Сценарист: Джон Патрик Шэнли. Композитор: Дик Хаймен Оператор: Дэвид Уоткин
…кинематограф любит играть с привычными стереотипами, и поэтому в оперный театр зачастую отправляются герои, социальный статус и профессия которых подразумеваются предельно далекими от мира классической музыки и оперы в частности. <…> Вполне закономерно, что этой канонической сцене свидания в оперном театре предшествует не менее каноническая сцена превращения героини из вульгарной или, наоборот, ничем не примечательной девицы в ослепительную даму в вечернем платье, в туфлях на шпильках и с элегантной прической. При этом вместе с поразительной сменой внешнего облика зачастую изменяется и манера поведения героини, ее отношение к самой себе, а также отношение к ней окружающих
15, 16. Наталья Андрейченко. Кадры из фильма «Военно-полевой роман», 1983. Режиссер и сценарист: Петр Тодоровский. Оператор: Валерий Блинов. Композиторы: Игорь Кантюков, Петр Тодоровский
17, 18. Джулия Робертс. Кадры из фильма «Красотка», 1990. Режиссер: Гэрри Маршалл. Сценарий: Дж. Ф. Лоутон. Оператор: Чарльз Мински. Композитор: Джеймс Ньютон Ховард
19. Кадр из фильма «И корабль плывет», 1983. Режиссер: Федерико Феллини. Сценарий: Тонино Гуэрра, Федерико Феллини. Оператор: Джузеппе Ротунно. Композитор: Джанфранко Пленицио
20. Кадр из фильма «Фитцкарральдо», 1982. Режиссер и сценарист: Вернер Херцог. Оператор: Томас Маух. Композитор: Пополь Вух
…в большинстве фильмов, где оперный театр обнаруживает параллели с кораблем, режиссеры довольно пессимистично видят перспективы дальнейшего существования оперы в современном мире. Во-первых, они не случайно выселяют оперу на корабль, то есть по сути извлекают ее из привычной среды пребывания. Во-вторых, большинство этих кораблей обречены на неминуемую гибель — потопление («И корабль плывет», «Фитцкарральдо») или взрыв («Пятый элемент»).
21, 22. Кадры из фильма «Отчаянный», 1995. Режиссер и автор сценария: Роберт Родригес. Композитор: Лос Лобос. Оператор: Гильермо Наварро
Интрига строится на противопоставлении и одновременно сопоставлении музыкального инструмента как символа духовного самосовершенствования человека и оружия — символа физического уничтожения и смерти. Найти более несовместимые понятия сложно, поэтому эффект и получается столь ошеломляющим, выходя далеко за рамки собственно спецэффекта и аттракциона
23. Кадр из фильма «Пианино», 1995. Режиссер и автор сценария: Джейн Кэмпион. Оператор: Стюарт Драйберг. Композитор: Майкл Найман.
… рояль начинает играть роль сообщника и символа тайной любовной связи, в знак которой Ада приносит в жертву уже сам инструмент, «вырвав» одну из клавиш и послав ее с дарственной надписью своему возлюбленному. <…> Символично, что впоследствии героиня сама лишается пальца на руке, то есть связь между ней и роялем начинает мистическим образом проявляться на физическом, телесном уровне
24. Кадр из фильма «Вспомнить все», 2012. Режиссер: Лен Уайзман. Сценаристы: Курт Уиммер, Рональд Шусетт, Дэн О’Бэннон, Марк Бомбэк, Гэри Голдмен, Джон Повилл. Оператор: Пол Кэмерон. Композитор: Гарри Грегсон-Уильямс
Рояль в данном контексте оказывается своеобразным черным ящиком памяти, местом хранения (или даже захоронения) предыдущей жизни героя, которая возникает из небытия и возвращается к нему, словно воскресшая душа, вновь обретшая свое тело
25. Кадр из фильма «Молчание ягнят», 1990. Режиссер: Джонатан Демме. Сценарий: Тед Тэлли, Томас Харрис. Оператор: Так Фудзимото. Композитор: Говард Шор
Лектер <…> обставляет свои преступления так, что на классическую музыку ложится определенное бремя ответственности за творящееся насилие. Произведение искусства не только вплетается в ход преступления, но и становится своего рода эталоном, совершенству замысла которого подражают, разыгрывая кровавое преступление. Всем должно стать понятно, что убийство — это тоже «произведение искусства», со своей формой, интригой, смыслом и стилем исполнения
26. Кадр из фильма «Четыре минуты», 2006. Режиссер и автор сценария: Крис Краус. Оператор: Юдит Кауфман. Композитор: Аннетта Фокс
Существует и третий сценарий. В нем мир насилия олицетворяет сам мир классической музыки. К нему часто обращаются режиссеры авторского кино. В их объективе оказываются герои-музыканты, и зрителю открывается неприглядная картина о глубоких психологических, моральных и социальных отклонениях, обуславливаемых классической музыкой как профессией
Примечания
1
По истории формирования и развития понятия массовая культура см.: Swingewood A. The Myth of Mass Culture. Humanities press, 1977; Сыров В. Н. Массовая культура: мифы и реальность. М.: Водолей, 2010. В отношении понятия популярной культуры этот анализ проделан в исследовании Дж. Сторея: Storey J. Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization. Blackwell, 2003.
(обратно)2
Swingewood A. The Myth of Mass Culture. Р. 119.
(обратно)3
Ibid. Р. xi.
(обратно)4
Особенно наглядно данные различия проявлялись в США, где, по замечанию Дж. Сибрука, «иерархические разделения в культуре были единственно допустимым способом говорить о классовой принадлежности» (Сибрук Дж. Nowbrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М., 2012. С. 35).
(обратно)5
Дубин Б. В. Классическое, элитарное, массовое. Начало дифференциации и механизмы внутренней динамики // Дубин Б. В. Интеллектуальные группы и символические формы. Очерки социологии современной культуры. М.: НЛО, 2004. С. 28.
(обратно)6
Подробнее см.: Сибрук Дж. Указ. соч. С. 75.
(обратно)7
Захаров А. В. Традиционная культура в современном обществе // Социологические исследования. М., 2004. № 7. С. 108.
(обратно)8
Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М.: ЛКИ, 2011. С. 65.
(обратно)9
Подробнее см.: Storey J. Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization. Р. 99.
(обратно)10
Термин middlebrow впервые появился в 1925 г. на страницах британского сатирического журнала Punch, как промежуточный между общепринятыми понятиями highbrow и lowbrow. Впоследствии он стал очень востребован в характеристике и исследованиях американской культуры. См., например: Macdonald D. Masscult and Midcult: Essays Against the American Grain. N.Y.: New York Review Books Classics, 2011 (cop. 1960).
(обратно)11
Термин Герберта Дж. Ганса. См.: Gans H. J. Popular culture and high culture; an analysis and evaluation of taste. N.Y.: Basic Books, 1974.
(обратно)12
См., например, статью Эдварда Шилса, в которой наряду с понятием срединной культуры автор использует понятия высшей (superior) или рафинированной (refined), а также брутальной (brutal) культуры (Shils E. Mass Society and Its Culture // Mass Culture Revisited / Ed. by B. Rosenberg & D. M. White. N.Y.: Litton Educational Publishing, 1971. P. 64).
(обратно)13
Rethinking popular culture. Contemporary perspectives in cultural studies. Oxford, 1991. Пер. А. В. Захарова. URL: .
(обратно)14
Соколова Н. Л. Популярная культура в эпоху «новых» медиа: социальный анализ культурных практик. Дис… доктора философских наук. Самара, 2010. С. 42.
(обратно)15
См., например, очень показательную в этом отношении брошюру: Гершкович З. И. Массовая культура и фальсификация мирового художественного наследия // Знание. Новое в жизни, науке, технике. М.: Знание, 1986. 64 с.
(обратно)16
Подробнее об этом см.: Захаров А. В. Массовое общество в России (история, реальность, перспективы) // Массовая культура и массовое искусство. «За» и «против». М.: Гуманитарий, 2003. С. 86–101.
(обратно)17
Дубин Б. В. Российская интеллигенция между классикой и массовой культурой // Дубин Б. В. Слово — Письмо — Литература. Очерки по социологии современной культуры. М.: НЛО, 2001. С. 331.
(обратно)18
Гершкович З. И. Массовая культура и фальсификация мирового художественного наследия. С. 30.
(обратно)19
Там же. С. 30.
(обратно)20
Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. С. 182.
(обратно)21
Так, Е. М. Петрушанская указывает на аллюзии из Симфонических этюдов Р. Шумана в «Марше коммунистических бригад» (муз. А. Новикова, слова В. Харитонова) и «Stabat Mater» Перголези в песне «Шумел камыш, деревья гнулись». См.: Петрушанская Е. Путь к утрате взаимности? К вопросу о ценностях российской музыкальной культуры 1917–1970-х годов // Высокое и низкое в художественной культуре. М., СПб., 2013. Т. II. С. 151–152.
(обратно)22
Многосторонний и глубокий анализ этих взаимовлияний см. в вышеупомянутой статье Е. М. Петрушанской.
(обратно)23
Петрушанская Е. М. Указ. соч. С. 163.
(обратно)24
Дубин Б. В. Российская интеллигенция между классикой и массовой культурой // Дубин Б. В. Слово — Письмо — Литература. Очерки по социологии современной культуры. С. 339–340.
(обратно)25
Дуков Е. Слушатель в мире музыки с культурно-исторической точки зрения // Вопросы социологии музыки: Сборник трудов. М., 1990. Вып. 3. С. 88.
(обратно)26
Дуков Е. В. Современные цивилизационные тренды и крах массовой культуры // От массовой культуры к культуре индивидуальных миров: новая парадигма цивилизации. М., 1998. С. 16.
(обратно)27
North A. C., Hangreaves D. J., Hangreaves J. J. Uses of Music in Everyday life // Music perception: An Interdisciplinary Journal. 2004. Vol. 22. № 1. Р. 41.
(обратно)28
Прикладная музыка под тем или иным названием выделяется в большинстве классификаций музыкальных жанров. См.: Besser H. Aufsatze zur Musikasthetik und Musicgechichte. Leipzig, 1978; Попова Т. В. Музыкальные жанры и формы. 2-е изд., 1954; Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1960; Сохор А. Н. Эстетическая природа жанра в музыке. М., 1968; Соколов О. В. Морфологическая система музыки и ее художественные жанры. Нижний Новгород, 1994.
(обратно)29
Понятие функциональной музыки появилось в 1920-х гг. Главная задача функциональной музыки заключалась в повышении производительности труда, через создание благоприятной звуковой обстановки в том или ином общественном пространстве, будь то увеселительное, офисное или торговое помещение. Но принципиальным отличием функциональной музыки от прикладной стало то, что она создавала свой репертуар на основе уже существующего звукового ландшафта повседневности, заимствуя и «перерабатывая» его по определенным стандартам. За рубежом первой кампанией, впервые профессионально занявшейся созданием и доставкой своим клиентам функциональной музыки, была фирма Muzak, учрежденная в 1922 г. (подробнее о ней см.: Toop D. Environmental music [background music] // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. In the 29-volume second edition. Grove Music Online / General Editor — Stanley Sadie. Oxford University Press, 2000 (на CD); Ronald M. Radano. Interpreting Muzak: Speculations on Musical Experience in Everyday Life // American Music. Vol. 7. No. 4 (Winter, 1989). Р. 448–460). В свою очередь в СССР данное направление стало целенаправленно изучаться и развиваться только в начале 60-х гг. и отражено в следующих работах: Гольдварг И. А. Функциональная музыка. Пермь, 1968; Он же. Музыка на производстве. Пермь, 1971; Повилейко Р. П. Функциональная музыка. Свердловск, 1968. Причем данные авторы рассматривают возможности функциональной музыки исключительно в сфере производственного труда. К разряду функциональной музыки относят фоновую музыку такие современные российские исследователи, как М. Леви и Т. Франтова. См.: Леви М. Музыка для жизни. Функциональная музыка как явление современной культуры — сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта // Франтова Т. «Какие музыки мы слушаем сегодня» // Музыка и музыкант в меняющемся постсоветском пространстве: Сборник статей / Сост. А. М. Цукер. Ростов н/Д, 2008. С. 68–85.
(обратно)30
Цукер А. М. И рок, и симфония… М., 1993. С. 50.
(обратно)31
Адорно Т. Избранное: Социология музыки. М., 2008. С. 48.
(обратно)32
Как показало исследование британских ученых, причина «помогает скоротать время» является вторым по популярности ответом в определении функции звучащей фоном музыки. См.: North A., Hangreaves D., Hangreaves J. Op. cit. P. 72.
(обратно)33
Адорно Т. Указ. соч. С. 45.
(обратно)34
Бюхер К. Работа и ритм. М., 1923. С. 31.
(обратно)35
Бюхер К. Указ. соч. С. 24.
(обратно)36
Там же. С. 307.
(обратно)37
Из мемуаров князя Адама Чарторыжского — главы Министерства иностранных дел при Александре I (Чарторыжский А. Е. Мемуары князя Адама Чарторыжского и его переписка с императором Александром I: В 2 т. 1912. Т. 1. С. 255. Цит. по: Огаркова Н. А. Церемонии, празднества, музыка русского двора XVIII–XIX века. СПб., 2004. С. 5).
(обратно)38
Лобанова М. Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994. С. 9.
(обратно)39
Лобанова М. Н. Указ. соч. С. 156–157.
(обратно)40
Auditory bubble — определение М. Булла (Bull M. Investigating the culture of mobile listening: from walkman to iPod // Consuming music together: social and collaborative aspects of music technologies / Ed. by K. O’Hara, B. Brown. Springer, 2006. P. 134).
(обратно)41
Bull M. Op. cit. Р. 133.
(обратно)42
Ibid. P. 134.
(обратно)43
Tajadura-Jiménez А., Pantelidou G., Rebacz P., Västfjäl D., Tsakiris M. I-Space: The Effects of Emotional Valence and Source of Music on Interpersonal Distance // PLoS ONE. Режим доступа: %3 Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0026083.
(обратно)44
Подробнее об этом см.: Uimonen H. Op. cit. P. 56.
(обратно)45
Uimonen H. Sorry, Can’t Hear You! I’m on a Train!’ Ringing Tones, Meanings and the Finnish Soundscape // Popular Music. Vol. 23. No. 1 (Jan., 2004). P. 54.
(обратно)46
Михайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Языки культуры: Учебное пособие по культурологии. М.: Языки русской культуры, 1997. 912 с. С. 135.
(обратно)47
См.: Петрушанская Е. М. Перевал тысячелетий: вершины музыкального театра в новых интерпретациях // Высокой и низкое в художественной культуре. Т. 3. М., отв. ред. Ю. А. Богомолов. М.; СПб.: Нестор история, 2013. С. 15–53.
(обратно)48
Луцкер П. В., Сусидко И. П. Моцарт и его время. М., 2008. С. 587–589.
(обратно)49
Крылова А. В. Звук в рекламе: Учебное пособие. Ростов н/Д, 2008. С. 170.
(обратно)50
А. В. Крылова подробно рассматривает в качестве примера мотив судьбы из Пятой симфонии Л. В. Бетховена, который явно теряет весь свой философский пафос, например, при звучании в рекламе сантехнического оборудования (Крылова А. В. Звук в рекламе. С. 170–171).
(обратно)51
Подробнее см.: Чернышов А. В. Медиамузыка на телевидении: Учебное пособие. М., 2009.
(обратно)52
Чернышов А. В. Указ. соч. С. 20–23.
(обратно)53
См., например: Трусов Г. Классическая музыка в рекламе // Sostav.ru: реклама и маркетинг в России. URL: /.
(обратно)54
Сыров В. Шлягер и шедевр (к вопросу об аннигиляции понятий) // Искусство XX века: элита и массы: Сборник статей. Нижний Новгород, 2004. Публикация доступна на портале электронного периодического издания «Открытый текст». URL: /.
(обратно)55
Другой, пожалуй, ещё более востребованной мелодией из балета «Щелкунчик», является «Танец феи Драже». В вышеупомянутой классификации Г. Трусова ей даётся следующее определение: «Кто-то крадется ночью по дому» (URL: http:// /). Ровно в таком контексте эта музыка П.И. Чайковского используется в роликах корма для кошек Whiskas и шоколадных конфет M&M.
(обратно)56
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006. С. 210.
(обратно)57
Бернадская Ю. С. Звук в рекламе: Учебное пособие. М., 2007. С. 12.
(обратно)58
Крылова А. В. Звук в рекламе. С. 178. (Курсив мой. — Д.Ж.)
(обратно)59
Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995. С. 64.
(обратно)60
В ролике звучит фрагмент арии Валли «Ebben?.. Ne andro lontano» из одноименной оперы А. Каталани.
(обратно)61
Звучит фрагмент арии Виолетты «Addio, del passato» из третьего акта оперы «Травиата» Дж. Верди.
(обратно)62
Бодрийяр Ж. Общество потребления. С. 7. (Курсив мой. — Д.Ж.)
(обратно)63
Сальникова Е. В. Эстетика рекламы. М., 2002. С. 90.
(обратно)64
Там же. С. 93.
(обратно)65
Установить какое конкретное музыкальное произведение звучитв данном ролике, увы, не удалось
(обратно)66
Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.
(обратно)67
Бодрийяр Ж. Система вещей. С. 57.
(обратно)68
Там же.
(обратно)69
Там же.
(обратно)70
Недаром одним из партнеров автомобильного концерна BMW является корпорация по производству роялей Steinway & Sons.
(обратно)71
Звучит «Un bel dì vedremo» из оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй».
(обратно)72
Антропова Т., Кулыгина М. Российские рекламисты не любят музыку // Публикация доступна в интернет-журнале Adme.ru. URL: -reklamisty-ne-lyubyat-muzyku-mccann-61296/.
(обратно)73
В данной рекламе звучит фрагмент дуэта Сюзанны и Графини из третьего акта оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро».
(обратно)74
Этот список может быть дополнен примером из фильмов «Красотка» и «Черный лебедь». В первом случае героиня Джулии Робертс свои восторженные впечатления от оперного спектакля выражает фразой «Я чуть не описалась!». А в фильме Даррена Аронофски, под музыку бессмертного балета Чайковского героиня Натали Портман покрывается «лебединой» кожей и перьями, у нее прорастают «настоящие» крылья, а взмах ее рук подзвучивается как взмах крыльев птицы.
(обратно)75
Все вышеперечисленное действительно рекламируется через данное выражение.
(обратно)76
Поэтому многие люди так неравнодушны к предметам в форме нотных знаков или с изображением нот (начиная от сумок, кружек и карандашей, заканчивая бижутерией, часами и ювелирными украшениями). Эти предметы отличаются от обычных тем, что в них как бы зашифровано какое-то послание, что у них подразумевается второй, недоступный каждому смысл, помимо их прямого и всем очевидного назначения. Причем на самом деле эти надписи в музыкальном отношении зачастую не несут никакого значения — это лишь хаотичное нагромождение исковерканных символов, но в данном случае важно само изображение, а не прочтение его второго смысла.
(обратно)77
Соколов Е. Г. Аналитика масскульта. СПб., 2001. С. 85.
(обратно)78
Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 239.
(обратно)79
См.: Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. М., 2006. С. 247–249.
(обратно)80
Бодрийяр Ж. Общество потребления. С. 17.
(обратно)81
Шомова С. А. Реклама: культурный шок // Реклама и журналистика: культурная эволюция: Сборник научных трудов, посвященный памяти профессора В. В. Ученовой / Под ред. С. А. Шомовой. М., 2009. С. 136.
(обратно)82
Кармалова Е. Ю. Аудиовизуальная реклама в контексте культуры: миф, литература, кинематограф. СПб., 2008. С. 57–58.
(обратно)83
Так, в одном из интервью креативный директор съемочной группы Стивен Батлер признавался, что они пробовали наложить на видеоряд поп-музыку, но получалось очень агрессивно (Свобода напролом // Индустрия рекламы. 2005. Вып. 3).
(обратно)84
Силюнас В. Ю. Стиль жизни и стили искусства. (Испанский театр маньеризма и барокко). СПб., 2000. С. 57.
(обратно)85
Крылова А. В. Звук в рекламе. С. 174–176.
(обратно)86
Грасиан. Краманный оракул. Цит. по: Силюнас В. Ю. Придворный театр барокко. С. 315–316.
(обратно)87
Используется фрагмент «Осени» из «Времен года» А. Вивальди.
(обратно)88
Звучит «Балет снежных хлопьев» из волшебной оперы Ж. Оффенбаха «Путешествие на луну».
(обратно)89
Звучит ария Виолетты из первого действия оперы Дж. Верди «Травиата».
(обратно)90
Hanoch-Roe G. Beethoven’s «Ninth»: An ‘Ode to Choice’ as Presented in Stanley Kubrick’s «A Clockwork Orange» // International Review of the Aesthetics and Sociology of Music. Vol. 33. No. 2 (Dec., 2002). P. 175.
(обратно)91
Цит. по: Hanoch-Roe G. Beethoven’s «Ninth». P. 178.
(обратно)92
Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М., 2004. С. 120. (Курсив мой. — Д.Ж.)
(обратно)93
Об особенностях документального преподнесения исполнительского процесса мы будем говорить в четвертой главе.
(обратно)94
Конфедерат О. В. Клип как модель художественного текста. Русская секвенция в фильме «Чемоданы Тульса Люпера» (2005, режиссер П. Гринуэй) // Вестник челябинского государственного университета. Челябинск, 2007. № 22. С. 178.
(обратно)95
Блестящую характеристику клипового потока дает в своей статье Ю. Дружкин (Дружкин Ю. Песня от 1970-х до 1990-х. Что дальше? (кризис отечественной песни и его культурно-исторические корни) // Эстрада сегодня и вчера. О некоторых эстрадных жанрах XX–XXI веков: Сборник статей. М., 2010. Вып. 1. С. 8–11).
(обратно)96
Конфедерат О. В. Указ. соч. С. 178.
(обратно)97
И. Кулик: Обои цвета телевизионного снега // Искусство кино. 2001. № 2. Режим доступа: -article27.html#1.
(обратно)98
Именно поэтому в своем исследовании мы классифицируем клипы по именам их исполнителей, зачастую не указывая фамилии режиссера, фигура которого по сути «растворяется» в пространстве массовой визуальной культуры.
(обратно)99
Здесь для большей ясности принципов мы вынуждены оставить за скобками композиционные техники ХХ в., например додекафонию, где звуковой образ может состояться в доли секунды.
(обратно)100
Шароев И. Г. Музыка, которую мы видим. М., 1990. С. 137.
(обратно)101
В СССР первыми представителями классического кроссовера можно назвать Муслима Магомаева, Георгия Отса и Юрия Гуляева.
(обратно)102
What Is Classical Crossover Music? Материал с сайта eHow.com. URL: -crossover-music_.html#ixzz1Piqh1xli.
(обратно)103
Подробнее о стиле см.: Classical Crossover. URL: -project.ru/classical_crossover/, Jarvis N. What is Classical Crossover? URL: -crossover.co.uk/index.php?option=com_content& view= article&id=142&Itemid=126; Idem. What’s in a name? URL: -crossover.co.uk/whats-in-aname; Midgette A. «Classical crossover»: A label not necessarily to be feared // Washington Post. 03.10.2010; Данько Л. И. Музыкальное направление Classical Crossover в современной аудиовизуальной культуре. Дис… канд. искусствоведения. СПб., 2013.
(обратно)104
What Is Classical Crossover Music? Материал с сайта eHow.com. URL: -crossover-music_.html# ixzz1Piqh1xli.
(обратно)105
Термин происходит от английского слова «fusion» — дословно — плавка, расплавление; синтез, слияние. Первоначально фьюжном обозначалось музыкальное направление, сочетающее элементы джаза и поп-музыки. Со временем термин стал универсальным, и сегодня о стиле фьюжн говорят в архитектуре, в интерьере и даже в кулинарии.
(обратно)106
Денисов А. В. Классика в пространстве эстрады — социальные аспекты диалога академической и массовой культур. URL: -post_178.html.
(обратно)107
Профессиональное академическое образование, которое есть практически у каждого кроссоверного музыканта, с лихвой обеспечивает ему техническую базу, необходимую для исполнения классических хитов.
(обратно)108
Первый сезон данного шоу прошел на телеканале ITV1 осенью 2010 г. Общую информацию см.: /.
(обратно)109
Шоу было запущено на Первом канале осенью 2011 г. Общую информацию см.: .
(обратно)110
Шоу выходило в эфире телеканала СТС осенью 2009 г. Общую информацию см.: -tv.ru/rus/projects/tvproject/8385/. Все три телепроекта подробно будут подробно рассматриваться в параграфе «Классическая музыка в форматах коммерческого ТВ» в четвертой главе данного исследования.
(обратно)111
Показательно, что одними самых востребованных в репертуаре кроссоверных исполнителей произведений являются две знаменитые фальсификации ХХ в. — «Адажио» Альбинони, на самом деле написанное Ремо Джазотто в 1953 г., и «Аве Мария» Каччини, которую Владимир Вавилов сочинил в 1970 г.
(обратно)112
Эллиас Н. О процессе цивилизации. Социологические и психологические исследования. СПб., 2001. Т. 1. С. 288–289.
(обратно)113
Яйленко Е. В. Пастораль. Образы природы и идиллической сельской жизни в венецианской живописи и графики эпохи Возрождения. Автореф… канд. искусствоведения. М., 1999. С. 4.
(обратно)114
См., например, такие клипы, как Bond «Fuego» и «Victory», Gustavo Montesano «Moonlight Rumba Beethoven» и «Tango Adagio Albinoni», Vanessa Mae «Toccata and fugue» на музыку И. С. Баха, Игорь Бутман, Юрий Башмет «Вокализ» С. Рахманинова, Dominic Miller «Adagio» на музыку Т. Альбинони.
(обратно)115
Баткин Л. М. Зарождение новоевропейского понимания культуры в жанре ренессансной пасторали («Аркадия» Якобо Саннадзоро) // Проблемы итальянской истории. М., 1983. С. 244.
(обратно)116
Федоров Ф. П. Художественный мир немецкого романтизма: Структура и семантика. М., 2004. С. 31.
(обратно)117
Там же. С. 30.
(обратно)118
Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001. С. 26.
(обратно)119
Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1996. С. 43.
(обратно)120
См., например, такие клипы, как Rhydian «О Fortuna» на музыку К. Орфа «Кармина Бурана»; Myleene Klass «Toccatta and Fugue» на музыку И. С. Баха; Maksim Mrvica «The Flight of the Bumble-Bee» на музыку Н. А. Римского-Корсакова, а также любительский клип на его аранжировку «Сарабанды» Ф. Генделя; Джошуа Белл в рекламе парфюмерии «Монблан»; Meyra «Адажио» Т. Альбинони; Анастасия Максимова «Аве Мария» на музыку Дж. Каччини (В. Вавилова), Ассия Ахат «Увертюра» на темы И. С. Баха и А. Вивальди; Ванесса Мей «The Violin Fantasy» на темы А. Вивальди и «Devil’s trill» на музыку Сонаты Тартини; David Garrett «The 5th» на тему Пятой симфонии Л. В. Бетховена.
(обратно)121
Берковский Н. Я. Указ. соч. С. 36.
(обратно)122
Здесь также прочитывается трансформация романтического мотива двойничества.
(обратно)123
Своеобразная трансформация романтической идеи фикс. См., например, такие клипы, как Дэвид Гаррет «The 5th», Виктор Зинчук «Полонез» Огинского, Ванесса Мей «Storm».
(обратно)124
См., например, клип М. Мрвица «Хабанера».
(обратно)125
См. такие клипы, как Meyra «Адажио», Анастасия Максимова «Аве Мария».
(обратно)126
См. клипы: Виктор Зинчук «Полонез» Огинского, Meyra «Адажио», Анастасия Максимова «Аве Мария», Rhydian «О, Fortuna», Myleene Klass «Toccata».
(обратно)127
Наиболее насыщены подобной символикой следующие клипы: Ассия Ахат «Увертюра», Rhydian «О, Fortuna».
(обратно)128
Мюшембле Р. Очерки по истории дьявола: XII–XX вв. М., 2005. С. 520–521.
(обратно)129
См.: Мюшембле Р. Указ. соч.
(обратно)130
С одной стороны, романтики отождествляли инфернальные, зловещие и неотвратимые силы с устремлениями и ценностями буржуазного общества. Поздние романтики одушевляли мир вещей и предметов, но вселяемые в вещи духи намеренно оказывались сомнительными, мелкими, неопределенными и причастными к дьяволиаде (Федоров, 113). Тем самым, конфликт между духовными ценностями художника и получившими «душу» материальными ценностями перемещался в метафизическую сферу и становился все острее, глубже и непреодолимее. Вместе с этим существовала и другая тенденция, связанная с поэтизацией образа демона. Демон, заведомо отвергаемый обществом, в глазах романтиков приобретал ореол страдающего героя, обреченного на непонимание и вечное одиночество, что сближало его с фигурой самого художника, также непризнаваемого и отовсюду гонимого.
(обратно)131
Дружкин Ю. С. Указ. соч. С. 11.
(обратно)132
Клип Анджелы Георгиу (Angela Gheorghiu) на Хабанеру из оперы Бизе «Кармен».
(обратно)133
Mojca Erdmann. «Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden!» — клип на арию Памины из оперы Моцарта «Волшебная флейта».
(обратно)134
Даже если клип воссоздает ушедшую эпоху, то, во-первых, это будет эпоха написания самой музыки, а не фактического времени действия оперы. Во-вторых, непременно будет проведена сюжетная нить между ушедшей эпохой и современностью. Например, в клипе Магдалены Кожены (Magdalena Kozena) на знаменитую арию Альмирены «Lascia ch’io pianga» из оперы Генделя «Ринальдо» параллельно разворачиваются две сюжетные линии. Первая связана с нашими днями, и в ней показаны страдания девушки, потерявшей своего возлюбленного на войне и погруженной в воспоминания о былом счастье. Эта же тема в параллельной инсценировке разворачивается уже в декорациях XVIII в. Но если обратиться к первоисточнику, к опере Генделя, то там действие происходит во времена 1-го Крестового похода, то есть в XI в.
(обратно)135
Заметим, что здесь реинкарнируется еще один символический герой романтизма — альраун — крохотное существо, по преданию обитающее в корнях дерева мандрагоры и имеющее человеческий облик. Самым известным литературным героем-альрауном является Крошка Цахес из одноименной сказки Э.Т.А. Гофмана. См.: Гофман Э. Т.А. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер.
(обратно)136
Петренко М. Спектакли «Богемы» с русскими примадоннами в сезон 2003/04 года в Сан-Франциско. Электронный ресурс, режим доступа: .
(обратно)137
Яковлев Е. Кинофильм и видеоклип: эстетическая оппозиция // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. 1998. № 4. С. 82.
(обратно)138
См., следующие клипы: Gustavo Montesano «Moonlight Rumba» (на музыку Л. В. Бетховена) и «Tango Adagio» (на музыку Т. Альбинони); Dominic Miller «Adagio» Т. Альбинони; Albrecht Mayer «Павана» Г. Форе; Andreas Scholl «The Cold song» (из оперы «Король Артур» Г. Персела); Игорь Бутман, Юрий Башмет «Вокализ» С. Рахманинова.
(обратно)139
См., например, клип Maksim Mrvica «Habanera» (парафраз на тему из оперы Ж. Бизе «Кармен»).
(обратно)140
Федоров Ф. П. Указ. соч. С. 231.
(обратно)141
Жирмунский В. М. Указ. соч. С. 91.
(обратно)142
Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. М., 2006. С. 121.
(обратно)143
Пытаясь объяснить феномен такого подхода к взаимодействию с публикой, В. Ю. Григорьев представляет концертный зал «как некий огромный трансформатор необъятного поля психической энергии. Эта излучаемая исполнителем энергия может быть сравнима с первичной обмоткой (первый виток — сам исполнитель), в которой циркулирует огромный психический ток. Публика же в данной структуре выглядит как “вторичная обмотка” (большое число витков — слушатели), где циркулирует возбужденное энергетическими импульсами артиста очень высокое напряжение, разряды которого сильнейшим образом могут воздействовать на каждого “подключенного” к этой системе. При такой трансформации психического поля сама художественная информация сохраняет свою идентичность, а степень воздействия исполнителя на зал, управление восприятием слушателей многократно возрастают» (Там же. С. 123–124).
(обратно)144
Подробнее об этом см.: Дуков Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры. М., 2003. С. 191–199.
(обратно)145
Орлов Г. Древо музыки. Вашингтон; СПб., 1992. С. 248.
(обратно)146
Например, характерно, что еще с советских времен своеобразным символом филармонии стал задник сцены, представляющий собой пышные ниспадающие драпировки с многократными складками. Между тем данная сценическая «униформа» ведет свою историю из эпохи Людовика XIV, когда она была непременным украшением королевских банкетных и бальных залов.
(обратно)147
Если и происходит нарушение данного правила, то это является оговоренным дресс-кодом. Например, желая привлечь к классической музыке молодое поколение, камерный оркестр Kremlin устроил концерт, где и публика, и музыканты должны были быть одеты в джинсы.
(обратно)148
Berger J. The Suit and the Photograph // Mukerji C., Schudson M. Rethinking popular culture. Contemporary perspectives in cultural studies. Oxford, 1991. P. 427.
(обратно)149
Орлов Г. Указ. соч. С. 393.
(обратно)150
Дуков Е. В. Современный концерт // Новые аудиовизуальные технологии. М., 2005. С. 34.
(обратно)151
Подробнее об этом типе коммуникации см.: Арановский М. Г. Специфика оперы в свете проблемы общения // Вопросы методологии и социологии искусства. Л., 1988. С. 121–137.
(обратно)152
Конечно, здесь сразу же всплывает история А. Н. Скрябина, желавшего визуализировать музыку и потратившего немалые силы на изобретение специального аппарата — световой клавиатуры. Разница заключается в том, что у Скрябина именно сами звуки должны были порождать ту или иную светоцветовую конфигурацию, а в современных проекциях определенное изображение заранее придумывается и «подгоняется» под озвучиваемую музыку.
(обратно)153
Вартанов А. С. Телевидение и художественная культура. (О форме телевизионных репродукций) // СМК в художественной культуре ХХ века. Т. I: История. М., 2001. С. 171.
(обратно)154
Подробнее об этом см.: Шилова И. Классическая опера и телевидение // Музыка и телевидение. М., 1978. Вып. 1. С. 19.
(обратно)155
См.: Малышев Ю. Телевидение и музыканты. (Субъективные заметки) // Музыка и телевидение. М.: Советский композитор, 1978. Вып. 1; Саппак В. С. Телевидение и мы: Четыре беседы. М.: Аспект Пресс, 2007. 168 с.
(обратно)156
Цит. по: Бажанов Н. Рахманинов. Сер. «Жизнь замечательных людей». М., 1962. С. 367.
(обратно)157
В. Саппак в данном случае говорит о «рентгене» характера человека, выступающего по телевидению (Саппак В. С. Указ. соч. С. 137).
(обратно)158
Chanan M. Television’s problem with (Classical) Music // Popular Music. Vol. 21. № 3. (Oct. 2002). P. 370.
(обратно)159
Петрушанская Е. О некоторых тенденциях бытования классической музыки на отечественном телеэкране конца века // Средства массовой коммуникации в художественной культуре России. Т. III: Телевидение на рубеже веков (1990–2001). М., 2002. С. 177–178.
(обратно)160
См.: Саппак В. С. Указ. соч. С. 131–133.
(обратно)161
Корыхалова Н. Инструментальная музыка на телевизионном экране // Музыка и телевидение. М., 1978. Вып. 1. С. 88.
(обратно)162
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996.
(обратно)163
В качестве еще одного примера можно привести случай с Руссо. В XVII–XVIII вв. в Венеции существовали приюты для осиротевших девочек — «оспедале», где их обучали музыке. Концерты хористок были не только долгожданным событием для горожан, но и в современной терминологии стали «туристическим брендом» Венеции. Публику привлекали как певческое мастерство воспитанниц, так и слава об их непорочности и ангельской красоте. Но то была игра воображения, пищу для которой давала решетка, скрывавшая клирос, где выступали хористки. И стоило Руссо оказаться за ограждением, вблизи исполнительниц, чтобы разочароваться до глубины души, увидев разом так много некрасивых девушек. Хотя философ нашел способ не разрушать искомой ауры красоты. «Я продолжал, — пишет он, — находить их пение восхитительным, и голоса сообщали некое призрачное очарование наружности, так что, покуда они пели, мне они по-прежнему казались красавицами — пусть наперекор очевидности». Подробнее об этом см.: Барбье П. Венеция Вивальди: музыка и праздники эпохи барокко. СПб., 2009. С. 96.
(обратно)164
Ямпольский М. Диалог и структура кинематографического пространства (О реверсивных монтажных моделях) // Ямпольский М. Язык — тело — случай: Кинематограф и поиски смысла. М., 2004. С. 54.
(обратно)165
Там же. С. 59.
(обратно)166
См.: Шилова И. Классическая опера и телевидение // Музыка и телевидение. М., 1978. Вып. 1; Жукоцкая З. Музыка и телевидение: Учебное пособие к спецкурсу «Искусство ХХ века». Нижневартовск, 1999; Авербах Е. Музыка на телевидении. М., 1984. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Искусство». № 11); Ногайбаева-Брайтмэн Е. Опера на экране: принципы воплощения. Дис… канд. искусствоведения. Магнитогорск, 1999; Хангельдиева И. Музыка: театр, кино, телевидение. М., 1991.
(обратно)167
Ролдугина И. Опера добралась до кинотеатров. URL: /.
(обратно)168
Заметим, что аналогичные переключения между кино- и сценическим форматами есть в фильме И. Бергмана «Волшебная флейта» (1975), где оперное действие перемежается с показом закулисной жизни. Но там это игра, особый вид художественной условности.
(обратно)169
Не случайно существует множество музыкантских анекдотов, сюжет которых основывается на путанице названий произведений и имен их авторов.
(обратно)170
Weber W. Mass Culture and the Reshaping of European Musical Taste, 1770–1870 // International Review of the Aesthetics and Sociology of Music. Vol. 8. № 1 (Ton., 1977). Р. 5–22.
(обратно)171
Так, в период с 1815 по 1860-е гг. в репертуаре европейских концертных обществ количество произведений композиторов-современников сократилось с 77 до 11 % (Weber W. Op. cit. Р. 18–20). Данный факт Уэбер объясняет закономерностями в развитии издательской индустрии, а также сменой приоритетов публики с развлечения музыкой на обучение с помощью ее.
(обратно)172
Стодушный Е. Симфония — развлечение новых избранных // Развлечение и искусство: Сборник статей / Под ред. Е. В. Дукова. СПб., 2008. С. 541–542.
(обратно)173
Гаевский В., Гершензон П. Элита. Финал. URL: /.
(обратно)174
Подробнее об этом см.: Стодушный Е. Указ. соч. С. 539.
(обратно)175
Далее по порядку перечисляются концертные номера — итальянские арии, а также клавирный концерт Баха и валторновый концерт Пунта, исполняемые неким г. Сартори.
(обратно)176
Объявление в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (22 октября. № 85). Цит. по: Иванов А. А. История Петербурга в старых объявлениях. М., 2008. С. 257. (Курсив мой. — Д.Ж.)
(обратно)177
Фрадкина Э. А. Зал дворянского собрания. Заметки о концертной жизни Санкт-Петербурга. СПб., 1994. С. 149.
(обратно)178
Там же. С. 149.
(обратно)179
Нуркова В. В. Зеркало с памятью. Феномен фотографии: культурно-исторический анализ. М., 2006. С. 126–128.
(обратно)180
Нуркова В. В. Указ. соч. С. 86.
(обратно)181
Нуркова В. В. Указ. соч. С. 55.
(обратно)182
См., например, буклет Международного дома музыки за 2009 г.
(обратно)183
Кириллина Л. В. Образ великого музыканта в изобразительном искусстве XVIII века // Классическое искусство от Древности до XX века. М., 2007. С. 169–173.
(обратно)184
Там же. С. 185–186.
(обратно)185
Сальникова Е. В. Эстетика рекламы. Культурные корни и лейтмотивы. М., 2001. С. 52.
(обратно)186
Черноба Р. Теодор Курентзис. Ангел ностальгии // Desillusionist. 2005. № 1. С. 54–70.
(обратно)187
Артюр Рембо — один из самых загадочных поэтов в истории культуры, бунтарь и ниспровергатель традиций, за право назвать его своим основоположником своих направлений спорят символисты и сюрреалисты. А Антонен Арто был основателем так называемого театра жестокости — одной из самых радикальных концепций театра ХХ в.
(обратно)188
См. в качестве примера фотографии А. Ботвинова (), А. Комарова (), Е. Мечетиной (), Ю. Игониной (/).
(обратно)189
См. в качестве примера фотографии П. Осетинской (? Part=13), А. Ибрагимовой (/), А. Маркова (/).
(обратно)190
Осетинская П. Прощай, грусть. СПб., 2008. С. 210.
(обратно)191
Этот же мотив в клипах на классическую музыку воплощается в инфернальных образах, которые подробно рассматривались в предыдущей главе.
(обратно)192
Подробнее об этом см.: Быховская И. М. «Человек телесный» в социокультурном пространстве и времени. Очерки социальной и культурной антропологии. М., 1997.
(обратно)193
Цвейг С. Двадцать четыре часа из жизни женщины. Новеллы. М., 2001. С. 180–268.
(обратно)194
Цвейг С. Указ. соч. С. 205.
(обратно)195
Нуркова В. В. Указ. соч. С. 134.
(обратно)196
Примеры фотографий: Максима Русанова (), Дениса Шаповалова (), Патрисии Копатчинской ().
(обратно)197
Величкина О. Музыкальный инструмент и человеческое тело (на материале русского фольклора) // Тело в русской культуре: Сборник статей / Сост. Г. Кабакова и Ф. Конт. М., 2005. С. 163.
(обратно)198
Величкина О. Указ. соч. С. 162.
(обратно)199
Величкина О. Указ. соч. С. 165.
(обратно)200
Lieblich (нем.) — миловидный, хорошенький, прелестный; gemuthlich (нем.) — приветливый, добродушный.
(обратно)201
Из статьи в форме письма Н. Греча к Ф. Булгарину. Цит. по: Столпянский П. Н. Музыка и музицирование в старом Петербурге. Л., 1989. С. 61.
(обратно)202
Нуркова В. В. Указ. соч. С. 121.
(обратно)203
Например, вставные вокальные номера в исполнении звезд сцены были традицией и одновременно рекламой любого публичного события в XIX в. Подробнее об этом см.: Фрадкина Э. Указ. соч. С. 53–62.
(обратно)204
Не случайно, что различного рода шоу-проекты обращаются сегодня именно к оперному жанру.
(обратно)205
Лебрехт Н. Маэстро миф. Великие дирижеры в схватке за власть. М., 2007. С. 7.
(обратно)206
Мусин И. А. Язык дирижерского жеста. М.: Музыка, 2007. 232 с. С. 182.
(обратно)207
Мусин И. А. Указ. соч. С. 183.
(обратно)208
Там же. С. 184.
(обратно)209
Фрадкина Э. А. Указ. соч. С. 90–91.
(обратно)210
Эта статистика часто упоминается в портфолио дирижеров и невольно отсылает к пункту в резюме менеджеров, обязательно указывающих количество подчиненных, находившихся под их прямым руководством.
(обратно)211
В качестве примера см. фотогалерею на сайте дирижера: -gergiev.ru/.
(обратно)212
Петрушанская Е. М. Разрешающая способность телеизображения // Наука телевидения. М., 2005. Вып. 2. С. 31.
(обратно)213
Программа «Ночной эфир Александра Гордона. Музыкальные смыслы», эфир от 14.02.2002 с Татьяной Чередниченко и Владимиром Мартыновым (НТВ).
(обратно)214
См.: Программа «Смак», эфир от 24.10.2009.
(обратно)215
Сальникова Е. В. Мир внешний — мир внутренний // Наука телевидения. М., 2005. Вып. 2. С. 51.
(обратно)216
Программа латвийского канала ТВ-5. Эфир от 11.03.2011.
(обратно)217
На сегодняшний день интерьер студии в программе «Школа злословия» был обновлен, в связи с этим была заменена и модель стола.
(обратно)218
См. статью Сальниковой Е. В. Утром деньги, вечером стулья // Портал «Частный корреспондент», дата публикации 20.06.2009. .
(обратно)219
Так, в телевизионном сезоне 2010–2011 гг. выпуски программы были посвящены Новому году, 8 Марта, 1 и 9 Мая, Дню России.
(обратно)220
См. программы: «Апокриф. Музыкальный приговор» (телеканал «Культура», эфир от 15.04.2008), «Личные вещи» (Пятый канал, эфир от 29.12.2010).
(обратно)221
По сюжету проекта 15 певцов из России, имеющих профессиональную вокально-академическую подготовку, отправляются в Калифорнию для работы с музыкальными продюсерами Голливуда. Согласно условиям игры, участники живут все вместе в отдельном доме, каждые три дня разучивая и исполняя новую песню. По итогам этих выступлений жюри всякий раз принимает решение о выбывании одного из участников. Так как конечным продуктом проекта предполагается создание квартета, то певцы выступают не сольно, а в ансамблях, состав которых зависит от предварительных мини-состязаний, обычно спортивного характера.
(обратно)222
Из знаменитых и успешных аналогов, помимо Трио теноров, можно назвать интернациональный квартет поп-исполнителей с консерваторским образованием Ill Divo и австралийский ансамбль The Ten Tenors.
(обратно)223
Среди прочего звучали хиты зарубежной эстрады 70-х гг., рок и латино, а также рэп и русский фольклор в современной обработке.
(обратно)224
Телеканал ITV1, осень 2010 г. (/).
(обратно)225
Шоу выходило на Первом телеканале в сезоне 2011 г. ().
(обратно)226
Rosenstone R. A. The Historical Film: Looking at the Past in a Postliterate Age // The Historical Film: History and Memory in Media. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2001. P. 62.
(обратно)227
Ibid. P. 61.
(обратно)228
Ibid.
(обратно)229
Макки Р. История на миллион долларов: мастер-класс для сценаристов, писателей и не только. М.: Альпина нон-фикшн, 2010. С. 92–93.
(обратно)230
Rosenstone R. A. Op. cit. P. 54.
(обратно)231
Макиенко М. Г. Художественное пространство и время в историческом кино. Автореферат дис… канд. философских наук. М., 2011. С. 17.
(обратно)232
Огнев К. К. Биографический фильм: судьба человека или история страны. М., 2003. С. 9.
(обратно)233
Marshall R. L. Film as Musicology: «Amadeus» // The Musical Quarterly. Vol. 81. No. 2 (Summer, 1997). P. 176.
(обратно)234
Marshall R. L. Op. cit. P. 176.
(обратно)235
Оригинальное название — «Io, Don Giovanni» (Испания, Италия, 2009 г.).
(обратно)236
Режиссер Жерар Корбье (Франция, Бельгия, Германия, 2000 г.).
(обратно)237
Режиссер Бернард Роуз (Великобритания, США, 1994 г.).
(обратно)238
Режиссер Агнешка Холланд (США, 2006 г.).
(обратно)239
Режиссер Ален Корно (Франция, 1991 г.).
(обратно)240
Режиссер Жерар Корбье (Франция, Италия, Бельгия, 1994 г.).
(обратно)241
Режиссер Ежи Антчак (Польша, 2002).
(обратно)242
McKechnie K. Taking liberties with the monarch. The royal bio-pic in the 1990s // British Historical Cinema. The history, heritage and costume film. London; N.Y.: Routledge, 2002. P. 218.
(обратно)243
См.: Барбье П. История кастратов. СПб., 2006.
(обратно)244
Имеется в виду фильм «Вивальди. Рыжий священник». Режиссер Лиана Марабини (Великобритания, Италия, 2009 г.).
(обратно)245
За последние двадцать лет биография Шопена экранизировалась три раза. Это фильмы «Экспромт», режиссер Джеймс Лэпайн (1991, Франция — Великобритания); «Прощальное послание», режиссер Анджей Жулавски (Франция — Германия, 1991) и уже упоминавшийся фильм Ежи Антчака «Шопен. Желание любви» (Польша, 2002).
(обратно)246
Режиссер Рене Фере (Франция, 2010 г.).
(обратно)247
Режиссер Брюс Бересфорд (Германия, Великобритания, Австрия, 2001 г.).
(обратно)248
Режиссер Хельма Зандерс-Брамс (Германия, Франция, Венгрия, 2008 г.).
(обратно)249
Rosenstone R. A. Op. cit. P. 55.
(обратно)250
Из-за глухоты Бетховен вынужден был общаться с окружавшими его людьми, записывая все в специальные тетради, получившие у исследователей название разговорные.
(обратно)251
Кириллина Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество. М., 2008. Т. 2. С. 323–324.
(обратно)252
В. Зоркий. Жизнь замечательных людей // Кинопарк. 2008. № 4. С. 48.
(обратно)253
Harris Е. Т. Twentieth-Century Farinelli // The Musical Quarterly. Vol. 81. No. 2 (Summer, 1997). P. 186.
(обратно)254
Harris Е. Т. Op. cit. P. 180.
(обратно)255
Ibid, p. 182–183.
(обратно)256
Ibid, p. 186.
(обратно)257
См. фильмы: «Эпоха невинности» (реж. Мартин Скорсезе, США, 1993 г.), «Дом радости» (реж. Теренс Дэвис, Великобритания — Франция — Германия — США, 2000 г.).
(обратно)258
См., например, фильмы: «Роковая леди» (Fatal Lady, реж. Эдвард Людвиг, 1936); «Найти свидетеля» (Find the witness, реж. Дэвид Селман, США, 1937); «Только для тебя» (Solo per te, реж. Кармине Голлоне, Италия — Германия, 1938); «Кульминация» (The Climax, реж. Джордж Вагнер, США, 1944); «Ужас в опере» (Terror at the Opera, реж. Дарио Ардженто, Италия, 1987); «Маска призрака» (The Clown at Midnight, реж. Жан Пеллерин, Канада, 1999).
(обратно)259
Fahy T. Killer Culture: Classical Music and the Art of Killing in Silence of the Lambs and Se7en // The Journal of Popular Culture. 2003. Vol. 37. No. 1. P. 34.
(обратно)260
В истории кино фигурирует семь экранизаций романа Гастона Леру. Из наиболее известных можно назвать фильмы Руперта Джулиана с Лоном Чейни в главной роли (1925), Теренса Фишера (1962), Дуайта Х. Литтла (1989); телефильм британского режиссера Тони Ричардсона с Чарльзом Дэном и Тэри Поло в главных ролях (1990); итальяно-венгерский фильм режиссера Дарио Ардженто, с Джулианом Сэндзом и Азией Ардженто (1998) и нашумевшую экранизацию мюзикла Ллойда Уэббера, осуществленную в 2004 г. Джоелем Шумахером с Джерардом Батлером и Эмми Россум в главных ролях.
(обратно)261
См.: Hogle Jerrold E. The Undergrounds of the Phantom of the Opera: Sublimation and the Gothic in Leroux’s Novel and It’s Progeny. N.Y.: Palgrave, 2002.
(обратно)262
Джиалло (от итальянского giallo — желтый) — поджанр итальянских фильмов ужасов, сочетающий элементы криминального триллера и эротики.
(обратно)263
Комм Д. Формулы страха. Введение в историю и теорию фильма ужасов. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. С. 147.
(обратно)264
Жуланова Н. И. Флейта Пана в деревенском быту коми-пермяков // Традиционная культура. 2002. № 3. С. 43–54; Величкина О. Музыкальный инструмент и человеческое тело (на материале русского фольклора) // Тело в русской культуре: Сборник статей / Сост. Г. Кабакова и Ф. Конт. М.: НЛО, 2005. С. 161–176; Мамчева Н. А. Сакральное значение музыкальных инструментов нивхов // Известия Российского государственного университета имени А. И. Герцена. 2008. № 86. С. 132–135; Заруцкая И. Д. Музыкальные инструменты в мифологических представлениях восточных славян. Дис… канд. искусствоведения. М., 1998.
(обратно)265
Цивьян Т. В. Музыкальные инструменты как источник мифологических реконструкций // Образ-смысл в античной культуре. М., 1990. С. 182–195; Трубочкин Д. В. Музыкальные инструменты и музыканты в древнеримской комедии // Музыка и время. 2006. № 7.
(обратно)266
Коляда Е. И. Музыкальные инструменты в Библии. М., 2003; Майкапар А. Музыкальный мир библейского человека. URL: .
(обратно)267
Камышева О. С. Метафорические обозначения музыкальных инструментов в русской художественной литературе // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 2008. № 1 (74). С. 206–210.
(обратно)268
Майкапар А. Музыкальные сюжеты античности в трактовке художников Итальянского Возрождения. URL: ; Он же. Музыкальные инструменты и нотные записи в памятниках изобразительного искусства венецианской школы Возрождения. URL: .
(обратно)269
Гервер Л. Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов (первое десятилетие ХХ века). М., 2001; Петрушанская Е. М. Музыкальный мир Иосифа Бродского. СПб., 2007.
(обратно)270
Петрушанская Е. М. Инструментальная музыка на телевизионном экране. Эстетические проблемы адаптации. Дис… канд. искусствоведения. М., 1987.
(обратно)271
Земцовский И. Музыкальный инструмент и музыкальное мышление // Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка: В 2 ч. Л., 1987. Ч. 1. С. 127.
(обратно)272
См.: Майкапар А. Символика музыкальных инструментов. URL: .
(обратно)273
В одном из эпизодов этой сюрреалистической короткометражки герой-священник тащит за собой рояль, к которому привязаны туши двух ослов. Далее в тексте мы будем упоминать этот фильм.
(обратно)274
Один из главных героев этого фильма — капитан де Боэльдье, — замыслив побег из немецкой крепости-тюрьмы, использует одновременную игру всех заключенных на блок-флейтах как отвлекающий маневр для побега. Де Боэльдье до последнего продолжает играть на этом несоразмерном его положению и рангу «детском» инструменте, погибая сам, но спасая своих друзей. Драматургический конфликт этого эпизода строится на изначальной несопоставимости игрушечного инструмента и трагичности разворачивающихся событий.
(обратно)275
Один из важных персонажей фильма — чернокожий пианист Сэм, и именно в его инструменте главный герой Рик Блэйн прячет ценные бумаги, необходимые для выезда из оккупированной немцами французской колонии.
(обратно)276
Именно благодаря своим музыкальным инструментам Джо и Джерри удается укрыться от преследования чикагской мафии, отправившись в турне в составе женского музыкального коллектива. Контрабас и саксофон также участвуют во множестве комических эпизодов, обеспечивая картине изрядную долю зрительского успеха.
(обратно)277
В этом фильме Пазолини использует свирель как неотъемлемый атрибут человека-пророка, незрячего изгоя, обладающего даром прорицания. Сначала таковым героем является Тиресий, а потом его участь переходит к самому Эдипу.
(обратно)278
Один из главных героев фильма — Мартин — домогается своей племянницы, спрятавшись с ней под роялем. Также в фильме есть несколько эпизодов, где другой герой — Гюнтер — увлеченно играет на виолончели. Впоследствии Гюнтер пытается пойти против семейных традиций и стать не промышленным магнатом, а профессиональным музыкантом. И именно Гюнтер, по сути, оказывается единственным честным и порядочным представителем молодого поколения разлагающегося изнутри клана фон Эссенбеков.
(обратно)279
Главного героя фильма — скрипача Франсуа Перрена — международные спецслужбы втягивают в шпионские интриги. Львиная доля комических ситуаций в фильме построена как раз на несуразности поведения рассеянного музыканта, которую спецслужбы принимают за высший пилотаж работы шпиона-профи.
(обратно)280
Главный герой фильма — специалист по прослушиванию Гарри Кол — страдает манией преследования, усугубляющейся в связи с разворачивающимися в фильме событиями. Несколько раз обжегшись на доверии людям, Кол выбирает своим единственным поверенным саксофон, на котором он играет в минуты глубокого отчаяния и безысходности.
(обратно)281
Хотя в истории известен пример японской флейты сякухати, совмещавшей в себе функции оружия и музыкального инструмента. Игравшие на сякухати музыканты — комусо — представляли собой особый класс людей, обряды и правила которых во многом перекликались с культурой самураев. Например, характерный для самураев культ меча и связанные с ним законы были перенесены комусо на флейту. В случае нападения на странствующего комусо он мог использовать свою флейту вместо меча, что со временем повлияло на конструкцию инструмента, превратив флейту в увесистую дубинку. Подробнее см.: Друзь В. А. К вопросу о происхождении иконографии монаха с флейтой в японском искусстве. URL: .
(обратно)282
Схожая репутация за роялем закрепляется также в фильме «Английский пациент» (реж. Энтони Мингелла, 1996). В одном из эпизодов фильма военный предупреждает героиню, взявшуюся обживать дом после фашистской оккупации, что играть на рояле категорически запрещено, так как это самое популярное место для закладывания взрывных устройств.
(обратно)283
Цивьян Т. В. Музыкальные инструменты как источник мифологических реконструкций // Образ-смысл в античной культуре. М., 1990. С. 189.
(обратно)284
Следует уточнить, что оригинальное название фильма «The Piano» обусловило не совсем корректный его перевод как «Пианино», тогда как в английском языке словом «piano» называется, в том числе, и рояль, который фигурирует в данном фильме.
(обратно)285
Так, благодаря игре на рояле главная героиня другой уже упоминавшейся ленты «Вероника решает умереть» не только вновь находит себя и возвращается к жизни после попытки самоубийства, но и притягивает внимание замкнутого юноши, несколько лет уже ни с кем не разговаривавшего. В фильме «Солист» (реж. Дж. Райт, 2009) опытный журналист Стив Лопес смог разглядеть в уличном бродяге Натаниеле, пиликающем на скрипке о двух струнах, талантливейшего музыканта. И Натаниель становится его другом, заставляя Стива кардинально пересмотреть свою собственную жизнь.
(обратно)286
Гервер Л. Л. Указ. соч. С. 73.
(обратно)287
Кудрявцев С. Эстетская историческая мелодрама. URL: . Дата обращения 20.05.2012.
(обратно)288
Приведем еще пару фильмов: упоминавшуюся картину «Вероника решает умереть» и ленту «Ассистентка» (реж. Д. Деркур, 2006). В детстве главные героини обеих лент хотели стать профессиональными пианистками, но обстоятельства оказались сильнее их, а реальная действительность — намного сложнее и в то же время прозаичнее. Спустя годы в их жизни вновь возникает рояль, который становится для них призраком прошлого, болезненным напоминанием о детской мечте. Теперь каждая героиня мучительно борется с собой, решаясь вновь сесть за инструмент, испытывая по отношению к нему смешанные чувства страха, привязанности, ненависти и тоски. Заброшенный некогда рояль становится символом неосуществившихся надежд, безмолвным напоминанием о желаниях, которым уже никогда не суждено сбыться.
(обратно)289
Гервер Л. Л. Указ. соч. С. 80.
(обратно)290
Долгов К. К., Долгов К. М. Ф. Феллини, И. Бергман: фильмы. Философия творчества. М.: Искусство, 1995. С. 81.
(обратно)291
Подобная интерпретация этих инструментов имеет традицию в истории культуры, например в поэзии Мандельштама и Хлебникова. Подробнее см.: Гервер Л. Л. Указ. соч. С. 69–70.
(обратно)292
Не случайно в одном из эпизодов Денни изымает и пытается уничтожить грамзапись своего исполнения — для него она слишком блеклая копия тех чувств, что он вкладывает в свою музыку.
(обратно)293
Весь мир насилья мы разрушим. Дискуссия на страницах журнала «Искусство кино» (2003. № 7). URL: -article2.
(обратно)294
Весь мир насилья мы разрушим.
(обратно)295
Там же.
(обратно)296
Десятерик Д. Пианист и пустота // Искусство кино. 2002. № 10. URL: -article4.
(обратно)297
См. вышеупомянутую рецензию Дмитрия Десятерика, а также рецензию Вадима Рутковского в «Независимой газете» (Рутковский В. Решение еврейского вопроса. В фильме Романа Поланского «Пианист» // Независимая газета. 27.06.2002. URL: –06–27/8_ polansky.html).
(обратно)298
Елисеева М. Список Шпильмана // Музыкальная жизнь. 2003. № 11. С. 37. (Курсив мой. — Д.Ж.)
(обратно)299
Режиссер — Фрэнк Дарабонт, США, 1994.
(обратно)300
Фильм является ремейком небезызвестной картины Джеймса Тобэка «Пальцы» (1978).
(обратно)301
Фильмы: «Искры из глаз» (1987, реж. Джон Глен) и «Квант милосердия» (2008, реж. Марк Форстер).
(обратно)302
Фильм «Игра теней» (2011, реж. Гай Ричи).
(обратно)303
Нашумевшая экранизация мюзикла Ллойда Уэббера, осуществленная в 2004 г. Джоелем Шумахером.
(обратно)304
Рычков К. Классическая музыка в голливудском кино // Научный вестник Московской консерватории. 2012. № 1. С. 161.
(обратно)305
В данном случае мы будем иметь в виду две самые популярные экранизации романов Томаса Харриса — «Молчание ягнят» (1991, реж. Джонатан Демме) и «Ганнибал» (2001, реж. Ридли Скотт).
(обратно)306
Нэрмор Дж. Кубрик. М.: Rosebud Publishing, 2012. С. 230.
(обратно)307
Во время жестокого нападения на дом мистера и миссис Александр Алекс напевает беззаботный мотив «Я пою под дождем» из одноименного фильма с Джином Келли. В подобном контексте незатейливая популярная мелодия, как замечает Дж. Нэрмор, не только сообщает сцене стилизованный ужас, но и является издевкой над массовой культурой, недобрым стебом над добрым голливудским кино (Нэрмор Дж. Указ. соч. С. 233).
(обратно)308
В следующем фильме — «Ганнибал» — доктор Лектер использует ренессансные гравюры в качестве своеобразной «инструкции» для казни преследующего его полицейского. Дело происходит во Флоренции, и Лектер инсценирует убийство по всем канонам пыток, бытовавших в Италии XV в.
(обратно)309
Phillips. Stanly Kubrick Interviews. Цит. по: Нэрмор Дж. Указ. соч. С. 226.
(обратно)310
Fahy T. Killer Culture: Classical Music and the Art of Killing in Silence of the Lambs and Se7en // The Journal of Popular Culture. 2003. Vol. 37. No. 1. P. 30.
(обратно)311
Например, события мая 1968 г. во Франции, «аукнувшиеся» по всей Европе, и расцвет культуры хиппи в США.
(обратно)312
Так, Т. Фейхи находит между действиями Лектера и выбираемой им музыкой Гольдберг-вариаций Баха сразу несколько уровней взаимодействия. Во-первых, высокоструктурированная форма пьесы выступает параллелью холодной, педантичной натуре Ганнибала Лектера. Как и структура этого произведения, все действия и поведение Лектера крайне продуманны. Во-вторых, наподобие постоянно повторяющейся природе вариаций, которые говорят о бесконечности цикла, фильм представляет насилие как непрерывный цикл в современном обществе (Fahy T. Op. cit. P. 32–33).
(обратно)313
Holden S. The Piano Teacher: Kinky and Cruel Goings-On in the Conservatory // The New York Times. 2013. Sunday. June 16; Ma J. Discordant Desires, Violent Refrains: «La Pianiste» // Grey Room. No. 28 (Summer, 2007). Р. 6–29; Sharrett Ch. The Piano Teacher // Cinéaste. Vol. 27. No. 4 (FALL 2002). Р. 37–40; Wood R. «Do I disgust you?» or, tirez pas sur La Pianiste // CineAction. № 59 (2002). Отечественные критики высказались на страницах журнала «Искусство кино»: Абдуллаева З. Зимний путь // Искусство кино. 2001. № 9. URL: -article5.html#1; Аронсон О. Санитары любви // Искусство кино. 2001. № 10. URL: -article8.html#1.
(обратно)314
Березовчук Л. «Пианистка»: приговор романтизму. Человек — общество — культура в авторском кинематографе Михаэля Ханеке // Киноведческие записки. 2006. № 79. С. 267–322. Статья частично доступна на сайте журнала. URL: /.
(обратно)315
Единственное совмещение подобного рода происходит, когда исполняемое с участием Эрики шубертовское трио продолжает звучать в последующем эпизоде в кабинке секс-шопа, становясь как бы саундтреком порнофильма, который смотрит героиня (см.: Sharrett Ch. The Piano Teacher // Cinéaste. Vol. 27. No. 4 (FALL 2002). Р. 39). А потом звуковую эстафету этого эпизода подхватывает фрагмент из шубертовского же «Зимнего пути», который репетирует в следующей сцене ученица Эрики. В данном случае музыка одновременно и сцепляет в сознании зрителя эти эпизоды, и обнаруживает их предельную контрастность, окончательно развенчивая показную невозмутимость и чопорность Эрики.
(обратно)316
Л. Березовчук убедительно разбирает этот вопрос, показывая, что программа поведения, которой неосознанно следует Эрика, заложена как в музыке романтизма (стремление к «инаковости» и вызов обществу), так и в личности самого Шуберта — любимого композитора пианистки. Как и Шуберт, Эрика реализует высшую потребность в самоактуализации, в ущерб неудовлетворенности потребностей самого нижнего, инстинктоидного уровня (Березовчук Л. Указ. соч. С. 315–317).
(обратно)317
Так же. С. 274.
(обратно)318
Этот драматический конфликт между героями подробно рассмотрен в вышеупомянутой статье Ларисы Березовчук.
(обратно)319
Березовчук Л. Указ. соч. С. 279.
(обратно)320
Там же. С. 288. (Курсив автора. — Д.Ж.)
(обратно)321
Костина А. В. Проблемы массового и элитарного искусства. М., 2005. С. 67.
(обратно)322
Захаров А. В. Возможен ли симбиоз традиционной и массовой культуры? // Массовая культура на рубеже веков: Сборник статей. М.; СПб., 2005. С. 12. (Курсив мой. — Д.Ж.)
(обратно)323
Захаров А. В. Указ. соч. С. 17.
(обратно)



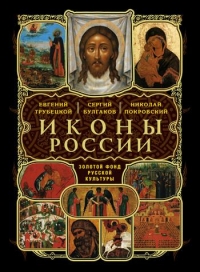
Комментарии к книге «Искушение прекрасным», Дарья Журкова
Всего 0 комментариев