Борис Соколов Москва мистическая, Москва загадочная
© Соколов Б.В., 2016
© ООО «ТД Алгоритм», 2016
Московские тайны. Иван Грозный. Яков Брюс. Михаил Булгаков
Москва – один из самых таинственных городов на свете. С ее историческими зданиями и проживавшими в них замечательными людьми связано большое количество легенд и преданий. В основе их, как правило, лежат конкретные исторические факты, но народная фантазия в своем полете, как правило, уходит от них очень далеко. В нашей книге речь пойдет только о трех тайнах, связанных с Москвой, но, наверное, тайнах самых знаменитых. В первом очерке мы расскажем о легендарной Либерее Ивана Грозного – уникальной библиотеке византийских императоров, будто бы доставшейся в наследство московским великим князьям, но позднее бесследно исчезнувшей в кремлевских подземельях. Во втором очерке мы остановимся на биографии одного из самых ярких сподвижников императора Петра Великого – шотландце Якове (Джеймсе) Брюсе, с которым связано наибольшее количество московских легенд. Этот человек еще при жизни, а главным образом – после смерти, приобрел репутацию колдуна и чернокнижника. И наконец, в третьем очерке мы попробуем разгадать некоторые загадки, связанные с творчеством, вероятно, самого московского из всех великих русских писателей – Михаила Афанасьевича Булгакова. Они связаны с двумя его самыми известными и до сих пор, через сорок лет после публикации, остающимися культовыми московскими произведениями – «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита» – и имеют отношение к некоторым вполне конкретным зданиям и прототипам, а также проискам нечистой силы. Что интересно, все три очерка оказываются связаны с книгами – с уникальной библиотекой византийских императоров, с богатейшей для своего времени научной библиотекой Якова Брюса и, наконец, с самыми знаменитыми книгами Михаила Булгакова. Итак, вперед, читатель!
В поисках ускользающего сокровища. Либерея Ивана Грозного
Уникальную библиотеку царя Ивана Грозного, знаменитую Либерею, ищут уже более 400 лет. Версий насчет ее судьбы не счесть. По одним, она сгорела в одном из бесчисленных московских пожаров, по другим – была оставлена царем в Александровой слободе, где будто бы сгорела в пожаре, вызванном небывалой грозой на Рождество 1582 года, по третьим – до сих пор хранится в одном из кремлевских подземелий и дожидается своего часа.
Согласно легенде, Либерея насчитывает более 800 древних фолиантов, многие из которых сохранились в мире в единственном экземпляре и способны буквально перевернуть наши представления о мировой истории и культуре эпохи античности и раннего Средневековья. Некоторые шутники сегодня оценивают пропавшую Либерею в 7—10 млрд. долларов. Впрочем, суммы оценки сокровищ, которых никто и никогда не видел, могут быть любыми – насколько хватит фантазии. Ясно только одно: если бы библиотека царя Ивана Грозного действительно существовала в том составе, который ей приписывают предания и легенды, то в случае находки это было бы поистине бесценным сокровищем. Так что всякий, ее нашедший, сразу должен был бы пополнить список самых богатых россиян по версии журнала «Форбс». Для этого даже законной четверти от стоимости клада хватит.
История поисков знаменитой библиотеки, полная невероятных приключений и загадок, давно уже заслонила собой те сокровища книжной премудрости, которые, как думали кладоискатели, должны там храниться. А в государевой библиотеке будто бы хранятся давным-давно утраченные или до сих пор не известные миру произведения Тацита, Вергилия, Юлия Цезаря, Тита Ливия, Аристофана, Цицерона, Гелиотропа, Заморета, Эфана, Бафнаса… Так и хочется дописать: Брокгауза и Эфрона. В общем, настоящая энциклопедия древних знаний. При этом встречаются книги не только церковные, но и вполне светского содержания. Более подробно о списке книг, составляющих Либерею, мы скажем далее.
Древние книги. Рукописные книги в «допечатные» времена были очень редки и дороги, а их переплеты и обложки инкрустировались драгоценными камнями и золотом и ценились порой больше, чем содержавшиеся в них тексты
Царь Иван Васильевич Грозный. Худ. Васнецов В.М., 1897
Александрова слобода. Загородный дворец великого князя Василия II, где, по одной из версий, была оставлена знаменитая Либерея Ивана Грозного
На руку тем, кто искренне верит в существование неведомой миру библиотеки Ивана Грозного, играет тот факт, что подземелья Москвы и особенно Кремля изучены еще в очень малой степени. По мнению энтузиастов, они все еще таят в себе несметные сокровища и неисчислимые тайны. К ним относится не одна только Иоаннова Либерея. Тут и сундуки, и горшки с золотом и драгоценностями, тут и истлевшие скелеты в цепях, замурованные в склепы и стены. Либерею и другие клады силой воображения можно помещать в любое еще не раскопанное подземелье, а если его раскопают и ничего не найдут, то – в следующее, и так до бесконечности. Нераскопанных подземелий в Москве хватит еще не на один век раскопок, особенно учитывая те темпы, с которыми они велись, начиная с конца XIX века.
Тацит Публий (или Гай) Корнеелий Тацит (середина 50-х – ок. 120 н. э.) – древнеримский историк, один из самых известных писателей античности, автор знаменитых исторических трудов – «История» и «Анналы». В представлении художника начала ХХ века
Гай Юлий Цезарь (100 – 44 до н. э.) – древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель. Бюст Цезаря из Национального археологического музея в Неаполе; создан приблизительно в правление Траяна (начало II века н. э.)
Тит Ливий (59 до н. э. – 17 н. э.) – один из самых известных римских историков
Марк Туллий Цицерон 106– 43 до н. э.) – древнеримский политический деятель, оратор и философ, оставивший обширное литературное наследие, существенная часть которого сохранилась до наших дней
Публий Вергилий Марон (70–19 до н. э.) – один из величайших поэтов Древнего Рима, прозваный «мантуанским лебедем». Бюст Вергилия у входа в его склеп в Неаполе
Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке. Худ. Васнецов А. М., 1902
Схема исторических подземных ходов Кремля
Что же это за Либерея такая? Чтобы узнать ее историю, нам придется углубиться в XV век.
Великий князь Московский Иван III Васильевич овдовел и женился на византийской царевне Софье Палеолог. За бедной невестой якобы дали в приданое уникальную библиотеку из дворца последнего византийского императора (басилевса) Константина XI. (Софья была его племянницей). Константин, как известно, погиб во время взятия Константинополя турками. И если мы проследим дальнейший ход событий, то легко убедимся, что Либерея Ивана Грозного не более чем миф, веками будоражащий воображение дилетантов, а некоторыми профессиональными историками довольно успешно использовавшийся в собственных целях. Подтвердить этот тезис можно весьма убедительными фактами.
Софья Палеолог (ок. 1455–1503) – великая княгиня московская, вторая жена Ивана III, мать Василия III, бабушка Ивана IV Грозного. Реконструкция по черепу, С. А. Никитин, 1994 г.
Иван III Васильевич. Гравюра из «Космографии» А. Теве, 1575 год
Хорошо известно, что Константинополь турки взяли после кровопролитного штурма в мае 1453 года. Софье Палеолог тогда было 12–13 лет. А в Москву она приехала только в 1472 году. Где же она почти 20 лет хранила Либерею? Тем более что в момент падения Константинополя она вообще не находилась в городе. В Италию Софью привез отец Фома Палеолог, деспот Мореи и младший брат императора.
Фома Палеолог (1409–1465) – византийский деспот Мореи (1428–1460); после гибели во время осады Константинополя старшего брата, императора Константина XI Палеолога, стал законным наследником византийского престола; отец жены Ивана III, великой княгини московской Софии Палеолог, дед Василия III и прадед первого царя всея Руси Ивана IV Грозного. Фрагмент фрески Пинтуриккио, посвящённой прибытию папы Пия II в Анкону; Сиенский собор
Древний Константинополь
Конечно, теоретически можно предположить, что библиотеку заранее эвакуировали в Морею… Только непонятно, чем Пелопоннес был надежнее Константинополя? Ведь в случае падения столицы, судьба полуострова была бы решена, хотя он и получил отсрочку на 7 лет. Зато потом турки вообще заняли его без боя. Но Константинополь, одна из сильнейших крепостей той эпохи и духовный центр православия, имел хоть какие-то шансы устоять перед турецким натиском при том, что значительная часть защитников дралась бы с воодушевлением, защищая от мусульман православные святыни. Морейский же полуостров не имел ни мощных укреплений, ни гарнизона, ни сильного военного флота, и защитить его в принципе было невозможно. Поэтому прятать там библиотеку и другие сокровища не было никакого смысла: они все равно очень скоро попали бы в руки турок. По логике подобных рассуждений, библиотеку надо было бы еще до осады Константинополя вывести в безопасную Италию, но вряд ли бы император, надеявшийся все же отстоять Константинополь, выпустил бы из своих рук это бесценное сокровище. Тем более что казну и прочие богатства из Константинополя накануне осады никто не вывозил. Почему же он должен был сделать исключениие для Либереи? Да уж если бы и стал император все-таки эвакуировать библиотеку, он бы сразу передал или своим пусть и не очень надежным союзникам – генуэзцам и венецианцам или Папе Римскому как духовному авторитету западного мира, и совершенно не нуждался для этого в посредничестве своего брата.
Вступление Мехмеда II в Константинополь. Худ. Жан-Жозеф Бенжамен-Констан
Султан Мехмет II, также известный как Магомет Великий, Магомет Завоеватель (1432–1481)
Всего в Константинополе было три библиотеки – Императорская, Патриаршая и Публичная. Последнюю мог посетить любой горожанин. После штурма 29 мая 1453 года султан Мехмет II отдал город своим войскам на трехдневное разграбление.
Историк Дука Византийский писал: «Спустя три дня после взятия города разрешил он, чтобы каждый корабль отправился в свою область и город, – неся такой груз, что глубоко погружались в воду. Многоценная одежда; сосуды – серебряные, золотые, медные, оловянные; книги свыше числа… Все же книги, превосходящие всякое число, погрузив на повозки, рассеяли всюду на Восток и на Запад. За одну номисму десять книг продавалось: Аристотеля, Платона, богословских и всякого иного вида книг Евангелия с бесчисленными украшениями, сдирая золото и серебро, одни продали, другие бросили».
Аристотель (384–322 до н. э.) – древнегреческий философ, создавший всестороннюю систему философии, охватившую все сферы человеческого развития: социологию, философию, политику, логику, физику
Наверняка такая участь постигла и книги из Императорской библиотеки.
Платон (428 или 427 до н. э. – 348 или 347 до н. э.) – древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля
Когда в 1460 году турки заняли Морею, Фома Палеолог с семейством перебрался из Пелопоннеса на северный греческий остров Керкира (Корфу), а затем в Рим. Там коллегия кардиналов выделила ему жилье и средства на пропитание. Источники упоминают, что на своих кораблях Фома вывез в Италию мебель и посуду, но о книгах летописи хранят дружное молчание. В Италии Софью Палеолог и ее семейство взял на содержание Папа Римский Пий II, от которого, равно как и от его преемника Павла II, в конце концов устроившего ее брак с московским князем, никак не удалось бы утаить существование Либереи и который вряд ли бы дозволил увозить ее из Италии куда бы то ни было. Скрывать же существование великой библиотеки смысла не было. Наоборот, о ее чудесном спасении надо было бы возвестить всем христианам мира.
Папа Римский Пий II
Папа Римский Павел II
Умер Фома Палеолог в 1465 году. Вскоре скончалась и его жена Екатерина Заккария. Софья получила в Риме новое имя Зоя, приняв католичество, и вместе с братьями осталась на попечении святого престола.
По преданию, Фома Палеолог спас от турок великие реликвии христианства – голову апостола Андрея Первозванного и безымянный палец Иоанна Крестителя. Голова ныне хранится в Риме в соборе Святого Петра, а палец – в церкви Марии Сиенской. За это папа будто бы и платил Фоме пожизненную пенсию. Правда, современные этим событиям источники о данном факте умалчивают, и не очень понятно, каким образом реликвии попали к Фоме. Но вот что не вызывает сомнения, так это то, что и в Италии денег семейству Палеологов хронически не хватало и что Фома постоянно жаловался на безденежье. Продажа пары фолиантов из императорской библиотеки легко решила бы все его финансовые проблемы. Любые рукописные книги в те «допечатные» времена были очень редки и дороги, а их переплеты и обложки инкрустировались драгоценными камнями и золотом и ценились порой больше, чем содержавшиеся в них тексты (сегодня, конечно, ситуация была бы обратной: уникальные античные и средневековые тексты стоили бы на порядок больше самых дорогих обложек).
Собор Святого Петра в Риме, где хранится голова апостола Андрея Первозванного, спасенная от турок Фомой Палеологом
У римских пап были большие сложности с тем, чтобы пристроить Софью (Зою) замуж. Никто из приличных женихов королевской крови не горел желанием брать бесприданницу из рода императоров в бозе почившей Византийской империи.
Святой престол трижды пытался выдать Софью замуж, и все неудачно. А вот если бы ее приданым была Либерея, проблема решилась бы в одночасье. Только овдовевший в 1467 году великий князь московский Иван III после нескольких лет переговоров согласился взять бесприданницу.
Путь Софьи Палеолог на Русь был долог и проходил по маршруту Рим – Нюрнберг – Любек – Псков – Москва. Он начался 24 июня 1472 года, а закончился 12 ноября того же года. Это путешествие подробно описано в западноевропейских летописях, и никакие подводы с книгами там не фигурируют. Всего в обозе было 70 подвод. Если библиотека действительно насчитывала более 800 фолиантов, под нее пришлось бы занять едва ли не все подводы. А ведь на них помещалась утварь и многочисленная свита. Софью сопровождали римские священники и отряд папских солдат. Когда обоз прибыл в Москву, местное православное духовенство хотело устроить диспут о вере с легатом Бонумбре, присланным папой Сикстом IV, но тот отказался, сославшись как раз на отсутствие под рукой необходимых книг. Если бы обоз вез в Москву Либерею, такая отговорка выглядела бы издевательством.
Но те, кто и сегодня искренне верит в существование Либереи, готовы зачислить в ее состав едва ли не все письменные сокровища древности. Вот что пишет, например, один из энтузиастов: «Тридцать тяжелых подвод, груженных сундуками с книгами, следовали за византийской принцессой через всю Восточную Европу. В этих сундуках, как свидетельствуют современники, хранились не только рукописные сокровища времен античности, но и лучшее из того, что удалось спасти при пожаре знаменитой Александрийской библиотеки. Из дворца басилевса в Константинополе в Москву были отправлены самые редкие папирусы времен египетских фараонов, глиняные клинописные таблички месопотамских царей, пергаменты из Финикии и Иудеи, рукописи мудрецов Индии и Китая и священные тексты Заратустры». Но в XV веке никто в мире не мог прочесть ни вавилонской клинописи, ни египетских иероглифов, так что соответствующие тексты не представляли никакого интереса для византийских императоров и они никогда не стали бы хранить их в своей библиотеке. Да и индийские и китайские рукописи были бы абсолютно бесполезны в Византии из-за незнания языков, поэтому в императорской библиотеке их бы хранить не стали.
Медведчики (развлечение). Старая Москва. Худ. Васнецов А. М., 1911. Такой увидела Москву византийская принцесса Софья Палеолог
По преданию, Софья (Зоя) Палеолог, выяснив по приезде в Москву, что столица деревянная (византийская принцесса, вероятно, думала, что третий Рим от второго Рима (Константинополя) не сильно отличается и что все москвичи живут в каменных домах), и беспокоясь не столько о себе, сколько о библиотеке, тотчас выписала из Италии знаменитого художника и архитектора Аристотеля Фиораванти и велела ему перестроить белокаменный Кремль, а под ним сделать тайник для Либереи. Там и должна была храниться библиотека. А к ней из царских покоев должен был вести тайный ход, чтобы царь в любой момент мог иметь под рукой нужную книгу. Правда, ни Иван III, ни его потомки на языках, на которых были написаны книги Либереи, читать не умели, так что книги им были без надобности, а посылать туда дьяков-толмачей прямо из царских покоев как-то странно Проще было поселить таких дьяков рядом с библиотекой и требовать у них по мере необходимости нужные справки.
При Иване III Московский Кремль обрел знакомый нам облик. Худ. Васнецов А. М.
На самом деле великого князя обратиться к помощи итальянского мастера заставило одно печальное событие, никак не связанное тем не менее с московскими пожарами. В 1474 году в Московском Кремле произошла ужасная катастрофа: рухнул почти построенный новый Успенский собор. Псковские мастера, осматривавшие обрушившееся здание, сделали вывод, что во всем виноват плохой раствор. Строители собора Кривцов и Мышкин возобновлять работы отказались, и великокняжеский посол Семен Толбузин был по совету Софьи Палеолог немедленно отправлен в Италию за подходящим специалистом. Там он и нашел Фиорованти, которого только что выпустили из римской тюрьмы, куда он попал по обвинению в изготовлении и сбыте фальшивых денег. Обвинение, к счастью для Фиорованти, не подтвердилось, иначе Кремль строил бы кто-нибудь другой, потому что фальшивомонетчикам, по обычаям того времени, заливали горло расплавленным свинцом, из-за чего они отдавали Богу душу, хотя, как сетовал позднее другой герой нашей книги, Яков Брюс, делали это недостаточно быстро и слишком мучительно. В итоге итальянский зодчий, подписав контракт, выехал в 1475 году в составе русского посольства Москву. Но в Кремле он построил только Успенский собор. Правда, есть предположения, что именно Фиорованти, знаменитому мастеру фортификационных работ, был заказан генеральный план новых стен и башен Кремля, которые планировалось возвести вместо обветшавших белокаменных (которые, кстати сказать, были ничуть не более пожароопасными, чем позднейшие краснокаменные). Также Фированти приписывают устройство Пушечного двора (на месте нынешней Пушечной улицы). Но никаких прямых подтверждений, что Фиорованти действительно составил план перестройки Кремля, в том числе и разветвленных подземных галерей, нет. Помимо строительства Успенского собора, итальянский архитектор, как позднее Брюс, был начальником артиллерии русской армии, в том числе и во время похода Ивана III против Великого Новгорода.
Успенский собор
Василий III Иванович
Так что строительство нового Кремля в конце XV – начале XVI века, при ближайшем рассмотрении, оказывается никак не связанным с Либереей.
Существует предание, что сын Ивана III и Софьи Палеолог Василий III Иванович привлек для перевода имеющихся в Либерее книг монаха Максима Грека. Переводя «Толковую Псалтирь», он будто бы заодно сделал и опись других книг Либереи. Это отражено в «Сказании о преподобном Максиме Философе». На него часто ссылаются сторонники версии о существовании кремлевского тайника с библиотекой. Но вот беда, сам Максим ни в одном из своих сочинений, которых набралось на три увесистых тома, ни словом не упомянул о Либерее. А сочинение неизвестного автора «Сказание о преподобном Максиме Философе, иноке со святой горы Афон» появилось примерно через сто лет после смерти своего героя, в конце XVI – начале XVII века. Там утверждается, будто Василий III решил составить опись книг, которые его мать привезла на Русь. Но книги были на неведомых языках, и прочитать их никто не мог. Поэтому Василий попросил Константинопольского патриарха прислать «ученого человека». Прислали афонского монаха Максима Грека, которому в Москве и были предъявлены книги из византийской библиотеки. А чтобы ученый монах не разболтал этот секрет в Европе, его потом так и не отпустили из страны.
Афонский монах Максим Грек, якобы переводивший книги из знаменитой Либереи
На самом деле монах Максим, по прозвищу Грек, приехал в Москву по приглашению великого князя Василия III в 1516 году. Задача, однако, у него была вполне конкретная: перевести с греческого языка только одну книгу – «Толковую Псалтырь», и ни о какой Либерее речи не шло. Максим нашел массу разночтений оригинального текста Псалтыри с теми списками, которые ранее ходили на Руси. Московскому духовенству это не понравилось. А еще больше не понравилось, что Грек активно проповедовал идею нестяжательства – «бедной, но чистой церкви». Приезжий инок публично обвинял православных иерархов и настоятелей монастырей в стяжательстве, и его проповеди приобрели значительную популярность. И совсем уж верхом нахальства показалось православным иерархам осуждение Максимом Греком самого великого князя Василия III за то, что тот развелся с первой женой и собрался вступить в новый брак. В результате от «книжного дела» вольнодумца отлучили и заточили в монастыре, обвинив в ереси, шпионаже и неповиновении властям. Ни о каком переводе книг из Либереи речи вообще не заходило, и никто Греку никаких книг, кроме «Псалтири», не предъявлял. И из страны его не отпустили исключительно из-за крамольных речей, а совсем не для того, чтобы скрыть сам факт наличия в Москве знаменитой библиотеки византийских императоров. Скрывать наличие у них Либереи не было никакого смысла ни Ивану III, ни Софье Палеолог, ни Василию III, ни Ивану IV Грозному. Наоборот, имей в своем распоряжении эту библиотеку, русские великие князья и цари вообще должны были кричать об этом на весь мир. Ведь данный факт стал бы серьезным подспорьем для теории Москвы – Третьего Рима, официальной доктрины Московского государства в XVI веке. Она, как известно, была сформулирована в начале XVI века монахом Филофеем, который писал: «Два убо Рима падоша. А третий стоит. А четвертому не быти». При желании можно было бы нанять переводчиков с латыни и греческого в той же Италии, как нанимали там архитекторов и художников или как нанимали в Германии ремесленников и специалистов по военному делу. Скрывать от мира библиотеку, повторим, не было никаких причин. Ведь этот факт способен был только существенно повысить престиж Русского государства.
Что показательно, ни в одном документе XV века нет никаких сведений о том, что Софья Палеолог привезла в Москву библиотеку византийских императоров и что она вообще была хоть как-то связана с этой библиотекой.
Но, что характерно, греческим послам, приезжавшим в Москву незадолго до начала правления Ивана Грозного, показывали как великую реликвию одну единственную книгу, принадлежавшую Софье Палеолог. Не могли же им пускать пыль в глаза и скрывать тот факт, что в действительности этих книг у княгини было несколько сотен. Да и откуда у Софьи Палеолог могла бы взяться Либерея? Ведь, повторим, у последнего византийского императора не было никаких причин отдавать свою библиотеку ее отцу – деспоту Мореи.
Следующее упоминание Либереи относится ко времени сразу после Ливонской войны. Во время этой войны в Россию привезли пленных ливонцев и расселили по разным городам, в основном во Владимире. Их будто бы сопровождал пастор Иоганн Веттерман из Дерпта. Царь встретился с ним в Александровой (Александровской) слободе и предложил заняться переводом древних книг на русский язык. И похвалился перед ливонцем своей Либереей, о которой в Европе ходили легенды. Веттерман был потрясен редчайшими книгами, которые он увидел, и даже составил их список, но от высокой чести переводить раритеты вежливо отказался, поскольку боялся, что царь заставит его заниматься переводами до самой смерти и не отпустит на родину.
Приключения Веттермана были описаны в начале XVII века, но не им самим, а рижским бургомистром Францем Ниенштедтом в его «Ливонской Хронике» через 30 лет после возвращения пастора на родину. Здесь приведен рассказ пастора, переселившегося из завоеванного Дерпта в Москву. Пастор был человеком образованным, благочестивым, знавшим несколько языков, в том числе и греческий. «Его, как ученого человека, очень уважал Великий князь, который даже в Москве велел показать ему свою Либерею – библиотеку, которая состояла из книг на еврейском, греческом и латинском языках и которую Великий князь в древние времена получил от константинопольского Патриарха, когда московит принял христианскую веру по греческому исповеданию. Эти книги, как драгоценное сокровище, хранились замурованными в двух сводчатых подвалах».
Эту легенду опроверг еще в конце XIX века известный российский историк Сергей Белокуров. В XVI веке имена всех иностранцев, встречавшихся с царем, заносили в особые списки. Никакого пастора Веттермана там нет, как нет и никаких данных, что такой человек действительно посетил Москву. Если Иоганн Веттерман и побывал тогда на Руси, то, вероятно, все время находился во Владимире.
Как раз к началу XVII века в Европе начали распространяться слухи, что на Руси, возможно, находится библиотека византийских императоров. К тому времени Москва активно заявляла о себе как о «третьем Риме»: только что окончилась Ливонская война – первая, хотя и неудавшаяся попытка Ивана Грозного вмешаться в европейскую политику. В Европе было хорошо известно о том, что московские цари являются потомками византийской принцессы. Отсюда и вытекало чисто логическое предположение, что в Москве может находиться библиотека византийских императоров, о судьбе которой ничего не было известно со времен падения Константинополя. Многим ученым людям хотелось верить в ее чудесное спасение. Но их тут же постигло разочарование. Папский Нунций Петр Аркудий, приехавший в Россию в 1600 году для поиска греческих и латинских рукописей, могущих представлять интерес для Ватикана, попытался проверить слух о «Либерее Ивана Грозного». Однако очень скоро он пришел к выводу, что ее никогда и не существовало, «поскольку русские князья отличались своей необразованностью». В Европе с тех пор страсти по Либерее поутихли.
Тем не менее до сих пор некоторые олссийские исследователи полагают, что список Веттермана был найден в 1822 году, когда профессор римского права Дерптского университета Христиан Дабелов попросил городские архивы Эстляндии прислать ему интересные исторические рукописи и документы. Из Пернова (Пярну) ему будто бы пришел пакет, где лежали два листочка. Текст был написан на старонемецком языке почти выцветшими чернилами. И когда профессор его прочел, то понял, что имеет дело с мировой исторической сенсацией. В 1822 году в статье «О юридическом факультете в Дерпте» Дабелов опубликовал выдержку из документа, названного им «Указателем неизвестного лица». Это был список рукописей только юридического содержания, некогда находившихся, по его словам, в библиотеке русского великого князя или царя.
В каталоге говорилось о 800 книгах, но названия были указаны не у всех. В дальнейшем выяснилось, что среди книг упоминались не только юридические, но и исторические, философские и поэтические сочинения, в том числе 142 тома «Римской истории» Тита Ливия (до наших дней сохранилось 35 томов); Цицерон, «Де република» (сохранились отрывки) и восемь книг «Историариума» (это сочинение до сих пор неизвестно); 20 томов «Истории» Публия Корнелия Тацита (сохранились четыре тома и отрывки из пятого); «Светониевы истории о царях… Тацитовы истории. Вергилия Энеида и Итх…» «Итх…», как сразу понял профессор, – это «Итхифалеика», популярная среди современников Вергилия, но давно уже считавшаяся утерянной. Кроме известных гимнов Пиндара, библиотека содержала и другие его стихотворения, о которых не знал никто. Среди греческих книг были упомянуты «Полибиевы истории» (всего их было 40 томов, до нашего времени дошли пять; сколько было в библиотеке русского царя – неизвестно). В списке фигурировали: «Базилика, новелла конституционес. Каждая рукопись также в переплете», «Гефестионова географика», «Оратории и поэмы Кальвуса», «Юстинианов кодекс конституций и собрание новелл». Многие из перечисленных книг были частично или полностью утрачены, о некоторых ученые узнали лишь из списка Дабелова.
В отличие от пастора Веттермана, который то ли существовал, то ли был придуман Ниенштедтом, Дабелов был лицом вполне реальным и уважаемым в научных кругах. Вот что сообщалось о нем в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона: «Дабелов (Христофор Христиан, барон фон Dabelow, 1768–1830) – профессор в Галле и Лейпциге; с 1819 г. профессор римского и германского права в Дерпте. Его сочинения: «Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Lehre von Concurs der Gläubiger“ (1792-93); „Geschichte sämmtlicher Quellen gemeinen positiven Rechts“ (1797); „Ueber die Verjährung“ (1805—7); „Handbuch des Pandektenrechts“ (1816—18)».
Дабелов работал в библиотеках и архивах Италии и Франции, Гёттингена и Гейдельберга. Он написал: «Очерки по истории Римского государства и его права», «Историко-догматические очерки древнегерманского частного права», «Древнеримское право» и ряд других вполне академических сочинений.
Сделав копию со списка, Дабелов отправил документ обратно в Пернов. Другой немецкий профессор Вальтер Клоссиус в 1826 году приехал в Пернов, чтобы прочесть список в подлиннике, но никаких следов его не нашел. Потом Клоссиус долго и безуспешно искал Либерею в Москве.
Сообщение Дабелова, вероятно, так и затерялось бы на многие годы, если бы им не заинтересовался молодой ученый Фридрих-Вальтер Клоссиус (1795–1838). Он изучал право в Тюбингенском университете и приобрел авторитет в ученых кругах благодаря сенсационной находке в миланской Амброзианской библиотеке новых отрывков из «Юридического кодекса» императора Феодосия. В апреле 1824 года он стал ординарным профессором кафедры уголовного судопроизводства, истории, права и юридической словесности Дерптского университета и познакомился с Дабеловым, который, в свою очередь, рассказал ему об описи библиотеки русских царей. В ноябре 1824 года в письме к одному из своих коллег Клоссиус сообщал, что «существует рукописный каталог библиотеки князя Ивана Васильевича Великого, супруга принцессы Софьи, племянницы последнего греческого императора. Этот князь купил много рукописей на Востоке». Дабелов утверждал, что отослал оригинал списка обратно в Пернов. Клоссиус отправился туда, но в местном архиве ему заявили, что ни о каком профессоре Дабелове не знают и никаких каталогов царских библиотек у них нет и никогда не было.
А в 1834 году, незадолго до смерти, Клоссиус опубликовал статью «Библиотека великого князя Василия Иоанновича и царя Иоанна Васильевича». В ней была впервые была опубликована «Записка анонима» и подробный рассказ о ее находке. По утверждению Клоссиуса, Дабелов в Дерпте занимался поиском материалов по истории лифляндского права и «получал с разных сторон документы, которые сообщались ему частию от разных посторонних лиц». В 1826 году Клоссиус узнал от Дабелова, что среди этих бумаг находились четыре «связки или тетради», обозначенные им как «Collectania Pernaviensia». Одна из них «была писана не одною рукою, а разными почерками, на бумаге разных форматов, большего и меньшего, и, по-видимому, состояла из документов, которые были сшиты вместе без всякого порядка». Среди этих документов, относящихся к истории Дерпта и Пярну, «находилось на 1,5 или 2 листах известие одного дерптского пастора, который имел в своих руках рукописи московского царя». Оно «было написано на простонародном немецком наречии… мелкими буквами и чрезвычайно нечетко, желтыми некрасивыми чернилами и на бумаге, также совсем пожелтелой».
В статье Клоссиус привел текст сообщения дерптского пастора, переданный ему Дабеловым:
«Сколько у царя рукописей с Востока.
Таковых было всего до 800, которые частию он купил, частию получил в дар. Большая часть суть греческие, но также много и латинских. Из латинских видены мною:
Ливиевы истории, которые я должен был перевести.
Цицеронова книга de republica и 8 книг Historianim.
Светониевы истории о царях, также мною переведенные. Тацитовы истории.
Ульпиана, Палиниана, Павла и т. д. Книга Римских законов. Юстиновы истории.
Кодекс конституций императора Феодосия. Вергилия Энеида и Ith.
Calvi orationes et poem.
Юстинианов кодекс конституций и кодекс новелл.
Сии манускрипты писаны на тонком пергамине и имеют золотые переплеты.
Мне сказывал также царь, что они достались ему от самого императора и что он желает иметь перевод оных, чего, однако, я не был в состоянии сделать.
Саллюст[ия] Югурт[инская] война и сатиры Сира. Цезаря комментарий de bello Gallico и Кодра Epithalam.
Греческие рукописи, которые я видел, были:
Полибиевы истории.
Аристофановы комедии.
Basilica и Novelloe Constitutiones, каждая рукопись также в переплете.
Пиндаровы стихотворения.
Гелиотропов Gynothaet.
Гефестионовы Geographica.
Феодора, Афанасия, Lamoreti и других толкования новелл.
Юстин|иановы] зак[оны] аграр[ные]. Zamolei Matheimtica. Стефанов перевод пандектов…реч (и) и… Hydr.
…пиловы Истории. Кедр…Char и эпиграммы Huphias Hexapod и Evr».
Такая передача списка с пропусками нерасшифрованных мест наряду с отдельными расшифрованными фрагментами слов должна была убедить научный мир в добросовестности Клоссиуса и Дабелова, сделавшего копию со списка дерптского пастора. Не должно было остаться никаких сомнений в том, что Дабелов лично держал в руках знаменитый список.
Далее Клоссиус писал, что по приезде в Дерпт в 1824 году первым делом стал искать оригинал «Рукописи профессора Дабелова», «ибо я предполагал вместе с г. профессором Дабеловым, что оный находится в архиве перновского городского совета». Однако поиски оказались тщетными: даже старые архивисты не могли припомнить указанной связки. Не значилась она и ни в одной из описей. «Осведомления мои в других местах остались без всякого успеха… я принужден был вовсе отказаться от надежды увидеть собственными глазами этот достопримечательный документ», – признавался Клоссиус.
Первым усомнился в подлинности «Рукописи профессора Дабелова» историк Н.П. Лихачев
Перечень книг библиотеки московского царя произвел сильнейшее впечатление на научную общественность. Главным было то, что в списке фигурировали авторы и произведения, не только ранее широко известные («История» Тита Ливия, «Жизнь цезарей» Светония, «История» Тацита, «Энеида» Вергилия, «Югуртинская война» Саллюстия, «История» Полибия, «Комедии» Аристофана, «Песни» Пиндара), но и малоизвестные, а то и вовсе неизвестные («О республике» и 8 книг «Истории Цицерона, «Оратории и поэмы» Кальвина, «Сатиры» драматурга Сира, «Корпус» Ульпиана, Папиана и Павла, «Gynothaet» Гелиотропа и др.).
Первым усомнился в подлинности «Рукописи профессора Дабелова» историк Н.П. Лихачев. 19 марта 1893 года, выступая с докладом в Обществе любителей древней письменности о библиотеке московских царей, он обратил особое внимание на «странную забывчивость Дабелова» насчет «Записки анонима». Подозрительным выглядело то обстоятельство, что Дабелов, имея в своих руках список, так и не предал огласке его полное содержание, да к тому же ухитрился потерять оригинал, что для столь опытного архивиста было совсем уж непростительным.
В книге, вышедшей в 1895 году, Лихачев подробно разобрал «Рукопись профессора Дабелова». Он особо подчеркнул факты, ставящие под сомнения ее достоверность. Особенно подозрительным и невероятным было то, что перечень сочинений и авторов, имевшихся, согласно «Рукописи профессора Дабелова», в библиотеке московских царей, удивительно совпадал с тем, что стало известно об этих сочинениях и авторах в зарубежной научной литературе в 1822–1826 годах. Дабелов тщательно скопировал перечень книг библиотеки, вплоть до указания многоточием непрочитанных слов и даже отдельных букв оригинала, но при этом не стал копировать начало рассказа неизвестного дерптского пастора и даже ухитрился забыть его имя. Впоследствии Добелов лишь утверждал, что этот пастор был не Веттерман. «Самая забывчивость Дабелова относительно имени пастора, – заключал Лихачев, – с скептической точки зрения объясняется сложностью человека, знакомого, с какой тщательностью немцы разрабатывают свою историю: у немцев и пасторы XVI столетия могли оказаться на счету». Очевидно, Дабелов вообще сомневался, что пастор Веттерман существовал в действительности, подозревая, что Ниенштедт его просто выдумал. Создавая свою подделку, Дабелов, безусловно, ориентировался на сообщение Ниенштедта, но придумать новое имя пастора не рискнул.
Критику сообщений Дабелова и Клоссиуса относительно библиотеки Ивана Грозного продолжил известный русский историк Сергей Алексеевич Белокуров
Критику сообщений Дабелова и Клоссиуса насчет библиотеки Ивана Грозного продолжил известный русский историк Сергей Алексеевич Белокуров. Он обратил внимание на то, что из «Записки анонима» абсолютно не ясно, о библиотеке какого московского царя в ней идет речь. «Записка» написана таким образом, что упоминаемый в ней царь может быть отнесен не только к XVI, но даже к XVIII веку. Таким образом автор записки страховался от возможной научной критики. Во-первых, в этом случае поиски пастора, будто бы составившего записку, теряли смысл. Во-вторых, в случае, если бы лингвистический анализ выявил бы в записке какие-либо анахронизмы по отношению, например, к XVI веку, всегда можно было бы возразить, что опись могла быть написана в XVII или даже в начале XVIII века. «Весьма странно» показалось Белокурову также и то, что не сохранился ни один из сделанных дерптским пастором переводов, о которых ни слова нет в известных источниках. Наконец, отметил Белокуров, «вселяет недоверие к рассказу» анонима тот факт, что в опись попали только редкие и известные по упоминаниям в источниках начала XIX века рукописи, хотя в царской библиотеке наверняка должны были быть и самые обыкновенные книги, в том числе богослужебные. По убеждению Белокурова, фальсификатор «Рукописи профессора Дабелова» положил в ее основу известие Веттермана, впервые опубликованное в труде историка И.Г. Арндта в середине XVIII века. Значит, подделка никак не могла быть изготовлена раньше этого времени.
По предложению Белокурова в 1895 году прибалтийские ученые обратились через газету с просьбой помочь в поисках оригинала «Рукописи профессора Дабелова». Поиски во всех архивах и библиотеках Прибалтики оказались тщетными. И С.А. Белокуров пришел к выводу, что никакой библиотеки Ивана Грозного никогда не было. Ведь хорошо известно, что в эпоху Ивана III, как и позднее, на протяжении всего XVI века, на Руси, как и в Европе, было еще довольно мало бумажных книг, как рукописных, так и печатных. В библиотеках хранились главным образом пергаментные свитки – книги, очень редкие и дорогие изделия, у каждой из которых была своя история происхождения и странствия по библиотечным собраниям. Появление же сразу сотен прежде неизвестных и нигде не учтенных раритетов в составе легендарной Либереи выглядит совершенно невероятным.
Серьезные аргументы в пользу того, что рукопись Дабелова является подделкой, выдвинул историк-архивист В.П. Козлов. Он обратил внимание, что в сообщении Клоссиуса есть хронологические неувязки. Профессор недвусмысленно признается, что по приезде в Дерпт в 1824 году его первым желанием было найти оригинал «Записки анонима». Однако из дальнейшего изложения событий следует, что сам Дабелов в 1820 году уже разыскивал его, а их совместные поиски относятся только к 1826 году, поскольку именно этим годом Клоссиус датировал описание рукописи, сделанное для него Дабеловым. Ранее же он просто не мог искать рукопись, поскольку понятия не имел, как она выглядит.
И неслучайно в первом известии Дабелова о «Записке анонима» говорится только о рукописях юридического содержания из библиотеки московского царя. Выдумать рукописи из других областей знаний, реально существовавшие, но утраченные, ему было не под силу из-за недостатка эрудиции. Зато документ, опубликованный Клоссиусом, уже содержал перечень не только юридических, но и исторических и литературных сочинений античности, что породило серьезные подозрения, что Клоссиус существенно доработал «Записку анонима» после 1822 года. Многие включенные в нее сочинения соответствуют тому, что стало о них известно в 1822 году или позже. Так, в опубликованной им описи упоминаются «Светониевы истории о царях» и утверждается, что безвестный немецкий пастор их перевел. Интересно, что еще хронист П. Иовий в своей книге о Московском царстве, изданной в 1600 году, сообщил, что русским известен перевод «Истории римских императоров», под которой явно подразумевалось сочинение Светония. В «Рукописи профессора Дабелова» упоминается «Цицеронова книга de republica и 8 книг Historiarum». Если о «Historiarum» ничего неизвестно и поныне, то о «de republica» первое известие появилось именно в 1822 году, когда были впервые опубликованы найденные фрагменты этого сочинения, и уже в следующем году появился их французский перевод. В 1825 году сообщение об этом было опубликовано в России П.И. Кеппеном, заявившим: «Мы не теряем надежды, чтобы случай, а особливо усердие почтенных соревнователей истинного просвещения не открыли нам рукописи, коею погибель можно бы почесть существенною потерею для классической литературы, а утайку – литературным преступлением».
Возникает еще один вопрос. Почему, если такое большое количество весьма ценных, но не дошедших до наших дней книг хранилось в библиотеке византийских императоров, цитаты из них не встречаются в трудах византийских историков, в том числе придворных хронистов, наверняка имевших доступ к императорской библиотеке?
В начале XIX века наиболее полный свод известий о библиотеке был помещен в «Истории» Карамзина, в ее первых девяти томах, вышедших в 1818–1821 годах. В частности, в 9-м томе цитировался рассказ о дерптском пасторе Веттермане: «Царь отменно уважал сего добродетельного мужа (Веттермана) и велел ему разобрать свою библиотеку, в коей Веттерман нашел множество редких книг, привезенных некогда из Рима, вероятно, царевною Софиею». Карамзин наивно уверял читателей, что собирание древних рукописей имело в России давние традиции, создавая у них преувеличенное представление об уровне распространения книжной культуры в России. Причем, по утверждению Карамзина, эти традиции касались исключительно греческих рукописей. Их будто бы в больших количествах привозили греки, их охотно приобретали великие князья (не знавшие часто толком даже русскую грамоту!). Русский историк не обращал внимание на тот факт, что при дворе Софьи Палеолог как особо ценный раритет показывали единственную греческую рукописную книгу. Карамзин рассказал о том, как Василий III, желая перевести греческие сочинения, пригласил в Россию православного инока Максима Грека (на самом деле речь шла об одной только «Псалтыри»). А вот в «Рукописи профессора Дабелова» говорится, что по просьбе «царя» неизвестный пастор перевел или должен был перевести латинские книги.
Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) – выдающийся историк, крупнейший русский литератор. Автор «Истории государства Российского» наивно уверял читателей, что собирание древних рукописей имело в государстве давние традиции, создавая у них преувеличенное представление об уровне распространения книжной культуры в России
По мнению В.П. Козлова, автор «Записки анонима», в противоположность Карамзину, стремился подчеркнуть интерес русских царей именно к латинским рукописям. Например, Карамзин сообщал, что Максим Грек увидел в библиотеке Василия III греческие рукописи в пыли, а аноним развил это утверждение в том смысле, что латинские книги, напротив, находились в прекрасном состоянии и имели даже золотые переплеты, что указывало на особую заботу и интерес к ним.
В.П. Козлов выяснил также, что еще в XVIII веке в Европе стало известно сочинение Веспасиано да Бистиччи «Жизнеописания замечательных людей XV века». Рассказывая о жизни герцога Федерико Урбинского, автор отметил, что тот «прочел и часто перечитывал поэтов и исторические сочинения Ливия, Саллюстия, Квинта Курция, Юстина, комментарии Цезаря, которые без конца восхвалял; прочитал все сорок восемь жизнеописаний Плутарха в разных переводах; Эмилия Прода, Корнелия Тацита, Светония «Жизнь двенадцати цезарей…». Безмерно почитая латинских и греческих авторов, как духовных, так и светских, он замыслил то, что тысячу лет не замышлял ни один из государей, а именно: устроить библиотеку…». Вероятно, с этого прототипа был списан образ мудрого и могущественного московского царя, страстного коллекционера древних греческих и латинских авторов.
Федерико да Монтефельтро (1422–1482) – герцог Урбино, собравший при своём дворе большое количество деятелей искусства и науки и, вероятно, послуживший прототипом для образа мудрого и могущественного московского царя, страстного коллекционера древних греческих и латинских авторов. Худ. Пьеро делла Франческа, 1472 (Федерико потерял глаз на рыцарском турнире, поэтому всегда позировал в профиль)
Автором фальсификации мог быть только Дабелов, а его полноправным соавтором и продолжателем – Клоссиус. Наиболее вероятным мотивом изготовления поддельного списка кажется стремление убедить власти в необходимости разрешить проведение широкомасштабных археологических раскопках в Кремле с целью найти легендарную Либерею. Что-нибудь меньшее вряд ли бы убедило императора в необходимости тревожить покой кремлевских палат. Кроме того, поиски упомянутых в «записке Дабелова» рукописей были хорошим предлогом для работы во всех российских библиотеках и архивах, где можно было рассчитывать найти если и не неизвестные сочинения Тита Ливия и Цицерона, то, по крайней мере, что-то достаточно ценное. В 1824 году Клоссиус связался с главой Русской археографической комиссии графом Н.П. Румянцевым, предлагая ему «сделать путешествие по всей России и первым плодом оного издать полное описание состояния всех в России библиотек и хранящихся в них сокровищ, подобно тому, как поступил Блуме в отношении к библиотекам итальянским». Для Клоссиуса «Записка Дабелова» была средством заинтересовать российские власти возможностью находок мирового значения. И в 1825 году он действительно получил «высочайшее дозволение» на осмотр «русских хранилищ».
Нельзя сказать, что фальсификатор что-то выдумал. Как будто все факты в «записке Дабелова» правдоподобны и, в принципе, могли бы иметь место в действительности. Вполне вероятно, в частности, что многие рукописи, упомянутые в записке, когда-нибудь еще отыщутся, правда, скорее всего – не в России. Но сама концентрация в одной полуторастраничной записке такого количества уникальных фактов и вызывает самые большие сомнения в ее подлинности. В то же время полная неопределенность деталей затрудняла критику этих фактов и разоблачение подделки. Особенное же впечатление на протяжении почти двух веков «записка Дабелова» производила на чиновников, не владеющих приемами исторической критики.
Добавим, что сами по себе поиски Либереи способствуют облагораживанию облика царя Ивана Грозного, будто бы осознавшего исключительную ценность библиотеки и позаботившегося о ее надежном сохранении для грядущих поколений. Творец опричнины якобы сознавал, что современникам библиотека пока что принесет немного пользы (мало кто тогда в Московской Руси знал латынь и греческий), зато потомки, освоив языки, сполна реализуют этот духовный золотой запас. Придерживающиеся этой точки зрения историки обыкновенно аттестуют предполагаемого владельца Либереи блестящим писателем и мыслителем своего времени (так и пишут: «начитанный интеллигентный царь, один из умнейших и добрейших людей своего времени» – так и хочется, чтобы автор попал в руки опричников: они бы показали ему «умнейшего» и «добрейшего»), закрывая глаза на его злодейства. Зато другие историки именуют царя Ивана кровавым палачом и безграмотным невеждой и, как правило, сомневаются в существовании Либереи.
Князь Андрей Михайлович Курбский (1528–1583) – русский полководец, политик и писатель; происходил из смоленско-ярославской линии Рюриковичей. В 1564 г. в разгар Ливонской войны перешёл на сторону противника и поселился в великом княжестве Литовском. Вёл с русским царём знаменитую переписку и, судя по царским письмам князю Курбскому, Иван Грозный богослужебные книги читал, хотя древних языков не знал
Судя по царским письмам князю Курбскому и другим адресатам (пусть даже письма писали писцы, а их текст могли предварительно составлять тогдашние спичрайтеры – дьяки), царь кое-какие богослужебные книги читал, хотя древних языков не знал. Ну, для этого толмачи имелись. Какая-то библиотека у царя, несомненно, была, но была ли это действительно легендарная библиотека византийских императоров, будто бы спасенной из захваченного турками Константинополя?
О существовании тайников в Кремле разговоры шли очень давно. Еще в мае 1499 года Иван III приказал итальянскому архитектору Алевизу Новому «заложити двор свой камен, палаты каменные и кирпичные, а под ними погреба и ледники, на старом дворе у Благовещения…» В XVI столетии рядом с этими постройками появился дворец Ивана Грозного. От того времени дошли до нас два известия о существовании тайников. Английский посол Антон Дженкинсон свидетельствовал о том, что однажды на аудиенцию к Ивану IV его вели по тайному ходу. А англичанину Джерому Горсею Иван Грозный в 1581 году лично подарил Библию из своей библиотеки. Теперь она хранится в Британском музее.
Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею. Худ. Литовченко А. Д. Джерому Горсею Иван Грозный в 1581 году лично подарил Библию из своей библиотеки
Красная площадь во второй половине XVII века. Худ. Васнецов А. М., 1925
Первые поиски Либереи в Кремле относятся к эпохе Петра Великого. В 1724 году пономарь московской церкви Иоанна Предтечи Конон Осипов написал в Канцелярию Фискальных дел в Петербурге доношение, где заявил, что в подземелье Кремля имеются «две палаты», заставленные до потолка сундуками с неизвестным содержимым. На них «замки вислые превеликие, печати на проволоке свинцовые; и у тех палат по одному окошку, а в них решетки без затворок». На допросе Осипов показал, что узнал все это от дьяка Василия Макарьева, бывшего при смерти. Макарьев наткнулся на хранилище во времена царевны Софьи. Тайники располагались возле Тайницких ворот, и выходил Макарьев в Круглую башню на реке Неглинной.
Сенат решил провести раскопки у Тайницких ворот на Житном дворе, на площади против Иностранной коллегии, напротив колокольни Ивана Великого, у Цейхгаузской стены в Круглой башне, в Тайницких воротах. Петр I, интересуясь древностями для Кунсткамеры, повелел Осипову найти сей ход. Ничего достойного внимания не нашли. Через 10 лет Осипов опять обратился в Сенат, попросив денег и 20 рабочих-арестантов. Но тут обнаружили, что пономарь скрыл факт первых раскопок, а в своей церкви еще и проворовался, и надеялся казенными деньгами покрыть недостачу. Раскопки запретили, Осипова наказали, о тайниках забыли.
Тайницкая башня
Теремной дворец
Стоит отметить, что впрямую о библиотеке во время этих поисков речь не шла. Не исключалось, что в сундуках, будто бы виденных Макарьевым, могут находиться золото, драгоценности или посуда, а не только книги.
В конце XIX века немецкий филолог Эдуард Тремер из Страсбурга с разрешения императора Александра III специальным зондом исследовал землю под сооружениями Московского Кремля, но ничего достойного внимания не нашел. Он только высказал надежду, что палаты с книгами располагались в подземной части ныне существующего Теремного дворца. Последний был построен в 1635–1636 годах на основе палат Ивана IV. Уезжая из России, Тремер сказал: «Наука отблагодарит Россию, если ей удастся отыскать свой потерянный клад». Он обнаружил останки дворца Василия III, но не нашел подземных ходов. Тремер первым высказал мысль, что книги хранятся под землей, поскольку следов Либереи не нашлось ни в одном российском архиве. Так что найти ее можно было либо под землей, либо замурованной в какую-то из кремлевских построек. Но стены ломать в Кремле археологам вряд ли разрешили бы, так что оставалось уповать на подземную археологию. Но для раскопок на территории Кремле тоже требовалось разрешение первых лиц государства.
Директор Исторического музея князь Щербатов (1853–1929)
Троицкая башня
Летом и осенью 1894 года тайник искал директор Исторического музея князь Щербатов. Он вскрыл пол в Благовещенском соборе, искал подземелья под Грановитой палатой, Тайницкой и Боровицкой башнями. Князю удалось найти только старые подвалы с хозяйственной утварью. Он раскопал двухъярусные подземелья под Троицкой башней, расчистил от глины и мусора тайный ход, соединяющий Угловую Арсенальную и Никольскую башни, а также подземный ход и такую же палату, случайно найденные у Никольской башни, но продолжению раскопок помешала смерть Александра III, разрешившего раскопки. Николай II, в отличие от своего отца, интереса к поискам Либереи не проявил, возможно, потому, что сильно сомневался в ее существовании.
Угловая Арсенальная башня
Никольская башня
Подземелья под Грановитой палатой
Благовещенский собор
Боровицкая башня
В начале XX века поисками Либереи занялся киевский археолог-энтузиаст Игнатий Яковлевич Стеллецкий. В 1907 году он поступил в Московский археологический институт, а в дальнейшем стал действительным членом Императорского русского военно-исторического общества и Императорского московского археологического общества. Игнатий Яковлевич много занимался изучением церковной старины Москвы.
Стеллецкий Игнатий Яковлевич (1878–1949) – выдающийся российский и советский археолог, историк, исследователь подземной Москвы, зачинатель диггерского движения в России
В 1909 году Стеллецкий обследовал подземные ходы в Донском и Новодевичьем монастырях и ряда зданий XVI–XVII веков. Он составил план подземной Москвы, исходя из идеи, что все подземные сооружения под зданиями XVI–XVII веков в пределах Садового кольца связаны между собой и с Кремлем сетью лабиринтов. По мнению Стеллецкого, «из царских теремов, где-то из подвала, был спуск в подземелье, в царскую казну. Входной люк в подземелье вскоре после смерчи Грозного был, видимо, заделан, навсегда затерян и забыт… Из теремов ход вел в царскую казну – большую подземную палату, в какую расширялся тоннель между Благовещенским, Архангельским и Успенским соборами. Палата была наполнена ящиками с книгами, под нею имелось нижнее помещение, на что указывает архивная терминология «с двумя сводами» и факт существования двойных палат под Кремлем, например, под Троицкой башней, где из нижнего яруса ведет подземный ход под Кремль…. От библиотечной палаты ход направлялся в два противоположных конца: к Тайницкой и Собакиной башням. У последней выход вел в старый Точильный ряд, на берегу Неглинки, имея, кроме того, ответвление под Никольскую башню и направляясь отсюда под Исторический музей в Китай-город».
Собакина башня
Другие археологи в это не верили, и не без оснований. Трудно поверить, что русские цари в то время тратили бы столько сил и средств на затею, не имевшую какого-либо практического значения. До метро ведь было еще 300–400 лет.
Вид на соборную площадь Московского Кремля. Худ. Джакомо Кваренги, 1797
Библиотекой Грозного Стеллецкий заинтересовался еще в 1908 году Он собрал все материалы, имевшие отношение к библиотеке Ивана Грозного и поверил, что Либерея существует. И в ее поисках по кремлевским подземельям прошел дальше своих предшественников и в прямом, и в переносном смысле, но практически ничего не нашел. Вернее, нашел на удивление мало. Эти раскопки нашли отражение в ярком и эмоциональном дневнике Стеллецкого, одержимого убежденностью, что Либерея существует, что она где-то в Кремле, совсем рядом, что до нее буквально рукой подать. Поэтому мы подробнее остановимся на истории его раскопок, опираясь главным образом на книгу журналистки и историка Т.М. Белоусовой «Тайны подземной Москвы».
В 1913 году Стеллецкий ездил в Пярну и будто бы нашел там знаменитый список Дабелова, да еще с подписью W (Веттермана?). Ученый впоследствии утверждал, что, готовясь в 1913 году к XV Археологическому съезду в Новгороде, нашел в Пернове связку документов, содержащую «записку Дабелова» и «лично просмотрел всю опись».
Вот только сфотографировать его у ученого почему-то не нашлось денег, и он просто переписал его от руки.
Архангельский собор
Мы далеки от того, чтобы подозревать Стеллецкого во лжи. Вполне возможно, что он видел список, выполненный в свое время Дабеловым и Клоссиусом. Выдавать свою подделку за подлинник им было невыгодно, поскольку она вряд ли бы выдержала сколько-нибудь серьезную палеографическую экспертизу: профессора ведь отнюдь не были мастерами подделок. Маловероятно, что Стеллецкий эпизод с находкой придумал, чтобы получить весомый повод для раскопок в Кремле. Игнатий Яковлевич в целом производит впечатлениие увлекающегося, но честного ученого, не способного на фальсификацию. И он, безусловно, был убежден, что «записка Дабелова» подлинная и Либерея действительно существует. А поскольку сомнений у него не было, то он поспешил от руки скопировать документ, вместо того чтобы преодолевать все сложности, связанные с его фотосъемкой. Подвергать документ палеографической экспертизе ученый явно не собирался. Наверное, Стеллецкий верил, что теперь драгоценный список никуда больше не исчезнет. Он не мог предположить, что через какие-нибудь пять лет Эстония станет независимым государством, и доступ в Пярну для него будет закрыт. Когда же после Второй мировой войны Эстония оказалась включена в состав СССР, никаких следов «рукописи Дабелова» в местных архивах и библиотеках не было обнаружено. Однако ее исчезновение теперь вполне можно было списать на последствия войны.
Московский кремль. Соборы. Худ. Васнецов А.М.
В 1912 году Стеллецкий сделал доклад «План подземной Москвы», где доказывал, что создатели московского Кремля – зодчие Фиорованти, Солари, Алевиз – нашли неолитические пещеры в кремлевском холме и на их основе устроили систему подземных ходов, связавших самые разные постройки Москвы. Правда, никакими документальными свидетельствами это подтвердить не удалось. Да и сомнительно, что итальянские архитекторы в XV–XVI веках занимались масштабными раскопками. Они слишком ценили и собственное время, и средства, выделенные на проведение работ. Конечно, в случае, если в ходе возведения фундамента они натыкались на естественную полость, то могли ее использовать для водоснабжения или тайника, но вскрыть всю систему подземных пещер в районе Кремля они, безусловно, не могли.
В 1911 году Стеллецкий пришел к выводу, что раскопки надо начинать от Угловой Арсенальной башни, поскольку ход, по которому в XVII веке прошел дьяк Макарьев, непременно приведет к заветному тайнику с Либереей. Ученый исходил из предположения, что, кроме библиотеки византийских императоров, в Кремле больше нечего было прятать. Разумеется, строгих научных оснований у этого предположения не было, а была только увлеченность ученого идеей великой библиотеки, по не очень понятным причинам сокрытой от мира. И уж совсем непонятно, почему подземный ход, ведущий в Кремль, обязательно должен был вести к Либерее. Ведь подземные ходы, как правило, прокладывали на случай осады, чтобы осажденные с их помощью могли сношаться с внешним миром. Но при чем здесь библиотека?
В 1912 году Стеллецкий, обследуя подвалы Арсенала, где в то время велись земляные работы, на глубине одного метра нашел кирпичный свод тайного хода, но ему не разрешили вскрыть его.
В связи с приближением 300-летнего юбилея дома Романовых археолог подал прошение на имя императора Николая II, добиваясь, чтобы ему разрешили искать в Кремле исчезнувшую царскую библиотеку. Целый год прошение ходило по инстанциям. Наконец, пришел ответ от Императорской археологической комиссии – шедевр бюрократического словотворчества: «Комиссия имеет честь уведомить Вас, милостивый государь, что проекту разыскания библиотеки Иоанна Грозного на средства Государственного казначейства не может быть дано дальнейшего движения вперед впредь до представления Вами сколько-нибудь точных предположений о месте, где могла сохраняться названная библиотека».
Но все-таки в 1914 году при помощи Московского архива Министерства юстиции Стеллецкий получил разрешение дворцового управления на осмотр подземелий Угловой Арсенальной и Тайницкой башен. 26 июля он приступает к работе, а спустя пять дней началась Первая мировая война, и раскопки пришлось прекратить. Из западных районов страны в Кремль спешно эвакуировалось имущество царских дворцов. Тут уж было не до поисков Либереи.
Когда в 1923 году после бурь гражданской войны Стеллецкий вернулся с родной Украины в Москву, то обнаружил, что его архив и библиотека пропали. Тем не менее он не отчаивался и не терял надежды найти библиотеку Ивана Грозного. Он устроился библиотекарем в Историческом музее и начал собирать материалы о подземном Кремле. Ученый обратился в ОГПУ, чтобы получить разрешение на обследование подземелий Москвы, и особенно Кремля. Чекисты ему ответили: «В Кремль мы вас не пустим, а вся Москва ваша… Мы его (Кремль) сами весь ископали». Однако и за пределами Кремля здания, занятые правительственными учреждениями, военными организациями, банками и т. п., были для Стеллецкого недоступны. Так что «вся Москва» не получилась. Но все же Игнатию Яковлевичу удалось найти подземные ходы в Сухаревой башне, расположенном в Б. Харитоньевскрм переулке Юсуповском дворце, а в бывшем замке Бирона в подвале оказались свежезаложенные арки, за которыми находился ход, предположительно выводящий в район Воробьевых гор. На месте замка сейчас – высотный дом на Котельнической набережной.
Стеллецкий читал много лекций не только в Москве, но и в других городах России, рассказывая о пещерах, подземных ходах, библиотеке Грозного. Он говорил о возможности постепенного разрушения зданий, под которыми расположены «исторические пустоты». И в дальнейшем трещины были найдены в зданиях библиотеки имени Ленина, Большого и Малого театров, «Метрополя».
Получив согласие начальника Метростроя, Стеллецкий решил создать музей «Подземная Москва». Однако метрополитен не смог выделить даже комнаты, и все экспонаты размещались в маленькой квартире Стеллецкого. Он утверждал: «Очищенная, реставрированная и освещенная дуговыми фонарями подземная Москва являла бы из себя подземный музей научного и любого интереса».
Стеллецкий верил, что подземная Москва будет еще одним великим мировым музеем, частью которого закономерно станет и подземный Кремль.
В 1924 году Стеллецкий встречался с Н. С. Щербатовым, который тогда служил комендантом в бывшем доме Археологического общества. Но получить от него фотографии подземелий Кремля и записи о раскопках, проводившихся в конце XIX века, оказалось невозможно. Вскоре после Октябрьской революции их позаимствовало «под честное слово» ЧК и так и не вернуло. Летом 1924 года в Историческом музее состоялось два диспута по поводу того, надо ли искать библиотеку Ивана Грозного? Мнения на этот счет разошлись, а вот за исследование подземного Кремля проголосовало большинство присутствовавших.
Здание Исторического музея в Москве, где летом 1924 года прошли диспуты по поводу того, надо ли искать библиотеку Ивана Грозного
Чтобы получить разрешение на раскопки в Кремле, Стеллецкий обращался в Моссовет, Наркомпрос, ЦИК, Совнарком и, наконец, в 1933 году подал докладную записку Сталину. И тот разрешил начать раскопки. Казалось, теперь-то Либерея будет найдена. Характерно, что Стеллецкий просил разрешения не на исследование подземного Кремля, а именно на поиски библиотеки Ивана Грозного.
Стеллецкий верил, что Сталин мечтает найти царскую библиотеку. Ведь эта находка, случись она, как бы делала новую власть наследницей древней византийской традиции и давала ей в руки интеллектуальные сокровища мирового значения. Но на самом деле в большей мере власть волновали сугубо практические соображения, хотя интерес Сталина к личности Ивана Грозного и всему, что с ним связано, тоже не стоит сбрасывать со счетов.
Еще в апреле 1918 года, всего через месяц после переезда советского правительства в Москву, Ленин приказал коменданту Кремля П. Д. Малькову обследовать кремлевские подземелья. Затем архитектор И. Е. Бондаренко осмотрел стены и башни, указал все найденные тайники и указал, что все они замурованы и засыпаны.
В 1920 году комендантом Московского Кремля стал Р. А. Петерсон, которого тоже занимал вопрос, нет ли каких-либо тайных ходов, по которым в Кремль могут пробраться враги. Петерсон обратился к историкам, те отвечали: за века почва перерыта, тайники перерезаны, так что попасть по ним в Кремль при всем желании невозможно.
Внимание Петерсона привлекли выступления И. Я. Стеллецкого, посвященные подземной Москве. Комендант стал знакомиться с его статьями еще до публикации и иногда накладывал вето на выход в свет того или иного материала. Впоследствии он так объяснял Стеллецкому необходимость цензуры: «Потому, понимаете сами, комендант обязан охранять Кремль, кто-нибудь подберется, взорвет…».
В 1929 году комендант из соображений безопасности приказал засыпать колодец в Тайницкой башне и замуровать ходы из нижних палат в Троицкой башне. В том же году, когда на месте уничтоженного Чудова монастыря начали строить школу красных командиров, Петерсон распорядился прорыть траншею от Спасской до Никольской башни, но никаких тайных ходов здесь не нашли. Тогда комендант предложил провести еще одну траншею от Водовзводной до Беклемишевской башни, но тут вмешался секретарь ЦИК А. С. Енукидзе, заметивший, что в Кремле и без того хватает «канав».
Наряду с реальными и мнимыми подземными ходами коменданта беспокоили весьма частые провалы почвы в Кремле. Беспокоило Петерсона и состояние ряда кремлевскийх зданий, в стенах которых появились трещины, что могло указывать на наличие под ними подземных пустот. А в здании Арсенала не только имелись многочисленные трещины в стенах, но и в одном из помещений первого этажа пол оторвался от стены и опустился почти на метр. Значит, под ним была какая-то пустота.
В конце октября 1933 года во дворе здания правительства во время утренней зарядки провалился на глубину 6 метров один из красноармейцев. Петерсон приказал лить в провал воду. Лили полдня, но «колодец» оказался бездонным, вода уходила неизвестно куда. Пожалуй, этот провал стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Р. А. Петерсона.
Водовзводная башня
Беклемишевская башня
Докладная записка Стеллецкого из секретариата Сталина попала к Енукидзе. Посоветовавшись с Петерсоном, он позвал в Кремль Стеллецкого. От археолога потребовали выяснить причины трещин в кремлевских зданиях, найти существующие подземные ходы, а если повезет, то заодно – и Либерею.
Стеллецкий собирался вести раскопки в Угловой Арсенальной башне, в Тайницкой и Троицкой башнях, в Успенском соборе и на Красной площади. Комендант одобрил план.
13 ноября 1933 года Петерсон попросил археолога изложить «письменно и подробно», что собой представляет подземный Кремль и где может находиться библиотека.
«Из царских теремов, где-то из подвала, – объяснял Стеллецкий свое видение подземного Кремля, – был спуск в подземелье – большую подземную палату, в какую расширялся ход (тоннель) между Благовещенским, Архангельским и Успенским соборами. Палата была наполнена ящиками с книгами, под нею имелось нижнее помещение (Веттерман говорил о подвалах с «двойными сводами», таковые в Кремле были встречены под Троицкой башней, из нижнего яруса подвалов шел подземный ход в Кремль.)…От библиотечной палаты ход направлялся в два противоположных конца: к Тайницкой и Собакиной (Угловой Арсенальной) башням.
Воротам наземным из Кремля соответствуют подземные: под Москву-реку из Тайницкой башни, в Китай-город из Спасской башни (через храм Василия Блаженного), из Никольской башни под Исторический музей, в сторону Охотного Ряда и Дмитровки и к Неглинке из Троицкой башни…На первом месте должны быть поставлены и в ударном темпе исследованы башни Угловая Арсенальная, Троицкая и Успенский собор, и вот почему.
Из Угловой Арсенальной башни… идут выходы за Кремль через соседние башни – Никольскую и Троицкую. Из этих двух в качестве первоочередной необходимо избрать Троицкую, так как из нее… должен быть выход в Занеглинье. В наличии такого хода не сомневался и Щербатов в 1894 году. За наличие здесь последнего говорит, наконец, и решение Ивана Грозного «осесть опричным двором» как раз напротив Троицкой башни. Очевидно, ее готовым тайником к реке, а не под нее, собирался воспользоваться Грозный. Под самую Неглинку, на соединение с каменным ходом, ведшим к реке, деревянный подземный ход наспех соорудил уже сам Грозный. Признаки этого хода мною обнаружены были в трех местах по линии его прохождения на месте бывшего Опричного двора (на углу Воздвиженки и Моховой. – Б. С.) к Троицким воротам…По этому ходу Грозный мог тайно проходить с Опричного двора не только до библиотечной палаты и своего кремлевского дворца, но и до самого Замоскворечья…»
Раскопки в Угловой Арсенальной башне начались 1 декабря 1933 года. Так как вход в подземелье был замурован, спускаться пришлось через пролом в стене, устроенный еще Кононом Осиповым. В подземелье под грудами земли и мусора нашли полуразвалившийся колодезный сруб. На дне подземного хода, по которому удалось пройти только 5 метров, стояла вода.
Стеллецкий предположил, что ход из Угловой Арсенальной башни был перерезан одним из столбов Арсенала, на которых покоится его фундамент. Начав пробивать этот «столб», Стеллецкий увидел, что свод подземного хода не поврежден. Как оказалось, тайный ход просто был заложен белокаменными глыбами на крепчайшем растворе. Пока рабочие выламывали эти глыбы, археолог пытался разгадать, что же находится за другими замуровками, найденными в башне.
«Если подходить строго научным путем к делу, – писал он, – непременно нужно все и все размуровывать. Когда это строилось, то имело прямой смысл; потом оказалось лишним или ненужным, и его замуровали. Если замуровано самое простое окно, будем, по крайней мере, знать, что окно. А если там таинственные ступени или какая-нибудь другая чертовщина? Ведь дело имею со средневековьем, в котором тайн было хоть отбавляй! Кто гарантирует, что не закрыл все эти отверстия 70 лет спустя сам Грозный, чтобы скрыть какой бы то ни было доступ в подземелья Кремля, в которых замуровано было им наибольшее в свете сокровище культуры – библиотека?»
Вскрытие замурованных помещений никаких сенсаций не породило. Только в южной стене башенного подземелья обнаружили коридор, выводивший в Александровский сад (в древности там была бойница «нижнего боя», а в царствование Анны Ивановны, когда подземелье башни и колодец ремонтировали, для подачи строительных материалов на месте бойницы устроили выход к реке Неглинке). Его Стеллецкий предполагал использовать для вывоза мусора.
«Имел интервью с Зиновьевым (техник гражданского отдела Управления коменданта Московского Кремля. – Б. С.), которому в 1928–1929 гг. поручено было с политической целью исследовать подземный Кремль. Результаты: в Арсенальной башне вычистил колодец (рабочих спускал на канате)… В Троицкой башне устроил под склады две палаты, которые раскапывал Щербатов. В нижней залил дно цементом, не зная, что оттуда есть люк в более низкую. В Тайницкой башне засыпал… большой научной ценности колодец (из него, как думал Стеллецкий, шел подземный ход под Москву-реку, в Замоскворечье. – Б. С.), который я должен очистить”, – записал археолог в дневнике 1 января 1934 года.
Когда в подземном ходе замуровку выломали на 1,5 метра, открылся новый проход, из которого можно было попасть на лестницу, а по ней – на первый этаж Угловой Арсенальной башни. Стеллецкий реконструировал облик древнего башенного подземелья.
С первого этажа узкая лестница, проложенная внутри стены, вела на площадку размером в квадратный метр. В левой стене площадки была замурованная арка входа в 9-метровое подземелье, заполненное массивными белокаменными блоками. (Стеллецкий полагал, что из этого подземелья ход ведет к Никольской башне. Тогда подземелье расчистили от блоков только на 3 метра. Сейчас вход в него замурован и покрыт слоем штукатурки.) С лестничной площадки проход выводил в высокую и широкую галерею. От нее 8-метровая лестница спускалась к колодцу в подземелье башни. Ответвление этого хода (собственно это и был тот тайник, что нашел дьяк Макарьев) было замуровано.
Стеллецкий не мог дождаться, когда рабочие сокрушат белокаменную замуровку. Он буквально не находил себе места. Ведь тайник, как он думал, вот-вот должен был повернуть вправо, к кремлевской стене, и дальше, вдоль нее, – в Кремль: «…Имеет ли этот замурованный тайник ответвление под Кремль? Если нет, то сенсационные рассказы дьяка Макарьева будут не чем иным, как пустой болтовней, на которую попались три правительства: Петра, Анны Ивановны и советское».
Стеллецкий не только сам поверил в существование хода из Угловой Арсенальной башни, но и сумел убедить в этом Сталина. В случае неудачи получалось, что он не оправдал доверие вождя. Ведь Сталин, как писал в дневнике Стеллецкий, «проявил большое мужество и великодушие и доказал лишний раз, что он действительно человек необыкновенный… Когда Октавиан Август вместо того, чтоб казнить Ирода Великого, оказал ему полное доверие, то этим он привлек Ирода к себе навеки, превратив его в наивернейшего друга. И за высокое научное и всякое доверие современного Октавиана я чувствую себя в положении Ирода, охваченного чувствами приязни и преданности самыми искренними».
Стеллецкий и не подозревал, что на самом деле Ирод – это Сталин и что избиение младенцев не за горами, причем оно самым негативным образом скажется на продолжении кремлевских раскопок.
29 января 1934 года, в день именин Игнатия Яковлевича, он получил давно желанный подарок: на шестом метре белокаменной замуровки хода справа показалась белокаменная стена с кирпичным полом. «Стена, о которой я мечтал 25 лет, найдена, я всегда был уверен, что из Арсенальной башни есть белокаменный ход под Кремль!» – торжествовал Стеллецкий в дневнике.
Поскольку ширина хода была до 3 метров, то для ускорения работ начали пробивать в замуровке брешь шириной в метр. Интересно, что далее, на протяжении 9 метров, свод тайника был полностью разрушен. Но Стеллецкий рано радовался. Уже в феврале 1934 года раскопки были приостановлены. Причина была вполне банальная и советская по своей сути: в стране вечно чего-нибудь не хватало, в том числе и рабочих. Главный инженер гражданского отдела Управления коменданта Московского Кремля (УКМК) Палибин отправил занятых на раскопках рабочих на другой объект. Тогда Стеллецкий решил заняться Средней Арсенальной башней. Тут он нашел полуразрушенные ступени засыпанных землей двух полуразрушенных лестниц и «трубу» диаметром 70 см, уходящую под Арсенал. Что замечательно, этой трубы не было ни на старинных планах, ни на современных чертежах.
Лестница, как полагал Стеллецкий, некогда вела в макарьевский тайник. Назначение же «трубы» он узнал из документов кремлевского архива. Выяснилось, что в XVIII веке под Арсеналом существовал «подвал о 12 столбах». Это сооружение высотой 5 метров и площадью 500 квадратных метров тянулось от Средней Арсенальной башни почти до конца Арсенала. Его предполагали использовать для хранения боеприпасов, а подавать на кремлевскую стену их должны были через упомянутую «трубу». Однако после пожара 1741 года подвал был забит землей. Таким образом, к Либерее «труба» не могла иметь никакого отношения. В докладной записке коменданту Стеллецкий сообщал: «Восточная стена Средней Арсенальной башни плотно увязана с перпендикулярно примыкающей к ней стеной подвального помещения Арсенала, засыпанного в XVIII веке архитектором Ухтомским. Обе эти стены подмыты, опустились и оторвали значительную часть Средней Арсенальной башни». Так разъяснилась загадка просевшего пола Средней Арсенальной башни.
Объяснил Стеллецкий и появление трещин в стенах Арсенала: «Пробираясь под камнями и песком, какими заложен и забит тайник, вода по невыясненным причинам вырвалась из подземных тисков в районе Средней Арсенальной башни, поднявшись на высоту до 6 метров, судя по тому, что здесь она обнаружена раскопками на глубине всего 6 метров от поверхности Кремля. Подмыв почву под фундаментами башни и Арсенала, вода вызвала осадку последних на 30–40 сантиметров, что и было причиной трещин западных стен Арсенала».
13 февраля, когда белокаменная облицовка правой стены макарьевского тайника сменилась на кирпичную, Стеллецкий догадался, что ход пошел вдоль кремлевской стены. Через два дня этому появилось еще одно доказательство Конон Осипов в донесении к Петру I упоминал о засыпке тайника «землею накрепко» строителями Арсенала, которые нашли подземный ход. А когда рабочие Стеллецкого выбрали всю белокаменную замуровку, то уперлись в утрамбованную землю.
Вскоре в правой стене тайника показалась большая арка входа в помещение, забитое землей. Работа шла медленно, так как узкая брешь в замуровке позволяла убирать землю только вперекидку. Недовольный темпами работ, Стеллецкий, как настоящий подвижник, работал в одиночку, когда его помощники уходили на обед. Однажды его чуть не завалило пластами рухнувшего грунта. К 27 февраля помещение расчистили полностью. Это оказалась разгрузочная арка размерами 7x5x1,9 м, устроенная под кремлевской стеной. Стеллецкий полагал, что в древности ее могли использовать как тайник. Но подобное предположение вызывает сомнения. Уж очень форма не подходящая, если речь идет о больших сундуках с книгами или утварью: их было бы очень трудно вытаскивать. Для хранения же небольших шкатулок с драгоценностями объем предполагаемого тайника оказывался слишком уж избыточным.
К 3 марта ход от земли освободили, но дальше он оказался забит песком. Тогда же был раскопан плоский потолок тайного хода. Одной стеной тайника являлась кремлевская, а другой – восточной – стены не было вовсе. Археолог пришел к выводу, что в этом месте ее выломали при строительстве Арсенала. Получалось, что потолок тайника как бы висит в воздухе. Игнатий Яковлевич просил у Петерсона позаботиться о возведении недостающей части стены: «Итальянский потолок, конечно, мощен, но время сильнее, и однажды он обвалится, и тогда стена осядет на подмытый песок гораздо глубже, чем она осела ныне в Средней Арсенальной башне». Но вспомогательную стену так и не возвели.
Через неделю башню обнесли забором, у ворот которого поставили часовых. Рабочие начали вывозить скопившиеся за века землю и мусор. Стеллецкий же продолжал копать в одиночку. И уперся в каменную глыбу, свисавшую с потолка. Она закрывала большое отверстие. Игнатий Яковлевич сразу понял, что это пролом, устроенный при возведении Арсенала для засыпки хода. Казалось, что свободная от песка часть тайника совсем рядом. Но неожиданно комендант Петерсон запретил раскапывать тайник и приказал Стеллецкому расчистить башенное подземелье до дна. Через неделю открыли выход в Александровский сад из подземелья Угловой Арсенальной башни и стали вывозить скопившийся мусор и землю.
Игнатий Яковлевич советовал взять в бетонное кольцо родник, иначе вода может прорвать колодезный сруб, установленный еще в начале XIX века. Но его не послушали. И 24 марта вода затопила подземелье. Две недели искали насос. А когда нашли, он уже не понадобился. Вода исчезла столь же внезапно, как и появилась.
Стеллецкий ломал голову над тем, как строитель Угловой Арсенальной башни Пьетро Антонио Солари совладал с капризным источником. Раскопки в подземелье башни дали ответ на этот вопрос: родник первоначально был заключен не в колодец, как полагали ранее, а в цистерну. Дно ее залегало на глубине 7 метров от поверхности земли, а диаметр достигал 5 метров. «Цистерна от стен башни спускалась вглубь концентрическими кругами… и оканчивалась небольшим круглым дном, выложенным камнем, с доступом для родниковой воды. На известном уровне воды в цистерне были устроены водоотводы, для них был использован подземный ход вдоль кремлевской стены к Царским и Патриаршим палатам», – писал Стеллецкий в докладной записке Петерсону. Археолог полагал, что после возведения Арсенала канал в подземном ходе уничтожили, а сам ход замуровали, и вода начала подниматься в цистерне все выше и выше, пока не затопила подземелье. В правление императрицы Анны Ивановны стены, подмытые водой почти на метр, отремонтировали, нижнюю часть цистерны засыпали на 1,5 метра строительным мусором, на котором и устроили колодезный сруб. В начале XIX века сруб получил новые венцы, а подземелье башни засыпали землей.
5 апреля в подземелье явилась комиссия сотрудников гражданского отдела УКМК. Стеллецкий так описал этот внезапный визит: «Просто удивительно мне сегодня показалось, с каким опасением, почти с ужасом проходили по щелям тайника Аристотеля Фиораванти члены комиссии: Палибин, Лопухов, Куксов, Алешкин, Суриков. В глубине я пролез сквозь отверстие в песке до норы, что сам вырыл вдоль каменного потолка, приглашая посмотреть воочию, но они так не продвинулись, чтобы взглянуть хоть одним взглядом». Нелюбопытство чиновников изумило археолога.
Еще раз осмотрев Среднюю Арсенальную башню, Стеллецкий сделал вывод, что макарьевский тайник, не доходя до башни 13 метров, должен повернуть к Кремлю и пойти под Успенский собор, а от него – через Соборную площадь – к Тайницкой башне. У Игнатия Яковлевича родилась идея с помощью шурфов нащупать тайник в подземелье Арсенала, которое как раз тогда перестраивалось под тир. Но разрешения получить не удалось.
Наступила томительная пауза. Все лето ушло на расчистку подземелья Угловой Арсенальной башни, а в сентябре работы не производились.
3 октября 1934 года в Кремле прошло заседание специальной комиссии, в которую входили представители комендатуры Кремля, архитекторы А.В. Щусев и Н.Д. Виноградов, директор Оружейной палаты В.К. Клейн, а также гидролог из Метростроя Г. Г. Салопов. Заслушав отчет Стеллецкого и осмотрев тайник, комиссия решила продолжать раскопки. К октябрю подземелье в некоторых местах раскопали до древнего дна, выложенного кирпичом. На высоте одного метра от пола нашли две амбразуры нижнего боя. Отверстия эти наполовину их длины были разворочены. Со стороны Александровского сада их когда-то засыпали землей. Стеллецкий полагал, что в древности «от основания кремлевской стены берег круто сбегал к Неглинной, оставляя наружу массивную железную дверь в башню, выводившую на обрыв. В обрыве (береговой покатости) выходили наружу две амбразуры нижнего боя из башенного подземелья с цистерной. Очевидно, отверстия разворочены при использовании гаубиц».
Но в начале ноября в связи с приближением праздничного парада 7 ноября подземелье башни спешно очистили от остатков мусора, а выход в Александровский сад замуровали – на случай теракта. Ведь на параде должен был присутствовать сам Сталин. Стеллецкий надеялся на возобновление работ после ноябрьских праздников, но ему предложили поехать в отпуск полечиться (в холодном подземелье он заболел воспалением легких).
«13 ноября – это дата! – сокрушался археолог в дневнике. – Кругленький годик! Что бы я сделал за тот короткий период, если бы не исполнители – глухие супостаты? Я бы эту работу выполнил в четыре месяца. А что еще сделал бы за восемь месяцев по моему вкусу? Как жук-точильщик, избороздил бы Кремль и уж, конечно, нашел бы “затерянный клад России”.
Но пусть я и не нашел! Не дали найти! Зато я указал верную дорогу к нему. Я ли, другой ли – не все ли равно, лишь бы нашли. Мое – мой приоритет – неотъемлем от меня. А башня Арсенальная, превращенная мною в ключ к библиотеке, отныне “башня Стеллецкого”…»
Это убеждение, что ему «не дали» найти тайник и библиотеку какие-то темные силы, враги народа, враги его и Сталина, у Стеллецкого осталось до конца жизни.
Вернувшись из отпуска в феврале 1935 года, он подал докладную в УКМК с просьбой дать разрешение на продолжение работ хотя бы в Успенском соборе, если почему-то нельзя копать в Угловой Арсенальной башне. Он утверждал: «В Успенском соборе мне топографически известно местонахождение люка, ведущего в Аристотелевский тайник в точке его слияния с Алевизовским». Но больше археологу копать в Кремле не довелось.
Игнатий Яковлевич не знал, что решение о прекращении раскопок было принято еще 3 декабря 1934 года. Оно явно было связано с убийством в Ленинграде местного партийного руководителя и члена Политбюро С.М. Кирова двумя днями ранее. Из-за этого резко ужесточился режим охраны правительственных объектов и начал развертываться террор против тех категорий населения, в которых Сталин видел «врагов народа». Если ранее раскопки тайного хода в Кремль были остановлены комендатурой Кремля из опасения, что по нему может проникнуть в правительственные помещения кто-то посторонний, имеющий террористические намерения, то теперь об их возобновлении и речи не могло быть. Тем более что как раз с января 1935 года начало развертываться сфальсифицированное так называемое «кремлевское дело» – о будто бы существовавших террористических группах среди кремлевской обслуги. Это дело было направлено прежде всего против секретаря ЦИК А.С. Енукидзе, которому подчинялись кремлевские службы и который впал в немилость у Сталина. Естественно, в таких условиях никто не хотел рисковать и давать разрешение на новые раскопки в Кремле, чтобы не быть заподозренным в покровительстве «врагам народа».
Следует признать, что раскопки были организованы Стеллецким не самым лучшим образом. Рабочие трудились без энтузиазма и работали, по словам Игнатия Яковлевича, «как мокрое горит, одного десятник захватил даже спящим. Невыгодно, говорят, как ни работай, выше обязательного минимума не получишь». При фиксированной и не слишком большой ставки оплаты труда другого ожидать не приходилось. Перейти же на сдельщину, как предлагал археолог, не удалось. На расчистке хода обычно работали только два-три человека, не раз раскопки без объяснения причин прекращались. Для получения инструмента, техники и даже брезентовых рукавиц приходилось каждый раз писать специальные заявки. Стеллецкий конфликтовал с десятниками, считавшими себя вправе указывать ему, где надо копать. Выяснив, что подземные галереи действительно непроходимы и врагам в Кремль не пробраться, комендант Петерсон утратил интерес к раскопкам.
В войну Стеллецкий оставался в Москве. Эвакуироваться он не стал, опасаясь, что опять, как и в гражданскую, пропадут его материалы. Ученый был награжден медалью «За оборону Москвы». В декабре 1941 года, голодный, в холодной квартире он писал в дневнике: «Проверить упоминаемый в летописи тайник, т. е. подземный ход из Беклемишевской башни к Москве-реке. Пройти из Спасской башни подземным ходом до храма Василия Блаженного, близ которого спуск в большой тоннель под Красную площадь, тоннель весьма загадочного назначения. Пройти из Никольской башни в район Китая и Белого города…».
Не исключено, что Стеллецкий еще раз обратился к Сталину в конце войны. И, вероятно, получил какой-то ответ из его секретариата, так как в обращении в Академию наук в январе 1945 года Игнатий Яковлевич писал: «Но после войны, после победы, заветный клад будет найден! Порукою в том слово Великого Сталина!» Однако Иосиф Виссарионович, пристально интересовавшийся фигурой Грозного, скорее всего, к тому времени уже утратил надежды найти Либерею и новые раскопки в Кремле не разрешил. В конце войны и в послевоенные годы его занимали уже совсем другие проблемы. И неслучайно, наверное, он так и не выпустил на экран вторую серию киноэпопеи Эйзенштейна. Миф Грозного и опричнины постепенно утрачивал свою актуальность. Великая чистка осталась позади. Масштаб репрессий уменьшился, они приобрели более точечный характер и были направлены теперь в первую очередь против «безродных космополитов». Сталина теперь больше волновала проблема преемника, а здесь пример Грозного, так и не сумевшего решить эту проблему, и Смуты, последовавшей после его смерти, мог иметь для Иосифа Виссарионовича только отрицательное значение.
Тем не менее до самой своей смерти в 1949 году Стеллецкий был уверен, что Сталин по-прежнему хочет найти Либерею, а работы по поискам библиотеки были прекращены исключительно из-за интриг его окружения. Но в Кремль археолога больше не пустили.
Тяготы войны привели к тому, что в 1943 году Стеллецкий перенес первый инсульт. В 1947 году, после второго инсульта, Игнатий Яковлевич оказался частично парализован. 18 января 1949 года последовал третий инсульт, после которого ученый оказался прикован к постели.
Умер Стеллецкий 11 ноября 1949 года, повторяя перед смертью только одно слово: «Мойра… Мойра…».
На древнегреческом слово это – судьба. После инсульта бывает, что человек забывает родной язык, но может разговаривать на других языках, которые изучал в своей жизни.
По другой версии, последние месяцы жизни Стеллецкий говорил только по-арабски (этот язык он еще до революции изучил в Палестине), последними его словами были: «Аль-Китаб» – книга. Очевидно, мысли о Либерее, поиски которой стали его судьбой, не оставляли ученого и в последние мгновения жизни.
В 1962 году при поддержке главного редактора «Известий» А. И. Аджубея в газете «Неделя» появляются главы из книги Стеллецкого. В письмах, направленных в «Неделю», читатели взволнованно спрашивали, когда возобновятся поиски библиотеки. Год спустя в Москве была создана общественная комиссия во главе с академиком М. Н. Тихомировым для поисков Либереи. В нее вошли историки, археологи, архитекторы, архивисты: С. О. Шмидт, М. Р. Рабинович, А. Г. Векслер, В. Н. Федоров и другие. Предусматривалось проведение архивных изысканий, изучение топографии Кремля и осуществление археологических раскопок. Вероятно, Аджубей заручился согласием тестя на то, чтобы археологам открыли доступ в подземный Кремль. Однако с падением Хрущева проект потерял свою актуальность. Не получив поддержки наверху, комиссия вскоре тихо умерла. Сразу после этого к вдове Стеллецкого М. М. Исаевич обратилось несколько человек, желавших получить дневниковые записи о раскопках в Кремле и третий том документальной истории библиотеки Грозного. В РГАЛИ сегодня хранятся только первые два тома, судьба третьего тома неизвестна до сих пор. В письмах к другу семьи Исаевич упоминала о загадочном квартиранте, который поселился у нее после долгих уговоров, а в один прекрасный день не вернулся домой. Возможно, рукопись третьего тома исчезла вместе с таинственным постояльцем, скорее всего связанным с КГБ.
Последние по времени раскопки в Угловой Арсенальной башне проводились археологами Кремля в 1975 году. Удалось расчистить до дна цистерну Солари. Оказалось, что она представляет собой многогранник диаметром 5,51 метра. Верхняя часть его имела обкладку из кирпича, а нижняя – из белого камня, причем обкладка была сделана еще в XVI веке. При расчистке водоема на глубине 4 и 5 метров нашли два шлема, стремена и фрагменты кольчуги. Археологи полагают, что шлемы и стремена, завернутые в кольчугу, были намеренно утоплены в цистерне. Шлемы относятся к концу XV – началу XVI века. Один из них, с инкрустацией серебром, явно принадлежал человеку знатному. Однако кто и зачем утопил доспехи в цистерне, мы, наверное, никогда не узнаем. Был ли это какой-то священный обряд, связанный с водой, или кто-то использовал цистерну в качестве тайника, а потом не смог вернуться за его содержимым? Наверняка кремлевские подземелья таят великое множество загадок. Но даже если каких-то особо ценных кладов найти не удастся, археологические раскопки помогут в деталях выяснить архитектурную историю Кремля и реконструировать древние постройки.
А библиотека Ивана Грозного, таинственная Либерея, все равно будет манить энтузиастов и романтиков. Библиотека, которой никогда не существовала, останется мистическим символом сокровенного знания, доступного лишь достойным этого, духовно просветленным людям и оберегаемого от прочих неведомыми силами. Даже если перекопают весь Кремль вскроют все подземелья и тайники, легенды о Либерее будут жить и преумножаться.
Яков Брюс. Маг или ученый?
О Якове Брюсе говорили, что он состоит на службе и царю, и дьяволу. Его считали не только инженером, но и астрологом и алхимком, будто бы разгадавшим секрет философского камня – отсюда его сказочное богатство. В народе же Якова Вилимовича прямо называли колдуном. «Брюс на всю Россию был самый чудесный человек», – писал Лев Толстой. А по словам историка Василия Татищева, хорошо знавшего Брюса, он был человек «высокого ума, острого рассуждения и твердой памяти». Среди «птенцов гнезда Петрова» после светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова следующим обычно вспоминают Брюса.
Народная молва приписывала Якову Брюсу феноменальные способности. Будто бы он мог с одного взгляда сосчитать горошины в рассыпанной кучке, знал все наименования звезд, планет и созвездий в небе. О нем говорили: «Ты вот возьми, насыпь на стол гороха и спроси его, Брюса, сколько? А он взглянет – и не обочтется ни одной горошиной. А спроси его, сколько раз повернется колесо, когда поедешь от Тешевич до Киева? Он тебе и это скажет. Да что! Он на небо взглянет и тут же скажет, сколько есть звезд на небеси!.. Он знал все травы тайные, камни чудные и составы из них разные делал, и даже живую воду…»
Яков Вилимович Брюс (1669–1735) – русский государственный деятель, военный, дипломат, инженер и учёный, один из ближайших сподвижников Петра I. Генерал-фельдцейхмейстер (1711), генерал-фельдмаршал (1726), реформатор русской артиллерии. В московских преданиях за ним прочно закрепилась репутация чернокнижника, «колдуна с Сухаревой башни» и первого русского масона
Многие легенды о Брюсе связаны с Сухаревской башней. В 1700 году в этой башне Брюс по поручению Петра организовал Школу навигацких и математических наук. Так как Сухаревская башня возвышалась над землей на 64 метра и к тому же находилась на одном из наиболее высоких мест Москвы, то Брюс нашел, что, одновременно с размещением в ней школы будущих мореплавателей, башня может быть использована и для устройства в ней астрономической обсерватории в одном из верхних ее этажей. Кроме астрономических зрительных труб, там были также размещены измерительные инструменты – секторы и квадранты – для определения времени по звездам Большой и Малой Медведиц. Здесь же был помещен привезенный в Москву из Голландии еще при жизни Алексея Михайловича большой звездный глобус диаметром 2 м 13 см. В 1706 году из этой обсерватории впервые в России научно наблюдалось солнечное затмение.
Сухаревская башня
К сожалению, сколько-нибудь полного представления о том, что именно наблюдал Брюс и какие астрономические открытия он сделал, мы не имеем до сих пор. Стоит только указать, что в вышедшей в 1803 году «Истории астрономии» французского астронома Жозефа Жерома Лаланда отмечалось, что «Брюс производил некоторые наблюдения». Очевидно, о своих наблюдениях Яков Вилимович сообщал своим европейским корреспондентам, но эта переписка до сих пор не найдена.
Монета с эмблемой Школы навигацких и математических наук, организованной Брюсом по поручению Петра I
А вот царю Петру. 22 марта 1699 года Брюс из Москвы писал: «Милостивый государь!.. При сем доношу, когда изволишь потемнение солнца примечать, тогда изволь избрать избу, в которой бы можно было окны все закрыть, чтоб свету в ней ничего было. Такожды надобна трубка зрительная, которую в яблоко деревянное (кронштейн. – Б. С.) вкрепить, чтобы можно было трубку на все стороны поворотить на ту стать, как у астролябиума… Сие изготовивши, надобно… круг солнечный на разных бумажках начертить, чтобы в разные времена величество потемнения ведомо было. Остаюсь твой всем сердцем – Якушко Брюс».
Французский астроном Жозеф Жером Лефрансуа де Лаланд, с которым Брюс, вероятно, находился в переписке
В другом письме Петру от 16 марта 1716 года, уже из Петербурга, Брюс рассказал о наблюдавшемся им огненном шаре – болиде: «6-го числа с вечера, около девяти часов, явилось светло за облаками близ горизонта от норд-веста даже чуть не до самого норд-оста… Пламена огненные гораздо жидким цветом вверх от горизонта простирались и показывались везде по небу кругом по всем странам… Сии временные видения продолжались до второй четверти второго часа по полуночи. Всего дивняе мне казалась континуация сего временного горения, ибо егда метеоры являются, то оные по явлению скоро сгорают и минуются. Ежели простых людей к мнению приставить, то бы возможно многая изображения яко же они представляют соделати…»
Наконец, 18 июля 1716 года Брюс обрадовал Петра сообщением, что наблюдал пятна на Солнце: «Было мое желание вашему величеству донести, что я в солнце пятна усмотрел, однакож опасался в таких многодельных временах вашему величеству так малым делом докучать. Токмо ж, памятуя любопытство и особливое тщание вашего величества в вещах, не часто случающихся, дерзнул ныне донести, что оных много в солнце является и возможно оных гораздо внятно трубою зрительною футов в 12 видеть, егда ближайшее стекло к глазу умеренно покоптится, возможно ж оныя и в 4 фута длиною трубкою видите; однакож гораздо мелко. Я надеюся, что ваше величество, конечно, оныя может увидеть, ежели да изволите кому ни есть приказать по вся дни недели две смотреть дважды или трижды в день, понеже иногда в нем ничего не видеть, когда солнце, поворачиваяся на оси своей, от вида нашего оные пятна отворотит. А обращается оное на оси своей в 26 1/4 дней. И понеже сие, колико мне известно, уже с 30 лет не видно было, и я от роду своего впервые увидел, того ради не мог удержаться, не донеся о сем вашему величеству».
В Сухаревой башне Брюс порой просиживал ночи, особенно после того, как вышел в отставку. Народная молва же приписала ему сношения с дьяволом. Здесь он будто бы хранил «черную книгу» и творил волшебство. Некоторые вообще приписывали Брюсу строительство Сухаревой башни, чтобы иметь удобное помещение для контактов с нечистой силой, хотя в действительности башню возвели по приказу Петра в 1692–1695 годах, причем спроектировал ее архитектор Михаил Чоглоков. Брюс тогда еще был простым поручиком, и строительство башни ему, разумеется, никто поручить не мог.
Для Петра I, несмотря на ученость Якова Вилимовича, последний рассматривался в качестве военного специалиста. Что же касается астрономической обсерватории на Сухаревой башне, эта обсерватория создавалась Брюсом не для собственной работы, а для обучения специалистов, получавших в школе образование, связанное с деятельностью военно-морского флота. Навигацкая школа в большей мере готовила капитанов кораблей, штурманов (навигаторов), для которых познания в области астрономии были необходимы. Это было первое на Руси высшее светское учебное заведение – прародительница будущей Морской академии в Петербурге. Учеников в Навигацкую набирали отовсюду, лишь бы обеспечить требуемое число. Поэтому в новой школе рядом с сыновьями князей сидели за партами дети дворовых людей. Преподавателем арифметики и геометрии здесь был известный математик Леонтий Магницкий, автор знаменитой «Арифметики», которая на целых полвека стала основным учебником в русских школах.
Известный математик Леонтий Магницкий, автор знаменитой «Арифметики», которая долгие десятилетия была основным учебником в русских школах, преподавал в Навигацкой школе арифметику и геометрию
Интересно, что в Навигацкой школе из класса в класс гардемаринов переводили в зависимости от успехов в науках, а не по возрасту. В результате образовалась категория «вечных гардемаринов», сидевших в одном и том же классе по десять и более лет. Рекорд поставил некий Иван Трубников. Он просидел за партой 30 лет и в возрасте 54 лет был уволен «по болезням и старости, и как ко обучению наук находиться уже не надёжен».
Франц Яковлевич Лефорт (1655–1699) – русский государственный и военный деятель, генерал, адмирал, сподвижник Петра I, основатель легендарного «Нептунова общества», занимавшегося будто бы не только астрологией, но и магией
В народе ходили слухи, что ночной порой в верхних окнах башни таинственно мерцал свет, когда друг царя Петра Франц Лефорт собирал «Нептуново общество», занимавшееся будто бы среди прочего астрологией и магией. В общество входили еще восемь человек и среди них – сам царь, неразлучный с ним Меншиков и Яков Брюс. Но никаких документальных подтверждений существования Нептунова общества не существует. Скорее всего, мы имеем дело с еще одной легендой, сохраненной народным преданиием.
Как только ни называли Брюса: колдун, чернокнижник, чародей. Ни с одним московским жителем не было связано столько слухов и легенд. Брюсу приписывали изобретение эликсира вечной молодости, утверждали, будто он овладел секретом «живой» и «мертвой» воды. Во второй половине XIX века М. Б. Чистяков записал рассказы крестьян из села Чернышино Калужской губернии, принадлежавшего когда-то Брюсу. Крестьяне говорили, что хозяин села был царским «арихметчиком», знал, как уже говорилось, сколько звезд на небе и сколько раз колесо повернется, пока до Киева повозка доедет.
Решив испробовать чудо оживления и омоложения на себе самом, Брюс будто бы повелел верному слуге разрубить себя на части мечом и потом поливать «живой водой». Но для этого нужен был долгий срок, а тут царь некстати хватился своего «арихметчика». Пришлось слуге во всем сознаться и показать тело господина: «Глядят – тело Брюсово уж совсем срослось и ран не видно; он раскинул руки, как сонный, уже дышит, и румянец играет в лице». Возмутился духом православный царь, сказал с гневом: «Это нечистое дело!» И повелел похоронить чародея в земле на веки вечные.
В XX веке утверждали, будто он не умер, а создал воздушный корабль и улетел на нем неведомо куда. Царь же повелел книги его замуровать (опять-таки в Сухаревой башне), а все снадобья сжечь. Таким образом, разрастался и варьировал целый свод сказаний, в которых Брюс представал кем-то вроде русского Фауста. Также в этих легендах Брюс очень напоминал царя Ивана Грозного с его Либереей, будто бы повелевшего замуровать великую библиотеку до лучших времен.
Еще говорили, что он собрал из железных пластин механическую птицу и, сидя верхом на ней, летал над Москвой, пользуясь прикрытием ночной темноты, чтобы реже попадаться на глаза перепуганным жителям, и якобы по найденным брюсовым чертежам в начале XX века были созданы первые русские аэропланы.
Кроме того, ходили упорные слухи, что после десяти лет упорного труда удалось ему сконструировать «вечные часы» и, дескать, завел он их, а ключ выбросил в реку. Шли те часы долго, даже после его смерти, пока во времена Екатерины Великой не попытались их усовершенствовать – разобрали, но снова собрать не смогли.
Поговаривали, что не рождался ни до, ни после Брюса на Руси человек, что мог бы сравниться с ним знаниями и чародейством. Сподвижник Петра будто бы знал не только собственное будущее, но и судьбы всех людей, владел секретом гипноза («отводил глаза»), и не было ни одной вещи на земле или на небе, тайны которой он не постиг.
Брюсов календарь
Но кем же на самом деле был Яков Брюс? Здесь мы воспользуемся данными, содержащимися в наиболее фундаментальной биографии Брюса на русском языке, написанной Александром Филимоном.
Его родословие тянется из глубокого прошлого Европы и восходит к норманнскому завоеванию Англии, в котором участвовали предки Брюса. Самым известным его предком был король Шотландии Роберт I, который в 1314 году разбил армию английского короля Эдуарда II при Баннокберне, а в 1328 году добился от Англии признания независимости Шотландии. Другой представитель этого рода, Эдвард Брюс, был в XIV веке королем Ирландии. В годы английской революции 1640-х годов Вилим (Уильям) Брюс, будучи сторонником короля Карла I, после поражения роялистов бежал в 1647 году в Голландию, а затем в Россию, где поступил на военную службу. В английской королевской армии он имел чин поручика. В России первые девять месяцев Вилим Брюс не получал жалованья. В мае 1648 года он и другие иностранные офицеры вынуждены были даже обратиться к царю с челобитной, в которой жаловались, что они с женами и детьми вынуждены «болтаться меж двор», просить подаяния и нищенствовать.
Король Шотландии Роберт I, в 1314 году разбивший армию английского короля Эдуарда II при Баннокберне, а в 1328 году добившийся от Англии признания независимости Шотландии, – самый известный предок Брюса
Быструю карьеру Вилим Брюс сделал с началом русско-польской войны 1654–1667 годов. В 1658 году он получил уже чин полковника и командовал псковским полком. В том же году он был ранен (получил «увечное ранение»), вышел в отставку и поселился в Москве в Немецкой слободе, где женился. По документам следует, что Вилим прибыл в Россию без жены, известные нам дети появились спустя два десятилетия после его приезда. Из этого следует, что он женился в России, но национальность его жены остается неизвестной. Можно только предположить, что после смерти мужа она вышла Вторым браком замуж за иностранного офицера Юрия Инглиса, судя по прозвищу, англичанина, поскольку его сына Андрея Инглиса, коменданта Нарвы, Брюс в письме 1705 года называл братом.
Этот брак еще прочнее привязал Вилима к России. После реставрации Стюартов в 1660 году возвращаться на родину он уже не захотел, остался на Руси и умер в 1680 году в чине генерал-майора. Дочь Вилима Брюса, Елизавета, впоследствии вышла замуж за полковника Джона Трейдона. Она умерла в 1694 году. Яков Брюс родился в Москве 1/11 мая 1669 года. Яков получил прекрасное домашнее образование (учителей, скорее всего, выписали из Европы) и увлекся математикой и естественными науками, за что впоследствии получил в народе прозвище «Брюс-арифметчик». Тут лежит одна из многочисленных загадок Брюсовой биографии. Неясно, где и как сын иностранного офицера сумел получить в Москве в 70—80-е годы XVII века такое блестящее образование, которое позволило ему затем овладеть глубокими познаниями в самых различных областях науки. Учтем также, что в возрасте 17 лет Яков Брюс уже поступил на военную службу и не мог далее получать систематическое образование. Тем не менее он овладел столь глубокими познаниями в самых различных областях науки, что смог на равных вести диалог с виднейшими представителями европейской науки. Нет никаких данных, что Брюс выезжал для учебы за границу, и такое кажется весьма маловероятным. Скорее всего, у него были хорошие домашние учителя, однако крайне сомнительно, чтобы они смогли дать ему такой уровень образования, который сразу же позволил бы ему в научных изысканиях встать вровень с последними достижениями естественных наук того времени. Остается предположить, что разгадка лежит в феноменальных способностях Брюса, особенно в сфере математики, физики и астрономии. Учитывая, что большую часть своей сознательной жизни ему пришлось провести в военных походах, в выполнении дипломатических поручений, а также в организации российской промышленности, наукой ему приходилось заниматься в основном в прикладных целях, для нужд артиллерии и промышленности, а также для изготовления инструментов для исследований. Остается только гадать, какие открытия в сфере фундаментальных наук совершил бы Брюс, если бы наука стала его основным и единственным занятием. Да и какие именно открытия он совершил, мы и сегодня не знаем толком, поскольку его зарубежная переписка и архив выявлены и изучены лишь в незначительной степени.
В службу Яков Брюс вступил в 1686 году корнетом (прапорщиком) кавалерии. Он участвовал в неудачных крымских походах князя Василия Васильевича Голицына в 1687 и 1689 годах в качестве инженерного офицера. За первый крымскией поход храбрый шотландец был награжден поместьем в 120 четвертей земли и деньгами в размере от 8 до 30 рублей, а за второй поход получил в награду поместье в 130 четвертей земли и 15 руб. денег. Во время стрелецкого бунта 1689 года Петр неожиданно уехал из Преображенского в Троице-Сергиеву лавру. Отрядом иноземцев, в котором служил поручиком Я. В. Брюс, командовал шотландец генерал Патрик Гордон. Прибытие в монастырь отряда Гордона состоялось 5 сентября 1689 года. Вероятно, в этот день Петр и познакомился с Брюсом. С тех пор и завязалась их дружба. Ей немало способствовало и то обстоятельство, что шотландец не уступал «герру Питеру» в пьянстве и разгуле. В 1692 году Брюс был назначен в Белгородский полк, которым командовал будущий фельдмаршал и граф Б. П. Шереметев.
Троице-Сергиева лавра. Вероятно, здесь 5 сентября 1689 года познакомились Петр и поручик Я. В. Брюс. С тех пор и завязалась их дружба
В 1693 году пожалованный в ротмистры (капитаны кавалерии) Яков Брюс сопровождал Петра в Архангельск, где царь закладывал первые верфи. А в январе 1695 года Петр произвел Брюса в чин майора, и тогда же, в январе 1695 года, Яков Вилимович женился. Его избранницей стала Маргарита фон Мантейфель (в России ее величали Мария или Марфа Андреевна), дочь генерала Цоге фон Мантейфеля, выходца из остзейских немцев. Посажёным отцом на свадьбе был сам царь.
В 1695 и 1696 годах Брюс участвовал в Азовских походах, завершившихся взятием турецкой крепости. Теперь он уже был морским капитаном и за храбрость при штурме Азова был пожалован чином полковника. Под Азовом погиб его младший брат Вилим. Во время осады Азова Брюс занимался составлением карты от Москвы до берегов Малой Азии, которая впоследствии была напечатана в Амстердаме. Брюс сопровождал Петра во время Великого посольства в Англию и Голландию. Он присоединился к царю в 1697 году в Амстердаме. В этом городе он также успел похлопотать об издании своей карты. 28 сентября в Москву отправляется послание, в котором на основании указа царя, «велено послать» в Голландию полковника Якова Брюса «для математической науки в англицком государстве». Перед отъездом в Москве с Яковом Вилимовичем произошел досадный инцидент: В доме князя-кесаря Ф. Ю. Ромодановского, начальника Преображенского приказа, ведавшего полицейским сыском, и правителя страны в отсутствие Петра, он получил сильный ожог руки и приехал в Амстердам только 19 декабря. Петр разгневался и написал Ромодановскому:
«Зверь! Долго ли тебе людей жечь? И сюды раненые от вас приехали». А насчет пристрастия Ромодановского к хмельным напиткам, прозрачно именуемым Ивашкой Хмельницким, царь писал с явной угрозой: «Перестань знатца с Ивашкою, быть от него роже драной».
Князь-кесарь в ответном письме оправдывался: «В твоем же письме написано ко мне, будто я знаюся с Ивашкою Хмельницким; и то, господине, неправда… Неколи мне с Ивашкою знатца, всегда в кровях омываемся; ваше то дело на досуге стало знакомство держать с Ивашкою, а нам недосуг. А что Яков Брюс донес, будто от меня руку обжег, и то сделалось пьянством его, а не от меня». Петр согласился счесть происшедшее обычной пьяной ссорой: «Писано, что Яков Брюс с пьянства своего то сделал; и то правда, только на чьем дворе и при ком? А что в кровях, и от того, чаю, и больше пьете для страху. А нам подлинно нельзя, потому что непрестанно в ученье».
Портрет Ф. Ю. Ромодановского, начальника Преображенского приказа, ведавшего полицейским сыском, и правителя страны в отсутствие Петра
Брюс, приехав с Петром в Англию, затем остался там на год (до Шотландии, родины предков, он так никогда и не добрался). Он занимался математикой и астрономией под руководством английских ученых, в том числе великого Исаака Ньютона. Брюс приобщился к открытым Ньютоном новым основам мироздания, познакомился с его капитальным трудом «Математические начала натуральной философии». Он также написал научную работу «Теория движения планет», основанную на ньютоновской механике. Главное же, он внимательно изучил британскую артиллерию, чтобы использовать ее опыт в предстоящей войне с Швецией.
Старый лондонский мост
В феврале 1698 года у Брюса родилась дочь Маргарита, но прожила недолго, уже в марте скончалась. В 1699 году, по возвращении из Англии, Брюс участвовал в разработке воинского Устава.
В 1700 году Брюс был пожалован в генерал-майоры от артиллерии. В августе, сразу после подписания мирного договора России с Турцией, ему было приказано «выйти с блокиром в Ижорскую землю». Отряд Брюса должен был, выйдя из Москвы, подойти к Нарве и до начала осады блокировать подступы к крепости. Но из-за плохих дорог отряд Брюса шел очень медленно и прибыл в Новгород, находившийся на пути к Нарве, уже после того, как там оказался Петр I с основным войском. Поэтому царь приказал отстранить Брюса от командования войсками.
Исаак Ньютон. Худ. Кнеллера, 1689. Под руководством великого ученого Брюс, находясь в Англии, занимался математикой и астрономией
В кабинетных делах Петра сохранилась запись: «28 июля 1700 посланы из Москвы Яков Брюс, Иван Чамберс, Василий Корчмин до Новгорода наскоро. Они поспели в Новгород в 15 дней, за что гнев восприял от его величества Яков Брюс и от команды ему отказано. Послан, вместо Брюса, с полками, новгородский воевода Ив. Юр. Трубецкой». Тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Воевода Трубецкой под Нарвой попал в плен. Скорее всего, Брюса, останься он здесь со своими частями, ждала бы та же участь. А это, безусловно, положило бы конец и его блестящей карьере при русском дворе, и научным изысканиям. Благодаря же опале Брюс не был ответствен за катастрофу под Нарвой и оказался одним из немногих офицеров-иностранцев, не скомпрометированных этим поражением. В 1701 году Петр возвратил Брюсу командование артиллерией и сделал его новгородским воеводой (главой новгородского приказа).
Великий Новгород. Гравюра из книги А. Олеария «Описание путешествия в Московию…». Середина 1630-х – первая половина 1640-х гг.
Из церковных колоколов по указу Петра было отлито 300 пушек, что в значительной мере возместило потери под Нарвой. Брюс командовал артиллерией при взятии Нотебурга (Шлиссельбурга) в 1702 году и Ниеншанца в 1703 году. В 1704 году он участвовал во взятии Нарвы и был за это награжден земельными наделами в Новгородской губернии. В этом же году Брюс возглавил артиллерийский приказ. Неслучайно в Петербурге его дом стоял рядом с Литейным двором, где днем и ночью лили пушки.
Вместе с Меншиковым Брюс сражался в Польше, где в 1706 году был произведен в генерал-поручики и удачно командовал артиллерией в победоносном для русских сражении под Калишем. За победу в этом сражении, происшедшем 18 октября, Брюс был награжден именным портретом Петра I с алмазами. Во время этого похода завязалась дружба двух «Данилычей» (Петр называл Брюса Динылычем, а не Вилимовичем).
Александр Данилович Меншиков (1673–1729) – русский государственный и военный деятель, ближайший сподвижник и фаворит Петра I, генерал-фельдмаршал, первый Санкт-Петербургский генерал-губернатор
В 1706 году Александр Данилович получает диплом князя Священной Римской империи и теперь именуется «Светлейшим». Он собирался достойно отметить это событие и 19 июля писал Брюсу из Хвастова: «Высокопочтенный Господин Генерал Лейтенант. Зело я удивляюсь, что ваша милость пороху к нам отпустил столко, сколко к стрелбе против неприятеля надлежит. Или не может Господин Генерал разсудить, что иногда и мы ненасухе лежим; и в то время, чем про ваше здоровие стрелят, о чем прошу благаго разсуждения и пребываю Вашей Милости к службе охотный Александр Меншиков».
Из ответа Брюса 20 июля становится ясно, какого рода припасы требовались Меншикову: «…Желею что…пороха послал, которым от неприятеля поборонитца возможно, а для лутччаго союса с Ивашкою Хмельницким ничего…И в том есть совершенне вина моя, толко ж есть причина тому, что и выше писанной порох займывал. А ныне, по получении своего пороха, для лутчаго возбуждения с Бахусом дружбы, послать квашему сиятельству 3 бочки пороха, в которых содержится по 80 выстрелов на всякую пушку, которыя посланы квашему сиятелству. А буде и сим да невозможно будет Ивашку к союсу провести, и мы впред вашему сиятелству услужим же».
Пристрастие «птенцов гнезда Петрова» «к исполнению «Бахусова закона» было характерно для них на протяжении всей жизни. Незадолго до процитированного последнего письма Брюс извещал Меншикова о поездке своей во Львов (Лемберг) и покупке там для себя «питья венгерского», привезенного из венгерского города Унгвара. «80 выстрелов» в письме – это 80 бутылок венгерского вина.
Узнав о дружбе Брюса с Меншиковым, многие знатные вельможи стали предлагать ему свои услуги в расчете, что замолвит слово перед Данилычем. Среди просителей был и его обидчик Ромадановский, с которым Брюс давно помирился.
В январе 1708 года у Брюса родилась дочь Наталья. Но она, как и ее старшая сестра, прожила недолго.
В 1708 году Брюс командовал левым крылом русской армии в сражении при Лесной, и за победу ему были пожалованы «брянских посопных слобод… 219 дворов». А в 1709 году в Полтавской битве опять командовал артиллерией, насчитывавшей тогда 102 орудия – против 4 шведских. За время двухмесячной осады и неоднократных попыток штурма крепости шведы растратили весь свой орудийный боеприпас и фактически лишились артиллерии. Во многом это последнее обстоятельство сыграло решающую роль в ходе Полтавской баталии 27 июня, во время которой пушки Брюса сыграли решающую роль. За Полтавскую викторию Яков Вилимович получил из рук Петра орден Св. Апостола Андрея Первозванного. В 1710 году Брюс участвовал во взятии Риги, в 1711 году вместе с Петром был в неудачном Прутском походе против турок и был пожалован званием генерал-фельдцейхмейстера, т. е. начальника всей артиллерии и инженерных войск. В 1712 году Брюс командовал артиллерией в совместном походе русских, датских и саксонских войск в Померанию и Голштинию. От саксонского и польского короля Августа Брюс получил польский орден Белого орла. Тогда же он вербовал в Германии офицеров и гражданских специалистов на русскую службу.
Берлин в 1652 г. на гравюре знаменитой мастерской Мериана. В 1711 году Петр отправил Брюса в Берлин «для найму мастеровых людей знатных художеств, которые у нас потребны»
В 1711 году Петр отправил Брюса в Берлин «для найму мастеровых людей знатных художеств, которые у нас потребны». Вполне доверяя широким познаниям и деловой экономности Брюса, царь в сопроводительной грамоте писал: «И что он, генерал наш, им в контрактах обещает и заключит, то от нас все сдержано будет без умаления». В 1712 году Петр в письмах к Брюсу то просит навести справки об одном из немецких архитекторов и при благоприятном результате заключить с ним контракт, то поручает найти мастера редкой перспективной живописи, то переманить в русскую службу искусного садовника, устраивавшего королевские парки. Занимался Яков Вилимович и покупкой инструментов для научных и мореходных целей. Приобретал художественные произведения и редкости для царского собрания. Во время таких поездок он познакомился с немецким ученым Г. Лейбницем и потом вел с ним переписку.
В 1714 году он был уличен в хищении казенных денег. Яков Вилимович уже давно занимался производством пушек и снарядов к ним, распоряжался огромными подрядами, и изрядное количество презренного металла действительно прилипало к его рукам.
Осенью того же года вместе с князем Меншиковым, адмиралом Апраксиным, фельдмаршалом Шереметевым, адмиралтейским президентом Кикиным и некоторыми другими Брюс был заподозрен в «хищении государевой казны» и противозаконных подрядах под чужим именем. С 27 октября по 23 декабря по этому делу было арестовано («взяты под караул») и допрошено несколько купцов, приказчиков большинство артиллерийских подрядчиков, комиссаров, секретарей, бургомистров, извозчиков. Был наложен арест на документы Военного, Поместного и Артиллерийского приказов. Комиссия, созданная для расследования дела в начале 1715 года, под председательством В. В. Долгорукого, признавала виновными в казнохищении Меншикова, Апраксина, Брюса, Кикина и петербургского вице-губернатора Корсакова, из всех пострадали два последних.
Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) – немецкий философ, лингвист, математик, механик, изобретатель, физик, юрист, историк, дипломат; основатель и первый президент Берлинской Академии наук, иностранный член Французской Академии наук. С немецким ученым Брюс познакомился во время одной из зарубежных поездок и потом вел с ним переписку
Петр на своего любимца гневаться не стал. Царь понимал, что ему неким заменить первого российского артиллериста – и как видного полководца, знатока артиллерии, и как талантливого организатора военного производства.
Английский посол Ч. Витворт в 1709 году сообщал, что Брюса высоко ценят при русском дворе: «Он очень хорош и с царем, и с князем Меншиковым». Дружбы Брюса искал фельдмаршал Б. П. Шереметев, писавший: «Паки прошу: не оставь меня в любви своей и не чини меня забвенна…».
Портрет царевича Алексея Петровича. Худ. Иоганн Готфрид Таннауэр
Брюс был не только верным исполнителем державных замыслов Петра, но и принимал участие в его семейных делах. Петр поручил Якову Вилимовичу регулярно посещать царевича Алексея, надеясь, очевидно, что беседы умного и широко образованного человека повлияют на непутевого наследника. При дворе царевича состояла и супруга Брюса Мария Андреевна (Маргарита Мантейфель).
Близость Брюса и царевича породила слухи о том, что в 1715 году жена Брюса находилась при кронпринцессе неотлучно «чуть ли не в качестве шпиона». Слухи, без сомнения, беспочвенные, потому что Яков Вилимович в какой-то степени считал себя ответственным за сына царя, и эта ответственность перекладывалась на плечи Марфы Андреевны, которая добровольно взяла на себя опеку над кронпринцессой Шарлоттой в ее адаптации к российским условиям. Кроме того, Шарлотта не отличалась крепким здоровьем – в ее положении (она родила сына Петра, будущего Петра II, 12 октября 1715 года) очень важно было внимание женщины, старшей по возрасту, отличающейся материнским участием к урожденной принцессе Бланкенбургской. Шарлотта нуждалась в женском покровительстве еще и потому, что у Алексея, как известно, в начале 1715 года появилась любовница – Ефросинья, дочь его учителя Никифора Вяземского. Поэтому он не только охладел к жене, но и достаточно отдалился от нее.
Как старшая по возрасту, пережившая смерть своих дочерей в младенчестве, довольно продолжительное время жившая в разлуке с мужем, бывшего месяцами в военных походах и поездках за границу, Марфа Андреевна могла утешить Шарлотту и действительно заменить ей мать.
После рождения сына Шарлотта заболела. В эти дни Алексей был подле Шарлотты, раскаивался в своей измене, однако она прожила после рождения сына 10 дней и умерла 22 октября 1715 года.
Характерно, что под смертным приговором Алексею Брюс свою подпись не поставил. Однако это объяснялось тем, что в июне 1718 года, когда выносился приговор, он с женой находился на Аландском конгрессе и физически не мог поставить свою подпись.
Весной 1723 года Петр праздновал очередную годовщину бракосочетания с Екатериной. Яков Вилимович, распоряжаясь торжествами, устроил в Петербурге грандиозную процессию кораблей, поставленных на полозья и запряженных лошадьми. Кампредон рассказывал: «Царь ехал на 30-пушечном фрегате, вполне оснащенном и с распущенными парусами. Впереди в шлюпке в виде бригантина с трубами и литаврами на носовой части оного ехал распорядитель праздника, главный начальник артиллерии граф Брюс».
В 1716 году Брюс разработал артиллерийский устав. Брюсом также была изобретена новая скорострельная пушка, позволявшая в течение семи минут производить 15 выстрелов.
Брюс достиг больших успехов в создании и усовершенствовании русской артиллерии. В 1720 году он получил новый состав пороха, который превосходил по качествам все известные в то время составы пороха и обеспечивал максимальную точность и дальность стрельбы. Об этом упоминается в «Записке на память, о чем доложить его царскому величеству». В том же году 23 февраля Брюс был назначен генерал-директором над фортификациями. Отныне в его ведении находились все российские крепости.
Среди всех поручений, исполняемых Брюсом, особое место занимает его деятельность на посту президента учрежденной 15 декабря 1717 года Берг-Мануфактур-коллегии (ранее Брюс был начальником Артиллерийского приказа и Инженерной канцелярии). Выбор, сделанный Петром при назначении Брюса на эту должность, был неслучайным. Будучи губернатором Новгорода в 1701–1704 гг., Яков Брюс активно занимался развитием мануфактур, делал перепись всех находившихся в городе и его окрестностях мельниц, работавших в качестве источника двигательной силы на предприятиях.
По предложению Петра коллегия разрабатывала каноны при формировании компаний, ссужая компанейцев деньгами, часто передавая в их пользование готовое фабричное обзаведение. Государство, таким образом, становилась главным кредитором крупной промышленности и осуществляло тщательный надзор за деятельностью компаний. Это вмешательство в частное предпринимательство коллегия считала своей обязанностью. Она «принуждала» подданных строить компании и строго наблюдала за «порядочным содержанием» их. «Без доношения в коллегию» ничего нельзя было сделать. От фабрикантов требовалось ежегодно доставлять в коллегию образцы своих изделий; коллегия устанавливала вид и форму изделий, цены на них, а также запрещала продавать в розницу товары, которые изготовлялись по казенному заказу. Коллегия поощряла успешных предпринимателей и карала неудачников. В царском указе так и говорилось: «Буде они (компанейшики) оный завод радением своим умножат и учинят в нем прибыль, и за то они от него, Великого Государя, получат милость, а буде не умножат и нерадением умалят, и за то на них взято будет штрафу по 1000 рублей на человека». «Нерадивых» просто «отрешали» от фабрик.
Это открывало большой простор для злоупотреблений, поскольку, кто хорошо ведет дело, а кто – нет, решали в коллегии. Брюс, надо полагать, тоже погрел на этом руки, иначе то состояние, которое он имел к концу жизни, можно было бы объяснить только с помощью изобретения философского камня, превращающего свинец в золото. На практике же Яков Вилимович, приступивший к обязанности президента Берг-мануфактур коллегии только в 1719 году, после возвращения с Аландского конгресса со шведами, действительно делал золото, причем без всяких алхимических чудес, в которые не верил, и из свинца, и из пороха, и из пушек, ядер, кожевенных изделий и многого другого. Ведь как генерал-фельдцейхмейстер он принимал все казенные заказы, а как глава Берг-мануфактур коллегии эти заказы распределял. Это создавало идеальные условия для коррупции. Своим любимчикам Петр коррупцию прощал. Правда, одному из любимых «Данилычей», Меншикову, император иной раз основательно драил физиономию, когда, по его мнению, «светлейший» из «худородных» дворян (или вообще из мелких торговцев, как гласила молва) крал, не зная меры. По отношению же к другому «Данилычу», Брюсу, Петр рукоприкладства никогда не допускал, очевидно, из уважения к древности и знатности иностранного рода. Во всяком случае, и источники, и предания на этот счет никаких свидетельств не дают.
Очевидно, Петр в глубине души сознавал, что в созданной им же сверхцентрализованной бюрократической системе управления не воровать не могут, тем более что при развитии торговли и промышленности через руки чиновников проходили кругленькие суммы в звонкой монете (а чеканил монету тот же Брюс). Это тебе не прежние натуральные «кормления» дьяков и воевод в натуральной по своей экономической сути Московской Руси. При Петре вельможам было где деньги потратить – и за границей, и в Петербурге, где жить можно было на широкую ногу. Петр, повторяю, все это сознавал. Иначе не выделил бы на содержание чиновничества всей огромной Российской империи сумму, равную той, которая в только что побежденной Швеции шла на содержание чиновников в одной только крохотной Эстляндии, чье население было меньше российского раз в 40–50. Перед великим голодом 1695 года оно насчитывало 360 тыс. человек, а население Российской империи в 1721 году – 15–16 млн. человек. Поэтому молчаливо предполагалось, что недостающее для прожития жалованье российские чиновники доберут взятками и прямым казнокрадством. А вот наказывать их император собирался в прямой зависимости от их служебного рвения и успехов. Как писал уже в XIX веке историк-краевед М.И. Пыляев, сибирский генерал-губернатор князь Михаил Петрович Гагарин, был повешен по приказу Петра за хищения и взяточничество, а «в то время Меншиков, Брюс и Апраксин крали, но их не вешали». Брюс оставил очень большое состояние. За последней представительницей рода Брюсов Екатериной Яковлевной, вышедшей в конце XVIII века замуж за графа Василия Валентиновича Мусина-Пушкина, дали в приданное 14 000 крепостных – огромное по тем временам состояние.
Если вельможи не только воровали, но и дело делали, да еще, как те же Меншиков, Брюс, Апраксин и прочие, были незаменимы как полководцы, флотоводцы, организаторы торговли, промышленности, монетного дела, специалисты по фортификации и другим наукам, то самодержец на их мздоимство смотрел сквозь пальцы. А вот если воры и казнокрады оказывались еще лентяями и бездельниками, проваливавшими порученные им дела, или, как сибирский генерал-губернатор князь Гагарин, стремились править самовластно, без оглядки на Петербург, то их настигала суровая кара, вплоть до смертной казни, именно за казнокрадство и взяточничество. Кстати, кое-кто из «птенцов гнезда Петрова», благополучно избежав репрессий за коррупцию в период царствования своего благодетеля, позднее, проиграв в борьбе за власть, подверглись наказанию за казнокрадство, как говорилось в официальных обвинениях. Такая судьба, как известно, постигла друга Брюса – всемогущего генералиссимуса Александра Даниловича Меншикова, когда тот, проиграв в царствование Петра II борьбу за власть князьям Долгоруковым, был совершенно справедливо обвинен в казнокрадстве и сослан в Березов.
Подразумевалось, что и на более низком уровне вышестоящие чиновники будут руководствоваться теми же принципами, что и сам Петр. Однако на самом деле на этих уровнях судьба чиновника зависела главным образом от того, насколько он делился с вышестоящими начальниками поборами с купцов и промышленников и похищенными казенными суммами. Потому-то многие петровские начинания довольно быстро уходили в песок и вызывали ненависть населения, видевших в них только источник новых поборов, легальных (в виде повышения налогов и введения все новых повинностей) и нелегальных (в виде взяток).
Но собственное обогащение у Брюса никогда не стояло на первом месте. Главным для него было дело. Брюс организовывал разработку полезных ископаемых, в частности, серы и селитры, необходимых для производства пороха, и железной руды, из которой производился металл для пушек (одних колоколов для них хватить не могло). Занимался он и развитием мануфактур в России. Петр издал указ, согласно которому «Коллегиум-мануфактур имеет верхнюю дирекцию над всеми мануфактурами и фабриками и прочими делами, которые касаются к оному правлению, какого б звания ни были, во всей Российской империи».
16 февраля 1720 года в ведение президента Берг-Мануфактур-коллегии поручается Петербургский монетный двор. Этот шаг был вынужденным, и сам Брюс стал его инициатором, обратившись с докладом к Сенату. В России еще в 1718 году была введена медная монета для размена денег. Серебряные монеты собирались вывести из оюбращения. Однако эта мера способствовала инфляции и росту числа фальшивомонетчиков. Поэтому Брюс ратовал за денежную реформу, подобную той, которую в 1698 году провел в Англии И. Ньютон. Она помогла решить проблему фальшивых денег.
Введение медной монеты изменило структуру российской металлургии. Если в начале XVIII века был большой спрос на железо и чугун в связи с продолжавшейся Северной войной, то с указом Берг-коллегии 1721 года пришлось сдерживать дальнейший рост железоделательных заводов, так как с прекращением войны производство черных металлов стало избыточным. А вот меди не хватало. В заметке, датированной14 февраля 1724 года, Петр предполагал дать возможность частным лицам, «медь у ково есть в домах», переделывать за плату на Монетном дворе в «деньги» и даже склонялся к идее, перечеканки колоколов в монету, чтобы окончательно вывести из употребления серебряные копейки. Разрабатывавшиеся у Онежского озера медные рудники были и небогаты, и неудобны для выемки породы. Надежда была только на богатые медные рудники Урала, которые стали основой медной промышленности.
Предложения Брюса сводились к следующему: не вывозить серебро и золото за границу, чтобы не допустить утечки старых высокопробных копеек, которые выгоднее было переплавить на низкопробные монеты тех же или даже более высоких номиналов; не впускать монеты из-за границы, чтобы избежать попадания в Россию фальшивых монет; освободить от пошлин серебро и золото, предназначенное для монетных дворов; перевести все монетные дворы в Петербург. С 1723 года началось строительство Монетного двора в Петербурге. Брюс также предложил медную монету чеканить в определенной пропорции к серебряной, не превышающей 1:10, и временно прекратить чеканку медной монеты, хорошо освоенной фальшивомонетчиками, а имевшуюся в обращении выменять и переделать.
Все эти меры затруднили деятельность фальшивомонетчиков. Борьба с ними была довольно жесткой, но порой Брюс проявлял и гуманизм. Так, 5 февраля 1723 года Брюс лично объявил в Берг-коллегии указ об отсечении головы фальшивомонетчикам, которые, с «влитым в горло расплавленным металлом, не скоро умирают». Отсечение головы, очевидно, было менее мучительной казнью.
Монетный двор в Петербурге
В итоге в денежном обращении России в первой четверти XVIII века сложилась примерно та пропорция, которую предлагал Брюс. Серебряная монета стала основной, она составила – 88,5 %, медная монета – 9 %, золотая монета – 2 % от общей суммы чеканки. Самый большой доход казна получила от передела серебра – 8366 тыс. руб. (при среднегодовом в 322 тыс. рублей).
Брюсу приходилось много трудиться и на дипломатическом поприще. В 1718 году он был отправлен первым министром (главой делегации) на Аландский конгресс для переговоров о мире со Швецией. Вторым русским представителем, подчиненным Брюсу, был Андрей Иванович (Генрих Иоганн) Остерман, будущий всесильный канцлер в царствование Анны Иоанновны.
Андрей Иванович (Генрих Иоганн) Остерман (1687–1747) – один из сподвижников Петра I, фактически руководивший внешней политикой Российской империи в 1720-е и 1730-е годы, но после переворота 1741 года попавший в опалу
18 февраля 1721 года, за два месяца до выезда в Ништадт для продолжения переговоров со шведскими представителями, Брюс был удостоен титула графа. На графском гербе Брюса помимо старинного родового королевского знака Брюсов была изображена стена с летающим горящим ядром, символизирующая его военные заслуги, а также голова орла с короной – символ прозорливости и успеха в строительстве нового государства. Для разработки герба Брюс еще в 1720 году сделал запрос к своим шртландским родственникам. В результате в Россию приехали шотландские Брюсы, подтвердившие высокородство Якова Вилимовича.
За основу своего герба он взял герб шотландских Брюсов – Андреевское пурпурное распятие на золотом фоне – это изображение в форме щита размещено в центре щита на гербе Якова Вилимовича.
Девиз «Fuimus» – по-латински «Мы были» – шотландских Брюсов стал девизом, помещенном на ленте герба русского графа Брюса. На гербе было также изображение английской короны на одном из рыцарских шлемов (с правой стороны) с тремя нитками жемчуга, что соответствует титулу европейского барона или английского лэрда (в отличие от лорда, лэрд менее высокий титул).
Герб Я. В. Брюса
На гербе Я. В. Брюса были запечатлены основные виды его деятельности. Щит герба разделен на 4 поля, симметричных по диагонали, по которой щит пересекает изображение крепостной стены с летящими через нее зажженными ядрами на голубом фоне. На серебряном фоне щита изображены две головы орла с коронами, показывающие принадлежность Якова Вилимовича к королевской фамилии Брюсов. Третья голова орла вынесена за пределы щита и возвышается на еще одном рыцарском шлеме (с левой стороны), имеющим корону с 9-ю жемчужинами – соответствие графскому титулу. На щите сделаны также дуги зеленого цвета. Это отражает дипломатическую деятельность Брюса, его непосредственное участие в переговорах со шведами.
Щит поддерживают Лев – символ силы и символ чистоты и Белый Единорог – символ непобедимости. Вокруг щита помещена цепь кавалера ордена Святого Андрея Первозванного со словами «За веру и верность» (этот элемент присутствует только на личном гербе Брюса, а не на родовом). Над щитом – три рыцарских шлема, центральный из которых украшен растительным венчиком. Сверху герба, по центру – рука с маршальским жезлом – изображение, отражающее военную деятельность графа Брюса.
А вот как родовой герб был описан в Дипломе, данном Брюсу в 1721 году на графское достоинство: «…на поле златом крест святого Андрея и верх щитовый краснорожовыя над шлемом тогожде степени приличным плащем красным сребром раскрашенным и венцем тех же цветов украшенным, вместо перья написуется плечо вооруженное, булаву в руке держащее, поддержат, от десные страны лев краснорожовый, от левые же единорожец природнаго цвета с щитовым сим написанием: «Быхом» (т. е. fuimus)…».
К старому родовому гербу «в прибавку» было дозволено следующее: новый щит, разделенный на 4 части, в синем поле – часть белой городовой стены, «справа накось налево стоящую»; над стеной – «ядро огненное с тремя пламенами натурального цвета». Также в гербе присутствует черная «орловая голова» с короною, шлемы и украшения, изображения баронских корон. Все это мы видим и на знамени Брюса – и «орловые головы», и баронские короны, а также золотую цепь с косым андреевским крестом и девизом ордена: «За веру и верность».
Текст «Жалованной грамоты на графское достоинство» гласил:
«Мы, Божиейю милостию Пресветлейший и Державнейший Великий Государь Царь и Великий Князь Петр Алексеевич всея Великая и Малая и Белая России Самодержец, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, Государь и Великий Князь Новгорода низовские земли, Черниговский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондинский и всея северныя страны повелитель и Государь Иверския земли, Карталинскинских и Грузинских царей и Кабардинския земли, Черкасских и горских князей, и иных многих государств и земель восточных и западных и северных отчич и дедич наследник, Государь и Обладатель.
В поминовение на будущие годы Мы чрез сей Наш настоящий Царский диплом извещаем и подтверждаем всем и каждому, яко властию Нашей самодержавною, данною Нам от Всевышнего Бога на всю нашу наследственную Российскую Империю и на подвластные обширнейшие царства и княжества распространяемою, коей присущи все почести и высшие степени достоинства Империи Нашей, яко издревле существующие, тако же и волею Нашей вновь введенные, единственные каждая в своем роде и признаке, токмо из милости Нашей о Насвоздаваемая к возведению в высшую степень чести титулования, определить повелели, яко Мы сами обыкновение имеем, к расмотрению за все подвиги и превосходнейшие заслуги слуги Нашего, коего Мы в степень высшего достоинства возвести соизволяем и тако определяем вельми любезного нам и вернейшего генерала Нашего, Артиллерии Начальника, Кавалера Ордена Святого Апостола Андрея, и Президента Коллегии Берг– и Мануфактур– Якова Вилимовича Брюса.
Тако ж поелику открыл он через генеалогию свою и чрез грамоты родовые вернейшие, кои в Императорскую Посольскую Коллегию представил с припиской от Верховного Магистра иностранных дел королевства Шотландского с гербовой печатью сего королевства и с должными собственноручными подписями. В удостоверение на сих грамотах, кои будучи тщательно изучены, верно свидетельствуют, что происходит он из стариннейшего шотландского рода Брюсов, из ветви его, именуемой Клакманнан, из каковой ветви и два короля шотландских происходят, а именно – в 1330 году по Рождеству Христову был королем Роберт, а после оного сын его Давид (даты здесь неверные: Роберт I правил с 1306 по 1329, а Дэвид II – с 1329 по 1371 годы. – Б. С.). Также и прадед сего нашего генерала от артиллерии Якова Вилимовича, также именем Яков и фамилией Брюс, происходит из той же ветви от родителя своего Роберта Брюса, кавалера высших орденов, по линии этой ветви седьмого барона Декламан (Клакманнан), который был младшим братом седьмого барона по линии Роберта Клакманнана (на самом деле – восьмого барона. – Б. С.). Дед же сего нашего генерала от артиллерии, Роберт, также из ветви Клакманнанов, сын же сего Роберта, он же отец сего нашего генерала от артиллерии, Вилим, в 1647 году приехал из Англии в царство Российское и служил тут славной и незабвенной памяти Родителю Нашему Его Величество Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу Самодержцу всея России, и братьям Нашим – Царям и Великим Князьям Федору Алексеевичу и Иоанну Алексеевичу Самодержцам всея России, а также и Нам, с искреннею преданностью и верностью на разных должностях, за что и произведен был в 1680 году в полковники войска Нашего, и в том же году умер (на самом деле Вилим Брюс в полковники был произведен в 1658 году, а в дальнейшем получил еще чин генерал-майора; кроме того, он никак не мог служить самому Петру и его брату Ивану, поскольку они вступили на престол только в 1682 году. – Б. С.).
После того, сын его, помянутый уже выше Яков Вилимович, был в 1688 году (на самом деле – в 1686 году. – Б. С.) произведен в прапорщики на службе нашей. И служил Нам в двух Крымских походах военных в 1689 и в 1691 годах (в действительности – в 1687 и 1689 годах. – Б. С.). После того ходил он в два похода Азовских. И в первом из них был майором и командовал артиллерией Нашей (в первом походе Брюс был инженером-фортификатором. – Б. С.). Во втором же походе 1696 года служил он на корабле, исполняя обязанности морского капитана. И в том же году за свою ревностную службу воинскую произведен был из майоров в полковники.
Тогда же, начиная с 1698 года во время первого путешествия Нашего в европейские государства, был он с нами в Англии и в Голландии, где участие принимал во всех делах и всяческие поручения с прилежнейшей верностью выполнял.
И в 1700 году произведен был Нами в генерал-майоры, и в том же году, при начале войны со Шведским королевством, был он в походе с армией под городом Нарвой (эпизод с опалой, после которой Брюс покинул Нарвскую армию е ще в Новгороде, здесь, разумеется, не говорится. – Б. С.).
В 1701 году послан он в Новгород, где был губернатором Нашим, и службу сию отправлял с отменнейшим тщанием днем и ночью. Так четыре года служил он Нам в Новгороде, участвуя также и в походах военных противу шведов, а так же в осадах шведских городов: Нотебурга в 1702, и Канцеппа (Ниеншанца. – Б. С.) в 1703 году, где командовал артиллерией Нашей и паки отмечен был нами за подвиги и труды свои премногие и отменнейшие.
В 1704 году поставили Мы его Верховным Начальником над всею Нашей артиллериею, как полевою, тако и в крепостях и цитаделях обретающейся. В том же году участвовал он в сражении и взятии Нарвы и Иван-города, и во время событий премногие подвиги совершил и паки служил Нам с усердием и верностью. И в 1705 году бывал сей Яков Вилимович постоянно с армиею и в Литве, и в Польше, где всею Нашею артиллерию изрядно командовал.
И в 1706 году за все свои многие подвиги ратные и службу верную произведен был Нами в генерал-поручики. В том же году он вкупе со Светлейшим Князем Нашим Меншиковым воевал в Польше под городом Калиш противу шведского генерала Мардефельда, над коим во главе войск наших полную викторию одержал. А в 1708 году во время войны армии Нашей противу шведов во главе с их генералом графом Левенгауптом в баталии под Лесной командовал он левым крылом, и все шведы до единого побиты были.
В 1709 году участвовал он в баталии кровопролитнейшей под градом Полтавою, где Мы зело славнейшую викторию над шведами одержалии всю их шведскую армию наголову разбили. В баталии же той сам шведский король Карл XII участие принимал и позорным бегством едва себя от плена избавил. В сражении том сей Яков Вилимович зело храбро себя выказал и многие подвиги ратные совершил, за кои не токмо награждения воински получил, но Нами был возведен в достоинство Кавалера Ордена Апостола Андрея.
В 1710 году во время осады Нашим войском града Риги, он паки артиллерией Нашей вельми умело командовал, забрасывая сей град гренадами горящими, и подкопы под стены подводил.
И после был вкупе с другими послан по Нашим надобностям в город Данциг и дела там вел Наши. В 1711 году принимал он участие в походе противу турок в Валахии, где паки артиллерией Нашей командовал и во всех баталиях вместе с Нами пребывал и отменными подвигами вновь прославился за кои произведен был Нами в генералы-от-артиллерии.
В том же году вкупе с другими послан ехать он был в Данциг с поручением Нашим. А в 1712 году пребывал с армией Нашей в Померании и Голштинии, где Нашего, а также датского и саксонского артиллерией изрядно командовал, чем и заслужил многие награды.
В 1718 году, поелику большую ученость и опытность в делах показал, был он назначен Нами Президентом Коллегии Берг– и Мануфактур-, и с того же времени включен был в Наш Правительствующий Сенат для управления государством и решения дел гражданских в Сенате. И везде себя отлично показал, со тщанием и верностию паки службу свою исправлял.
В 1718 году изволили Мы назначить сего Якова Вилимовича Нашим Первым Полномочным Министром на Аландский Конгресс, где он со шведскими министрами в продолжение целого года и даже более, артикулы трактата мирного составлял и в негоциях сих премного потрудился и преуспел к пользе и интересу государства Нашего, не говоря уже о том, как зело много советов мудрых и добровременных Величеству Нашему Царскому подавал в разных оказиях, сам же о себе скромность изрядную сохраняя.
В признание же всех его изрядных подвигов и трудов неустанных, и служения верного и преданнейшего Нашему Величеству, и в воздаяние за все оные деяния ныне признали Мы за благо и повелеть соизволяем, из Милости Нашей и велия благоволения, возвести генерала Нашего Артиллерии Начальника, Кавалера и Президента в звание Графа Империи Нашей Российской, что и возвещаем, утверждаем и заповедуем в поминовение ему и всем его будущим наследникам, сыновьям и дочерям, и даруем сей настоящий Наш Царский Диплом, который Мы составили и подписываем ныне во имя Всемогущего Бога, от Него же все власти, почести и достоинства исходят, в том, что сей помянутый господин Яков Вилимович Брюс и все его потомки и законные наследники обоих полов, в знак милости Нашей изъявляемой, и властию Нашей Императорской, от Бога данной, да будут они отныне и впредь во всех пределах Империи Нашей именуемы и почитаемы яко Графы и титулом сиятельства, и для того Мы сей Наш Диплом вручаем и передаем сему Нашему Генералу от Артиллерии и всем потомкам его, дабы всех и каждого известить и уведомить дабы впредь они не токмо в пределах Империи Нашей Российской графами сиятельными именовались и почитались, но и в иных царствах и княжествах за оных почитаемы были, и почести, сану их приличные, везде обретали.
И герб его родовой тако умножив отныне впредь иметь позволяем, а именно: в золотом поле Крест Святого Андрея и слава пурпурные, и поверх шлема по рангу его, намет червонный с серебром, и бурелет тех же цветов. В нашлемник рука в латах держащая булаву. С правой стороны лев пурпурный щит поддерживает, а с левой единорог натурального цвета и девиз гербовый-FUIMUS, и к исконному его гербу добавление за всю его Нам верную и прилежную службу, как при взятии городов неприятельских, тако и в баталиях соучастие таковой герб преписываем и жалуем: щит новый на четыре части разделенный, в середине коего да будет его прежний щиток, как уже выше описано, а с первой и третьей части щита в лазоревом поле часть белой городской стены справа налево наискось положенной, над которой ядро огненное с тремя языками пламени натурального цвета за его верную и правильную нам службу в то время, когда он Нашим Первым Полномочным Министром на Аландском Конгрессе, а во второе и четвертое поле назначаем ему в белом поле с боков две дуги темно-зеленого цвета, одна напротив другой расположенные, между которыми черная голова орла с короной, и как в гербе его изображено над щитом кроме прежнего шлема еще два поставлены, а именно: справа имеющий корону баронскую, на коей часть городской стены, как в первом и третьем поле щита изображено, а слева шлем, имеющий корону графскую, на коей черная голова орла с короной, как во второй и четвертой части щита изображено, а также намет и щитодержатели, и девиз таковой, как и в прежнем его гербе.
Итак, Мы, Пресветлейший и Державнейщий Великий Государь Царь и Великий Князь Петр Алексеевич Самодержец Всероссийский Нашей Империи Российской и царств любезных Наших подданных, как духовных высших и низших орденов, так и мирских в Нашего Царского Величества Сенате заседающих, чьи статуты и ордена как военные, так и гражданские, и всем подданным Империи Нашей Российской приказываем, и мандат Наш собственный принимаем и утверждаем, также остальных Властителей, чужеземных князей и всех прочих Государей и Принцев, дружески просим, чтобы сего выше помянутого Нашей Российской Империи Графа, генерала от артиллерии, Кавалера и Президента Якова Вилимовича Брюса, а также всех его законных потомков мужеского и женского полу по нисходящей линии отныне и навеки за графов Российской Империи Нашей признавать, величать, писать и именовать, под страхом и наказанием Нашего Величества гнева и пеней в сто золотых чистого золота фунтов, из них в Нашу казну половина полагается, также и иноземных Государей просим поступать.
В свидетельство сей Нашей милости и возведения в степень достоинства высшую, печать сию Нашей Империи Российской прилагает с подписанием собственною Нашею Царскою рукою.
Дано в Нашем Царском граде Петербурге в год от Рождества Христова 1721 февраля 18 дня, а царствования Нашего в 39 год».
Когда 30 августа 1721 года Брюс подписал со Швецией Ништадтский мир, закреплявший все российские завоевания, царь пожаловал его поместьями с 723 дворами в Кексгольмском и Козельском уездах. Царь, который уже собирался было оставить шведам Выборг, но не успел сообщить об этом своим послам, очень обрадовался, что им удалось добиться мирного договора, не поступившись ничем. Он писал в связи с этим Брюсу и Остерману: ««Господа полномочные! я намерен был ехать к Выборгу для осматривания границ; но приезжая к Дубкам, получил от вас подписанный и размененный трактат, которая, нечаянная так скоро, ведомость нас всех зело обрадовала, и что сия трехвременная жестокая школа такий благий конец получила. Понеже трактат так вашими трудами сделан хотя б написав нам, и только бы для подписи послать господам шведам, более бы того учинить нечего, за что вам зело благодарствую, и что славное в свете дело ваше никогда забвению предатися не может, а особливо (поелику) николи наша Россия такого полезного мира не получала. Правда, долго ждали, да дождались: занеже все да будет Богу, всех благ виновнику, выну хвала».
Через 10 дней после праздника в честь Ништадтского мира, внимание царя к Брюсу выразилось особенно ярко на, в описании которой от 1 ноября, очевидец, голштинский камер-юнкер Берхгольц особо отмечал: «Император сидел недалеко от входных дверей, но так, что мог видеть танцевавших; около него сидели все вельможи, но его величество большею частию разговаривал с генерал-фельдцейхмейстером Брюсом, сидевшим подле него с левой стороны».
Влияниие Брюса проявилось, в частности, в процессе вице-канцлера Шафирова с обер-прокурором Скорняковым-Писаревым, дело которых рассматривалось на заседании сената 31 октября 1722 года, Брюс, вместе с Меншиковым и Головкиным, ушел из зала заседания, сказав, по словам донесения Меншикова царю: «когда в сенате обер-прокурор вор (так обозвал Скорнякова Шафиров), то как нам дела при том отправлять?». 8 января 1723 года Яков Вилимович, как сенатор, «обеим сторонам не подозрительный», был назначен первым членом комиссии Верховного Генерального Суда и в этом качестве вместе с Матвеевым и Мусиным-Пушкиным, задавал вопросы Меншикову, явившемуся ответчиком по делу Шафирова.
В результате следствия Шафиров был осужден на смертную казнь. Но во время исполнения приговора ему была объявлена замена смертной казни вечной ссылкой с лишением чинов и имущества.
7 мая 1724 года, при короновании Петром Великим Екатерины на престол императрицы, генерал-фельдцейхмейстер Брюс в свите царских регалий нес перед Государем императорскую корону. Его жена, Марфа Андреевна, вместе с княгиней Меншиковой, графиней Головкиной и княжной Трубецкой, поддерживала шлейф императрицы.
В последние дни января 1725 года тяжело заболел царь. Брюс не только присутствовал во дворце со всею знатью, но и принимал участие в «конгрессе» первейших чинов Империи, провозгласившем на рассвете 28 января императрицу Екатерину преемницей умершего императора, причем «в том же преждереченном конгрессе от всех прошен Генерал-Фельдцейхмейстер Сенатор и Кавалер граф Яков Брюс, дабы принял на себя труд о обустроении погребения императорского и принадлежащаго к тому, по обычаю прочих в Европе государств. И его превосходительство, получив себе в помощь господина генерала Бона и выбрав угодных к тому делу управителей и прочих помощников, тако ж и вся к тому нужная изготовив и мастеров разных художеств созвав, со всяким тщанием ему врученное дело производил и исполнил». После смерти Петра Брюс возглавлял траурную комиссию и руководил разработкой погребального церемониала. В память императора Яков Брюс создал рисунок к 1160 золотым (от 4 до 50 червонцев) и 10900 серебряным медалям. Этот рисунок был представлен в Сенате 24 февраля 1725 года и утвержден с некоторыми изменениями обратной стороны медали: вместо «лежащих на земле корон и прочего» решено «быть столику и на нем скипетр и держава».
Блюдо «Коронация Екатерины I». Москва, 1724–1727. Мастер Николай Федоров. На серебряном блюде изображен один из центральных моментов первой российской коронации, состоявшейся в Успенском соборе Московского Кремля 7 мая 1724 года, – возложение Петром Великим императорской короны на жену Екатерину. Слева за фигурой Петра изображен граф Я. В. Брюс с золоченой подушкой для короны в руках. Именно он внес новый символ монаршей власти в собор
Кроме памятных медалей, Я. В. Брюс разрабатывает церемониальные планы погребения Петра. Эти планы включали:
«Реестр певчих при гробе.
Изложение указа императрицы Екатерины I о погребении Петра I и Натальи Петровны (дочь Петра Алексеевича умерла 2 марта и была похоронена вместе с отцом).
Порядок, как поступать при погребении (инструкция на 8 листах).
План погребальной церемонии (на 13 листах, в виде раскладушки).
…
Донесения об участниках погребения.
Опись участников погребения.
Опись подданых шедших в церемонии (всего 69 человек).
Церемония шествия в рисунках…».
Брюс расписал на 166 листах церемониию погребения до мельчайших деталей. Петр I был похоронен 10 марта. Работами по бальзамированию тела императора также руководил Брюс.
В начале царствования Екатерины I Брюс, как генерал-фельдцейхмейстер, продолжает оставаться руководителем артиллерийского ведомства. В России не только была создана мощная артиллерия, но и, что еще важнее, были заложены основы ее дальнейшего развития.
Павел Иванович Ягужинский (1683–1736) – государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I, генерал-аншеф, первый в русской истории генерал-прокурор
Он продолжал свои занятия и по коллегиям, и по артиллерии; но, не желая участвовать в интригах и начавшейся борьбе за власть, несмотря на милость императрицы Екатерины I, пожаловавшей Брюсу только что учрежденный орден Св. Александра Невского, не будучи включенным в члены Верховного Тайного совета, Брюс стал просить отставку.
Тем временем генерал-прокурор П. Ягужинский, подавая императрице сочиненную им «Записку о состоянии России», отмечал: «Не малый апартамент в государстве артиллерия, а генерал-фельдцейхмейстер уже весьма ослабел, а на его место не токмо кто видится быть достоин, но ниже и в помышление приходит кому, чтоб на его место человека заранее усматривать».
Но уже на открытии 27 декабря 1725 года своего детища – Академии Наук – Брюс не присутствовал «из-за недомогания». Вероятно, в то время Брюс уже был серьезно болен, возможно, подагрой, на которую жаловался в письмах в последние годы жизни. Скорее всего, в этом заключалась причина значительного снижения интенсивности его государственной деятельности по основным должностям и последовавшей вскоре отставки.
Проспект вниз по Неве-реке между Зимним дворцом и Академией наук. Гравюра Качалова Г. А. и Виноградова Е. Г.; по рисунку Махаева М. И., 1753 г.
31 марта 1726 года Брюсу была выдана Жалованная грамота императрицы с перечислением всех его заслуг. После этого он подает прошение об отставке и получает ее 6 июля 1726 г. в возрасте 57 лет в чине генерал-фельдмаршала.
В последующем Яков Вилимович вел жизнь богатого пенсионера, увлекающегося наукой. 27 апреля 1727 году он купил за 4500 рублей серебром у князя А. Г. Долгорукова подмосковное имение Глинки, Богородского уезда, в 42 верстах от Москвы. С этого года он поселился в своем поместье Глинках и жил там до конца своей жизни, изредка наезжая в Москву и предаваясь исключительно научным занятиям.
Здесь Брюс разбил регулярный парк, выстроил дом с обсерваторией. Он сравнительно редко выезжал из имения, предпочитая заниматься любимыми науками. Брюс стремился подальше от Петербурга с его придворными интригами и поближе к Москве – месту, где он родился, где сохранялась Немецкая слобода, где было много близких ему людей по вере и духу. Во вторую столицу он время от времени наезжал, а вот первую покинул навсегда.
Отставной генерал-фельдмаршал увлекся медициной и оказывал помощь окрестным жителям, составляя лекарства из трав. Не доверяя докторам, Брюс также и себя лечил сам. Интересно, что до 1728 года действовал указ Петра I о запрете каменного строительства в связи с застройкой новой столицы. Поэтому изобретательный Брюс построил на берегу Вори кирпичный заводик и возводил усадьбу из собственного кирпича. Так был построен главный усадебный дом с примыкавшими к нему жилыми помещениями.
Теперь усадьба Брюса – это гастро-энтерологический корпус санатория «Монино». Расположен там и музей, посвященный знаменитому владельцу усадьбы. В 1991 году на средства Всероссийского Фонда Культуры Государственным Историческим музеем был создан общественный Дом-музей Я. В. Брюса, являющийся в настоящее время единственным в московском регионе музеем, представляющим эпоху Петра Великого, и единственным в России, рассказывающим о Я. В. Брюсе. Согласно исследованиям группы лозоискателей под руководством кандидата технических наук И. Е. Кольцова, проведенным в 1988–1989 годах, подземные ходы соединяют все здания усадьбы и выходят далеко за ее пределы. Самые будоражащие воображение истории, связанные с личностью Брюса, как раз и посвящены многочисленным подземным ходами, которые будто бы не только соединяют все здания усадьбы, но имеют выходы за несколько километров от неё. По слухам, в этих таинственных подземельях хранятся магические книги и сокровища Брюса.
Все это очень смахивает на историю с поисками библиотеки Ивана Грозного и системой подземных ходов, будто бы связывавших между собой еще в Средневековье все основные московские здания.
30 апреля 1728 года умерла жена Брюса Мария (Марфа) Мантейфель. До ее смерти Брюс часто принимал в усадьбе гостей. Живя в Глинках, Брюс в первые годы довольно часто навещал Москву, был тесно связан с целым рядом московских государственных учреждений и находящимися в это время в Москве учеными. Не исключена возможность, что Брюс виделся даже с М.В. Ломоносовым, можно сказать, своим наследником по научной части, хотя Михаил Васильевич о такой встрече никогда не упоминал.
Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) – ученый-энциклопедист, химик, физик, астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, филолог, художник, историк. Доподлинно неизвестно, встречались ли Ломоносов и Брюс в Москве, но, если у первого русского учёного-естествоиспытателя мирового значения и был предшественник, то это, безусловно, Яков Брюс
Всего о Брюсе, по оценке современных исследователей, насчитывается не менее 350 легенд – больше, чем о любом другом деятеле петровской эпохи, не исключая самого Петра Великого, и больше, наверное, чем о любом другом знаменитом жителе Москвы или Санкт-Петербурга. Во многих легендах Яков Брюс предстает в качестве колдуна и чернокнижника, знавшегося с дьяволом. О нем и сложилось представление как о личности мифической с ореолом колдовства. Это и не удивительно. Ведь тогда, в начале XVIII века, Яков Брюс был первым и единственным настоящим ученым на Руси, и его деятельность не могла не обрастать в народном воображении фантастическими, волшебными подробностями. Так когда-то произошло в Германии со вполне историческим доктором Фаустом, которого весь мир теперь знает только по поэме Гёте.
Усадьба Брюса в Глинках
Брюс был настоящим ученым-энциклопедистом: астрономом и математиком, баллистиком и инженером, ботаником и минералогом, сфрагистом (специалистом по печатям) и географом, автором и переводчиком многих научных сочинений. Яков Вилимович свободно читал, писал и говорил не менее чем на 8 языках, включая русский.
Лефортово в начале XVIII в.
Любимыми его занятиями были астрономические наблюдения. Его опыты по наблюдательной астрономии были отмечены в английском астрономическом ежегоднике за 1730 год.
Умер граф Яков Вилимович Брюс в Глинках 19 (30) апреля 1735 года, на 65 году жизни, не будучи на момент смерти женатым и не оставив по себе потомства.
Незадолго до смерти он взял к себе на воспитание отрока Дмитрия Васильева, но никакого завещания в его пользу не оставил. Погребен граф был, как видно из донесения императрице графа Салтыкова, 14 мая в Немецкой слободе, нынешнем Лефортове, в Москве, рядом с кирхой святого Михаила. В надгробной проповеди пастор кирхи Фрейнгольд упомянул о заслугах покойного как государственного деятеля и ученого. Лейб-медик Блументрост забальзамировал тело, и оно было предано земле.
А через несколько лет после смерти Брюса о нем возникли первые легенды. Молва говорила о хранящихся в подвалах его московского дома «кукле» и множестве магических книг, о замурованных в стенах его московского дома и усадьбы ретортах с живой и. мертвой водой.
Кирха Святого Михаила простояла в Лефортово до 1929 года
Кирха Святого Михаила простояла до 1929 года, пока не возникла необходимость ее уничтожения в связи со строительством аэродинамической лаборатории в Лефортово. При рытье котлована для строительства здания ЦАГИ было обнаружено захоронение Брюса и его жены – Марьи Андреевны (Маргариты Мантейфель). Склеп вскрыли, извлекли сохранившуюся одежду, которую передали в Исторический музей. Эта находка опровергла народные легенды, будто Брюс замуровал жену в стену своего московского дома. Череп был передан в мастерскую Герасимова с целью восстановления лицо, но вовремя не был зарегистрирован, и в результате останки Брюса были утеряны. Зато возникли слухи о привидении Брюса, будто бы посещавшем свой дом в Глинках.
По одежде удалось определить примерный рост Брюса – 195 см, так что Яков Вилимович был не ниже Петра Великого.
Парчовый кафтан, камзол и ботфорты, а также шитая золотом и серебром орденская лента ордена Андрея Первозванного и гербовое знамя Брюса были отреставрированы и хранятся в фондах Государственного исторического музея. Знамя сделано из золотистого шелка, с обеих сторон выполнены изображение герба Брюса и текст на русском и немецком языках, перечисляющий звания Брюса и даты его жизни и смерти.
Насчет того, где жил Брюс, между учеными и народной молвой существуют значительные разногласия. Некоторые исследователи полагают, что в Москве дом Брюса стоял в Немецкой слободе, на Вознесенской улице (нынешней ул. Радио), близ Горохова поля. Он будто бы находился неподалеку от немецкой кирхи. Здесь же, у кирхи, Брюс действительно был похоронен. Но ни дома, ни могилы, ни кирхи ныне не существует.
Однако по другой, единственной подкрепленной документами версии, Брюсу принадлежали два дома на Мясницкой улице, на месте нынешних домов 13 и 15 с их многочисленными строениями, причем второй из домов Яков Вилимович приобрел всего лишь за 72 дня до смерти. Якобы там, согласно легендам, он делал снадобья из лягушачьих мозгов, а в полночь, вылетев из окна, парил над Мясницкой.
Мясницкая улица, дом 15
Подлинное место, где стоял дом Брюса, скоро забыли, но молва быстро приписала ему другой дом, который нарекла Брюсовым. Это дом на Разгуляе, точнее – на углу Елоховской (ныне Спартаковской) улицы и Доброслободского переулка. Там до революции размещалась Вторая московская мужская гимназия, а ныне находится Московский государственный строительный университет (до 1993 года: Московский инженерно-строительный институт (МИСИ)). До 1834 года этот дом принадлежал семейству Мусиных-Пушкиных и знаменит главным образом тем, что в нем хранилась и пропала в 1812 году единственная уцелевшая к тому времени рукопись «Слова о полку Игореве».
«Брюсов дом» на Разгуляе
Действительно, как мы уже упоминали, в конце XVIII века один из Мусиных-Пушкиных – Василий Валентинович, домом на Разгуляе, впрочем, никогда не владевший, женился на внучатой племяннице Я. В. Брюса Екатерине Яковлевне Брюс. Поскольку мужских представителей рода Брюсов не осталось, Екатерина II разрешила Василию Валентиновичу именоваться графом Мусиным-Пушкиным-Брюсом. Потмства у него не было, и эта ветвь Мусиных-Пушкиных прервалась. Однако этой кратковременной связи Мусиных-Пушкиных и Брюсов оказалось достаточным, чтобы в сознании москвичей дом Мусиных-Пушкиных на Елоховской превратился в «дом колдуна Брюса».
Его тело уже было погребено в склепе у лютеранской кирхи Св. Михаила в Немецкой слободе, но каждую ночь в обсерватории по-прежнему загорался свет. Москвичи говорили, что это дух колдуна охраняет свою магическую книгу.
После смерти Брюса, в конце августа, его вещи и книги были приняты, уложены и до отправки в Петербург перевезены в пустой дом князя Юрия Долгорукова, близ Мясницких ворот. Но только в декабре 1735 года библиотека и коллекция были перевезены в Петербург, в Академию наук.
В легендах книги Брюса предстают как часть и источник магической силы знаменитого колдуна, исчезнувшей вместе с ним. Известие о том, что Брюс завещал после своей смерти коллекции и библиотеку Академии наук основано на том, что незадолго до своей смерти, он отослал два ящика инструментов в Академию наук, а в письмах к друзьям выражал готовность передать свою библиотеку и коллекции в руки ученых. Письменного завещания Брюс не оставил, скорее всего, потому, что просто не успел, так как умер внезапно.
Попробуем разобраться, в чем было научное значение деятельности Брюса, и имел ли он какое-нибудь отношение к магии и магическим наукам – астрологии, алхимии, геомантики и т. д. Помимо астрономических наблюдений и исследований, связанных с артиллерией, Яков Вилимович занимался составлением подробной географии Российской империи с присовокуплением ландкарт; вступил, по приказанию Петра, в переписку с великим философом Г.В. Лейбницем для исследования происхождения российского народа. Помимо Навигацкой школы, он создал первые артиллерийские инженерные школы в Москве и С. Петербурге. По поручению Петра, Брюс также с 1706 года надзирал за типографским делом в России. В 1708 году он подготовил к изданию первую русскую книгу гражданской печати «Геометриа славенски землемерие», составил первый русско-голландский словарь, перевел «Фортификацию» Кугорна. Брюс собирал картины, коллекции древних монет и редких минералов, гербарии.
Сам Брюс был автором нескольких книг. Он написал «Краткую Геометрию» для Петра, а в соавторстве с Гаврилом Бужинским и И.В. Паузе – «Юности честное зерцало» (первое издание вышло в свет в 1717 году). Именно Брюс первым в России понял значение трудов И. Ньютона и написал первую в России работу о законе всемирного тяготения – «Теория движения планет». Ее нашел в библиотеке Кембриджского университета современный канадский профессор В. Босс. Обнаружилась она и в библиотеке Российской Академии наук в Санкт-Петербурге. Этот трактат, как отмечает канадский ученый, первая работа русского ученого о законе всемирного тяготения.
«Юности честное зерцало» написано Брюсом в соавторстве с Гаврилом Бужинским и И.В. Паузе, первое издание вышло в свет в 1717 году
В известных нам письмах Брюса описываются самые разнообразные научные опыты и наблюдения, которые либо он сам проводил, либо советовал ставить другим. В частности, Брюс слал Петру, нередко по его просьбе, описания различных инструментов с чертежами. Брюс делал также ряд переводов иностранных книг, имевших, как правило, практическое значение, на русский язык.
Всего в библиотеке Брюса насчитывалось 1579 томов (1418 названий) отдельно описанных печатных книг. Кроме этого, были еще пачки и свертки с книгами, подробная опись которых не была сделана. В библиотеке также имелись 52 рукописи на многих европейских языках, а также 133 карты и большое количество планов городов и различных математических чертежей. Не исключено, что часть неописанных бумаг представляли собой рукописи самого Брюса.
В библиотеке Брюса были книги по двадцати научным дисциплинам на четырнадцати языках. Поистине это был ученый-энциклопедист, занимавшийся не только переводами, но и собственными научными исследованиями в различных областях знания.
При этом все прижизненные свидетельства говорят, что Яков Вилимович был человеком с сугубо рациональным мышлением, нисколько не склонным к мистике. Он обладал скептическим, а не мистическим складом ума. По свидетельству современников, Брюс не верил ничему сверхъестественному. Но по иронии судьбы как раз само имя Брюса впоследствии стало ассоциироваться с чем-то таинственным и сверхъестественным.
Например, в записках Андрея Нартова, знаменитого русского механика, запечатлено посещение Петром и Брюсом Новгородского Софийского собора. Стоя с царем возле святых рак с мощами, Брюс рассказывал о причинах нетленности лежащих в них тел. «Но как Брюс относил сие к климату, к свойству земли, в которой прежде погребены были, к бальзамированию телес и к воздержанной жизни и сухоедению или лощению, то Петр Великий, приступя наконец к мощам святого Никиты, архиепископа Новгородского, открыл их, поднял их из раки, посадил, развел руки, паки сложив их, положил, потом спросил: «Что скажешь, Яков Данилович? От чего сие происходит, что сгибы костей так движутся, яко бы у живого, и не разрушаются и что вид лица, аки бы недавно скончавшегося?» Граф Брюс, увидя чудо сие, весьма дивился и в изумлении отвечал: «Не знаю сего, а ведаю то, что бог всемогущ и премудр». Петр же на это ответствовал: «Сему-то верю и я и вижу, что светские науки далеко еще отстают от таинственного познания величества творца, которого молю, да вразумит меня»».
Софийский собор в Новгороде
В судьбе Брюса действительно есть что-то загадочное. Мы до сих пор почти ничего не знаем о его внутреннем мире и быте, особенно в последние годы, проведенные графом почти в отшельническом уединении. Все это тоже открывало богатые возможности для народной фантазии.
Известно, что Брюс сам точил и полировал стекла для телескопов и подзорных труб. После его смерти их хватило на всю тогдашнюю Академию наук. Именно Брюс впервые в науке проводил сравнительные испытания отражающей способности стеклянных и металлических зеркал.
Особо интересовала его проблема получения высококачественных металлических зеркал к катодиоптрическим, то есть отражательным, телескопам. Брюс обладал большими познаниями в области технологии шлифовки и полировки стекла и металла. В Эрмитаже хранится металлическое вогнутое зеркало от большого зеркального телескопа, со следующей, вырезанной на оборотной его стороне, надписью: «Зделано собственным тщанием графа Якова Вилемовича Брюса 1733 году августа месяца». Рабочая, то есть отражательная, сторона этого зеркала выполнена с такой тщательностью, которой мог бы позавидовать любой «инструментальщик» оптик, не только того времени, но даже и конца XVIII века.
Показательно, что, работая над той или иной проблемой в области естественных наук, Брюс в первую очередь интересовался возможностью практического применения полученных результатов. Вот что он писал по этому поводу в предисловии к первой петровской геометрии 1708 г. «Приемы циркуля и линейки»: «Феоретик может применен быти ремесленнику, художествие разумеющу, а не действующу. Инженеру же, добывающу крепости на бумаге, корабельщику же, в доме своем на морской маппе с компасом щастливо в Америку ездящу». Чистая теория – это только, как считал Брюс, «основание, на нем же никогда строится. Яко великия медные пушки и мартиры, которыя токмо в цейхгаузе держатся, а в поле никогда возятся, и корабли, которые в гавене гниют».
В описи кабинета Брюса, составленной после его смерти, значатся, например, такие вещи: «зеркало кругловитое небольшое, в котором кажет большое лицо»; «раковин разных больших и малых»; «туфли китайские, плетеные из травы»; «гриб каменный»; «тыква индейская»; «кость мамонтовой головы»; «янтари, в которых есть мушки»; коробочка с «маленькой натуральной змейкой» и тому подобные диковины. Некоторым предметам чиновники даже не могли дать определение и потому писали бесхитростно: «некакой фрукт продолговатый», «два мячика некакого фрукта»… Недаром французский посланник Кампредон, советуя в 1721 году своему правительству, каким образом завоевать расположение Брюса, подчеркивал, что Яков Вилимович не из тех, кого можно подкупить деньгами (их у него и так было с большим избытком), и предлагал использовать его собирательский азарт: «Его королевское величество доставил бы ему большое удовольствие, если бы подарил ему гравированное по приказанию покойного короля собрание эстампов королевских дворцов».
Подкупить деньгами Якова Вилимовича, действительно, было мудрено. По своим должностям он мог спокойно класть в собственный карман такие казенные суммы (поскольку убедился, что его, Брюса, Петр за это карать не будет), что никакого французского золота не хватило бы, чтобы завоевать его благосклонность.
Интересовался Брюс и этнографией. Вот только одна история. Землепроходец В. В. Атласов из Великого Устюга, посланный в 1697 году обследовать камчатские земли, вернулся в Москву с маленьким желтокожим человеком. Атласов нашел его у камчадалов, которые рассказали, что пару лет назад к их берегу прибило большую лодку с незнакомыми людьми. Непривычные к суровому быту и скудной еде, они быстро поумирали (или были убиты камчадалами). Остался лишь один. В отчете, составленном в 1701 году, Атласов писал: «А нравом тот полоненик гораздо вежлив и разумен». Когда пленник увидел Атласова и его спутников, то «зело плакал» от радости. Он почувствовал, что это не варвар, а представитель пусть иной, но цивилизации. Чужеземец успешно выучил русский язык. В Москве удалось, наконец, выяснить, что это японец, первый представитель этого народа, оказавшийся в России. И даже люди просвещенные слабо представляли, где именно находится эта таинственная, сознательно изолировавшая себя от внешнего мира страна и что за народ там живет. Атласов в отчете называл его «индейцем». В бумагах же Приказа артиллерии его назвали «Апонского государства татарин именем Денбей».
Петр передал Денбея под опеку Приказа артиллерии, повелев: «А как он, Денбей, русскому языку и грамоте изучится, и ему, Денбею, учить своему японскому языку и грамоте робят человек 4 или 5». В отношении Денбея самодержец проявил удивительную для того времени веротерпимость, приказав не принуждать его к крещению: «А о крещении в православную христианскую веру дать ему, иноземцу, на волю и его, иноземца, утешать и говорить ему: как он русскому языку и грамоте навыкнет и русских робят своему языку и грамоте научит – и его отпустят в Японскую землю». Неизвестно, удалось ли Денбею вернуться на родные острова. В дальнейшем он крестился под именем Гавриила, а основанная им школа переводчиков с японского действовала в Москве до 1739 года.
Брюс, по долгу службы опекал и «утешал» Денбея, буквально «заболел» Японией. Брауншвейгский резидент в России Ф.-Х. Вебер в своих «Записках» утверждал, что Брюс мечтал найти путь из России в Японию и послал экспедицию, которая, однако, в бурю погибла. Правда, следов этой экспедиции в российских архивах пока что обнаружить не удалось. Еще Вебер сообщал: «У сего Брюса был кабинет китайских редкостей, и он очень сожалел, что невозможно никак приобрести точных сведений о положении и особенностях Китайского государства, потому что наряжаемые туда посольства и все русские купцы не имеют права оставаться там долее 3 или самое большее 4 месяцев».
Брюс учил и восточные языки. В письме, адресованном, видимо, профессору Байеру, он изложил результаты своих исследований мунгальского (монгольского) и китайского языков.
Кабинет графа Брюса, состоявший из разных механических, астрономических и физических машин и инструментов, также из камней, руд, древних медалей, монет и других редкостей, почитался первым в России. Он, как уже говорилось, завещал его и всю свою библиотеку Императорской Академии наук на пользу общественную. В библиотеке, кроме книг и карт, было около 100 различных редких предметов и инструменты для научных измерений. Отметим еще, что граф, выйдя в отставку, много занимался благотворительностью, помогал сирым и убогим.
Репутация «звездочета» и глубокие научные познания Брюса порождали среди обывателей фантастические легенды. Как рассказывал П. И. Богатырев в очерках «Московская старина», москвичи уверились, «будто у Брюса была такая книга, которая открывала ему все тайны, и он мог посредством этой книги узнать, что находится на любом месте в земле, мог сказать, у кого что где спрятано… Книгу эту достать нельзя: она никому в руки не дается и находится в таинственной комнате, куда никто не решается войти». Однако никаких следов загадочной книги, состоявшей из семи деревянных дощечек с вырезанным на них непонятным текстом, так никогда и не было обнаружено в сохранившихся описях библиотеки Брюса.
Но основой для подобных преданий могли послужить реальные факты. Чиновники, составлявшие опись кабинета Брюса, нашли там немало необычных книг, например: «Философия и мистика» (на немецком языке), «Небо новое» (на русском языке) – так обозначено в описи. Была и вовсе загадочная книга, состоявшая из семи деревянных дощечек с вырезанным на них непонятным текстом. Народная же молва утверждала, будто магическая Брюсова книга принадлежала некогда премудрому царю Соломону. И Брюс, не желая, чтобы она после его смерти попала в чужие руки, замуровал ее в стене Сухаревой башни. А после того, как башня была разрушена, стали поговаривать, что случилось это неспроста и виной всему – могучие и опасные чары, заключавшиеся в Брюсовой книге. Да и саму смерть Брюса порой приписывали его магическим экспериментам.
Основным предметом его научных занятий в области физики была практическая оптика, о чем свидетельствует переписка Я.В. Брюса с профессором механики и оптики Санкт-Петербургской Академии наук Иоганном-Георгом Лейтманом в1726—1731 годах. Так, в 1731 году Брюс писал Лейтману об исследованиях по определению удельных весов металлов. Им была составлена методика, на основе которой определены удельные веса меди, золота и серебра. Интересно, что определенный Брюсом удельный вес меди совпадает с современными показателями. Брюс также искал способы очистки металлов от посторонних примесей.
В 1727 году двадцатилетним молодым человеком в Петербургскую Академию наук приехал работать Леонард Эйлер. Он получил профессуру в Академии и в 1732 году вступил в переписку с Брюсом, к тому времени находившемуся уже в отставке и жившему в Глинках. Переписка Брюса с Эйлером рисует Якова Вилимовича как ученого, сохранившего на всю жизнь интерес к чистой математике и даже в старости внимательно следившего за последними достижениями науки. Брюс вполне смог оценить дарование молодого Эйлера. Он вполне профессионально обсуждал с Эйлером основные математические проблемы того времени. Жаль, что вскоре переписка прервалась из-за болезни и смерти Брюса.
Леонард Эйлер (1707–1783) – швейцарский, немецкий и российский ученый, внёсший фундаментальный вклад в развитие математики и механики, а также физики, астрономии и ряда прикладных наук
В первом письме Брюсу Эйлер писал: «Я осмеливаюсь с нижайшим почтением адресовать Вашему высокографскому Превосходительству эти строки и твердо полагаюсь на то, что Ваш милостивый прием возместит незначительность этих скромных открытий». Далее Эйлер рассказывает о своих исследованиях, основанных на открытых Гюйгенсом свойствах кривых линий.
16 ноября 1732 года Брюс ответил Эйлеру: «Из этого письма достаточно ясно видны Ваша сила и искусство как в алгебре, так и в механике. Поэтому я Вам весьма обязан тем, что Вы взяли на себя большой труд сообщить мне образчик Ваших занятий, и я желал бы только увидеться с Вами, чтобы мы могли устно поговорить об этом, ибо я в свое время уже размышлял над этими вопросами.
Вы можете быть уверены, что если я могу оказать Вам какую-нибудь услугу, я сделаю это с готовностью и охотно.
Позволю себе послать Вам приложенный рисунок с просьбой, если это Вам угодно, на досуге посмотреть…».
Далее Брюс рассказал об аналогичных исследованиях, проведенных им самим. А в следующем письме Эйлер отметил: фигура, полученная в результате расчетов «есть именно та самая, которую нашли Ваше высокографское Превосходительство, у меня нет никаких сомнений».
В последнем письме от 18 января 1733 года Брюс признался:
«Я охотно ответил бы на него (письмо Эйлера. – Б. С.) раньше, если бы тому не мешало мое непрерывное нездоровье. Между прочим, посылаю при этом чертеж эллипса и гиперболы, как они мне представились в свое время; хотел бы надеяться, что они понравятся Вам. Я имею еще несколько кривых линий, которые я оставляю, чтобы сообщить о них, когда состояние моего здоровья будет лучше. В остальном остаюсь как всегда
Вашего высокоблагородия
Преданный Я. В. Брюс».
Из этой переписки ясно, что Брюс и Эйлер вели диалог на равных и что какие-то из Брюсовых открытий даже предвосхитили открытия молодого Эйлера. К сожалению, повторим, до сих пор лишь в очень малой степени известна переписка Брюса с иностранными учеными. Вполне возможно, что нас ждут там удивительные сюрпризы. Не исключено, что Брюс сделал действительно значительные для своего времени открытия в математике, механике и оптике.
Насколько успешными были эксперименты Брюса с «плосковыпуклым и другим, с обеих сторон плоским стеклом», опыты по «нахождению» наиболее подходящей для полировки «композиции металла» для «катадиоптрических труб», по изготовлению зеркал «с мышьяком и без», доказывают сохранившиеся образцы его зрительных труб и металлических зеркал. Брюс был знаком со сплавами И. Ньютона – «невтонианской композицией». Необходимо учитывать, что изготовление высокоточных инструментов для научных измерений в начале XVIII века было сопряжено со многими трудностями и лишь немногим ученым удавалось их с успехом преодолеть. Брюс относился к их числу.
Несомненно, в научном развитии Брюса наибольшее значение имело почти годичное пребывание в Англии, где он познакомился с самой передовой наукой того времени. Как раз тогда на туманном Альбионе возник своеобразный синтез бэконовского эмпирически-индуктивного и декартовского математически-дедуктивного методов исследований, и Брюс вполне усвоил эти достижения британской научной мысли, и прежде всего – революционную механику Ньютона. Математике же Брюс обучался у известного английского ученого Джона Колсона. Конспекты ученых занятий в Англии составили то, что в описи названо «Сборная рукопись по математике и фортификации» на шведском языке. Рукопись включает такие разделы, как «Арифметика», «Геометрия», «Практическая геодезия и геометрия», «Осада крепости», «Инструкции по фортификации», и многое другое. На 286 страницах здесь подробно изложен теоретический и практический материал с упражнениями и схемами по использованию математических знаний для всяких целей.
Таким же конспектом являются «Заметки по математике» на немецком языке. В описи Брюс обозначен в качестве автора этой рукописной книги. Но на самом деле это конспекты лекций, составленные Брюсом во время занятий у Джона Колсона. Конспект включает все основные разделы математики, в том числе «Правила треугольника», «Правила двойных углов», «Арифметические прогрессии», «Геометрические прогрессии», «Извлечение квадратного корня», «Дефиниции», «Теоремы», «Проблемы геометрии», «Тригонометрия».
Также сохранилась рукопись Брюса «Статьи по математике и астрономии». Книга имеет следующие разделы: «Угловой сектор», «Построение синусов, тангенсов и секансов», «Основы пропорции диаметра окружности к ее длине», «Техника логарифмов, или Действия с логарифмами», «Основные логарифмы заданных чисел», «Проблемы астрономии», «Теория движения планет», «Орбита Луны», «Орбита Солнца», «Проекция орбиты Солнца», «Три известных долготы Солнца, находящихся в его апогее и перигее». Возможно, здесь мы тоже имеем дело с конспектом. Но вполне вероятно, что здесь, как и в конспекте лекций Колсона, присутствуют и собственные мысли, и открытия Брюса. К сожалению, разбору со стороны астрономов и математиков научные рукописи Брюса до сих пор не подвергались и его истинный вклад в науку своего времени пока что не определен.
Ньютон, тогда уже признанный авторитет в научном мире, именно в восьмидесятые годы особое внимание уделял астрономии и оптике. В 1671 году им был представлен в Лондонское общество зеркальный телескоп. В 1687 году был издан великий труд Ньютона «Математические начала натуральной философии», совершивший переворот в физике. Брюс тоже в первую очередь интересовался: математикой, механикой, астрономией и оптикой.
В библиотеке Брюса имелись все основные труды Ньютона и многие наиболее значительные труды его последователей, комментаторов теории Ньютона, имелись даже «Похвальные стихи на господина Исаака Невтона», изданные в Лондоне в 1728 году.
При активном участии Брюса составляются первые для России таблицы логарифмов.
Совершенно уникальна находка, сделанная Брюсом в Кенигсберге в 1711 году, – список «Повести временных лет» Нестора (Радзивилловская рукопись). Летопись была переписана одним из служителей Брюса и передана им В. Н. Татищеву в 1719 году с пожеланием заняться историей России.
В библиотеке Брюса было около 1500 книг, и практически все были нужны для его научных занятий. По мнению некоторых исследователей, в его библиотеке почти нет книг на тех языках, которыми он не владел свободно, например, на французском. Подавляющее большинство книг здесь было на немецком, английском, голландском и латинском языках. На французском языке имелось всего 25 книг. Тут надо иметь в виду, что французский язык в то время еще не был языком науки, в отличие от латыни, немецкого и английского. А тот факт, что в библиотеке Брюса присутствовали комедии Мольера не только на немецком, но и на французском, доказывает, что этим последним языком Брюс тоже владел, причем в достаточной степени, чтобы читать художественную литературу. Иначе наличие в библиотеке пьес Мольера на языке оригинала становится необъяснимым. Не таким человеком был Яков Вилимович, чтобы просто украшать красивыми корешками полки своей библиотеки. Книги он собирал исключительно для практических целей. Полный перечень известных ему языков, кроме родного английского, включал, очевидно, не менее родной немецкий (по матери), а также русский, латынь, греческий, голландский, французский и, возможно, шведский и итальянский. Всего в библиотеке Брюса, напомним, имелись книги, как минимум, на 14 языках. Вероятно, в той или иной степени он владел всеми из них.
Василий Никиитич Татищев (1686–1750) – российский историк, географ, экономист и государственный деятель, автор первого капитального труда по русской истории – «Истории Российской». Гравюра А. Осипова
Вообще же художественную литературу Брюс предпочитал иметь в своей библиотеке в переводе на английский язык. Сохранились англоязычные «Басни» Эзопа и «Дон Кихот» Сервантеса.
Политическая литература в библиотеке Брюса была немногочисленной, однако среди этих книг имеется знаменитое сочинение Никколо Макиавелли «Князь» (или «Государь»), изданное в 1699 году, а также «Правда воли монаршей…» Феофана Прокоповича, вышедшая в 1722 году.
По сохранившимся описям библиотеки больше всего в ней было книг на немецком языке – 658 экз. На втором месте была литература на английском языке – 308 экз., а русских только 38. В меньшем числе были у Брюса книги на голландском языке – 89 экз. В настоящее время это соотношение изменилось. Если книги на английском языке сохранились почти полностью, то почти половина изданий на немецком языке до настоящего времени не дошла.
Когда в начале 1736 года библиотека Брюса была доставлена в Петербург, Академическая канцелярия приняла решение сохранить ее как единое целое, но после передачи ее в БАН книги разошлись по русскому и иностранному фондам. Все двойные экземпляры, в том числе почти все книги на русском языке, прямиком отправились для продажи в книжную лавку. Туда же попали многие дублеты книг на иностранных языках, главным образом на немецком, поскольку с немецкими книготорговыми, книжными лавками и издательствами связи в Академии наук были налажены гораздо лучше, чем со всеми остальными. Впоследствии следы этих книг затерялись. Некоторые книги с экслибрисом Я.В. Брюса были найдены в библиотеке МГУ.
Сохранив связи с Англией и после отставки, Брюс получал оттуда литературу вплоть до 1735 года. Единственный в России того времени, он обладал полным комплектом научного журнала «Философские труды», издававшегося в Лондоне с 1666 года. Последний том этого журнала из собрания Брюса вышел в свет в 1730 году. Из книг, опубликованных в Англии в конце 20-х – начале 30-х годов XVIII века, в библиотеке Брюса точно имелись «Элементы химии» известного голландского медика Г. Бургаве, «Искусство миниатюры» и «Школа рисунка», изданные в Лондоне в 1732–1733 годах.
Брюс, судя по всему, лечил себя сам. Известно, что он страдал подагрой – среди его книг была литература и о борьбе с этой болезнью. Большое число книг было посвящено фармакологии и аптечному делу. Сохранились «Домовая и походная аптека» Л. Блюментроста, «Аптекарская наука» Туллера, «Основательное известие о лекарствах» Гофмана и ряд других.
Брюс имел в своей библиотеке около ста книг по астрономии – практически все, чем располагала эта наука к тому времени. Он стал инициатором публикации в России книги Христиана Гюйгенса «Космотерос», которую он сам и перевел. Полное название этого труда – «Книга мирозрения, или Мнение о небесноземных глобусах». Книга была впервые издана в 1688 году в Гааге. Брюс же переводил с немецкого издания 1703 года. Гюйгенс совершенно определенно отдавал предпочтение системе Коперника – Кеплера. Он также предполагал, что все звезды обитаемы, а Юпитер и Сатурн, будучи похожими на Землю, могут иметь воды, животных и быть заселенными, если не людьми, то, по крайней мере, существами, одаренными разумом. Книга вышла в Петербурге в 1717 году и сразу приобрела репутацию «еретической», так как противоречила церковному учению, принимавшему систему Птолемея, в которой Земля была центром мироздания.
Из 53 рукописей в фондах БАН до сих пор удалось найти 4 русские и 20 иноязычных. Русские рукописи Я.В. Брюса по содержанию историко-лингвистические. Самой ранней из них является «Степенная книга с добавлениями выписок из хронографов», датируемая 3-й четвертью XVII века. Сохранилась и грамота на латинском языке о по жаловании Брюсу графского достоинства. Большой интерес представляет ««Золотая легенда» на латинском языке, сочинения Якопо де Вараццо или де Варагине», относящаяся к XV веку. Сохранилось несколько тетрадей математических заметок, привезенных из Англии в 1699 году, а также три рукописи, относящиеся к XVIII веку: «Описание рефракции солнца, наблюдаемой в 1695 году» И. Бильберга, «Описание музея Шпенера» и «Приказы принца Оранского» на немецком языке. Несколько русскоязычных рукописей связаны с полемикой между двумя церковными деятелями – Стефаном Яворским и Феофаном Прокоповичем.
Обращаясь собственно к книгам, которые были в библиотеке Брюса, из них можно выделить 73, имеющих отношение к разделу герметических учений или наук – астрологии, алхимии и так далее.
Вот их перечень в том порядке, в котором они фигурируют в описи.
1) Якопо де Ворагине. «Извлечение золота. Жизни установитель». В этой рукописной книге автора XIII века, написанной на латыни, речь идет о философском камне, с помощью которого можно извлечь из неблагородных металлов золото, лечить самые разные болезни, составить эликсир жизни – «жизни установитель».
2) Абу Хали бен-Омар. «Арабская астрология» на немецком языке. Эта книга посвящена геомантии, науке о «предсказаниях земли». Такие предсказания выводятся из подземных звуков: треска, грохота, землетрясений и т. д. Позднее этот вид гаданий совершали с помощью нанесения на песок точек и штрихов, образующих различные фигуры, которым придавались различные значения, использовались для этого и листы бумаги с нанесенными на них точками или пунктирами. Связь с астрологией и геомантией приписывают и арабским астрологам, и знаменитому автору Средних веков по оккультизму Корнелию Агриппе. Без знания астрологии нельзя правильно истолковать геомантические фигуры, полученные с помощью точек или линий, нанесенных на бумагу.
«Преврати себя в живой философский камень, наш великолепный Меркурий»
3) Ланселот Эдисон. «Современное состояние евреев» на английском языке. В этой книге английского автора XVII – начала XVIII века рассказывалось среди прочего о религиозно-мистических воззрениях иудеев.
4) Альберт Великий. «Женские тайности» на немецком языке. В 1931 году он был причислен католической церковью к лику святых. Альберт Великий был выдающимся ученым XIII века, работавшим во многих странах Европы. Будучи монахом-доминиканцем, Альберт тем не менее в числе сил, определяющих форму вещей и ход событий, ясно называет влияние звезд и придерживается теории Гебера о соединениях и превращениях металлов с помощью великого «эликсира».
5) Алессио Пьемонтезе (псевдоним Джироламо Русели). «О секретах» на латинском языке. В этой книге итальянского автора XVII века говорится о герметике и ее принципе септнера, то есть семи планет Зодиака и их оккультно-мистическому влиянию на все живое и неживое на Земле – камни, растения, животных, людей.
6) Альфонсо Альварес Барба. «Испанский жрец» на немецком языке. Эта книга посвящена алхимии.
7) Валентин Базиль. «Инновации Базиля» на немецком языке. Эта книга содержит химические и алхимические шрифты. В средневековой алхимии был принят своеобразный шрифт, которым обозначались различные металлы, растения, вещества. Без знания шрифтов, или шифров, невозможно было прочитать, а тем более понять ни один алхимический текст. Она рассказывает о том, как понимали материю древнегреческие философы.
Альберт Великий (ок. 1200–1280) – немецкий ученый, философ, теолог, представитель средневековой схоластики, доминиканец, наставник Фомы Аквинского. Фрагмент фрески работы Томмазо да Модены, 1352
8) Тобиас Бэйтель. «Деревья математические… Астрология разумная и естественная» на латинском языке (эта книга хранилась у Брюса в двух экземплярах).
9) Георг Андреас Беклер. «О возведении домов» на немецком языке. В трактате об архитектуре главного архитектора Нюрнберга в XVII веке рассказывается также об учениях по составлению шифров, искусству толкования снов, хиромантии, физиогномике.
10) Николо Катании. «Геомантия» на немецком языке. Эта книга итальянского автора целиком посвящена геомантии.
11) Детлев Клувер. «Философия Меркурия», в пяти томах, на немецком языке. Эта книга немецкого автора посвящена философии мирового Меркурия, или герметической философии. Там были изложены основы геологии, математики, астрологии, алхимии, авгуральной магии, музыки, а также герметические арканы.
12) «Демокрит Абдерский об искусстве магии» на латинском языке. Эта книга, первые изданная в 1573 году, содержит сведения по алхимии и магии.
13) «Старейшая книга об основах геомантии» на немецком языке.
14) Иоанн из Наксагараса. «Святая истина герметизма» на латинском языке. Книга посвящена философии герматизма, согласно которой древнегреческий бог Гермес Трисмегист (Трижды Величайший) открывает посвященным все тайны мира, как философии, так и астрологии, алхимии, магии и медицины.
15) Габриэль Фалоппи. «Высокое искусство медицины в Падуе» на немецком языке. Медицинский трактат итальянского автора XVI века рассказывает как о химических, так и об алхимических методах лечения.
16) «Лексикон Алхимический доктора Фауста». Франкфурт, 1706 год, на латинском языке.
17) Геомантические таблицы на латинском языке, 1534 год.
18) П. Герц, С. Круце. «Новая кунсткамера» на немецком языке. Константинополь, 1720 г. В этой книге излагались основы алхимии.
19) Джон Хедрич. «Арканы философии, или Химические секреты» на латинском языке. Лондон, 1697 г. Здесь рассказывалось о тайнах алхимии, в том числе связанных с именем знаменитого медика XVI века Теофраста Парацельса (фон Гогенгейа). Арканы – это вещества, действующие на определенные части тела. Поскольку каждый член человеческого тела подчинен определенной планете или знаку зодиака, то вещества, принадлежащие одним и тем же знакам, будут самыми действенными средствами против заболеваний соответствующего члена. Например, золото имеет специфическое действие против болезней сердца, поскольку оба подчинены Солнцу.
20) Барон Иоганн Отто фон Хельвиг. «Тайны главных арканов физики, медицины, хирургии, алхимии и т. д.» на латинском языке. Франкфурт – Лейпциг, 1710.
21) Джон Дантон. «Афинский Оракул. Коллекция ответов на всевозможные вопросы» на английском языке, в четырех томах. В книге имелись Алфавитные Таблицы для быстрого нахождения ответов на различные вопросы, связанные с прорицаниями.
22) Иоганн Хорнунг. «Ларец медицины» на латинском языке. В книге освещаются среди прочего герметические методы медицины.
23) Петер Керценмахер. «Алхимия», на немецком языке. Франкфурт. Два издания, 1613 и 1720 гг.
24) Ренато Синсьеро (Зигмунд Рихтер). «Золотой источник натурального искусства», на немецком языке, 1711. Это книга известного средневекового немецкого алхимика XVII–XVIII веков, силезского пастора.
Лаборатория алхимика. Средневековая гравюра
25) Иоганн Христоф Штееб. «Эликсир Солнца и жития» на латинском языке. Арнстед, 1671. В книге дается Каббалистическое толкование таких наук и искусств, как математика, физика, медицина, химия, иероглифика.
Парацельс (настоящее имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; 1493–1541) – знаменитый алхимик и врач швейцарско-немецкого происхождения
26) «Совершенная Геомантия, или так называемая Пунктирная наука» на немецком языке. Фрейштадт, 1702. Это антология по геомантии.
27) «Правдивые известия о событиях на Рождество 1715 г.» на голландском языке. В книге рассказывается о происшествиях, случившихся после того, как двое крестьян вызвали сатану.
28) Теодор Керкринг. «Доктор медицины» на немецком языке. Нюренберг, 1724.
Книга по медицине написана Спагирическим шрифтом. Спагирические (или симпатические) методы лечения были впервые применены Парацельсом.
Ввиду того что однородные силы взаимно притягиваются, болезнь может быть излечена перенесением части ее материи на другие тела – растений, животных и т. п. Если это делается с соблюдением известных предосторожностей, то удаленные вещества перетянут к себе болезнь, которая «переселится» на растение или животное, при этом больной выздоравливает.
29) Вильям Сальмон. «Фармакопия Батеана» на английском языке. Здесь описываются различные лекарственные препараты. Рассказывается о божественных Арканах и способах приготовления по ним различных препаратов.
30) Вильям Сальмон. «Полиграфия» на английском языке. Лондон, 1701. В этой книге, наряду с вопросами рисования, гравюры и полиграфии, одна глава посвящена алхимии, где освещалась также хиромантия – гадание по руке.
31) Ричард Сандерс. «Хиромантия, Физиогномика, Метоскопия…» на английском языке. Речь идет о различных видах гаданий. Физиогномия – гадание по лицу. Метоскопия – гадание по складкам на лбу.
32) Фридрих Зобейл. «Химическая Медицина» на немецком языке. В книге немецкого врача XVII века изложены методы спагерического (или симпатического) искусства.
33) Николаус фон Гейнс. «Герметическая книга» на немецком языке. Амстердам, Франкфурт, Лейпциг, 1711. В книге представлены «болезни Венеры» по астрологическому соответствию и способы их лечения. Описаны также и некоторые мистические явления.
34) Валентин Краутерман. «Медицина, или Уриный лекарь» на немецком языке. Фракнфурт, Лейпциг, 1725. В книге рассказывается о влиянии Луны и планет на организм человека. Здесь же указаны астрологические аспекты между Луной и другими планетами. Аспекты – это угловое расстояние между планетами на небесном своде Зодиака или важными пунктами в гороскопе.
35) «Вновь объясненный Луллиус и 34 его всемирно известных теста в области искусства» на латинском языке. Нюрнберг, 1703. В книге речь идет о 34 методах алхимического искусства знаменитого средневекового алхимика Раймонда Луллиуса.
36) Джозеф Моксон. «Математический словарь» на английском языке. Среди прочих в словаре присутствуют и астрологические термины.
37) Уфл. «История чудес» на голландском языке. Данциг, 1712. Эта книга посвящена истории оккультизма, волшебства и мистики, в ней даются описания духов, полтергейстов, демонов в обличии мужчин (Incubis) и женщин (Succubis), шабаша ведьм и различных талисманов, философии превращений, астрологии, сведения о знамениях, даваемых кометами, и т. д.
38) Иохан П. Румелий. «Медицина спагирическая». Франкфурт, 1694, на латинском языке; 1712 г., на немецком языке. Это книга по спагирической медицине, снабженная справочником по герметике.
39) «Краткое руководство по натуральной магии». Эта книга посвящена естественной магии. Здесь магия рассматривалась как одна из естественных наук, подобная физике и математике.
40) Эндрю Рамсей. «Новая Киропедия о путешествиях Кира с очерком теологии и мифологии древности» на английском языке. Эдинбург.
41) Кенелм Дигби. «Тайны природы и различные полезные вещи» на немецком языке. В книге описаны симпатически-спагирические методы лечения.
42) Атанасиус Кирхер. «Описание поземельных вещей» на староголландском языке. В книге известного фламандского ученого XVII века иезуита Атанасиуса Кирхера описаны минералы, металлы, травы, камни и их применения для различных нужд, в том числе и для натуральной магии.
43) Атанасиус Кирхер. «Еврейские церемонии» на немецком языке. Франкфурт, 1720. В книге описываются обряды иудаизма, в том числе имеющие магическое значение и связанные с кабаллой.
44) Джироламо Кардани. «О натуральных вещах» на немецком языке. Это книга известного в XVI веке итальянского астролога, герметиста, основоположника метоскопии, использовавшего астрологию и природную магию в своей медицинской практике. Кардани был также выдающимся математиком и механиком.
45) Джироламо Кардани. «Медицина и практическая арифметика» на латинском языке, в трех томах, 1657 г. В этой книге, в частности, доказывалось, на основе физических опытов, что многие явления, прежде считавшиеся сверхъестественными, являются результатом действия природных сил.
46) Теофраст Бомбаст Парацельс. «Философия» на немецком языке.
47) Каспар Шотт «Искусство натуральной магии» на латинском языке.
48) Филиам де Рама. «Астрология» на немецком языке.
Джероламо Кардано (Джироламо Кардани; 1501–1576) – итальянский математик, инженер, философ, медик и астролог
49) Иоган Батиста Порта. «Магия натуральная», 1680 г. Эта книга итальянского ученого и алхимика XVI–XVII веков содержит данные по алхимии, применению волшебных мазей, устройству садов и парков, устройству фейерверков, изготовлению и применению линз и зеркал, проведению алхимических опытов. Порта доказывал, что философский камень найти нельзя, зато давал конкретные советы по изготовлению различных красителей, в том числе способных окрасить металлы в золотой цвет. Также он разоблачал многие фокусы магов и алхимиков, доказывая, что многие чудеса имеют вполне естественно-научное объяснение.
50) В. Гильдебрант. «Магия натуральная» на латинском языке.
51) «Ключ к астрологии» на латинском языке. Лондон. 1676.
52) «Астрологический календарь» на немецком языке.
53) Усбегер. «Трактат, как большой философский эликсир сделать, и письма по химии» на немецком языке, Гамбург, 1705. В этой книге речь идет о получении эликсира жизни, способного вылечить все болезни и обеспечить бессмертие.
54) «Доказательство о несходстве симпатических действ» на немецком языке. Франкфурт-на-Майне, 1700. В книге рассказывается о симпатическо-спагирических средствах, используемых в практической медицине, впервые введенных Парацельсом.
55) «Введение в астрологию» на английском языке. Лондон, 1694.
56) «Совершенная геомантия» на немецком языке. Фрейштадт, 1704.
Также в библиотеке Брюса могла находиться книга знаменитого врача, ученого и алхимика XVI века Корнелиуса Агриппы Неттесгеймского «Оккультная философия» (на латинском языке), в которой он утверждал, что естественная магия не противоречит ни естественным наукам, ни христианской вере. Также не исключено, что Брюс обладал книгой Атанасиуса Кирхера «Эдип Египетский» (двухтомник на латыни), где описана история религии, мифологии и философии различных народов. Там представлены каббалистика, египетская герметика и теургия, астрология и хирология, даны расшифровка и объяснение египетских иероглифов и гностических мистических верований разных народов.
Возможно, в библиотеке Брюса были еще какие-то оккультные книги, установить которые сегодня уже вряд ли возможно, но общей картины это обстоятельство не меняет. Очевидно, что подавляющее большинство книг Брюсовой библиотеки, относящихся в той или иной степени к оккультизму, магии, алхимии и астрологии, содержат также ряд чисто научных сведений, причем вполне практического свойства, а их авторы нередко критически воспринимают все сверхъестественное. Поэтому нельзя сказать с уверенностью, был ли у Брюса особый интерес к магическому, или все эти книги он использовал прежде всего для извлечения собственно научных, рациональных данных для своих научных исследований. Думаю, что второе предположение ближе к истине. Ведь ни в одном из известных писем или сочинений Брюса нет ни единой ссылки на алхимию, астрологию, геомантию или иные оккультные науки. Ни в одном из писем Брюс не ссылается на какие-либо алхимические опыты. Неизвестен ни один гороскоп, ему приписываемый, не фигурируют в его переписке и никакие астрологиеские, геомантические или хиромантические предсказания. А знаменитый календарь, названный его именем, как мы покажем ниже, был составлен вовсе не Брюсом. В нем лишь использовались данные его астрономических наблюдений, а принципы астрологических построений заимствовались из немецких календарей. Если бы Брюс действительно был оккультистом, магом и алхимиком, вряд ли бы ему удалось не оставить никаких следов своей деятельности в этой сфере. Наоборот, все то, что мы знаем о самом просвещенном из соратников Петра: это был человек сугубо рациональный, верящий во всесилие науки и не склонный предаваться мистике и суевериям. Один диалог с Петром в Новгороде насчет святых мощей чего стоит. Кстати сказать, в те времена астрология считалась научной дисциплиной и преподавалась в Англии до 1720-х годов. Однако Брюс нигде не обнаруживает наклонность к ней.
Алхимические инструменты
Брюса обычно считают не только колдуном и чернокнижником, но также масоном. Однако возникшая в 1731 году в России первая масонская ложа, великим мастером которой был назначен капитан Дж. Филиппс, была не вполне русской, поскольку включала преимущественно иностранцев, живших в Петербурге. Главная функция, которую выполняла эта ложа, заключалась в налаживании связей между иностранными дипломатами и «негоциантами», поддержке всех приехавших в Россию. Для этих целей ложа должна была иметь большие связи с правительством, высшим светом и купечеством России, что сразу же и было осуществлено Дж. Филиппсом и сменившим его на этом посту в 1741 г. Джеймсом Кейтом. И даже при наличии широких связей с высшими слоями российского населения организация масонов вплоть до воцарения Елизаветы Петровны в 1740-е годы оставалась полностью закрытой для русских организацией. Конечно, возможны возражения по поводу того, что Брюс был не совсем русским, однако достаточно вспомнить последние годы службы петровского сподвижника и его отъезд из Санкт-Петербурга сразу после отставки, чтобы понять, что свою связь с высшим светом России он утерял окончательно и никакого особого интереса для первой ложи масонов в России – организации достаточно прагматической – не представлял.
Собственно русские масоны в значительном количестве появились только в 1760-е годы, через три десятилетиия после смерти Брюса.
Москвичи рассказывали про Брюса, что он был ученый человек и «волшебством занимался и все знал: и насчет месяца, солнца, и по звездам умел судьбу человека предсказать. Наставит на небо подзорную трубу, посмотрит, потом развернет свои книги и скажет, что с тобой будет. И как скажет, так и выйдет точка в точку. А вот про себя ничего не мог узнать. И сколько ни смотрел на звезды, сколько ни читал свои книги – ничего не выходит». В народном сознании ученый обычно причастен к сверхъестественному и вполне сродни колдуну. Но однажды было ему видение во сне. Явился старец, который обвинил Брюса, что он хочет все узнать сверх меры, а надо довольствоваться тем, что дано: «А если будешь пытаться узнать свыше, то все потеряешь».
При этом, как утверждала молва, «у Брюса-то ум какой был? Один на всю Россию… Ну, может Петр Первый превышал его. Да и как сказать? В одном-то деле и превышал, а в другом не доходил».
Приписывали Брюсу и метеорологические прогнозы, сбывавшиеся со стопроцентной точностью. Жаль, что в его время еще не было Гидрометцентра. Молва поселила Брюса в Сухаревой башне, где «ему помещение было отведено, там и составлял разные порошки, составы. Книги у него редкостные были, вот из них-то он и брал. Конечно, без ума не возьмешь, а у него ум обширный был».
С именем Брюса связывали, в частности, изобретение вечных часов, которые шли много лет после одного завода, а ключ от них Яков Вилимович забросил в Москва-реку. Но после смерти Брюса императрица Екатерина I задумала часы усовершенствовать. Она хотела, чтобы ровно в полдень из часов «солдат с ружьем выбегал и кричал: «Здравия желаем, Ваше Величество!»» Приглашенный сделать солдата мастер-немец разобрал часы, а собрать снова не смог. Не смогли собрать часы и другие мастера.
В Сухаревой башне у Брюса «банки стояли с разными составами да подзорные трубы, а главная мастерская у него была в подземелье – там и работал по ночам. Мастер на все был. Вот раз взял, да и сделал горничную из цветов.
Настоящая девушка была: комнату убирала, кофий подавала, только говорить не могла. Приходит царь Петр Великий.
– Хороша, говорит, у тебя служанка, только одно плохо – не говорит. Немая, что ли? – спрашивает.
А Брюс говорит:
– Да ведь она не рожденная. Я, говорит, из цветов ее сделал.
А царь не верит:
– Полно, говорит, зря языком трепать, мыслимое ли это дело?
– Ну, говорит Брюс, смотри!
Вынул из головы служанки булавку, она вся рассыпалась цветами. Царь и смотрит, дескать, что это за чудо такое?
– Как, говорит, ты этого добился?
– Наукой, – говорит Брюс.
– Да ведь наука науке рознь, – говорит царь. – Может, волшебством? Ты, говорит, лучше признайся.
А Брюс ему отвечает:
– Мне, говорит, нечего признаваться. Вот мои книги, вот составы, смотри сам».
Но Петру Брюс показал только ученые книги, а тринадцать книг по волшебству спрятал в подземелье, и эти редкие книги и по сей день не могут найти.
Еще Брюсу приписывали изобретение эликсира молодости: «Сперва-наперво он над собакой сделал испытание: розыскал старую-престарую собаку, да худющую такую – кости да кожа. Притащил он этого пса в подземелье, изрубил на куски, потом перемыл в трех водах. После того посыпал куски порошком и снова они срослись как следует, по-настоящему. Вот он полил на ту собаку из пузырька каким-то составом, и сейчас из нее получился кобелек месяцев шести. Вскочил на ноги, хвостом замахал и давай вокруг Брюса бесноваться. Известно, малыш: ему бы только поиграться. Тут Брюс и обрадовался:
– Наше дело на мази! – говорит. – Теперь всех стариков сделаю молодыми, пусть живут.
А этот кобелек так и остался при нем; как вечер, сейчас взберется наверх и поднимет брех: тяв-тяв… тяв-тяв…
А народ, который мимо идет, поскорее бежать: думает, что это Брюс собакой обернулся и свою башню сторожит».
Не здесь ли один из источников повести Михаила Булгакова «Собачье сердце»?
Когда Петр узнал об открытии чудесного эликсира, то не поверил, и Брюс предложил царю убедиться самолично в действенности изобретенного средства: «Отыскали такого старючего деда, что он и лета свои позабыл считать и ходить не может, не слышит ничего. В носилках притащили его в башню, спустили в подземелье.
Вот как царская прислуга ушла, Брюс изрубил в куски старика, перемыл в трех водах, посыпал порошком. Вот видит царь: ползут эти куски один к другому, срастаются. И видит, лежит целый дед… Тут Брюс полил из пузырька, и заместо этого деда поднимается молодой парень. Встал, стоит и смотрит. Тут Петр очень удивился и думает: «Наяву ли я или во сне?» Потом приказывает выгнать этого парня. Брюс и выпроводил его, ну, может, дал ему рублишко-другой… Потом натравил на него кобелька. Как принялся кобелек за икры хватать, так этот парень, точно полоумный, бросился бежать.
После этого Петр и говорит:
– А ты брось свою затею, чтобы из стариков делать молодых.
– А почему бросить? – спрашивает Брюс.
– По этому, по самому, – говорит Петр, – что из этого, кроме греха, ничего не выйдет. Ведь если переделать стариков на молодых, тогда и смерти не будет человеку.
И как, говорит, тогда жить? Ведь ежели теперь люди грызутся, то тогда, говорит, за каждый вершок земли станут резаться. А с человека довольно и той жизни, какая ему определена. Ты, говорит, уничтожь эти порошки и составы и больше не занимайся этаким делом».
С этими эликсирами связывали и смерть Брюса: «Пропал Брюс через свою жену и ученика своего: они погубили его. Брюс был старый, а жена молодая, красивая. Ученик тоже старый был. Тут как раз к этому времени Брюс выдумал лекарство… ну такой состав, чтобы старого переделывать в молодого.
А еще не пробовал, как он действует: удача будет или неудача? А на ком испытать? Думал, думал… Вот позвал ученика в подземелье. А у него в этом подземелье тайная мастерская была – никого в нее не пускал. И как позвал ученика, взял да и зарезал.
Всего на куски изрубил, сложил в кадку, посыпал порошком. А сам рассказал, что будто рассчитал своего ученика, так как он ленивый. И целых девять месяцев в кадке лежали эти куски. Это как женщина носит ребенка девять месяцев, так и тут. Вот на десятый месяц взял он изрубленное тело, вывалил на стол, сложил кусок к куску, как было у живого. Как сложил – сейчас полил составом, куски все срослись. Он взял, из пузырька покапал. И поднялся ученик: был старый, стал молодой.
– Вот, говорит, как я спал долго!
А Брюс говорит:
– Ты спал девять месяцев. Ты, говорит, вновь народился.
– Как так? – спрашивает ученик.
Брюс рассказал ему. А тот не верит.
– Это, говорит, белой кобылы сон.
Брюс и говорит:
– Когда не веришь – посмотри в зеркало.
Вот ученик посмотрел в зеркало, видит: совсем молодым стал.
– Это, – говорит, – такие чудеса, что и сказать нельзя. По наружности, – говорит, – я молодой, а по уму старый.
Вот Брюс и приказывает ему:
– Ты, – говорит, – смотри, никому не говори, что я сделал тебя молодым. И жене моей не говори. А рассказывай, что ты у меня новый ученик. Я буду то же говорить.
Потом стал он учить его, как переделывать старого на молодого.
– Это, – говорит, – для того учу тебя, что сам хочу переделаться на молодого. А когда, – говорит, – будут спрашивать, где Брюс, говори: уехал, мол, на девять месяцев, а куда – неизвестно. И жене моей не рассказывай про наше дело, а то она по всей Москве разнесет.
И взял с ученика клятву, что все исполнит как следует. И отдал он ученику эти порошки и составы. И после того ученик зарезал Брюса, на куски изрубил, в кадку положил, порошком засыпал. А сам молчок. Но только жена Брюсова, как увидела молодого ученика, сейчас полюбила его. Ну и он оказался тоже парень не промах. Одним словом, закрутили они вдвоем любовь. Ну, он тоже брех оказался: все выложил Брюсовой жене. А та говорит:
– Не надо переделывать Брюса на молодого. А будем, – говорит, – жить вместе: ты будешь заниматься волшебными делами, а я по хозяйству управлять стану.
Вот ученик и взял себе в голову:
– Это, – говорит, – верно. Я, – говорит, – довольно обучен и буду как Брюс.
Но только ему до Брюса было очень далеко: и сотой части брюсовских наук не знал.
Ну, время идет. Народ удивляется:
– Что это, мол, Брюса не видать, не слыхать?
И царь Петр Великий спрашивает:
– Где это девался Брюс? Раньше, – говорит, – каждое утро с рапортом являлся, а теперь не приходит?
А это, значит, такой рапорт: что он за ночь выдумает, то утром докладывает царю.
Вот пошли от царя узнать насчет Брюса. А ученик говорит:
– Уехал на девять месяцев, а куда – неизвестно.
Ну, те и доложили царю. И тут девять месяцев кончились.
Вот ученик и Брюсова жена выложили изрубленное тело, сложили по порядку. Ученик взял, этим составом полил. Куски срослись. Вот он вынимает из кармана пузырек с каплями. А жена Брюсова вырвала у него пузырек, да хлоп! – обземь и разбила.
– Теперь, говорит, пускай Брюс Страшного суда ожидает – тогда воскреснет. Довольно, говорит, я помучилась за ним, бродягой, пососал он моей кровушки вволю.
А ведь брехала, потому что он не бил ее. А тут, видишь, такая вещь: она молодая, в ней кровь играет, а он старый. Она бесится, а он без всякого, может, внимания, потому что ему и без этого полон рот дела. Конечно, если правильно рассуждать, на что ему молодая жена? Но только она больше виновата: ведь видела, за кого ты выходила? Или тебе, чортовой лахудре, платком глаза завязывали, когда выдавали за Брюса? Но только у нас такого закона нет. А тут, видишь, простая штука: она думала, что через Брюса ей будет почет – дескать, народ станет говорить: «Вон идет волшебникова жена». А народу и дела до нее не было никакого. Действительно, самому Брюсу от всех почет и уважение, ну, многие и боялись. А Брюс с ней под ручку по бульвару не ходил на прогулку. Вот ее и брала досада – вот в чем тут дело. А больше всего, как она полюбила этого ученика, так и думала, что лучше его и на свете нет никого. Баба, и понятие у ней бабское.
И вот они вдвоем обрядили Брюса, в гроб положили и сговорились, как им брехать перед людьми. Вот она сейчас и подает известие:
– Головушка ты моя бедная!.. – завыла, заголосила…».
Однако Петр догадался, что это жена с молодым учеником извели Брюса, потому что уж слишком сильно жена голосила по умершему, и когда они с учеником рассказали про махинации с оживительными каплями, царь велел отрубить им головы. Только сами капли с тех пор были утрачены безвозвратно.
Здесь проявляется древний мотив предательства жены и ученика по отношению к своему мужу и мастеру. При этом народ, сложивший легенду, естественно, понятия не имел о том, что Брюс на семь лет пережил свою жену. Год ее рождения неизвестен, но учитывая, что Брюс женился в возрасте 25 лет, жена никак не могла быть сколько-нибудь существенно младше его. А идея приписать Брюсу ученика, возможно, появилась в связи с тем, что незадолго до смерти Яков Вилимович взял на воспитание отрока Дмитрия Васильева.
Другой вариант той же легенды винит в смерти Брюса его лакея: «А было тогда Брюсу восемьдесят лет, и хотел он, чтобы стало сорок. И приказал он лакею, чтобы тот перерезал ему горло бритвой, изрубил на куски и чтобы эти куски перемыл и сложил по порядку, после того смазал бы мазью и уже после полил бы бальзаном. А лакей сделать-то сделал, да не все: бальзаном не полил, а взял, да разлил его по полу. И чего ради пошел он на такое дело – и поднесь никто на знает. Зло ли какое было ему от Брюса, или подкупил его кто – никому не сказал об этой причине.
На что уж ученые профессора по книгам, по бумагам смотрели – ни до чего не докопались». С тех пор будто бы призрак Брюса и ходит по имению, ищет неверного Ваньку. Кстати, ходили слухи, что сам Петр отправлял приговоренных к смерти преступников (кто поздоровее, конечно) для опытов своего ученого доктора Бидлоо. Может, отсюда и возник слух об «оживительной воде» Брюса?
Характерно также, что в легендах Брюс представлен глубоким 80-летним стариком, тогда как на самом деле Яков Вилимович скончался в возрасте 65 лет. Но для образа колдуна, владеющего секретом живой и мертвой воды, больше подходил столетний старец, собирающийся жить вечно и чем-то напоминающий сказочного Кощея Бессмертного.
Брюсу приписывали и изобретение летательного аппарата: «Сделал из стальных планок и пружин огромаднейшего орла. Сядет на него верхом, придавит пружинку, орел и полетит. И сколько раз летал над Москвой». Дабы не смущать народ, Петр повелел Брюсу летать только по ночам: «Но только долетался Брюс на своем орле. Полетел раз и не вернулся: унес его орел, а куда – никто не знает. Царь жалел его:
– Такого, – говорит, – Брюса больше у меня не будет. И верно, не было ни одного такого ученого».
Сохранились и другие варианты легенды о Брюсовых «железных птицах». Так, свечной торговец Алексей Морозов утверждал, что как-то в сумерках сам видел, что из окон астронома вылетают железные птицы, делают несколько кругов вокруг здания и потом возвращаются обратно. Следующей ночью купец вернулся к башне вместе с домочадцами. В кабинете Брюса горел свет, в окне маячила фигура графа, из башни доносились чьи-то надрывные стоны. Вдруг одно из окон отворилось, и оттуда вылетели три железных чудовища с человеческими головами. Вне себя от ужаса Морозов с домочадцами мчался по ночному городу подальше от страшного места. И вскоре по городу прошел тревожных слух: лютеранин из Сухаревой башни общается с нечистой силой и с ее помощью превращает живых людей, чьи стоны и разносятся по окрестностям, в летающих железных драконов.
После смерти Петра по Москве пошли слухи, что старый Брюс мастерит какую-то «куклу», сиречь «механическую персону». Когда ее заводили, она «оживала», поворачивала голову, поднимала руку и затем садилась в кресло. Некоторые уверяли, что в лунные ночи Брюс разговаривает с куклой и что она ему отвечает. Говорили, что кукла «умеет говорить и ходить, но не имеет души». Железная горничная прислуживала графу в его обсерватории. Когда же Яков Брюс ушел в отставку и покинул город, он увез ее в свое подмосковное имение Глинки. Там кукла свободно разгуливала по липовым аллеям и кокетничала с крестьянами. Крепостные графа, завидев куклу, сначала в страхе разбегались, но потом привыкли и прозвали куклу «Яшкиной бабой».
Но, хотя историки и не отрицают возможность существования «куклы Брюса», ни ее чертежей, ни детального описания до сей поры не найдено.
Как раз в то время, когда Брюс будто бы создавал якобы свою механическую куклу, скульптор Бартоломео Карло Растрелли работал над знаменитой «восковой персоной» Петра. На третий день после смерти императора, 28 января 1725 года, Растрелли с двумя помощниками в присутствии Екатерины I, Меншикова, Брюса и еще нескольких приближенных снял гипсовые слепки с лица, кистей и ступней Петра, а также сделал тщательные обмеры тела. Были сняты слепки даже с затылка и шеи. В течение нескольких месяцев скульптор собственноручно вырезал из дерева по снятым меркам фигуру Петра и вытачивал шарниры для суставов рук и ног. Парик был изготовлен из собственных волос царя, остриженных в 1722 году в сильную жару во время Персидского похода. Глаза нарисовал на золотых пластинках живописец-миниатюрист Андрей Овсов. «Персону» нарядили в парадный костюм, который Петр надел единственный раз – в день коронации Екатерины, 7 мая 1724 года. Костюм был голубого цвета, с серебряными украшениями и голубой лентой ордена Андрея Первозванного, которым Петр был награжден в 1703 году за победу на море над шведами близ крепости Ниеншанц. На левом боку куклы был кортик с эфесом из золотой гарды и черенка китайского аспида. В ножнах кортика были спрятаны походный нож и вилка. Казалось, что император ожил.
«Восковая персона» не была механической куклой в прямом смысле слова. У нее были только шарниры в суставах, позволяющих изменять положение фигуры. Остальное домыслило народное воображение. Очевидно, «восковая персона» и стала прообразом «механической куклы» Брюса.
Человекообразные автоматы строили в XVIII веке механики в Германии, Франции, Англии, Италии. Некоторые куклы даже говорили. Знаменитый механик Соломон де Коз построил «автоматического человека», который мог петь. Для этого надо было зарядить его водой и воздухом и развести огонь в особой камере. В первой четверти XVIII века механик из ‘Гренобля Вокансон продемонстрировал в Париже «автоматического флейтиста», исполнявшего на своем инструменте одиннадцать мелодий. И еще утку, которая ходила и громко крякала.
Однако и сегодня нельзя с уверенностью сказать, действительно ли Брюс сделал механического человека, или, что более вероятно, это всего лишь еще одна легенда, связанная с его именем, поскольку никаких следов «механической персоны» Брюса в источниках не сохранилось. А вряд ли бы такое чудесное изобретение осталось бы без свидетелей. Да и не имела механическая кукла никакого практического значения, а Яков Вилимович был человеком рациональным, и все его изобретения и изготовленные им инструменты, как правило, имели конкретное практическое назначение.
Ходили слухи, что после смерти Брюса в его бумагах нашли чертежи и летательных аппаратов, и механического человека, но все эти бумаги таинственно исчезли.
Еще народ верил, что аэропланы начала XX века были сделаны по Брюсовым чертежам: «Книги у него были очень редкие, древние. Ищут их теперь, только зря: они уже давно в Германии. Еще, как только он помер, кинулись искать деньги, а у него денег-то всего-навсего сотня рублей была. Они же думали: у него миллионы имеются. Ну, взяли эту сотню, а на книги внимания не обращают – разбросали по полу бумаги, планы, топчут… Ну, не все же были тут вислоухие, нашелся один умный человек – немец – забрал книги, рукописания и… в Германию. Вот теперь эти аэропланы, телефоны, телеграфы – все по бумагам Брюса сделаны, по его планам и чертежам».
А. Н. Греч упоминал о народном поверии, согласно которому в парке Брюсовой усадьбы находилась «беседка с самопроизвольно играющей музыкой». И «может быть, здесь была поставлена владельцем усадьбы… Эолова Арфа». Здесь имеется в виду древний музыкальный инструмент Эола – бога ветров, струны этого инструмента настроены в унисон и приводятся в колебание движением воздуха.
И тот же А.Н. Греч, рассказывая о купцах Усачевых – хозяевах усадьбы в XIX веке, приводит легенду о посмертном явлении Брюса в Глинках. Когда новая хозяйка приказала «скромности ради побросать в пруд всех обнаженных Бахусов и Венусов, украшавших дорожки сада», Брюс не оставлял ее в покое и «не дал ей житья в доме, и она переселилась во флигель напротив, надстроив его вторым этажом». Также Брюс невзлюбил купца Лопатина, построившему здесь громадную фабрику, а оставшиеся мраморные фигуры употребившего в плотину в качестве бута: «Удар молнии в дом, который Лопатин превратил в склад хлопка, произвел в нем опустошительный пожар (по одной из легенд, Брюс перед смертью предсказал, что дом его сгорит на грани веков. И пожар действительно произошел в апреле 1899 года. Правда, легенда могла появиться уже после него. – Б. С.); и вот, подчиняясь суеверным родственникам, Лопатин не только отремонтировал его весь – правда, снова в качестве склада, но даже восстановил в нем, как сумел, вышку с часами, конечно нелепую на «сарае»…» «Дух Брюса точно витал над усадьбой, карая отношение владельцев к ее старине…».
А. Н. Греч сообщает еще и предание о надгробье, находившемся в усадебной церкви, установленном после смерти П. А. Румянцевой-Брюс в конце 80-х годов XVIII века, которая к Якову Вилимовичу вообще никакого от ношения не имела. Тем не менее, согласно преданию, «граф Брюс, вернувшись из похода и узнав о недавней в его отсутствие смерти жены, поспешил в церковь, бросился ко гробу и так закаменел около него, убитый горем. Фигура его оказалась спиной к алтарю. Три раза переставляли его, но он снова возвращался в первоначальное положение, пока епископ не благословил оставить его в прежней позе». Но, как известно, жена Брюса умерла, когда он давно уже был в отставке и из ни каких походов возвращаться не мог.
С усадьбой в Глинках связывают и самую известную легенду о Брюсе, легенду о замораживании прудов летом.
Эта легенда излагается в разных вариантах. Вот два из них. Согласно первому, замораживание пруда произошло во время проведения праздника – ассамблеи в усадьбе. Участвовал в этой ассамблее якобы сам Петр I. Днем гости, приехавшие в усадьбу, прогуливались по парку, катались на лодках по пруду, находящемуся в парке. Затем гостям было предложено угощение. Они прошли в дом Брюса, и начался праздничный ужин. После ужина, когда на улице стемнело, гостей вновь пригласили в парк на праздничный фейерверк. Во время фейерверка гостям раздали коньки и предложили прокататься по пруду, по которому они днем катались на лодках. За время праздничного ужина Брюс якобы превратил пруд в каток. Излишне говорить, что присутствие Петра само по себе указывает на фантастичность повествования, поскольку усадьбу Глинки Брюс приобрел только через два года после смерти первого российского императора.
Другой вариант изложения легенды более эффектен. Однажды на Петров день в июле приехали в усадьбу Брюса гости. Он повел их по парку, а подойдя к одному из прудов, взмахнул волшебной палочкой, и на глазах изумленных гостей произошло чудо: пруд превратился в ледяной каток, а гостеприимный хозяин пригласил присутствующих кататься на коньках.
Никаких документальных подтверждений или свидетельств очевидцев в пользу этой легенды не существует. Однако некоторые ученые – физики и техники – полагают, что в основе легенд о пруде-катке может лежать рациональное зерно, хотя детали опыта в легендах за более чем 150 лет их бытования, наверняка, были искажены.
В 1992 году кандидат технических наук В. В. Малаханов, побывав предварительно в усадьбе Глинки, попытался объяснить фокус со льдом: «Лед, видимо, наморозили зимой, сохранили до теплых дней… Несомненно, что Брюс хорошо знал технологию намораживания и сохранения льда, ибо во время своего продолжительного пребывания в Англии, наверняка, знакомился с процветавшей тогда ледовой индустрией. В каждой английской усадьбе и при каждом знатном доме имелось хранилище для льда, его использовали летом для охлаждения продуктов и вина, а также для изготовления входившего тогда в моду изысканного лакомства – мороженного. К тому же Брюс не раз наводил во время многочисленных зимних переходов войсковой артиллерии ледовые мосты и переправы.
Заготовку льда Брюс мог осуществлять следующим образом. К марту лед наморозили до толщины 30–40 сантиметров. Затем его поверхность присыпали соломой, опилками или стружками и прикрыли деревянными щитами. На них поверху уложили небольшой слой глинистого, слабо водопроницаемого грунта. Под такой защитой лед мог надежно храниться все лето.
Для надлежащего эффекта требовался каскад из двух прудов, чем и располагал Брюс в своей усадьбе, или же пруд с расположенным выше родником. На нижнем пруду и должно было происходить главное действие в торжественный вечер. Итак, заранее намороженный до необходимой толщины лед, защищенный соломой, досками и грунтом от действия тепла, уложили ранней весной на дно нижнего пруда, спустив из него воду. Утром, в день праздника, из верхнего пруда была пущена вода в нижний пруд. Лед, пригруженный грунтом, остался на его дне. На этом нижнем пруду днем катали на лодках гостей. А когда они уселись за праздничным столом, и началось веселье, спустили воду из пруда, убрали щиты с грунтом с поверхности льда и очистили его. Быстро освободить лед удалось за счет того, что грунт и солому укладывали на носилки или салазки, которые растаскивали вручную или лошадьми. Затем заново заполнили нижний пруд водой; лед поднялся и образовал плавающий каток. Когда гостей пригласили прогуляться в вечерний парк, по сигналу Брюса вспыхнули огни фейерверка, заискрился, засверкал лед. Ошеломленные гости замерли в восторге».
Реконструкция выглядит убедительно, но вот беда: твердо установлено, что на территории усадьбы Глинки в XVIII веке был только один нижний пруд. Он довольно внушительных размеров и для проведения опытов со льдом никак не подходит. Да и лед, поднятый летом со дна, всегда будет по размерам гораздо меньше самого пруда. Он будет плавать, как льдины в океане, но цельного катка не образует. Да и никаких сведений, что Брюс во время Северной войны создавал ледяные мосты, в источниках нет. Поскольку почти все боевые действия шли весной, летом или осенью, ему затруднительно было бы использовать подобные средства переправы.
Согласно точке зрения современных инженеров-технологов, специалистов по холодильным установкам для того, чтобы пруд превратить летом в ледяной, Брюс должен был иметь ледник – небольшой пруд, обычно находившийся в тенистом парке, на котором лед сохраняли на все лето, покрывая его по весне соломой, опилками, стружкой и т. д. При наличии такого пруда можно сконструировать приспособление, с помощью которого на поверхности льда летом можно было дать небольшой слой воды, всего в 5—10 см. И вот по прибытии гостей Брюс дает команду крестьянам освободить ледник от всего, что лежало на льду, и дать поверх льда слой воды. Он встречает гостей, ведет их по парку и подводит к пруду с таким расчетом, чтобы гостям была видна только поверхность воды. Теперь ему достаточно поднять волшебную палочку и взмахнуть ею, то есть дать сигнал открыть клапаны, через которые вода будет уходить с поверхности льда. Это происходит в течение нескольких минут. Гостям же кажется, что пруд из обыкновенного превратился в ледяной по мановению волшебной палочки Брюса.
Несмотря на эти объяснения легенда о замораживании прудов остается очередным мифом о Брюсе, не подтвержденным ни фактами, ни документами. И никому пока что Брюсов фокус со льдом повторить не удалось.
В Сухаревой башне Брюс будто бы хранил «черную книгу», читал ее по ночам, творил по ней волшебство, смотрел в подзорную трубу на звезды и гадал по ним, производил снег и гром среди лета в ясные дни и делал много-много другого необычного. В башне, кроме «черной книги», хранилась и «Соломонова печать» на перстне, поворачивая которым в разные стороны всяк мог производить чародейства: «от себя отвратишь, все очарование разрушишь, власть над сатаной получишь».
Такой волшебный перстень с «Соломоновой печатью» якобы хранился в Сухаревой башне
Профессор Московского университета И. М. Снегирев в статье, написанной в 1840-х годах, привел выписки из рукописной библиографии, попавшейся ему и содержащей сведения о сокровищах Сухаревой башни: «Черная книга, написанная волшебными знаками; ей беси покоряются и служат, соч. Рафли, Шестокрыл, Воронограй, Остромий, Зодий, Алманах, Звездочет, Аристотелевы врата. Писана до Ноева потопа, сохранились на дне морском в горючем камне алатыре. Чернокнижник ее достал, а ныне закладена в Сухаревой башне, связана страшным проклятием на 10 000 лет, 35 книг, 180 000 листов. Черная магия, писанная непонятными письменами волшебными, существующая от начала мира, во время потопа сохраненная в камне Хамом. Гермес нашел после сию книгу. 9 книг, 100 000 листов, а ныне закладена в Сухаревой башне», еще целый ряд подобных сочинений. Далее идут чародейные предметы: «Соломонова печать на перстне слова Sator, apero tenet opera rotas» («Творец, дай силу повелевать судьбой» (лат.)), а внутри дух заключен, на кольце разные фигуры. Можно сим перстнем делать разно: к себе печатью превратишь – невидим будешь, от себя отвратишь – видим будешь и все очарования разрушишь, власть над сатаной получишь… Досчечка точно аспидная черная, литеры красные и белые, действует сице: ударишь его обо что, духи выйдут из нее трое и что хошь исполнят».
В другой рукописи, ходившей по рукам в XIX веке, описывались таинственные «волшебные» книги и вещи, хранившиеся в Сухаревой башне, которыми будто бы пользовался Брюс:
«1. Книжица хитрая с таблицами, тайными буквами, выписанная из чернокнижия магии черной и белой, кабалистики и пр.
2. Зерцало, показывающийся покойник за 100 лет в живе образом и одежду, и походку и говорящий, на все вопросы отвечающий одни сутки, после пропадает.
3. Черная книга, кудесничество, чародейство, знахарство, ворожба. Сие русское чернокнижие, собранное русскими знахарями. 19 частей. Рукопись скоро писная…» и многое другое.
Была здесь и «Соломонова печать» (шестиконечная звезда, символ черных магов), в которой «были заключены» всемогущие духи, была и «Досчечка аспидная черная», превращавшая обладателей в невидимку, а если ее положить к себе «взапазуху», «то будешь все на свете знать и будешь память, хитрость, мудрость, разум иметь».
Что ж, перечень оккультных книг впечатляет, хотя далеко не факт, что все они существовали в действительности. К Брюсу же они никакого отношения не имеют и в описи его библиотеки не значатся.
После смерти Брюса все эти «волшебные» вещи и книги якобы были замурованы в тайниках башни. Однако когда в 1934 году сломали Сухареву башню, никаких тайников там обнаружено не было.
И, наконец, еще одна легенда, связанная с так называемым Брюсовым календарем.
Он действительно издал первый в России гражданский столетний календарь, впервые вышедший в 1709 году. Этот календарь был создан по образцу немецких календарей и назван по имени Брюса. Впоследствии этому календарю приписывали магические свойства и использовали его для гаданий. Хотя действительным автором календаря был царский библиотекарь Василий Киприянов, торговец свечным товаром и астролог-любитель, написавший сочинение «Планетик», Брюс лишь «надзирал» за его изданием по своей должности заведующего всем типографским делом. Нет даже никаких намеков, что Яков Вилимович хотя бы подал автору саму идею такого рода календаря. Источниками для календаря стали древнерусские отреченные книги – громовники, колядники и другие, предназначенные для гаданий, а также западноевропейская астрология. По гадательным таблицам календаря можно было получить предсказание на любой день любого года, что обеспечило изданию большую популярность не только в XVIII, но и в XIX веке. Ведь он содержал кроме святцев также астрономические сведения, а главное – составленный по иностранным источникам астрологический прогноз на 1710–1821 годы.
Календарь состоял из 6 гравированных листов, содержащих сведения астрономического характера, святцы, пасхалию, «предзнаменование времени на всякий год по планетам» с 1710 по 1810 гг., предзнаменования на каждый день «по течению луны» в зодиаках; 3 таблицы, по которым можно было узнать, когда «кровь пущать, мыслить почать, брак иметь или жену пояти», 4 таблицы «вечного» календаря и большой портрет Петра I, «окруженный арматурою, аллегорическими изображениями планет и времен года».
В. Киприянову могли помогать ученые, работавшие в обсерватории Сухаревой башни, в частности Леонтий Магницкий. В год выхода календаря Брюс был в походе против шведов и вряд ли мог снабжать автора календаря данными своих астрономических наблюдений.
«Месяцеслов» был так популярен, что и через два столетия справочные календари в России, приобретавшие все более энциклопедический характер, назывались «Брюсами».
В один из «Брюсов», на 1896 год, была включена краткая биография «крестного отца» русских календарей. И в ней содержалось одно очень важное утверждение: «Что касается до астрологических предсказаний и советов о счастливых и несчастливых днях и месяцах, помещавшихся в календарях, то Брюс не мог их уважать и если не противился помещению их в календаре, то делал это лишь в угоду укоренившемуся в Европе обыкновению сопровождать ими календари…». Несомненно, астролог и чернокнижник так бы не поступил.
С 1714 года в Петербурге стал издаваться «Календарь или месяцеслов на лето от Р. Х. 1714 (1715,1716,1717… и т. д.), где указывались солнечные затмения, фазы Луны, время восхода и захода Солнца, причем все данные давались по петербургскому меридиану и широте. С 1716 года московские календари стали также издаваться с приложением «табели взхода и запада (захода) солнечного, еще долготы дней и нощей по елевации московской». Вполне возможно, что некоторые астрономические данные, в том числе географические координаты, предоставил авторам календаря Брюс.
Брюса никак нельзя назвать «русским Нострадамусом», поскольку он не только не был автором предсказаний исторических событий, но и самих предсказаний в календарях, издавашихся при жизни Брюса, еще не было.
В начале XVIII столетия успехи астрономии были уже столь обширны, что астрологические предсказания помещались в календари только в угоду суеверной публике.
Подводя итоги, можно сказать, что реальный, из плоти и костей, Яков Вилимович Брюс абсолютно не соответствует тем преданиям и легендам, которые сложились о нем в русском народе (за пределами России об этой фигуре знают только специалисты по истории России XVIII века). Он не был ни магом, ни чернокнижником, ни астрологом, ни алхимиком, а был человеком точного научного знания и сугубо рационального мышления, отрицавшим любую мистику. Однако тайна все равно продолжает окутывать эту незаурядную личность. Быть может, он поспешил родиться лет на пятьдесят, примерно на такой срок опередив свое время в России. В противном случае Брюс стал бы достойным соратником Эйлера и Ломоносова, и, вполне возможно, с его именем мы бы связывали сегодня открытия в механике и астрономии, оптике и математике действительно мирового уровня. Что же касается психологического портрета Брюса, его внутреннего мира, наконец, даже его поведения в быту, нам известно очень мало. Мы даже не знаем, любил ли Яков Вилимович свою жену, или для обеих сторон это был брак по расчету. Не знаем, были ли другие женщины (и тем более – внебрачные дети) в его жизни. Можно только предположить, что жену Брюс любил. Ведь Маргарита фон Мантейфель так и не принесла ему наследников и, очевидно, не способна была этого сделать. Брак у них был лютеранским, допускавшим развод, и при желании Брюс без большого труда мог бы найти себе новую жену, но не сделал этого. И как уживались в нем любовь к науке и любовь к деньгам, нелюбовь к интригам и наклонность к коррупции? Наверное, когда-нибудь будут найдены новые источники о жизни Брюса, позволяющие прояснить различные ее стороны, будет написана действительно научная биография Якова Вилимовича. Но и тогда, как мы убеждены, за ним не закрепится ни в коем случае репутация чернокнижника и мага.
Загадки булгаковской Москвы
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) – русский писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр
По булгаковским произведениям теперь нередко изучают Москву 1920-х годов. Писатель всегда очень точно описывал московские здания в своих фельетонах и очерках. Когда же речь шла о вымышленных зданиях в художественных произведениях («Дом № 13 – Эльпит-Рабкоммуна», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита»), то они выписаны столь детально и точно, с конкретной топографической привязкой, что их прототипы довольно легко опознаются. Вымышленные здания и квартиры играют особенно большую роль в «Собачьем сердце» и «Мастере и Маргарите».
В самой знаменитой булгаковской повести соблюдено классическое единство места действия. Практически все события происходят в квартире профессора Преображенского. Там свершается чудесное превращение доброго пса Шарика в злобного человека Полиграфа Полиграфовича Шарикова. В «Мастере и Маргарите» главное место действия – Нехорошая квартира в доме на Садовом кольце, где живут глава МАССОЛИТа Михаил Александрович Берлиоз и директор Театра Варьете Степан Богданович Лиходеев. Но их место быстро занимает Воланд со свитой. Здесь сатана дает бал, здесь происходит извлечение Мастера и его соединение с Маргаритой.
«Нехорошая квартира» в доме на Садовом кольце
Два других вымышленных здания – Дом Грибоедова и Театр Варьете, непосредственно связаны с Нехорошей квартирой ее жильцами. В Доме Грибоедова концентрируются те, кто противостоит Мастеру и его гениальному роману. А в Театре Варьете Воланд с помощью дьявольских фокусов выявляет нравственную сущность московского населения. И, наконец, в романе есть еще одно важное придуманное место жительства – подвальчик Мастера, где был написан роман о Понтии Пилате и разворачивался его роман с Маргаритой. Здесь же завершилась и земная жизнь любовников. И со всеми этими зданиями оказывается связан целый ряд персонажей, порой имеющих очень прозрачных реальных или литературных прототипов.
Где жил профессор Преображенский, или Тайны «Собачьего сердца»
В начале Чистого переулка, в доме 1, квартира 12, жил дядя Булгакова Николай Михайлович Покровский. Периодически он делил квартиру со своим братом – Михаилом Михайловичем. Оба были врачами, первый – гинеколог, второй – терапевт. Булгаков со своей первой женой Татьяной Николаевной Лаппа не раз бывали тут еще до переезда в Москву, бывали и после. В результате милейший Николай Михайлович послужил прототипом профессора Филиппа Филипповича Преображенского в повести «Собачье сердце». Просторная, уютная квартир располагалась в бывшем владении художника архитектуры Калугина. Шесть комнат, белая смотровая, дорогая мебель. Помните, как Филипп Филиппович предупреждает:
«– Зинушка, что это такое значит?
– Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, – сказала Зина.
– Опять, – горестно воскликнул Филипп Филиппович, – ну, теперь, стало быть, пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. В начале каждый вечер пение, потом в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее». Здесь вымышленный домовладелец Калабухов имеет прозрачный реальный прототип – Калугина.
Нетрудно убедиться, что квартира, в которой жили братья Николай Михайлович и Михаил Михайлович Покровские, практически во всех деталях совпадает с квартирой профессора Филиппа Филипповича Преображенского в «Собачьем сердце». По одну сторону от коридора в квартире Преображенского помещалась смотровая комната, комната прислуги и кухня, а в квартире Покровского – смотровая, спальня и кухня. По другую сторону от коридора в квартире Филиппа Филипповича мы находим приемную, столовую и спальню, а в квартире Николая Михайловича – приемную, столовую и комнату брата Михаила Михайловича. Поскольку квартиру Преображенского Булгаков сделал больше квартиры Покровского, то добавил туда операционную и кабинет. Филипп Филиппович родных не имеет, поэтому реальную комнату брата Булгаков превратил в комнату прислуги (у Покровских прислуга была приходящая).
Вид Пречистенки на открытке 1907 года
Интересно, что в адресе прототипа названия улиц связаны с христианской традицией, а его фамилия (в честь праздника Покрова) соответствует фамилии персонажа, связанной с праздником Преображения Господня.
19 октября 1923 года Булгаков описал в дневнике свой визит к Покровским: «Поздно вечером зашел к дядькам (Н.М. и М.М. Покровским. – Б. С.). Они стали милее. Дядя Миша читал на днях мой последний рассказ «Псалом» (я ему дал) и расспрашивал меня сегодня, что я хотел сказать и т. д. У них уже больше внимания и понимания того, что я занимаюсь литературой».
Прототип, как и герой, подвергся уплотнению, причем, в отличие от профессора Преображенского, Н.М. Покровскому избежать этой неприятной процедуры не удалось. 25 января 1922 года Булгаков отметил в дневнике: «К дяде Коле силой в его отсутствие… вопреки всяким декретам… вселили парочку».
Сохранилось колоритное описание Н. М. Покровского в воспоминаниях Т. Н. Лаппа: «…Я как начала читать («Собачье сердце». – Б. С.) – сразу догадалась, что это он. Такой же сердитый, напевал всегда что-то, ноздри раздувались, усы такие же пышные были. Вообще, он симпатичный был. Он тогда на Михаила очень обиделся за это. Собака у него была одно время, доберман-пинчер».
Отметим, что Н.М. Покровский сделал аборт Т. Н. Лаппа в конце 1916 или в начале 1917 года. Татьяна Николаевна также утверждала, что «Николай Михайлович долго не женился, но очень любил ухаживать за женщинами». Возможно, это обстоятельство побудило Булгакова заставить холостяка Преображенского заниматься операциями по омоложению жаждущих любовных похождений стареющих дам и кавалеров.
«Калабуховский дом», построенный в 1904 году по проекту С.Ф.Кулагина, – дом профессора Преображенского в повести М.А.Булгакова «Собачье сердце»
Вторая жена Булгакова – Любовь Евгеньевна Белозерская – вспоминала: «Ученый в повести «Собачье сердце» – профессор-хирург Филипп Филиппович Преображенский, прообразом которому послужил дядя М.А. – Николай Михайлович Покровский, родной брат матери писателя, Варвары Михайловны… Николай Михайлович Покровский, врач-гинеколог, в прошлом ассистент знаменитого профессора В.Ф. Снегирева, жил на углу Пречистенки и Обухова переулка, за несколько домов от нашей голубятни. Брат его, врач-терапевт, милейший Михаил Михайлович, холостяк, жил тут же. В этой же квартире нашли приют и две племянницы… Он (Н.М. Покровский. – Б. С.) отличался вспыльчивым и непокладистым характером, что дало повод пошутить одной из племянниц: «На дядю Колю не угодишь, он говорит: не смей рожать и не смей делать аборт». Оба брата Покровских пользовали всех своих многочисленных родственниц. На Николу зимнего все собирались за именинным столом, где, по выражению М.А., «восседал как некий бог Саваоф», сам именинник. Жена его, Мария Силовна, ставила на стол пироги. В одном из них запекался серебряный гривенник. Нашедший его считался особо удачливым, и за его здоровье пили. Бог Саваоф любил рассказывать незамысловатый анекдот, исказив его до неузнаваемости, чем вызывал смех молодой веселой компании».
Повесть «Собачье сердце» была написана в январе – марте 1925 года, но так и не смогла пройти цензуру. Глава издательства «Недра», старый большевик Н. С. Ангарский (Клестов) обратился к члену Политбюро Л. Б. Каменеву с просьбой прочесть рукопись и помочь в ее публикации. В начале сентября Каменев вернул рукопись, отозвавшись о ней крайне негативно: «Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя». Что же так напугало и цензуру и одного из наиболее видных большевиков?
7 марта 1925 года Михаил Афанасьевич читал первую часть повести на литературном собрании «Никитинских субботников», а 21 марта там же – вторую часть. Один из слушателей, М. Я. Шнейдер, следующим образом передал перед собравшимися свое впечатление от «Собачьего сердца»: «Это первое литературное произведение, которое осмеливается быть самим собой. Пришло время реализации отношения к происшедшему» (т. е. к Октябрьской революции 1917 года и последующему пребыванию у власти большевиков). На этих же чтениях присутствовал внимательный агент ОГПУ, который в донесениях от 9 и 24 марта оценил повесть совсем иначе: «Был на очередном литературном «субботнике» у Е. Ф. Никитиной (Газетный, 3, кв. 7, т. 2–14–16). Читал Булгаков свою новую повесть.
Сюжет: профессор вынимает мозги и семенные железы у только что умершего и вкладывает их в собаку, в результате чего получается «очеловечение» последней.
При этом вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах:
1. У профессора 7 комнат. Он живет в рабочем доме. Приходит к нему депутация от рабочих, с просьбой отдать им 2 комнаты, т. к. дом переполнен, а у него одного 7 комнат. Он отвечает требованием дать ему еще и 8-ю. Затем подходит к телефону и по № 107 заявляет какому-то очень влиятельному совработнику «Виталию Власьевичу» (?) (в сохранившемся тексте первой редакции повести этот персонаж назван Виталием Александровичем (в последующих редакциях он превратился в Петра Александровича); вероятно, осведомитель со слуха неправильно записал отчество влиятельного покровителя. – Б. С.), что операции он ему делать не будет, «прекращает практику вообще и уезжает навсегда в Батум» (как сделал и сам Булгаков в 1921 году, когда собирался через этот порт эмигрировать в Константинополь. – Б. С.), т. к. к нему пришли вооруженные револьверами рабочие (а этого на самом деле нет) и заставляют его спать на кухне, а операции делать в уборной. Виталий Власьевич успокаивает его, обещая дать «крепкую» бумажку, после чего его никто трогать не будет.
Профессор торжествует. Рабочая делегация остается с носом. «Купите тогда, товарищ, – говорит работница, – литературу в пользу бедных нашей фракции». «Не куплю», – отвечает профессор.
«Почему? Ведь недорого. Только 50 к. У вас, может быть, денег нет?»
«Нет, деньги есть, а просто не хочу».
«Так значит вы не любите пролетариат?»
«Да, – сознается профессор, – я не люблю пролетариат».
Все это слушается под сопровождение злорадного смеха никитинской аудитории. Кто-то не выдерживает и со злостью восклицает: «Утопия».
2. «Разруха, – ворчит за бутылкой сен-жульена тот же профессор. – Что это такое? Старуха, еле бредущая с клюкой? Ничего подобного. Никакой разрухи нет, не было, не будет и не бывает. Разруха – это сами люди. Я жил в этом доме на Пречистенке с 1902 по 1917 г. пятнадцать лет. На моей лестнице 12 квартир. Пациентов у меня бывает сами знаете сколько. И вот внизу на парадной стояла вешалка для пальто, калош и т. д. Так что же Вы думаете? За эти 15л. не пропало ни разу ни одного пальто, ни одной тряпки. Так было до 24 февраля (дня начала Февральской революции. – Б. С.), а 24-го украли все: все шубы, моих 3 пальто, все трости, да еще и у швейцара самовар свистнули. Вот что. А вы говорите разруха». Оглушительный хохот всей аудитории.
З. Собака, которую он приютил, разорвала ему чучело совы. Профессор пришел в неописуемую ярость. Прислуга советует ему хорошенько отлупить пса. Ярость профессора не унимается, но он гремит: «Нельзя. Нельзя никого бить. Это – террор, а вот чего достигли они своим террором. Нужно только учить». И он свирепо, но не больно, тычет собаку мордой в разорванную сову.
4. «Лучшее средство для здоровья и нервов – не читать газеты, в особенности же «Правду». Я наблюдал у себя в клинике 30 пациентов. Так что же вы думаете, не читавшие «Правды» выздоравливают быстрее читавших», и т. д., и т. д. Примеров можно было бы привести еще великое множество, примеров тому, что Булгаков определенно ненавидит и презирает весь Совстрой, отрицает все его достижения.
Кроме того, книга пестрит порнографией, облеченной в деловой, якобы научный вид. Таким образом, эта книжка угодит и злорадному обывателю, и легкомысленной дамочке, и сладко пощекочет нервы просто развратному старичку. Есть верный, строгий и зоркий страж у Соввласти, это – Главлит, и если мое мнение не расходится с его, то эта книга света не увидит. Но разрешите отметить то обстоятельство, что эта книга (1 ее часть) уже прочитана аудитории в 48 человек, из которых 90 процентов – писатели сами. Поэтому ее роль, ее главное дело уже сделано, даже в том случае, если она и не будет пропущена Главлитом: она уже заразила писательские умы слушателей и обострит их перья. А то, что она не будет напечатана (если «не будет»), это-то и будет роскошным им, этим писателям, уроком на будущее время, уроком, как не нужно писать для того, чтобы пропустила цензура, т. е. как опубликовать свои убеждения и пропаганду, но так, чтобы это увидело свет. (25/III – 25 г. Булгаков будет читать 2-ю часть своей повести).
Мое личное мнение: такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях «Всероссийского Союза Поэтов»». О чтении Булгаковым второй части повести неизвестный осведомитель сообщил гораздо лаконичнее. То ли она произвела на него меньшее впечатление, то ли посчитал, что главное уже сказано в первом доносе:
«Вторая и последняя часть повести Булгакова «Собачье сердце» (о первой части я сообщил Вам двумя неделями ранее), дочитанная им на «Никитинском субботнике», вызвала сильное негодование двух бывших там писателей-коммунистов и всеобщий восторг всех остальных. Содержание этой финальной части сводится приблизительно к следующему: Очеловеченная собака стала наглеть с каждым днем, все более и более. Стала развратной: делала гнусные предложения горничной профессора. Но центр авторского глумления и обвинения зиждется на другом: на ношении собакой кожаной куртки, на требовании жилой площади, на проявлении коммунистического образа мышления. Все это вывело профессора из себя, и он разом покончил с созданным им самим несчастием, а именно: превратил очеловеченную собаку в прежнего, обыкновенного пса.
Если и подобно грубо замаскированные (ибо все это «очеловечение» – только подчеркнуто-заметный, небрежный грим) выпады появляются на книжном рынке СССР, то белогвардейской загранице, изнемогающей не меньше нас от книжного голода, а еще больше от бесплодных поисков оригинального, хлесткого сюжета, остается только завидовать исключительнейшим условиям для контрреволюционных авторов у нас».
Такого рода сообщения, наверняка, насторожили инстанции, контролировавшие литературный процесс, и сделали неизбежным запрет «Собачьего сердца». Люди, искушенные в литературе, повесть хвалили. Например, 8 апреля 1925 года Вересаев писал Волошину: «Очень мне приятно было прочесть Ваш отзыв о М. Булгакове… юмористические его вещи – перлы, обещающие из него художника первого ранга. Но цензура режет его беспощадно. Недавно зарезала чудесную вещь «Собачье сердце», и он совсем падает духом». 20 апреля 1925 года Ангарский в письме Вересаеву сетовал, что сатирические произведения Булгакова проводить «сквозь цензуру очень трудно»: «Я не уверен, что его новый рассказ «Собачье сердце» пройдет. Вообще с литературой плохо. Цензура не усваивает линию партии». Старый большевик Ангарский здесь притворяется наивным. На самом деле в стране начиналось постепенное ужесточение цензуры по мере укрепления власти И. В. Сталина. Сыграла роль и реакция критики на предыдущую булгаковскую повесть «Роковые яйца», рассматриваемую как антисоветский памфлет. 21 мая 1925 года сотрудник «Недр» Б. Леонтьев послал Булгакову очень пессимистическое письмо: «Дорогой Михаил Афанасьевич, посылаю Вам «Записки на манжетах» и «Собачье сердце». Делайте с ними, что хотите. Сарычев в Главлите заявил, что «Собачье сердце» чистить уже не стоит. «Вещь в целом недопустима» или что-то в этом роде». Позднее Леонтьев и Ангарский упрекали Булгакова, что тот послал Каменеву неправленый экземпляр: «Конечно, нельзя придавать большого значения двум-трем наиболее острым страницам; они едва ли могли что-нибудь изменить в мнении такого человека, как Каменев. И все же, нам кажется. Ваше нежелание дать ранее исправленный текст сыграло здесь печальную роль». На самом деле, причины запрещения повести были куда фундаментальнее, чем несколько невыправленных или выправленных в соответствии с цензурными требованиями страниц. 7 мая 1926 года в рамках санкционированной ЦК кампании по борьбе со «сменовеховством» в квартире Булгакова был произведен обыск и конфискована рукопись дневника писателя и два экземпляра машинописи «Собачьего сердца». Лишь три с лишним года спустя конфискованное при содействии Горького было возвращено автору.
Фабульно «Собачье сердце» восходит к роману Герберта Уэллса «Остров доктора Моро», где профессор-маньяк в своей лаборатории на необитаемом острове занимается созданием хирургическим путем необычных «гибридов» людей и животных. Роман Уэллса был написан в связи с ростом движения противников вивисекции – операций над животными и их убийством в научных целях. Присутствует в повести и идея омоложения, ставшая популярной в 20-е годы в СССР и ряде европейских стран.
Стоит заметить, что в 20-е годы «Остров доктора Моро» как в России, так и, особенно, в среде русской эмиграции воспринимался как остро актуальное произведение не только в связи с проблемой опытов над животными. Владислав Ходасевич писал по поводу смерти Дзержинского в фельетоне «Парижский альбом», опубликованном в берлинской газете «Дни» 25 июля 1926 года: «…Не только «золотого», но и самого лютого сердца у него не было. Была шестерня. И она работала, пока не стерлась: 20 июля, в 4 часа 40 минут.
Разумеется, были перебои и в этой машине. Тут действовал атавизм: ведь шестерня все-таки происходила от человеческого сердца. Дзержинский был сделан Лениным из человека, как доктор Моро делает людей из зверей».
Ходасевич не мог читать «Собачьего сердца», написанного Булгаковым годом ранее. А если бы прочел, то порадовался бы, что мысли двух писателей развиваются в одном направлении. Ведь у Булгакова намек не только на то, что Преображенский, подобно Моро, из животного (собаки) делает человека, но и на то, что Советская власть совершает обратный процесс, как своего рода Анти-Моро, превращая Шарикова в зверя.
У Булгакова добрейший профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит эксперимент по очеловечению милого пса Шарика и очень мало напоминает героя Уэллса. Но эксперимент оканчивается провалом. Шарик воспринимает только худшие черты своего донора, пьяницы и хулигана пролетария Клима Чугункина. Вместо доброго пса возникает зловещий, тупой и агрессивный Полиграф Полиграфович Шариков, который тем не менее великолепно вписывается в социалистическую действительность и даже делает завидную карьеру: от существа неопределенного социального статуса до начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных. Вероятно, превратив своего героя в начальника подотдела Московского Коммунального Хозяйства, Булгаков недобрым словом поминал свою вынужденную службу во владикавказском подотделе искусств и московском Лито (литературном отделе Главполитпросвета). Шариков становится общественно опасен: науськиваемый председателем домкома Швондером против своего создателя – профессора Преображенского, пишет доносы на него, а в конце даже грозит револьвером. Профессору не остается ничего другого, как вернуть новоявленного монстра в первобытное собачье состояние.
Если в «Роковых яйцах» был сделан неутешительный вывод насчет возможности реализации в России социалистической идеи при существующем уровне культуры и просвещения, то в «Собачьем сердце» пародируются попытки большевиков сотворить нового человека, призванного стать строителем коммунистического общества. В работе «На пиру богов», впервые вышедшей в Киеве в 1918 году, философ, богослов и публицист С. Н. Булгаков заметил: «Признаюсь вам, что товарищи кажутся мне иногда существами, вовсе лишенными духа и обладающими только низшими душевными способностями, особой разновидностью дарвиновских обезьян – Homo socialisticus». Михаил Афанасьевич в образе Шарикова эту идею материализовал, учтя, вероятно, и сообщение В.Б. Шкловского, прототипа Шполянского в «Белой гвардии», приведенное в мемуарном «Сентиментальном путешествии». Виктор Борисович так характери зовал слухи, циркулировавшие в Киеве в начале 1919 года: «Рассказывали, что англичане – рассказывали это люди не больные, – что англичане уже высадили в Баку стада обезьян, обученных всем правилам военного строя. Рассказывали, что этих обезьян нельзя распропагандировать, что идут они в атаки без страха, что они победят большевиков». Вероятно, эти слухи могли быть простым развитием образа «особой разновидности дарвиновских обезьян».
Homo socialisticus оказался удивительно жизнеспособным и прекрасно вписавшимся в новую действительность. Булгаков предвидел, что Шариковы легко могут сжить со свету не только Преображенских, но и Швондеров. Сила Полиграфа Полиграфовича – в его девственности в отношении совести и культуры. Профессор Преображенский грустно пророчествует, что в будущем найдется кто-то, кто натравит Шарикова на Швондера, как сегодня председатель домкома натравливает его на Филиппа Филипповича. Писатель как бы предсказал кровавые чистки 30-х годов уже среди самих коммунистов, когда одни Швондеры карали других, менее удачливых. Швондер – это мрачное, хотя и не лишенное комизма олицетворение низшего уровня тоталитарной власти – управдома – открывает большую галерею подобных героев в булгаковском творчестве: Аллилуйя (Портупея) в «Зойкиной квартире», Бунша в «Блаженстве» и «Иване Васильевиче», Никанор Иванович Босой в «Мастере и Маргарите».
Есть в «Собачьем сердце» и скрытый антисемитский подтекст. Если мы обратимся к книге М.К. Дитерихса «Убийство царской семьи», вышедшей во Владивостоке в 1922 году и, скорее всего, известной Булгакову (в романе «Белая гвардия» отразилось убийство царской семьи), то прочтем там такую характеристику председателя Уральского Совета Александра Григорьевича Белобородова (в 1938 году его благополучно расстреляли как видного троцкиста): «Производил он впечатление человека необразованного, даже малограмотного, но был самолюбив и очень большого о себе мнения.
Жестокий, крикливый, он выдвинулся в определенной среде рабочих еще при керенщине, в период пресловутой работы политических партий по “углублению революции”. Среди слепой массы рабочих он пользовался большой популярностью, и ловкие, хитрые и умные Голощекин, Сафаров и Войков умело пользовались этой его популярностью, льстя его грубому самолюбию и выдвигая его постоянно и всюду вперед. Он был типичный большевик из среды русского пролетариата, не столько по идее, сколько по форме проявления большевизма в грубых, зверских насилиях, не понимавшей пределы натуры, некультурного и недуховного существа».
Точно таким же существом является Шариков, а направляет его председатель домкома – еврей Швондер. Кстати, его фамилия, возможно, сконструирована по аналогии с фамилией Шиндер. Ее носил упоминаемый Дитерихсом командир особого «Екатеринбургского отряда», сопровождавшего Романовых из Тобольска в Екатеринбург.
Операцию над Шариком профессор со священнической фамилией Преображенский делает во второй половине дня 23 декабря, а очеловечивание пса завершается в ночь на 7 января, поскольку последнее упоминание о его собачьем облике в дневнике наблюдений, который ведет ассистент Борменталь, датировано 6 января. Таким образом, весь процесс превращения собаки в человека охватывает период с 24 декабря до 6 января, от католического до православного Сочельника. Происходит Преображение, только не Господне. Новый человек Шариков появляется на свет в ночь с 6-го на 7-е января – в православное Рождество. Но Полиграф Полиграфович – воплощение не Христа, а дьявола, взявший себе имя в честь вымышленного «святого» в новых советских «святцах», предписывающих праздновать День полиграфиста. Шариков – в какой-то мере жертва полиграфической продукции – книг с изложением марксистских догм, которые дал ему читать Швондер. Оттуда «новый человек» вынес только тезис о примитивной уравниловке – «взять все да и поделить». При последней его ссоре с Преображенским и Борменталем всячески подчеркивается связь Шарикова с потусторонними силами: «Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича, очевидно, гибель уже караулила его и рок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятья неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:
– Да что такое в самом деле? Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть!
– Убирайтесь из квартиры, – задушевно шепнул Филипп Филиппович.
Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталя из кармана вынул револьвер». Шиш – это стоящие дыбом «волосы» на голове у черта. Такие же волосы у Шарикова: «жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле». Вооруженный револьвером Полиграф Полиграфович – это своеобразная иллюстрация знаменитого изречения итальянского мыслителя Никколо Макиавелли: «Все вооруженные пророки победили, а безоружные погибли». Здесь Шариков – пародия на Ленина, Троцкого и других большевиков, которые военной силой обеспечили торжество своего учения в России. Кстати, три тома посмертной биографии Троцкого, написанной его последователем Исааком Дойчером, так и назывались: «Вооруженный пророк», «Разоруженный пророк», «Изгнанный пророк». Булгаковский герой – пророк не Бога, а дьявола. Однако только в фантастической действительности его удается обезоружить и путем сложной хирургической операции привести в первичный вид – доброго и милого пса Шарика, который ненавидит только котов и дворников. В реальности большевиков никто разоружить не смог.
При написании повести Булгаков консультировался как у дяди, так и у своего приятеля еще с киевских времен Н.Л. Гладыревского. Л.Е. Белозерская нарисовала в мемуарах такой его портрет: «Бывал у нас нередко и киевский приятель М.А., друг булгаковской семьи, хирург Николай Леонидович Гладыревский. Он работал в клинике профессора Мартынова и, возвращаясь к себе, по пути заходил к нам. М.А. всегда с удовольствием беседовал с ним… Описывая в повести «Собачье сердце» операцию, М.А. за некоторыми хирургическими уточнениями обращался к нему. Он же… показал Маку профессору Александру Васильевичу Мартынову, а тот положил его к себе в клинику и сделал операцию по поводу аппендицита. Все это было решено очень быстро. Мне разрешили пройти к М.А. сразу же после операции. Он был такой жалкий, такой взмокший цыпленок… Потом я носила ему еду, но он был все время раздражен, потому что голоден: в смысле пищи его ограничивали».
В ранних редакциях повести среди пациентов Преображенского угадывались вполне конкретные лица. Так, упоминаемый пожилой дамой ее неистовый любовник Мориц – это хороший знакомый Булгакова Владимир Эмильевич Мориц, искусствовед, поэт и переводчик, работавший в Государственной Академии Художественных Наук (ГАХН) и пользовавшийся большим успехом у дам. В частности, первая жена булгаковского друга Н. Н. Лямина Александра Сергеевна Лямина (урожденная Прохорова), дочь известного фабриканта, ушла от мужа к Морицу.
В 1930 году Мориц был арестован по обвинению в создании вместе с хорошо знакомым Булгакову философом Г. Г. Шпетом в ГАХН «крепкой цитадели идеализма», сослан в Котлас, а после возвращения из ссылки благополучно преподавал мастерство актера в Театральном училище им. М. С. Щепкина. Мориц написал книгу детских стихов «Клички», переводил Шекспира, Мольера, Шиллера, Бомарше, Гете. В позднейшей редакции фамилия Мориц заменена на Альфонс. Эпизод же с «известным общественным деятелем», воспылавшим страстью к четырнадцатилетней девочке, в первой редакции был снабжен такими прозрачными подробностями, что по-настоящему испугал Н. С. Ангарского:
«…Взволнованный голос тявкнул над головой:
– Я известный общественный деятель, профессор! Что же теперь делать?
– Господа! – возмущенно кричал Филипп Филиппович, – нельзя же так! Нужно, сдерживать себя. Сколько ей лет?
– Четырнадцать, профессор… Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить командировку в Лондон.
– Да ведь я же не юрист, голубчик… Ну, подождите два года и женитесь на ней.
– Женат я, профессор!
– Ах, господа, господа!..»
Н. С. Ангарский фразу насчет командировки в Лондон зачеркнул красным, а весь эпизод отметил синим карандашом, дважды расписавшись на полях. В результате в последующей редакции «известный общественный деятель» был заменен на «слишком известен в Москве», а командировка в Лондон превратилась в просто «заграничную командировку». Дело в том, что слова об общественном деятеле и Лондоне делали прототип легко опознаваемым. До весны 1925 года из видных деятелей Коммунистической партии в британскую столицу ездили только двое. Первый – Леонид Борисович Красин, с 1920 года был наркомом внешней торговли и одновременно полпредом и торгпредом в Англии, а с 1924 года – полпредом во Франции. Умер же он все-таки в 1926 году в Лондоне, куда был возвращен полпредом в октябре 1925 года. Второй – Христиан Георгиевич Раковский, бывший глава Совнаркома Украины, сменивший Красина на посту полпреда в Лондоне в начале 1924 года. Действие булгаковской повести происходит зимой 1924–1925 годов, когда полпредом в Англии был Раковский. Но прототипом растлителя малолетних послужил все-таки не он, а Красин. У Леонида Борисовича была жена Любовь Васильевна Миловидова и трое детей. Однако в 1920 или 1921 году Красин познакомился в Берлине с актрисой Тамарой Владимировной Жуковской (Миклашевской), которая была моложе его на 23 года. Сам Леонид Борисович родился в 1870 году, следовательно, в 1920 году его любовнице было 27 лет. Но общественность, безусловно, была шокирована большой разницей в возрасте наркома и актрисы. Тем не менее Миклашевская стала гражданской женой Красина. Он дал Миклашевской, которая перешла на работу в Наркомат внешней торговли, свою фамилию, и она стала называться Миклашевская-Красина. В сентябре 1923 года она родила от Красина дочь Тамару. Вот эти события в 1924 и в начале 1925 года были, что называется, «на слуху» и отразились в «Собачьем сердце», причем Булгаков, чтобы заострить ситуацию, сделал любовницу «видного общественного деятеля» четырнадцатилетней.
Красин несколько раз фигурировал в дневнике Булгакова. 24 мая 1923 года в связи с нашумевшим ультиматумом Керзона, которому был посвящен фельетон «Бенефис лорда Керзона в «Накануне», писатель отметил, что «Керзон и слышать не хочет ни о каких компромиссах и требует от Красина (тот после ультиматума немедленно смотался в Лондон на аэроплане) точного исполнения по ультиматуму». Здесь сразу вспоминается пьяница и развратник Степа Лиходеев, тоже номенклатурный чин, хотя и пониже Красина – всего лишь «красный директор». Степан Богданович, по мнению финдиректора Римского, отправился из Москвы в Ялту на каком-то сверхскоростном истребителе (на самом деле его туда отправил Воланд). А вот возвращается Лиходеев в Москву, точно, на аэроплане.
Еще одна запись связана с прибытием Красина в Париж и датирована ночью с 20 на 21 декабря 1924 года: «Приезд monsieur Красина ознаменовался глупейшей в «style russe» историей: полоумная баба, не то журналистка, не то эротоманка, с револьером приходила к посольству Красина – стрелять. Полицейский инспект ор ее немедленно забрал. Ни в кого она не стреляла, и вообще это мелкая, сволочная история. Эту Диксон я имел удовольствие встречать не то в 22-ом, не то в 23-м году в милой редакции «Накануне» в Москве, в Гнездниковском переулке. Толстая, совершенно помешанная баба. Выпустил ее за границу pere (папаша – фр.) Луначарский, которому она осточертела своими приставаниями».
Вполне возможно, что Булгаков связывал неудавшееся покушение на Красина сумасшедшей литературной дамы Марии Диксон-Евгеньевой, урожденной Горчаковской, со слухами о скандальной связи Красина с Миклашевской.
В дневниковой записи в ночь на 21 декабря 1924 года в связи с охлаждением англо-советских отношений после обнародования письма Зиновьева, тогдашнего главы Коминтерна, Булгаков упомянул и Раковского: «Знаменитое письмо Зиновьева, содержащее в себе недвусмысленные призывы к возмущению рабочих и войск в Англии, – не только министерством иностранных дел, но и всей Англией, по-видимому, безоговорочно признано подлинным. С Англией покончено. Тупые и медленные англичане, хоть и с опозданием, но все же начинают соображать о том, что в Москве, Раковском и курьерах, приезжающих с запечатанными пакетами, таится некая, весьма грозная опасность разложения Британии».
Булгаков стремился продемонстрировать моральное разложение того, кто призван был работать на разложение «старой доброй Англии» и «прекрасной Франции». Устами Филиппа Филипповича автор выражал удивление невероятному сластолюбию большевистских вождей. Любовные похождения многих из них, в частности, «всесоюзного старосты» М. И. Калинина и секретаря ЦИК А. С. Енукидзе не были тайной для московской интеллигенции в 20-е годы.
Михаил Иванович Калинин (1875–1946) – российский революционер, советский государственный и партийный деятель. В 1919 году Л. Д. Троцкий назвал его «всероссийским старостой», после 1935 года его стали называть «всесоюзным старостой»
В ранней редакции повести более крамольно читалось и заявление профессора Преображенского о том, что калоши из прихожей «исчезли в апреле 1917 года», – намек на возвращение в Россию Ленина и его «Апрельские тезисы» как первопричину всех бед, случившихся в России. В следующих редакциях апрель был заменен по цензурным соображениям на февраль 1917 г. и источником всех бедствий стала Февральская революция.
Авель Сафронович Енукидзе (1877–1937) – российский революционер советский государственный и партийный деятель; был расстрелян как центральная фигура «Кремлевского дела»
Знаменитый монолог Филиппа Филипповича о разрухе: «Это – мираж, дым, фикция!.. Что такое это ваша, «разруха»? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует! Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, ходя в уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха сидит не в клозетах, а в головах», – имеет один вполне конкретный источник. В начале 20-х годов в московской Мастерской коммунистической драматургии была поставлена одноактная пьеса Валерия Язвицкого «Кто виноват?» («Разруха»), где главным действующим лицом была древняя скрюченная старуха в лохмотьях по имени Разруха, мешающая жить семье пролетария. Советская пропаганда действительно делала из разрухи какую-то мифическую неуловимую злодейку, стремясь скрыть, что первопричина – в политике большевиков, в военном коммунизме, в том, что люди отвыкли честно и качественно работать и не имеют стимулов к труду. Единственным лекарством против разрухи Преображенский (и с ним Булгаков) признает обеспечение порядка, когда каждый может заниматься своим делом: «Городовой! Это и только это! И совершенно неважно – будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Я вам скажу… что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирите этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему!» Любителей хорового пения в рабочее время Булгаков наказал в романе «Мастер и Маргарита», где служащих Зрелищной комиссии заставляет безостановочно петь бывший регент Коровьев-Фагот.
Осуждение домкома, вместо своих прямых обязанностей занимающегося хоровым пением, имеет своим источником не только опыт жизни Булгакова в Нехорошей квартире, но и книгу Дитерихса «Убийство царской семьи». Там упоминается, что «когда вечером Авдеев (комендант Ипатьевского дома. – Б. С.) уходил, Мошкин (его помощник. – Б. С.) собирал в комендантскую комнату своих приятелей из охраны, в том числе и Медведева, и тут у них начиналась попойка, пьяный галдеж и пьяные песни, продолжавшиеся до глубокой ночи. Орали обыкновенно на все голоса модные революционные песни: “Вы жертвою пали в борьбе роковой” или “Отречемся от старого мира, отрясем его прах с наших ног” и т. п.» Таким образом, гонители Преображенского, донимающие его хоровым пением, уподоблялись цареубийцам.
А милиционер как символ порядка возникает еще в фельетоне «Столица в блокноте». Миф же разрухи оказывается соотносим с мифом С. В. Петлюры в «Белой гвардии», где бывшего бухгалтера Булгаков корит за то, что тот в конечном счете занялся не своим делом – стал «головным атаманом» эфемерного, по мнению писателя, Украинского государства. В романе монолог Алексея Турбина, где он призывает к борьбе с большевиками во имя восстановления порядка, соотносим с монологом Преображенского и вызывает сходную с ним реакцию. Брат Николка замечает, что «Алексей – незаменимый на митинге человек, оратор». Шарик же думает о вошедшем в ораторский азарт Филиппе Филипповиче: «Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать…».
Само название «Собачье сердце» взято из трактирного куплета, помещенного в книге А. В. Лейферта «Балаганы» (1922):
…На второе пирог — Начинка из лягушачьих ног, С луком, перцем Да с собачьим сердцем.Такое название может быть соотнесено с прошлой жизнью Клима Чугункина, зарабатывавшего на жизнь игрой на балалайке в трактирах (по иронии судьбы, этим же зарабатывал себе на жизнь в эмиграции и брат Булгакова Иван).
Программа московских цирков, которую изучает Преображенский на предмет наличия в них противопоказанных Шарику номеров с котами («У Соломоновского… четыре каких-то… юссемс и человек мертвой точки… У Никитина… слоны и предел человеческой ловкости») точно соответствует реальным обстоятельствам начала 1925 года. Именно тогда в 1-м Госцирке на Цветном бульваре, 13 (Саламонского) и 2-м Госцирке на Б. Садовой, 18 (Никитина) гастролировали воздушные гимнасты «Четыре Юссемс» и эквилибрист Этон, номер которого назывался «Человек на мертвой точке».
По некоторым данным, еще при жизни Булгакова «Собачье сердце» распространялось в самиздате. Об этом писала Булгакову анонимная корреспондентка в письме 9 марта 1936 года, в день запрета «Мольера», упомянувшая: «Ваши талантливые произведения всем известны (я узнала содержание Вашего «Мольера» осенью 30-го г.), и многое другое, что пишется Вами, а м<ожет> б<ыть> и приписывается, переписывается и передается, т<ак>, напр<имер>, вариант окончания пов<ести> «Рок<овые> яйца» и повесть «Собачье сердце»». Также и известный литературовед Разумник Васильевич Иванов-Разумник в книге мемуарных очерков «Писательские судьбы» отмечал: «Спохватившись слишком поздно, цензура решила впредь не пропускать ни единой печатной строчки этого «неуместного сатирика» (так выразился о М. Булгакове некий тип, на цензурной заставе команду имеющий). С тех пор рассказы и повести его запрещались (читал я в рукописи очень остроумную его повесть «Шарик»)…». Здесь под «Шариком» явно имеется в виду «Собачье сердце».
На допросе в ОГПУ 22 сентября 1926 года писатель показал следующее:
««Повесть о собачьем сердце» не напечатана по цензурным соображениям. Считаю, что произведение «Повесть о собачьем сердце» вышло гораздо более злостным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения мне понятны. Очеловеченная собака Шарик получилась, с точки зрения профессора Преображенского, отрицательным типом, так как подпала под влияние фракции (пытаясь смягчить политический смысл повести, Булгаков утверждает, что отрицательные черты Шарикова обусловлены тем, что он оказался под влиянием троцкистско-зиновьевской оппозиции, которая осенью 1926 года подвергалась гонениям. Однако в тексте повести нет никакого намека на то, что Шариков или его покровители симпатизировали Троцкому, Зиновьеву, «рабочей оппозиции» или какому-либо оппозиционному сталинскому большинству движению. – Б. С.). Это произведение я читал на «Никитинских субботниках», редактору «Недр» – т. Ангарскому и в кружке поэтов у Зайцева Петра Никаноровича, и в «Зеленой Лампе». В «Никитинских субботниках» было человек 40, в «Зеленой Лампе» человек 15 и в кружке поэтов человек 20. Должен отметить, что неоднократно получал приглашения читать это произведение в разных местах и от них отказывался, так как понимал, что в своей сатире пересолил в смысле злостности и повесть возбуждает слишком пристальное внимание.
Вопрос: Укажите фамилии лиц, бывающих в кружке «Зеленая Лампа».
Ответ: Отказываюсь по соображениям этического порядка.
Вопрос: Считаете ли вы, что в «Собачьем сердце» есть политическая подкладка?
Ответ: Да, политические моменты есть, оппозиционные к существующему строю».
У пса Шарика есть и, по крайней мере, один забавный литературный прототип. Во второй половине XIX века большой популярностью пользовалась юмористическая повесть-сказка русского писателя немецкого происхождения Ивана Семеновича Генслера «Биография кота Василия Ивановича, рассказанная им самим». Главный герой повести – петербургский кот Василий, живущий на Сенатской площади, при ближайшем рассмотрении очень напоминает не только веселого кота Бегемота (правда, в отличие от булгаковского волшебного кота, кот у Генслера не черный, а рыжий), но и доброго пса Шарика (в его собачьей ипостаси). Вот, например, как начинается повесть Генслера: «Я происхожу от древних рыцарских фамилий, прославившихся еще в Средние века, во время Гвельфов и Гибеллинов.
Мой покойный отец, если б хотел только, мог бы насчет нашего происхождения выхлопотать грамоты и дипломы, но, во-первых, это черт знает чего бы стоило; а, во-вторых, если здраво рассудить, на что нам эти дипломы?.. Повесить в рамке, на стене, под печкой (наше семейство жило в бедности, об этом я расскажу после)».
А вот для сравнения рассуждения булгаковского Шарика о собственном происхождении, после того, как он оказался в теплой квартире профессора Преображенского и за неделю съел столько же, сколько за полтора последних голодных месяца на московских улицах: «“Я – красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито», – размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. – «Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю – у меня на морде – белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович – человек с большим вкусом – не возьмет он первого попавшегося пса-дворнягу»».
Кот Василий рассуждает о своей бедной доле: «Ах, если бы вы знали, что значит сидеть под печкой!.. Ужас, что такое!.. Сор, мусор, гадость, тараканов целые легионы по всей стене; а летом-то, летом, – матушки святы! – особливо когда нелегкая их дернет хлебы печь! Я вам говорю, нет никакой возможности терпеть!.. Уйдешь, и только на улице вдохнешь в себя чистого воздуха.
– Пуф…ффа!
Да и кроме того, бывают при этом разные другие неудобства. Палки, веники, кочерги и всякие другие кухонные орудия, все это обыкновенно засовывают под печку. Того и гляди ухватом глаза выколют… А если не это, так мокрую мочальную швабру в глаза тыкнут… Весь день потом и моешься, моешься и чихаешь… Или хоть бы тоже и это: сидишь себе и философствуешь, закрыв глаза… Вдруг какого-нибудь чертопхана умудрит лукавый плеснуть туда по тараканам ковшик кипятку… Ведь не посмотрит, дурацкая образина, нет ли там кого; выскочишь, как угорелый, оттуда, и хоть бы извинился, скот эдакой, так нет: еще хохочет. Говорит:
– Васенька, что с тобой?..
Сравнивая наше житие с чиновничьим, которым приходится при десятирублевом жалованье жить только что не в собачьих конурах, приходишь истинно к такому заключению, что эти люди с жиру бесятся: нет, вот попробовали бы денек-другой пожить под печкой!»
Точно так же Шарик становится жертвой кипятка, который выплеснул на помойку «каналья повар», и аналогичным образом рассуждает о низших советских служащих, только с прямым им сочувствием, тогда как у кота Василия это сочувствие прикрыто иронией. При этом кипяток, вполне возможно, повар плеснул, не имея намерения обварить Шарика, но тот, как и Василий, видит в происшедшем злой умысел:
«У-у-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке – повар столовой нормального питания служащих центрального совета народного хозяйства – плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи, боже мой – как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.
Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это – последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо – грибы, соус пикан по 3 р. 75 к. порция. Это дело на любителя все равно, что калошу лизать… У-у-у-у-у…
Дворники из всех пролетариев – самая гнусная мразь. Человечьи очистки самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни – перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в Нормальном питании – уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.
Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. С… эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и все с красным вином. Да… Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в бар не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает… Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вот она… Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорет: до чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду – все на женское тело, на раковые шейки, на абрау-дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.
Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне… Куда пойду? У-у-у-у-у!..
– Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик… Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух…
Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса».
Василий живет в жилой комнате курьеров правительствующего Сената, Шарик – при столовой нормального питания при Центральном совете народного хозяйства. При этом бедная машинистка обращается к Шарику с искренним сочувствием, тогда как курьер над бедным Васей издевается…
«Пес пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности – зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде, кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме».
И Шарик, и Василий Иванович подвергаются издевательствами со стороны «пролетариата». Над первым глумятся дворники и повара, над вторым – курьеры и сторожа. Но в конце концов оба находят добрых покровителей: Шарик – профессора Преображенского, а Василий Иванович, как ему казалось на первый взгляд, – семейство лавочника, который над ним не издевается, а кормит, в несбыточной надежде, что лентяй Василий Иванович будет ловить мышей. Однако герой Генслера в финале покидает своего благодетеля и дает ему уничижительную характеристику: «Прости, – сказал я ему, уходя, – ты любезный человек, славный потомок древних варягов, с твоей древней славянской ленью и грязью, с твоим глинистым хлебом, с твоими ржавыми селедками, с твоей минеральной осетриной, с твоим каретным чухонским маслом, с твоими тухлыми яйцами, с твоими плутнями, обвешиванием и приписыванием, и наконец, твоей божбою, что твой гнилой товар – первый сорт. И расстаюсь я с тобой без сожаления. Если еще мне встретятся на долгом пути моей жизни подобные тебе экземпляры, то я убегу в леса. Лучше жить со зверями, чем с такими людьми. Прощай!»
Булгаковский же Шарик в финале повести по-настоящему счастлив: «…Мысли в голове у пса текли складные и теплые.
«Так свезло мне, так свезло, – думал он, задремывая, – просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть»».
Подвальчик Мастера, или Кто был Алоизием Могарычем
Булгаковед Леонид Паршин вспоминал: «Я вышел наружу. Все надо проверять. Мансуровский переулок… Тут где-то жил друг Булгакова Ермолинский. Надо будет ему позвонить, может быть, он что-нибудь слышал об этом доме. «Мансуровский переулок, 9? – спросил Сергей Александрович. – Да это мой адрес! Я десять лет прожил в этом доме!» Через несколько дней я уже сидел в пронзительно скрипящем плетеном кресле в коттедже Сергея Александровича в Переделкино и слушал о Булгакове, Елене Сергеевне, о доме в Мансуровском переулке, жившем некогда искрящейся, веселой и беспокойной жизнью. О том, как по вечерам под листвой окаменевшего теперь сада зажигался огонек импровизированного кафе «Нато Вачнадзе», и стекались на свет его друзья, друзья, друзья… О художнике Топленинове, стучавшем щеткой в потолок подвала, приглашая сидящих наверху Булгакова и Ермолинского на рюмочку чего-нибудь». И из подвальчика друга Булгакова, одного из лучших московских театральных художников Сергея Сергеевича Топленинова действительно были видны в окна ноги прохожих.
С. С. Топленинов обитал в нижнем, полуподвальном этаже, и в 1929–1930 гг., в трудный период своей жизни, к нему нередко заходил Булгаков, порой оставаясь ночевать, позировал для портретов (в архиве художника сохранились два из них). По воспоминаниям вдовы старшего брата, актера Владимира Сергеевича Топленинова, Евгении Владимировны Власовой, Булгаков, когда гостил у Топлениновых, часто писал роман при свете свечей и под треск дров в печи, как это делает и Мастер в своем подвальчике.
Конечно, С.С. Топленинов отнюдь не был главным прототипом Мастера. Безымянный автор романа о Понтии Пилате, историк, сделавшийся писателем, – это во многом автобиографический герой. Газетная кампания против Мастера и его романа о Понтии Пилате напоминает газетную кампанию против Булгакова в связи с повестью «Роковые яйца», пьесами «Дни Турбиных», «Бег», «Зойкина квартира», «Багровый остров» и романом «Белая гвардия». В частности, в булгаковском архиве сохранились выписки из газеты «Рабочая Москва» от 15 ноября 1928 года, где под заголовком «Ударим по булгаковщине!» излагались выступления в Московском комитете партии на собрании коммунистов, работающих в сфере искусства, состоявшемся 13 ноября. Во вступительном слове П. М. Керженцев обвинил тогдашнего председателя Главискусства в потворствовании Булгакову: «Тщетно пытался тов. Свидерский сложить с себя вину за постановку «Бега». Тщетно апеллировал он к решениям высших инстанций – они, мол, разрешали. Собрание осталось при своем мнении, которое еще более укрепилось, когда тов. Свидерский, припертый к стенке, заявил:
Ермолинский Сергей Александрович (1900–1984) – советский киносценарист
– Я лично стою за постановку «Бега», пусть в этой пьесе есть много нам чуждого – тем лучше, можно будет дискутировать». В «Мастере и Маргарите» «ударить, и крепко ударить, по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить… ее в печать» предлагает критик Мстислав Лаврович, осуждая Мастера и того редактора, который осмелился опубликовать отрывок романа о Понтии Пилате.
стр 187
Булгаков, его вторая жена Любовь, Лямин и Топленинов
Кампания против булгаковской пьесы была развернута осенью 1928 года. Кампания против произведения Мастера также приходится на осень того же года, поскольку в тексте указывается, что роман «был дописан в августе месяце», затем перепечатан, отдан редактору, читавшему его две недели, затем последовала публикация отрывка и разгромные статьи, после которых в «половине октября» Мастер был арестован и через три месяца, «в половине января» 1929 года оказался в клинике профессора Стравинского, поскольку был лишен средств к существованию. Интересно, что массированная атака на «Бег» началась тоже ровно за три месяца до того, как Мастер оказался в лечебнице – в середине октября 1928 г. У Стравинского он находится «вот уже четвертый месяц», т. е. как раз до начала мая 1929 г. Очевидно, что арест Мастера Булгаков хронологически приурочил к началу кампании против своей лучшей пьесы. Писатель передал персонажу и свою любовь к Е. С. Булгаковой. После запрета «Бега» в 1929 году Булгаков оказался в таком же безысходном положении, как и Мастер. В романе он заставил автобиографического героя искать убежища в психиатрической лечебнице, сам же в жизни нашел выход в письме к Сталину.
Упоминание Мастером в беседе с Иваном Бездомным «этого проклятого вкладного листа в газету», где был напечатан фрагмент романа о Понтии Пилате, вызвавший шквал критики, – намек на публикацию 1 октября 1932 года отрывка из пьесы «Бег» в ленинградской «Красной газете».
Подчеркнем еще раз, что именно кампания, развернутая против «Бега» в 1928–1929 гг. привела в конечном счете к снятию с репертуара всех пьес драматурга.
Скорее всего, в самой ранней редакции «Мастера и Маргариты», сохранившейся лишь в отрывках и создававшейся в 1929 года, функции Мастера выполнял ученый-гуманитарий по имени Феся. Его Булгаков наделил феноменальной эрудицией в демонологии Средневековья и итальянского Возрождения, а также профессурой на историко-филологическом факультете университета, что в еще большей степени, чем М., сближает Фесю с гетевским Вагнером. Феся, как и Мастер последней редакции романа, сторонится толпы и вообще простонародья, предпочитая основное время проводить в своем московском кабинете или за границей. При советской власти в газетной статье Фесю обвинили в том, что он издевался над мужиками в своем подмосковном имении. «И тут впервые мягкий и тихий Феся стукнул кулаком по столу и сказал (а я… забыл предупредить, что по-русски он говорил плохо… сильно картавя):
– Этот разбойник, вероятно, хочет моей смерти…», и пояснил, что он не только не издевался над мужиками, но даже не видел их «ни одной штуки». И Феся сказал правду. Он действительно ни одного мужика не видел рядом с собой. Зимой он сидел в Москве, в своем кабинете, а летом уезжал за границу и не видел никогда своего подмосковного именья. Однажды он чуть было не поехал, но, решив сначала ознакомиться с русским народом по солидному источнику, прочел «Историю пугачевского бунта» Пушкина, после чего ехать наотрез отказался, проявив неожиданную для него твердость. Однажды, впрочем, вернувшись домой, он гордо заявил, что видел «настоящего русского мужичка. Он в Охотных рядах покупал капусты. В треухе. Но он не произвел на меня впечатление зверя».
Через некоторое время Феся развернул иллюстрированный журнал и увидел своего знакомого мужичка, правда, без треуха. Подпись под старичком была такая:
Граф Лев Николаевич Толстой.
Феся был потрясен.
– Клянусь Мадонной, – заметил он, – Россия необыкновенная страна! Графы выглядят в ней как вылитые мужики!
Таким образом, Феся не солгал».
Здесь чувствуется пародийный отзвук данного Лениным определения Льва Толстого как первого мужика в русской, да и в мировой литературе («до этого графа подлинного мужика в литературе не было… Кого в Европе можно поставить рядом с ним… Некого»), переданного Горьким в очерке «В. И. Ленин». Отсюда, может быть, и картавость булгаковского героя, сближающая его с вождем большевиков. Эта пародия накладывается на другую. Эпизод встречи Феси с Толстым как бы зеркально воспроизводит ситуацию фельетона Александра Валентиновича Амфитеатрова «И моя встреча с Л. Н. Толстым». Амфитеатровский герой, титулярный советник Воспаряев, принимает встреченного им в поезде бородатого русского мужика за графа Толстого. Булгаковский Феся, наоборот, принимает Толстого за мужика, в полном соответствии с ленинским пассажем. У Амфитеатрова герой ссылается на портреты писателя, обильно публиковавшиеся в газетах в 1908 году в связи с его 80-летним юбилеем: «Но… он! он! несомненно! Портреты-то его мне, как всякому порядочному интеллигенту, слава богу, достаточно известны!», и эти портреты вводят его в заблуждение. Феся же, только увидев портрет, убеждается в своей ошибке и косвенно подтверждает свое первоначальное мнение о том, что народ – зверь, сформировавшееся после знакомства с пушкинской «Историей Пугачева». Вероятно, в первой редакции «Мастера и Маргариты» проблема взаимоотношений интеллигенции с народом и большевиками должна была решаться в образе Феси. В позднейших редакциях из-за очевидной нецензурности тема эта в образе Мастера отошла в подтекст, а на первый план вышли взаимоотношения творца с миром литературы, за которым советская власть угадывается, но не называется прямо как виновница злоключений Мастера.
Не исключено, что прототипом Феси был П.А. Флоренский. Интересно, что в мае 1928 года ОГПУ провело операцию по аресту ряда религиозных деятелей и представителей русской аристократии, после революции проживавших в Сергиевом Посаде и его окрестностях. Перед этим в подконтрольной прессе была развернута кампания под заголовками-лозунгами: «Троице-Сергиева Лавра – убежище бывших князей, фабрикантов и жандармов!», «Гнездо черносотенцев под Москвой!», «Шаховские, Олсуфьевы, Трубецкие и др. ведут религиозную пропаганду!» и т. д.
Троице-Сергиева Лавра. Фотография начала ХХ века
А в «Рабочей газете» от 12 мая 1928 года некто А. Лясс писал: «В так называемой Троице-Сергиевой лавре свили себе гнездо всякого рода «бывшие», главным образом, князья, фрейлины, попы и монахи. Постепенно Троице-Сергиева лавра превратилась в своеобразный черносотенный и религиозный центр, причем произошла любопытная перемена властей. Если раньше попы находились под защитой князей, то теперь князья находятся под защитой попов… Гнездо черносотенцев должно быть разрушено». Неслучайно Фесю в статье называли потомком первого русского князя Рюрика. Отметим также, что 17 мая 1928 года корреспондент «Рабочей Москвы», укрывшийся под псевдонимом М. Ам-ий, в заметке «Под новой маркой» утверждал: «На западной стороне феодальной стены появилась только вывеска: «Сергиевский государственный музей». Прикрывшись таким спасительным паспортом, наиболее упрямые «мужи» устроились здесь, взяв на себя роль двуногих крыс, растаскивающих древние ценности, скрывающих грязь и распространяющих зловоние…
Некоторые «ученые» мужи под маркой государственного научного учреждения выпускают религиозные книги для массового распространения. В большинстве случаев это просто сборники «святых» икон, разных распятий и прочей дряни с соответствующими текстами… Вот один из таких текстов. Его вы найдете на стр. 17 объемистого (на самом деле, совсем не объемистого. – Б. С.) труда двух ученых сотрудников музея – П. А. Флоренского и Ю. А. Олсуфьева, выпущенного в 1927 г. в одном из государственных издательств под названием «Амвросий, троицкий резчик XV века». Авторы этой книги, например, поясняют: «Из этих девяти темных изображений (речь идет о гравюрах, приложенных в конце книги. – М. А.) восемь действительно относятся к событиям из жизни Иисуса Христа, а девятое – к усекновению головы Иоанна».
Надо быть действительно ловкими нахалами, чтобы под маркой «научной книги» на десятом году революции давать такую чепуху читателю Советской страны, где даже каждый пионер знает, что легенда о существовании Христа не что иное, как поповское шарлатанство».
21 мая 1928 года П.А. Флоренский был арестован. Ему не инкриминировали ничего конкретного. В обвинительном заключении от 29 мая утверждалось, что Флоренский и другие арестованные, «проживая в г. Сергиев и частично в Сергиевском уезде и будучи по своему социальному происхождению «бывшими» людьми (княгини, князья, графы и т. п.), в условиях оживления антисоветских сил начали представлять для соввласти некоторую угрозу, в смысле проведения мероприятий власти по целому ряду вопросов».
После октября 1917 года Флоренский преподавал сразу во многих учреждениях. В Московской Духовной Академии он читал курс истории философии, во Вхутемасе – лекции по теории перспективы, был редактором технической и математической энциклопедий. Флоренский являлся решительным противником философии и эстетики Возрождения, однако, по общему мнению, черты магизма, мистики и натурализма парадоксальным образом сближали его взгляды с этой эпохой.
Флоренский также был подвергнут критике за преподавание во Вхутемасе, где разрабатывал курс по анализу пространственности. Его обвинили в создании «мистической и идеалистической коалиции» с известным художником-графиком Владимиром Андреевичем Фаворским, иллюстрировавшим книгу «Мнимости в геометрии». Вероятно, нападки на Флоренского подсказали Булгакову образ статьи в «боевой газете», направленной против Феси. Булгаковский герой тему диссертации имел прямо противоположную той, что была у Феси – «Категории причинности и каузальная связь». Феся у Булгакова был приверженцем Возрождения, тогда как Флоренский был глубоко враждебен ренессансной культуре. Но оба, и герой, и прототип, по-своему оказываются романтиками, сильно обособленными от современной им жизни. Феся – романтик, связанный с культурной традицией Возрождения. Таковы и темы его работ и лекций, которые он читает в Хумате и других местах – «Гуманистический критицизм как таковой», «История как агрегат биографии», «Секуляризация этики как науки», «Крестьянские войны в Германии», «Респлинцитность формы и пропорциональность частей» (последний курс, преподававшийся в вузе, название которого не сохранилось, напоминает курс Флоренского «Мнимости в геометрии» в Сергиевском педагогическом институте, а также лекции по обратной перспективе во Вхутемасе). Некоторые работы Флоренского могут быть противопоставлены работам Феси, например: «Наука как символическое описание» – «Истории как агрегату биографии», «Вопросы религиозного самопознания» – «Секуляризации этики как науки», «Антоний романа и Антоний предания» – «Ронсару и Плеяде». Темы работ Феси подчеркнуто светские, однако он увлекается западноевропейской демонологией и мистикой и потому оказывается вовлечен в контакт с нечистой силой, тогда как Флоренский был укоренен в русском средневековом православии.
Павел Александрович Флоренский (1882–1937) – русский православный священник, богослов, религиозный философ, учёный, поэт
Некоторые черты Флоренского, возможно, отразились и в позднейшем образе Мастера. Философ, как он сам писал в автореферате биографии для Энциклопедического словаря Гранат, после 1917 года, «состоя сотрудником Музейного отдела… разрабатывал методику эстетического анализа и описания предметов древнего искусства, для чего привлек данные технологии и геометрии» и был хранителем Ризницы Сергиевского музея. Булгаковский Мастер, как мы помним, работал историком в музее. Флоренский определял свое мировоззрение «соответствующим по складу стилю XIV – XV веков русского Средневековья», но подчеркивал, что «предвидит и желает другие построения, соответствующие более глубокому возврату к Средневековью». Мастер в последнем полете выглядит как писатель-романтик и философ XVIII века. Вдохновение же главный герой последнего булгаковского романа черпает в еще более отдаленной эпохе первоначального христианства.
Вторично Флоренский был арестован в феврале 1933 года и более домой не вернулся. Любопытно, что эпизод с арестом М. впервые появился во второй редакции романа осенью 1933 – зимой 1934 года.
В формировании образа Мастера помимо гетевского «Фауста», значительную роль сыграл Эмилия Миндлина – роман «Возвращение доктора Фауста». Писатель перенес своего Фауста в начало XX века и поселил «в давней мастерской, в одном из переулков Арбата, излюбленной им улицы, шумливого и громокипящего города Москвы». Он разочаровался в возможностях познания: «Но что есть знание? Что можно знать о причине этой быстротекущей смены явлений, миров, систем?..
Нет смены законов. Но что можно знать о законах?
Он почувствовал явственно, реально, в ужасе, что ничего не знает, что по-прежнему – как и в детстве (лужайка, игры, дом и мать с белыми булками) недвижна, нетронута тайна – неизбывно тревожное пребывание в продолжительном окружении ее».
В результате Фауст уезжает «далеко из Москвы, далеко от несколько чужой ему России, в маленький и тихий городок Швиттау», где надеется зажить тихой и спокойной жизнью, не возвращаясь более к науке. В местном погребке Пфайфера, повторяющем во многом знаменитый гетевский погребок Ауэрбаха, Фауст встречает «профессора Мефистофеля». Герой Миндлина не опознает своего старого знакомого при первой встрече у Пфайфера, хотя всеми атрибутами оперного Мефистофеля профессор обладает:
«Скучающего в одиночестве Фауста заинтересовал он сразу. У господина были до крайности тонкие ноги в черных (целых, без штопок) чулках, обутые в черные бархатные туфли, и такой же плащ на плечах. Фаусту показалось, что цвет глаз господина менялся беспрестанно».
Мефистофель обращает поданную ему воду то в вино, то в пиво.
В итоге:
«Пфайфер испуганно выронил кружку из рук и вскрикнул:
– Вы – черт, милостивый государь!
За столиками встрепенулись. Некоторые встали.
Незнакомец снял свой берет.
– Меня зовут Конрад-Христофор Мефистофель. Я профессор университета в Праге. Простите, господин хозяин, если я обеспокоил вас!
Я готов уплатить вам, сколько вы скажете, – сделайте одолжение…
Я немного пошутил… Поверьте, я просто проделал некоторый эксперимент. Я проверил силу словесного убеждения. Она оказалась сильнее вашего зрения. В кружках была действительно вода», в чем все присутствующие тотчас же убеждаются.
Шутка Мефистофеля еще более привлекает к нему внимание Фауста, который представляется доктором химии, приехавшим из Москвы, и приглашает профессора за свой столик. Мефистофель заявляет, что «эти шутки и подобные им немало времени и покоя отнимают у меня… Но когда в жизни ничего не остается более, как шутить! Вы понимаете, не потому, что скучно… Именно потому, что есть причины, удерживающие еще меня на земле и заставляющие влачиться еще по этой глупой, бессмысленной, проклятой человеческой жизни, именно потому ничего более не остается мне, как шутить, шутить от скуки, от досады, от злости…». Фауст возражает, что жизнь не кажется ему бессмысленной и глупой, и хотя он сам в свои шестьдесят лет так и не нашел счастья, говорит: «если бы в мое распоряжение вновь было предоставлено такое щедрое количество времени, на этот раз я использовал бы его, я бы счастливо прожил свою жизнь!»
Тут Мефистофель обещает доказать своему собеседнику, что на земле нет самой возможности счастья (вполне по пушкинской формуле: «На свете счастья нет, а есть покой и воля»). Фауст же утверждает, что «счастье может заключаться в самом процессе стремления к счастью».
«– В вас говорит отчаяние, господин профессор, – сказал Фауст, – я убежден, что в вас говорит отчаяние. Вы, наверное, (я почти убежден в этом) чрезмерно огорчены чем-нибудь!»
Мефистофель отвечает с сожалением:
«– Вы – поэт… вы – поэт! Все люди – поэты. Хозяин Пфайфер – тоже поэт. Поэзия – это кокаин!..».
И загадочный профессор излагает Фаусту свою мечту: «…Ах, я мечтаю об одном – о восстании человека против человеческой жизни, против обманности, в которую погружен он, против роли, которую играет он на земле. Но не о словесном, не о фразерском восстании, но о действенном, об активном!.. Я мечтаю о восстании человеческой воли. Например, – тут Мефистофель наклонился над самым ухом Фауста – например, об организации самоубийства всего человечества».
Мефистофель агитирует Фауста стать его сообщником в организации подобного самоубийства, а когда тот пытается отказаться, предлагает окончательно убедиться в бессмысленности человеческого существования. Фауст, однако, продолжает сомневаться:
«– Едва ли! Правда, я разочаровался в возможностях науки… и я не знаю еще, в чем смысл жизни, но я чувствую, что он существует!
– Так чувствуют все, и никто не знает этого смысла!»
Мефистофель приводит последний аргумент:
«– Господин Фауст, если я покажу вам мир не таким, каким вы видите его, но таким, каким он существует в самом себе? Ну тогда?.. Хотите?!
– Что? Что?
– Быть со мной! – глаза Мефистофеля провалились, их не было видно, – хотите? Мы отомстим тому, кто издевается над человеком, отомстим, если убедим человека лишить себя жизни!.. Прекратить себя! Будете со мной?!
– Но как вы докажете? Вы не убедите меня.
– Я покажу вам то, чего вы никогда не смогли бы увидеть с помощью вашей науки!..
Теплое дыхание окутывало голову Фауста. Слова профессора из Праги дурманили…
– Хочу, хочу, – прошептал он, – хочу!»
Фауст сетует на свою старость. Мефистофель обещает возвратить ему молодость. Наконец происходит узнавание:
«…Мефистофель приблизил лицо свое к Фаусту. Глаза его мерцали то синим, то красным цветом. Тонкие брови приподнимались кверху.
– Или ты не узнаешь меня? – спросил он тихо, смотря в глаза Фауста. Фауст вздрогнул. Он узнал и ответил:
– Узнаю!.. Я буду твоим… Но, исполни обещание!..» Мефистофель возвращает Фаусту молодость, делает его двадцатипятилетним. Помолодевший герой жаждет любви, и они покидают Швиттау. В соседнем старинном городке Литли в трактире «Золотая подкова» Фауст встречает рыжеволосую дочь хозяина Марго. Первые восемь глав романа Миндлина на этом обрываются, как раз на завязке истории, повторяющей историю гетевской Маргариты (Гретхен).
Оба героя, Миндлина и Булгакова, живут в арбатских переулках. Миндлинский Мефистофель называет Фауста поэтом, и будущий Мастер в черновиках также именовался Поэтом. Герой Миндлина очень напоминал булгаковского Фесю, ибо был ученым, а не писателем, каким стал Мастер в последующих редакциях.
Можно предположить, что Феся, который, судя по сохранившимся отрывкам, непосредственно соприкасался с нечистой силой и, по всей вероятности, участвовал в шабаше или черной мессе, по ходу действия должен был встретить Воланда, который возвращал ему молодость, как Мефистофель Фаусту. В связи с этим встает вопрос о возрасте Феси, нигде в сохранившихся фрагментах первой редакции романа прямо не названном. На этот счет все же можно сделать некоторые предположения. Упомянутая статья с обвинениями против Феей, как отмечалось в булгаковском тексте, появилась десять лет спустя после революции, т. е. в 1927 году, а основное действие романа, начинающееся со встречи Воланда с литераторами на Патриарших, происходит несколько месяцев или даже год-полтора спустя, в 1928–1929 годах или еще позже (в одном из фрагментов назван фантастический будущий 1935 год). Сорвавшаяся поездка Феси в деревню, наверняка, приходится на время до революции 1905 года, так как после сопутствовавших ей аграрных беспорядков родственники вряд ли бы порекомендовали Фесе поехать познакомиться с мужиками. Кроме того, все эти события произошли уже после женитьбы Феси и обретения им профессуры. Несомненно, что с Львом Толстым Феся встретился накануне одного из юбилеев писателя – 70-, 75– или 80-летия со дня рождения – соответственно 28 августа 1898, 1903 или 1908 года или 50-летия литературной деятельности – 6 сентября 1902 года. Тогда пресса печатала портреты Толстого. Встреча Феси с мужичком-графом произошла зимой, так как только зиму булгаковский герой проводил в Москве, да и наряд у Толстого явно зимний. Накануне всех перечисленных дат только зиму 1897—98 годов писатель провел в Москве. Если принять, что встреча Феси и Толстого в романе падает на эту зиму и что профессуру он вряд ли мог получить ранее 30-летнего возраста, то к концу 1920-х годов герою ранней редакции «Мастера и Маргариты», действительно, должно было быть около 60 лет – столько же, сколько Фаусту у Гёте и Миндлина. Возможно, по этой причине в тексте ничего не говорится об отношении Феси к военной службе, хотя страна пережила мировую войну. К 1914 году он уже вышел из призывного возраста. В окончательном тексте романа Мастер из ученого-историка превращается в писателя (возможно, тут Булгаков вспомнил собственную работу над «Курсом истории СССР» ради получения 100-тысячной премии – именно такую сумму выигрывает Мастер в лотерею). Вероятно, и в ранней редакции Фесе суждено было помолодеть и стать литератором. Ведь и Фауст Миндлина, отказавшись от попыток познать мир с помощью науки, собирался исследовать человеческую природу как поэт (недаром его так называет Мефистофель). Только все это происходит уже после коллективного самоубийства человечества, под которой миндлиновский Мефистофель понимал или Первую мировую войну, или Октябрьскую революцию 1917 года.
У Мастера много и других, самых неожиданных прототипов. Его портрет: «бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос» – выдает несомненное сходство с Николаем Гоголем. Ради этого Булгаков даже сделал Мастера при первом появлении бритым, хотя в дальнейшем несколько раз особо отметил, что у героя есть борода, которую ему в клинике подстригают дважды в день с помощью машинки (смертельно больной писатель не успел до конца отредактировать текст своего последнего романа). Обращенные к Мастеру слова Воланда: «А чем же вы будете жить?» – это парафраз известного высказывания поэта и журналиста Николая Некрасова, адресованного Гоголю и относящегося к 1848 году. Оно приведено в опубликованных в № 6 журнала «Современник» за 1855 год «Заметках и размышлениях Нового поэта о русской журналистике» известного литературного критика И. И. Панаева, издававшего совместно с Некрасовым этот знаменитый журнал: «Но надобно и на что-то жить». Сожжение же Мастером своего романа ориентировано не только на сожжение Булгаковым в марте 1930 года ранней редакции «Мастера и Маргариты», но и на сожжение Гоголем второго тома «Мертвых душ».
Слова Мастера: «я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилий… в особенности ненавистен мне людской крик, будь то крик страдания, ярости или иной какой-нибудь крик» – почти буквально воспроизводят сентенцию доктора Вагнера «Фауста» Гёте:
Но от забав простонародья Держусь я, доктор, в стороне. К чему б крестьяне ни прибегли, И тотчас драка, шум и гам. Их скрипки, чехарда и кегли, И крик невыносимы нам.Монолог Мастера имеет ощутимые переклички и с выступлением Поэта в театральном прологе «Фауста»:
Не говори мне о толпе, повинной В том, что пред ней нас оторопь берет. Она засасывает, как трясина, Закручивает, как водоворот. Нет, уведи меня на те вершины, Куда сосредоточенность зовет, Туда, где божьей созданы рукою Обитель грез, святилище покоя. Что те места твоей душе навеют, Пускай не рвется сразу на уста. Мечту тщеславье светское рассеет, Пятой своей растопчет суета. Пусть мысль твоя, когда она созреет, Предстанет нам законченно чиста. Наружный блеск рассчитан на мгновенье, А правда переходит в поколенья.Здесь почти точно описан последний приют Мастера, где он наконец обретает желанный покой. Но приют Мастера создан не божьей, а дьявольской рукою, хотя Воланд и действует по поручению Га-Ноцри. У Гёте не Фауст, а Вагнер творит гомункула, Воланд же соблазняет этим Мастера. Если в отношениях с Воландом и в своей любви к Маргарите булгаковский герой повторяет Фауста, то его приверженность к гуманитарному знанию, замысел романа о Понтии Пилате и стремление создать гомункула роднит булгаковского героя с Вагнером, любителем книжной премудрости, а не опытного знания. Мастер в своем романе истину, по собственному признанию, «угадал», а не познал.
Финал судьбы Мастера полемичен по отношению к судьбе Фауста в поэме Гёте, где ангелы уносят в свет бессмертную сущность главного героя:
Спасен высокий дух от зла Произведеньем божьим: Чья жизнь в стремлениях прошла, Того спасти мы можем. А за кого любви самой Ходатайство не стынет, Тот будет ангелов семьей Радушно в небе принят.У Булгакова же Мастеру уготован только Лимб, пространство между Адом и Раем, где обитают души младенцев, умерших без крещения, и невольные грешники. В поэме Ангелы с Фаустом Лимб минуют, устремляясь к райским высотам, где парят души невинных христианских блаженных младенцев:
Вон над вершиною Этой скалистой Нечто невинное. След чей-то чистый. Мгла тонкостенная, И в промежутке — Души блаженные, Дети, малютки. Чуждые бремени Горестей лишних, Дышат вне времени Славою в вышних. Ощупью шарящей Дух для начала Пустим в товарищи К братии малой.Мастер, в отличие от Фауста, в последний скалистый приют несут не ангелы, а Воланд со своей свитой. У Гёте любовь меняет природу сатаны и заставляет его не препятствовать добру:
Наша сторона отбила душу у нечистой силы, В бегство обратив лукавых И цветами закидав их. Вместо адских мук, с печалью Боль любви они познали. Перед ней сдалась природа Сатаны, их коновода. Он не снес ее укола. Милосердье побороло.У Булгакова же потусторонние силы в лице Воланда не только не препятствуют добру, но прямо исполняют просьбу Иешуа наградить Мастера покоем.
Мастер у Булгакова – философ и наделен сходством с Кантом. Ему присущи некоторые черты биографии основоположника немецкой классической философии. Вот как, например, характеризовал Канта в посвященной ему статье Брокгауза и Ефрона В. С. Соловьев: «Личность и жизнь Канта представляют совершенно цельный образ, характеризуемый неизменным преобладанием рассудка над аффектами и нравственного долга над страстями и низшими интересами. Поняв свое научно-философское призвание как высшую обязанность, Кант безусловно подчинил ей все остальное… Весьма склонный к сердечному общению, Кант находил, что семейная жизнь мешает умственному труду – и остался навсегда одиноким. При особой страсти к географии и путешествиям, он не выезжал из Кенигсберга, чтобы не прерывать исполнения своих обязанностей. По природе болезненный, он силою воли и правильным образом жизни достиг того, что дожил до глубокой старости, ни разу не быв болен. Потребностям сердца Кант давал необходимое удовлетворение в дружбе с людьми, которые не мешали, а поддерживали его в умственной работе. Главным другом его был купец Грин, который с большими практическими способностями соединял такое умственное развитие, что вся «Критика чистого разума» прошла через его предварительное одобрение. Дружбою оправдывалась и единственная плотская слабость, которую позволял себе Кант: он любил удовольствия стола, в небольшом обществе друзей».
Точно так же и Мастер равнодушен к радостям семейной жизни. Он не помнит имени своей жены, не стремится иметь детей, а когда состоял в браке и работал историком в музее, то, по собственному признанию, жил «одиноко, не имея родных и почти не имея знакомых в Москве» (в последних словах – скрытый намек на то, что Мастер родился не в Москве, а как и сам Булгаков – уроженец Киева).
В эпизоде, когда имя своей первой жены Мастер не может точно вспомнить – то ли Варенька, то ли Манечка (в памяти всплывает только полосатое платье), угадывается сцена из третьей симфонии А. Белого «Возврат», где главный герой, ученый-химик Евгений Хандриков, очутившись в психиатрической лечебнице, испытывает равнодушие к своей прежней жизни и, в частности, не помнит имени жены, а помнит только цвет ее платья.
Основное действие «Возврата», заключенное, как и в «Северной» симфонии, в «надмирное» обрамление, происходит в Москве в начале XX века. Главный герой, молодой ученый-химик Евгений Хандриков, наделенный автобиографическими переживаниями Белого, – земное воплощение Бога-Сына, непорочного ребенка. Он, как и булгаковский Мастер, находится в трагическом противоречии с окружающим миром и становится жертвой козней завистника – доцента Ценха, земного воплощения Змея. Хандриков, как и герой булгаковского романа, заболевает манией преследования и ищет спасения в санатории для душевнобольных.
В «Возврате» есть описание мраморного бассейна в банях, украшенного чугунными изображениями морских обитателей, причем вода в бассейне сравнивается с рубинами, и черпают ее серебряными шайками. На Великом балу у сатаны вода в одном из бассейнов рубинового цвета, из него черпают серебряными черпаками, а струю в бассейн выбрасывает гигантский черный фонтан в виде Нептуна. В банях Хандриков встречает старика – земное воплощение Бога Отца. У Булгакова сходными деталями оснащена сцена, где главная героиня встречает Воланда – антипода Бога.
Земная жизнь Хандрикова, как и рыцаря и его возлюбленной в «Северной» симфонии, оканчивается самоубийством. Точно так же прекращается земное бытие Мастера и Маргариты. Переход Хандрикова из надмирности в мир и обратно дан как переход из одного пространства в другое. У Булгакова главные герои переходят из современного московского мира в вечный потусторонний мир, а в финале соприкасаются и с древним ершалаимским миром. Уход Мастера дан как освобождение человека, изнемогшего от страданий. Возвращение Хандрикова к старику Богу – это желанное освобождение от земных мук. Эти муки в начале симфонии предсказывает старик ребенку: «Ты уйдешь. Мы не увидим тебя. Пустыня страданий развернется вверх, вниз и по сторонам. Тщетно ты будешь перебегать пространства – необъятная пустыня сохранит тебя в своих холодных объятьях…». Такую пустыню видит и Маргарита в глазах Мастера: «Смотри, какие у тебя глаза! В них пустыня…». Однако между «Возвратом» и «Мастером и Маргаритой» есть принципиальное различие. У Белого надмирные персонажи просто имеют земное воплощение и в финале возвращаются обратно в надмирность, меняя ипостаси. У Булгакова персонажи разных миров только функционально подобны друг другу, как, например, Воланд и Понтий Пилат, Иешуа Га-Ноцри и Мастер, но не переходят друг в друга, что доказывается и финалом «Мастера и Маргариты», где все перечисленные герои одновременно участвуют в действии. Интересно, что в редакции 1929–1930 годов персонажи разных миров непосредственно переходили из одного воплощения в другое, и безумный Иван Бездомный видел, как Воланд на Патриарших прудах превратился в Понтия Пилата:
«Трамвай проехал по Бронной. На задней площадке стоял Пилат, в плаще и сандалиях, и держал в руках портфель.
«Симпатяга этот Пилат, – подумал Иванушка…»».
Любовь Мастера к Маргарите – во многом неземная, вечная любовь, о которой говорил Владимир Соловьев. Она никак не направлена на создание семьи. Мастер осознал свое писательское призвание, как Кант – философское и научное, бросил службу и в арбатском подвале засел за роман о Понтии Пилате. У Мастера, подобно немецкому философу, оказался только один главный и единственный друг, не считая возлюбленной, – журналист Алоизий Могарыч, покоривший его необыкновенным сочетанием страстной любви к литературе и выдающихся практических способностей. Через Алоизия Мастер пропускает свой роман, как Кант через купца Грина – «Критику чистого разума». Только результат был прямо противоположен. Грин своими замечаниями действительно помогал другу улучшить текст, а Алоизий точно определил, какие места романа совершенно неприемлемы для советской цензуры и критики, а в довершение донес на автора, чтобы завладеть его квартирой.
Судьба Мастера – это как бы «негативный» вариант судьбы Канта, и не только в том, что его лучший друг оказался предателем. В отличие от немецкого философа, автор романа о Понтии Пилате не в силах самостоятельно победить свой душевный недуг, как Кант поборол в свое время недуг физический. Душевные страдания сломили Мастера, и свой роман напечатанным он так и не увидел. Вновь обрести роман и соединиться со своей романтической возлюбленной Мастер может только в предоставленном Воландом последнем приюте. В варианте текста 1936 года Мастер был еще более явно наделен чертами Канта. Сатана так рисовал уготованную ему награду: «Ты будешь жить в саду, и всякое утро, выходя на террасу, будешь видеть, как гуще дикий виноград оплетает твой дом, как цепляясь, ползет по стене. Красные вишни будут усыпать вишни в саду…
Свечи будут гореть, услышишь квартеты, яблоками будут пахнуть комнаты дома. В пудренной косе, в старинном привычном кафтане, стуча тростью, будешь ходить, гулять и мыслить». Тут бросается в глаза очевидное сходство с хрестоматийным портретом Канта, данном Гейне в книге «К истории религии и философии в Германии»: «Вставание, утренний кофе, писание, чтение лекций, обед, гуляние – все совершалось в определенный час, и соседи знали совершенно точно, что на часах – половина четвертого, когда Иммануил Кант в своем сером сюртуке, с камышовой тросточкой в руке выходил из дома и направлялся к маленькой аллее, которая в память о нем до сих пор называется Аллеей философии. Восемь раз он проходил ее ежедневно взад и вперед во всякое время года, и, когда было пасмурно или серые тучи предвещали дождь, появлялся его слуга, старый Лампе, с тревожной заботливостью следуя за ним, с длинным зонтиком под мышкой, как символ провидения.
Какой странный контраст между внешней жизнью этого человека и его разрушительной, миры сокрушающей мыслью».
В окончательном тексте романа сходство Мастера с Кантом осталось, но сделалось менее заметным. Здесь Воланд обращался к герою так: «Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет».
В последнем полете Мастер принимает облик философа XVIII века: «Волосы его белели теперь при луне и сзади собрались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто знакомой хорошо и любимой, и что-то, по приобретенной в комнате № 118-й привычке, сам себе бормотал».
Иммануил Кант (1724–1804) – немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма
Как и в жизни Канта, контраст присутствует в награде, дарованной Мастеру: внешний покой последнего приюта и напряженная работа творческой мысли, создание новых произведений, полная творческая свобода при невозможности донести плоды своего труда до читателей.
В разговоре с Воландом Левий Матвей насчет Мастера печально заключает: «Он не заслужил света, он заслужил покой». Для сатаны, утверждающего, что «наслаждаться голым светом» может только глупец, вроде его собеседника, награда, дарованная Мастеру, безусловно, выше традиционного света, данного Фаусту Гёте. В чем Воланд и убеждает Мастера, когда тот, завершив свой роман, отпустил Понтия Пилата навстречу Га-Ноцри: «Мне туда, за ним? – спросил беспокойно мастер, тронув поводья. – Нет, – ответил Воланд, – зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?».
Мастер не может возвратиться и в покинутую им Москву: «Тоже нет, – ответил Воланд и голос его сгустился и потек над скалами, – романтический мастер! Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман. – Тут Воланд повернулся к Маргарите: – Маргарита Николаевна! Нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее, но, право, то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа за вас же, за вас – еще лучше». И Маргарита завершает мысль Воланда: «– Слушай беззвучие, – говорила Маргарита Мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, – слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, – тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я».
Те, кого любит Мастер, – это придуманные им герои. Он получает возможность творить вечно, он освобождается от Понтия Пилата и от памяти о пережитых страданиях, перейдя ручей, символизирующий реку забвения Лету: «Память мастера, беспокойная, исколотая память стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя».
Здесь Булгаков следует мировой традиции, рассматривающей покой как одну из высших человеческих ценностей. Можно вспомнить, например, роман Г. Сенкевича «Огнем и мечом», где Адам Кисель, воевода брацлавский, горестно восклицает: «…Пусть бог судит нас за наши деяния, и да пошлет он хотя б после смерти покой тем, кто при жизни страдал сверх меры». Таким же покоем награжден Мастер: «…Кто много страдал перед смертью… без сожаления покидает туманы земли, ее болота и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его».
Пушкинское стихотворение «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», подсказавшее Булгакову название 30-й главы «Мастера и Маргариты» – «Пора! Пора!», содержит формулу: «на свете счастья нет, а есть покой и воля», применимую к награде, которую получил Мастер. Он, подобно поэту, мог бы сказать о себе:
Давно, усталый раб, замыслил я побег В обитель дальнюю трудов и чистых нег.Такая обитель – последний приют булгаковского героя. Показательно, что именно в 30-й главе написано, что Маргарита окончательно решает вверить свою судьбу и судьбу своего возлюбленного черту: «Черт знает, что такое, и черт, поверь мне, все устроит!.. Как я счастлива, как я счастлива, как я счастлива, что вступила с ним в сделку!» Это троекратно повторенная фраза звучит как заклинание. После нее является подручный Воланда Азазелло и с помощью яда обеспечивает Мастеру и Маргарите посмертный покой. Во второй редакции романа, в 1934 году, двойственность положения Мастера во время последнего полета особо подчеркивалась – «поэт» (так именовался тогда будущий Мастер) одновременно и мертвый и живой:
«Над неизвестными равнинами скакали наши всадники. Луны не было, и неуклонно светало. Воланд летел стремя к стремени рядом с поэтом.
– Но скажите мне, – спрашивал поэт, – кто же я? Я вас узнал, но, ведь, несовместимо, чтобы я, живой из плоти человек, удалился вместе с вами за грани того, что носит название реального мира?
– О, гость дорогой! – своим глубоким голосом ответил спутник с вороном на плече (словами арии Кончака из оперы А. П. Бородина «Князь Игорь». – Б. С.), – о, как приучили вас считаться со словами! Не все ли равно – живой ли, мертвый ли!
– Нет, все же я не понимаю, – говорил поэт, потом вздрогнул, выпустил гриву лошади, провел по телу руками, расхохотался.
– О, я глупец! – воскликнул он, – я понимаю! Я выпил яд и перешел в иной мир! – Он обернулся и крикнул Азазелло:
– Ты отравил меня!
Азазелло усмехнулся ему с коня.
– Понимаю: я мертв, как мертва и Маргарита, – заговорил поэт возбужденно. – Но скажите мне…
– Мессир… – подсказал кто-то.
– Да, что будет со мною, мессир?
– Я получил распоряжение относительно вас. Преблагоприятное. Вообще могу вас поздравить – вы имели успех. Так вот, мне было велено…
– Разве вам можно велеть?
– О, да. Велено унести вас…».
Тут чувствуется интонация булгаковской дневниковой записи в ночь с 20 на 21 декабря 1924 года по поводу полемики вокруг книги Троцкого «Уроки Октября»:
«… публика, конечно, ни уха ни рыла не понимает в этой книге и ей глубоко все равно – Зиновьев ли, Троцкий ли, Иванов ли, Рабинович».
В окончательном тексте инобытие Мастера после отравления приобретает более ярко выраженный литературный характер: он уподобляется автору-персонажу собственного романа, подобно тому, как в персонажей его произведения превращаются виденные Мастером и Маргаритой во время последнего полета Иешуа Га-Ноцри и Понтий Пилат.
Булгаков учитывал и истолкование пушкинского «покоя и воли» Александром Блоком в статье «О назначении поэта»: «Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу Либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому, что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл». Блок атмосферу, создавшуюся вокруг Пушкина, проецировал на свое собственное положение в послереволюционной России, как бы предчувствуя скорую смерть через полгода от «недостатка воздуха» – отсутствия творческой свободы. В том же положении находился Булгаков, равно как и созданный его фантазией Мастер. «Творческий покой» Блока булгаковский герой может обрести только в последнем приюте на границе света и тьмы, земного и внеземного бытия.
Для разрешения вопроса, почему Мастер в романе награжден не светом, а покоем, можно обратиться и к книге Ф. В. Фаррара «Жизнь Иисуса Христа». Там Христос характеризуется как мессия и носитель света и как Тот, кто постоянно ищет уединения и покоя: «Молва об этом чудесном событии (исцелении бесноватого и тещи Симона. – Б. С.) разнеслась по всей Галилее и Перее, и даже до отдаленных пределов Сирии (Матф., IV, 24), и можно представить себе, как сильно утомленный Спаситель нуждался после этого в продолжительном покое. Но лучшим и самым приятным для него отдыхом было уединение и безмолвие, где Он, не тревожимый никем, мог быть наедине со своим Отцом небесным. Равнина Геннисаретская была еще окутана глубокой тьмой, наступающей перед рассветом, когда, не замеченный никем, Иисус встал и удалился в одно пустынное место, и там подкрепил свой дух тихой молитвой. Хотя дело, для которого Он был послан, часто обязывало Его проводить время среди теснящейся и возбужденной толпы. Он однако же не любил народного шума и избегал даже почестей и выражений признательности от тех, которые чувствовали в Его присутствии как бы обновление всего своего существа. Но ему не давали, даже на короткое время, оставаться в покое и в уединении. Народ неотступно следовал за Ним; Симон со своими друзьями почти гонялись за ним с неутомимой жаждой видеть и слышать. Они даже хотели почти силой удержать его у себя. Но он спокойно отклонил их настойчивость». Тут же историк добавляет, что Христос исцелял «безбоязненно и спокойно, но не свободно от скорби и страдания». Мастер, познав страдания, тоже ищет покоя и уединения и ради них готов даже придти в дом скорби. Он сторонится толпы и боится людского крика. Подобно тому, как Христос, по Фаррару, в уединении и безмолвии остается наедине с Отцом небесным, Мастер остается наедине с замыслом романа о Понтий Пилате.
Булгаковский герой оказывается в ссылке, когда во сне предстает перед возлюбленной: «Приснилась неизвестная Маргарите местность – безнадежная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищие полуголые деревья, одинокая осина, а далее – меж деревьев, за каким-то огородом, – бревенчатое зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня, не то черт его знает что. Неживое все кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека!
Исцеление бесноватого отрока. Худ. Поль Гюстав Доре
И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но он отчетливо виден. Оборван он, не разберешь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит ее рукой, зовет. Захлебываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась».
Мотив «неживого воздуха» заставляет вспомнить мысль Блока о нехватке воздуха для поэта. Слова же об адском месте для живого человека явно восходят к завершающим фразам книги маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 году»: «Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, предоставленную народам в других странах Европы, какой бы ни был принятый там образ правления… Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы». Но Булгаков здесь отразил и подлинные обстоятельства судьбы своих знакомых, людей творческих, имевших отношение к театральному миру. Местность, в которой Маргарита видит Мастера, явно северная. А один из прототипов Мастера, С.С. Топленинов, в середине 30-х годов был сослан на полтора года в Вельск Архангельской области. Также и П. С. Попов, живший неподалеку от Арбата в Плотниковском переулке (10, кв. 35), был в 1931–1932 годах на несколько месяцев выслан из Москвы, а его полуподвальная квартира нашла отражение в подвальчике Мастера.
Булгаков своего героя поместил в психиатрическую лечебницу, но в подтекст ввел и мотив ссылки, более отчетливо присутствовавший в промежуточной редакции.
Несмотря на всю ценность дарованного Мастеру творческого покоя для самого Булгакова, определенная неполнота награды в романе присутствует. Прямее об этом говорилось в ранних редакциях. В частности, в наброске 1933 года Воланд сообщал Мастеру: «Ты не поднимешься до высот. Не будешь слушать мессы. Но будешь слушать романтические…» А в варианте 1936 года слова дьявола звучали следующим образом: «Ты награжден. Благодари бродившего по песку Иешуа, которого ты сочинил, но о нем более никогда не вспоминай. Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил. Ты будешь жить в саду, и всякое утро, выходя на террасу, будешь видеть, как гуще дикий виноград оплетает твой дом… Исчезнет из памяти дом на Садовой, страшный Босой, но исчезнет мысль о Ганоцри и о прощенном игемоне. Это дело не твоего ума. Кончились мучения. Ты никогда не поднимешься выше, Иешуа не увидишь, ты не покинешь свой приют». Это потому, что Мастер сломлен выпавшими на его долю испытаними, и его роман стал ему ненавистен.
Сожжение рукописи о Иешуа и Пилате и ее чудесное возрождение из пепла Воландом, сопровождаемое популярным афоризмом: «Рукописи не горят!» – может быть понято в свете книги М. И. Щелкунова «Искусство книгопечатания в его историческом развитии». Там отмечалось, что «если душа книги – ее содержание, то тело книги – бумага, на которой она напечатана». Сожжение романа Мастером, как и его отказ от борьбы, не в силах уничтожить «бессмертную душу» произведения – высокую историю Иешуа и Пилата.
Елена Сергеевна Булгакова (Шиловская) (1893–1970) – третья жена Михаила Булгакова
Лирический монолог рассказчика («Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший…» и т. д.), проецируемый на судьбу Мастера, по воспоминаниям Елены Сергеевны, в своей основе был написан задолго до смертельной болезни. Здесь есть явные переклички со стихотворением Николая Гумилева «Творчество»:
Моим рожденные словом, Гиганты пили вино Всю ночь, и было багровым, И было страшным оно. О, если б кровь мою пили, Я меньше бы изнемог, И пальцы зари бродили По мне, когда я прилег. Проснулся, когда был вечер. Вставал туман от болот, Тревожный и теплый ветер Дышал из южных ворот. И стало мне вдруг так больно, Так жалко стало дня, Своею дорогой вольной Прошедшего без меня… Умчаться б вдогонку свету! Но я не в силах порвать Мою зловещую эту Ночных видений тетрадь.Совпадают не только ощущение полета и связанный с ним образ таинственных туманов, встающих от болот, не только грустный вечерний пейзаж, но и то, что Мастер, с которым в лирическом монологе как бы сливается рассказчик, не может уйти в свет, так как не в состоянии отрешиться от творчества. Потому и материализуется вновь дословно сохранившийся в его голове роман о Понтии Пилате – «ночных видений тетрадь». Лишь после завершения романа прощением Пилата в сцене последнего полета эта история уходит из памяти героя, освобождая ее для воплощения новых замыслов. Сходство творческих ощущений Гумилева и Булгакова здесь несомненно.
Николай Гумилев, Лев Гумилев, Анна Ахматова
Покой Мастера противопоставлен покою Иуды из Кириафа и Иосифа Каифы, купленному ценою жизни и страданий других людей. Можно указать на, безусловно, известное Булгакову письмо Гоголя своей матери М. И. Гоголь-Яновской от 8 июня 1833 года: «Зачем нам деньги, когда они ценою вашего спокойствия? На эти деньги… мне все кажется, что мы будем глядеть такими глазами, как Иуда на сребреники: за них проданы ваша тишина и, может быть, часть самой жизни, потому что заботы коротают век».
Последний приют Мастера среди множества литературных ассоциаций, напоминает и цветущий остров из романа Чарльза Мэтьюрина «Мельмот-скиталец», где возлюбленная Мельмота красавица Иммали просит его остаться навсегда, чтобы не возвращаться «в этот мир зла и горя»: «Здесь цветы всегда будут цвести, а солнце светить так же ярко, как в тот день, когда я в первый раз тебя увидела. Зачем же тебе возвращаться в мир, где людям приходится думать и где они несчастны?».
Последний приют Мастера напоминает следующие слова Екклесиаста: «В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно; и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дщери пения; и высоты будут им страшны и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; – доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодцем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, который дал его» (Еккл., 12, 3–7). В финале булгаковского романа, когда «ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Ершалаима не стало вокруг», Мастер и Маргарита «увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после полуночной луны». Главные герои «в блеске первых утренних лучей» миновали ручей и двинулись по песчаной дороге. Маргарита при этом говорит Мастеру: «Смотри, вон впереди твой вечный дом…». Вечный дом – это место пребывания души Мастера, его бессмертного гения.
За гениальный роман о Понтии Пилате Мастер награжден творческим покоем. Но в современном обществе ему существовать невозможно. Как легендарный Фридрих Барбаросса, которому суждено спать вечным сном в недрах горы Кифгайзер и пробудиться лишь тогда, когда немцы объединятся, чтобы отразить врагов. Тут можно вспомнить образ императора, являющийся поэту во сне в поэме Гейне «Германия. Зимния сказка» (пер. В. Левика):
…Сам император сидит, Сидит он века за веками На каменном троне, о каменный стол Двумя опираясь руками. И огненно-рыжая борода Свободно до полу вьется. То сдвинет он брови, то вдруг подмигнет, Не знаешь, сердит иль смеется. Иль думу думает он или спит, Подчас затруднишься ответом. Но день придет – и встанет он, Уж вы поверьте мне в этом!В связи с этим образом прежде всего вспоминается Пилат, который сидит на своем каменном троне на вершине горы в финале булгаковского романа, и непонятно, «плачет ли он или смеется», когда, освобожденный Мастером, устремляется навстречу Иешуа по лунному лучу.
Герой Гейне, пробудившись, вершит свой суд:
…Император велит привести Злодеев на суд и расправу, — Убийц, вонзивших в Германию нож, В дитя с голубыми глазами, В красавицу с золотою косой, — «О солнце, гневное пламя! Кто в замке, спасая шкуру, сидел И не высовывал носа, Того на праведный суд извлечет Карающий Барбаросса.У Булгакова такой «праведный суд» творит Воланд, возвращающийся в финале вместе со свитой в недра Земли. Однако и Мастеру, очевидно, предназначена в будущем роль легендарного Барбароссы. Он и его восставший из пепла роман вернутся к людям, когда изменится общество, когда оно не будет разъединяться лозунгами классовой борьбы и вернется к вечным культурным ценностям. Тогда и Мастеру, быть может, будет даровано «гневное Солнце», свет высшей истины, пока же его удел – лишь лунный свет; познание истины, а не слияние с ней.
Пушкинский отрывок «Осень», как кажется, отразился в описании той награды, что ждет Мастера в последнем приюте. Читаем у поэта:
Ведут ко мне коня; в раздолий открытом, Махая гривою, он всадника несет, И звонко под его блистающим копытом Звенит промерзлый дол и трескается лед. Но гаснет краткий день, и в камельке забытом Огонь опять горит – то яркий свет лиет, То тлеет медленно, – а я пред ним читаю Иль думы долгие в душе моей питаю. И забываю мир – и в сладкой тишине Я сладко усыплен моим воображеньем, И пробуждается поэзия во мне: Душа стесняется лирическим волненьем, Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, Излиться наконец свободным проявленьем — И тут ко мне идет незримый рой гостей, Знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута – и стихи свободно потекут.Вспомним, как в «Мастере и Маргарите» после Великого бала у сатаны Коровьев убеждает других членов свиты и Маргариту, «как приятно ужинать вот этак, при камельке, запросто… в тесном кругу». А в финале романа кони Воланда приносят влюбленных к последнему приюту, и Маргарита говорит Мастеру, что ждет его там: «Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я». То есть автора романа о Понтии Пилате тоже будет окружать «незримый рой гостей» – персонажей новых произведений, еще только замышляемых, которым еще только предстоит обрести форму рукописей, которые «не горят».
Мастер с помощью поэтической интуиции угадывает евангельскую истину, затемненную трудом многих поколений ученых, которые пытались рационально объяснить не укладывающиеся в пределах одного только разума высшие духовные побуждения. Мастер подтверждает постулат, сформулированный немецким поэтом-романтиком Новалисом (Фридрихом фон Гарденбергом) в посмертно опубликованных «Фрагментах»: «Поэт постигает природу лучше, чем разум ученого».
В последние годы и месяцы жизни писателя особенно волновала судьба его произведений, отношение к его творчеству знакомых и друзей. Среди искренних друзей в ближайшем булгаковском окружении находились и люди, подобные незабвенному Алоизию Могарычу. Это подтверждают и недавно опубликованные материалы агентурного наблюдения за писателем, извлеченные из архивов госбезопасности. 10 мая 1939 года Булгаков сделал памятную надпись жене на своей фотографии: «Вот как может выглядеть человек, возившийся несколько лет с Алоизием Могарычем, Никанором Ивановичем и прочими. В надежде, что ты прояснишь это лицо, дарю тебе, Елена, карточку, целую и обнимаю». Здесь речь не только о многолетней до изнеможения работе над «Мастером и Маргаритой», но и намек на то, что жизнь писателя прошла в общении с людьми, подобными Могарычу и Босому.
Бесславный путь Алоизия повторил позднее один из наиболее близких булгаковских друзей П. С. Попов. Он был автором первого биографического очерка о Булгакове, написанного в 1940 году вскоре после смерти писателя для планировавшегося однотомника его пьес. Сборник, однако, не вышел как из-за начавшейся войны, так и из-за цензурных препятствий. Как отмечала Е. С. Булгакова в письме Сталину 7 июля 1946 года, издательство «Искусство» «вычеркивало последовательно по пьесе, так что остался нетронутым один «Дон Кихот» и сборник не вышел». В предисловии к несостоявшемуся сборнику Павел Сергеевич очень верно сказал о значении жизни и творчества Булгакова: «Беспокойный, трудный путь писателя, пройденный с таким напряжением и неоскудевавшей энергией, путь жизни и творчества, на который было затрачено столько сил, работы и душевных мук и который оборвался так рано и несправедливо, дает право писателю на безмятежную оценку его писательского труда и на глубокую и вечную признательность за незабываемый вклад, внесенный им в сокровищницу русской литературы». Но уже в 1944 году П. С. Попов совершил подлое предательство – написал донос на своего соученика и друга по университету, известного философа и филолога А. Ф. Лосева, обвинив его в идеализме. Это стоило жертве доноса, по словам вдовы Лосева А. А. Тахо-Годи, кафедры в МГУ. Алоизию Могарычу в награду были даны комнаты Мастера, П. С. Попову – кафедра логики в университете. Впрочем, нравственное падение булгаковского друга свершилось еще раньше, через несколько месяцев после смерти автора «Мастера и Маргариты». 27 декабря 1940 года, впервые познакомившись с полным текстом романа, Павел Сергеевич писал Елене Сергеевне: «Я все под впечатлением романа. Прочел первую часть, кончая визитом буфетчика к Вас. Дм. Шервинскому (так, очевидно, именовался профессор Кузьмин в одном из промежуточных вариантов последней редакции романа, который читал Павел Сергеевич и который до нас не дошел. – Б. С.). Я даже не ждал такого блеска и разнообразия: все живет, все сплелось, все в движении – то расходясь, то вновь сходясь. Зная по кусочкам роман, я не чувствовал до сих пор общей композиции, и теперь при чтении поражает слаженность частей: все пригнано и входит одно в другое. За всем следишь, за подлинной реальностью, хотя основные элементы – фантастика. Один из самых реальных персонажей – кот. Что ни скажет, как ни поведет лапой – как рублем подарит. Как он отделал киевского дядюшку Берлиоза – очки надел и паспорт смотрел самым внимательным образом. Хохотал и больше всего над пением в филиале в Ваганьковском переулке. Я ведь чувствую и слышу, как вдруг ни с того ни с сего все, точно сговорившись, начинают стройно вопить. И слова – это прелесть: Славное море священный Байкал! Вижу, как их подхватывает грузовик – а они все свое. В выдумке М. А. есть поразительная хватка – сознательно или бессознательно он достиг самых вершин комизма. Современные эстетики (Бергсон и др.) говорят, что основная пружина смеха – то комическое чувство, которое вызывается автоматическим движением вместо движения органического, живого, человеческого, отсюда склонность Гофмана к автоматам. И вот смех М. А. над всем автоматическим и поэтому нелепым – в центре многих сцен романа.
Вторая часть – для меня очарование. Этого я совсем не знал – тут новые персонажи и взаимоотношения – ведь Маргарита Колдунья это Вы и самого себя Миша ввел. И я думал по новому заглавию, что Мастер и Маргарита означают Воланда и его подругу. Хотя сначала читал залпом, а теперь решил приступить ко 2-ой части после паузы, подготовив себя и передумав первую часть.
Хочется отметить и то, что мимолетные сцены, так сказать, второстепенные эпизоды также полны художественного смысла. Например, возвращение Рюхина из больницы; описание природы и окружающего с точки зрения встрясок на грузовике, размышления у памятника Пушкина – все исключительно выразительно… Но вот, если хотите – грустная сторона. Конечно, о печатании не может быть речи. Идеология романа – грустная, и ее не скроешь. Слишком велико мастерство, сквозь него все еще ярче проступает. А мрак он еще сгустил, кое-где не только не завуалировал, а поставил точки над i. В этом отношении я бы сравнил с «Бесами» Достоевского. У Достоевского тоже поражает мрачная реакционность – безусловная антиреволюционность. Меня «Бесы» тоже пленяют своими художественными красотами, но из песни слов не выкинешь – и идеология крайняя. И у Миши так же резко. Но сетовать нельзя. Писатель пишет по собственному внутреннему чувству – если бы изъять идеологию “Бесов”, не было бы так выразительно. Мне только ошибочно казалось, что у Миши больше все сгладилось, уравновесилось, – какой тут! В этом отношении, чем меньше будут знать о романе, тем лучше. Гениальное мастерство всегда остается гениальным мастерством, но сейчас роман неприемлем. Должно будет пройти лет 50—100. Но как берегутся дневники Горького, так и здесь надо беречь каждую строку – в связи с необыкновенной литературной ценностью. Можно прямо учиться русскому языку по этому произведению. Вот мои первые беспорядочные строки в связи с новыми страницами творчества М. А., с которыми я имел счастье познакомиться – благодаря Вам, почему и прошу Вас принять выражения моей глубокой признательности».
Какое поразительное совпадение интонации, оборотов и содержания этого письма с оценкой романа Мастера Алоизием Могарычом!
Вспомним: «Покорил меня Алоизий своею страстью к литературе. Он не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть ему мой роман от корки до корки, причем о романе он отозвался очень лестно, но с потрясающей точностью, как бы присутствуя при этом, рассказал все замечания редактора, касающиеся этого романа. Он попадал из ста сто раз. Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, и я догадывался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан. Он говорил прямо: глава такая-то идти не может…». К счастью, двоемыслием, столь широко распространенным среди булгаковских друзей, как и среди большинства советской интеллигенции, Булгаков никогда не страдал.
Особняк архитектора А. В. Кузнецова (1916, перестроен из более ранней постройки); Мансуровский переулок, 9
Важную роль в романе играет зловещая фигура журналиста Алоизия Могарыча, написавшего донос на Мастера и поселившегося впоследствии в его подвальчике в одном из арбатских переулков. Прототипом Могарыча послужил друг Булгакова, драматург Сергей Александрович Ермолинский. Он свою литературную деятельность начинал, еще будучи студентом Московского университета как журналист-репортер центральных газет «Правда» и «Комсомольская правда». Это было в 1925–1927 годах, еще до знакомства с Булгаковым, но и Михаил Афанасьевич, и Елена Сергеевна о его журналистском прошлом прекрасно знали. В 1929 году Ермолинский познакомился с Марией Артемьевной Чимишкиан, дружившей в то время с Булгаковым и его второй женой Л. Е. Белозерской. Через некоторое время молодые люди вступили в законный брак и сняли комнату в доме № 9 по Мансуровскому переулку, принадлежавшем семье театрального художника-макетчика Сергея Сергеевича Топленинова, одного из прототипов Мастера. Этот деревянный домик стал прообразом жилища Мастера и Маргариты. А вот как Мастер излагает Ивану Бездомному историю своей дружбы с Алоизием Могарычем: «Так вот в то проклятое время (время травли Мастера за роман о Понтии Пилате. – Б. С.) открылась калиточка нашего садика, денек еще, помню, был такой приятный, осенний. Ее не было дома. И в калиточку вошел человек, он прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство. Отрекомендовался он мне журналистом. Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем. Дальше – больше, он стал заходить ко мне. Я узнал, что он холост, что живет рядом со мной примерно в такой же квартирке, что ему тесно там, и прочее. К себе как-то не звал. Жене моей он не понравился до чрезвычайности. Но я заступился за него. Она сказала:
– Делай, как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее.
Я рассмеялся. Да, но чем, собственно говоря, он меня привлек? Дело в том, что вообще человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен. Такой сюрприз в своем ящике Алоизий (да, я забыл сказать, что моего нового знакомого звали Алоизий Могарыч) – имел. Именно, нигде до того я не встречал и уверен, что нигде не встречу человека такого ума, каким обладал Алоизий. Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий объяснял мне ее буквально в одну минуту, причем видно было, что объяснение это ему не стоило ровно ничего. То же самое с жизненными явлениями и вопросами. Но этого было мало». Дальше, как мы помним, Алоизий покорил мастера тем, что, прочитав его роман, совершенно точно объяснил, почему та или иная глава не может идти в печать.
Интересно, что Ермолинский в момент знакомства с Булгаковым действительно был еще холост. По воспоминаниям М. А. Чимишкиан, именно Булгаков ее уговаривал: «Выходи, выходи за Ермолинского, он славный парень». Марика Артемьевна вспоминала: «В 1927 году (по воспоминаниям Л.Е. Белозерской – в 1928 году. – Б. С.), когда я жила в Тбилиси, меня познакомили с Михаилом Афанасьевичем и Любовью Евгеньевной Булгаковыми. В течение приблизительно десяти дней мы встречались почти ежедневно. Познакомила нас Ольга Казимировна Туркул, с которой Булгаков был знаком еще по Владикавказу… В конце 1927 года я сообщила, что еду в Ленинград и на обратном пути буду в Москве. Пока я была в Ленинграде, туда приехал Михаил Афанасьевич и познакомил меня с супружеской четой Замятиной… На обратном пути я гостила у Булгаковых, а в 1928 году окончательно переехала в Москву и долгое время (около 2-х лет) жила у Булгаковых на Б. Пироговской. Спала я в гостиной, на старинном-диване-ладье, называемом «закорюкой». А работала в то время в Госкино. Из этого дома в октябре 1929 года вышла замуж за Сергея Ермолинского, сопровождаемая слезами хозяйки дома, домработницы Маруси и своими собственными. Открыв чемодан, я обнаружила в нем бюст Суворова, всегда стоявший на письменном столе Михаила Афанасьевича. Я очень удивилась. Булгаков таинственно сказал: «Это если Ермолинский спросит, где твой бюст, не теряйся и быстро доставай бюст Суворова». Поднялся смех, и прекратились слезы… Выпадали у нас и уютные вечера. Мы яростно сражались в «блошки». Это детская игра, в которой М.А. достиг небывалых высот, за что и был прозван «блошиным царем». Не помню названия другой игры, но фамилия ее создателя была Ермишкин, что дало повод М.А. назвать меня этим именем. Первое время Ермолинский не без ревности упрекал меня, что я больше интересуюсь делами Булгакова, чем его собственными. Со временем это чувство притупилось. На первых порах мы жили у родственников Сергея Александровича, в 1930 году переехали в Мансуровский переулок, в дом Топлениновых, где прожили до начала войны. Моя дружба с М.А. оставалась всегда неизменно крепкой. Постепенно Булгаковы подружились и с Ермолинским и иногда даже вместе ходили на лыжах. Когда М.А. разошелся с Любовью Евгеньевной, мои отношения с ней остались по-прежнему дружескими и теплыми – таких с Еленой Сергеевной у меня не наладилось. В Нащокинском переулке, где жили Булгаковы, я бывала, но не как у себя дома…»
Бывший дом купцов Решетниковых, расположенный на Б. Пироговской, 35
В отличие от самого Булгакова, его вторая жена Л. Е. Белозерская к Ермолинскому относилась без симпатии, чего не скрывала ни в опубликованных мемуарах, ни в беседах со мной. Она прямо писала: «Перехожу к одной из самых неприятных страниц моих воспоминаний – к личности Сергея Ермолинского, о котором по его выступлению в печати (я имею в виду журнал “Театр”, № 9, 1966 г. О Михаиле Булгакове) может получиться превратное представление.
Летом 1929 года он познакомился с нашей Марикой (М. А. Чимишкиан. – Б. С.) и влюбился в нее. Как-то вечером он приехал за ней. Она собрала свой незамысловатый багаж. Мне было грустно. Маруся плакала, стоя у окна.
Ермолинский прожил с Марикой 27 лет, что не помешало ему в этих же воспоминаниях походя упомянуть о ней, как об «очень милой девушке из Тбилиси», не удостоив (это после двадцати-то семи лет совместной жизни!) даже назвать ее своей бывшей женой.
Кабинет Булгакова в Нащокинском переулке
Жаль, что для мемуаристов не существует специальных тестов, определяющих правдивость и искренность автора. Плохо пришлось бы Ермолинскому перед детектором лжи. Я оставляю в стороне все его экскурсы в психологию: о многом он даже и не подозревает, хотя и претендует на роль конфидента М. А. Булгакова, который, кстати, никогда особого расположения к Ермолинскому не питал, а дружил с Марикой (это утверждение Л. Е. Белозерской опровергается приведенным выше свидетельством М. А. Чимишкиан. – Б. С.)… Прочтя этот «опус» в журнале «Театр», к сожалению, бойко написанный, много раз поражаешься беспринципностью автора. В мое намерение не входит опровергать по пунктам Ермолинского, все его инсинуации и подтасовки, но кое-что сказать все же нужно. Хотя воспоминания его забиты цитатами (Мандельштам, дважды – Герцен, М. Пришвин, Хемингуэй, Заболоцкий, П. Вяземский, Гоголь, Пушкин, Грибоедов), я все-таки добавлю еще одну цитату из «Горя от ума»: «Здесь все есть, коли нет обмана». Есть обман! Да еще какой. Начать с авторской установки. Первое место занимает сам Ермолинский, второе – так и быть – отведено умирающему Булгакову, а третье – куда ни шло – Фадееву, фигуре на литературном горизонте значительной». По мнению Л. Е. Белозерской, «по своей двуличной манере» Ермолинский «забывает то, что ему невыгодно помнить».
Как и Могарыч с Мастером, Ермолинский познакомился с Булгаковым в 1929 году, когда развернутая против писателя кампания в прессе достигла апогея и все его пьесы оказались сняты. Напомню, что действие московских сцен «Мастера и Маргариты» развертывается с 1 по 4 мая, а в воскресенье, 5 мая, в православную Пасху, московский мир сливается с ершалаимским в сцене последнего полета. Воспоминания Ермолинского, обильно оснащенные цитатами, доказывают, что их автор, как и булгаковский персонаж, был весьма сведущ в литературе. И образование у него было солидное. Он изучал японский язык в Восточном институте, окончил факультет общественных наук МГУ. Мемуарист, подобно Алоизию и вопреки утверждениям Л. Е. Белозерской, по крайней мере, во второй половине 30-х годов, действительно стал булгаковским «конфидентом». Это доказывает, например, дневниковая запись третьей жены писателя Е. С. Булгаковой от 5 декабря 1938 года: «Вчера днем М. А. заходил к Сергею Ермолинскому поиграть в шахматы, а кроме того, Сергей Ермолинский, благодаря тому, что вертится в киношном мире, много слышит и знает из всяких разговоров, слухов, сплетен, новостей. Он – как посредник между М. А. и внешним миром». Судя по интонации этой и других записей, Е. С. Булгакова относилась к Ермолинскому довольно сдержанно, но, конечно, без той ненависти, что проскальзывает в мемуарах Л. Е. Белозерской. В «Мастере и Маргарите» в отношении к Могарычу главной героини автор передал в основном отношение к Ермолинскому Л. Е. Белозерской, которая была булгаковской женой в 1929 году, в году, когда разворачивается действие московских сцен романа и когда произошло на самом деле знакомство Булгакова с Ермолинским. Маргарита, узнав о предательстве Могарыча, едва не выцарапала ему глаза.
Но Ермолинский действительно был близок к Булгакову в 30-е годы. Михаил Афанасьевич подарил ему свою фотографию 1935 года со следующей надписью: «Вспоминай, вспоминай меня, дорогой Сережа! Твой любящий искренно М. Булгаков».
В числе прототипов Мастера был, как уже говорилось, хорошо известный Булгакову Сергей Сергеевич Топленинов, один из лучших театральных художников Москвы, в середине 30-х годов сосланный на полтора года в г. Вельск Архангельской области. Отметим, что подвальчик Мастера списан главным образом с особняка братьев Топлениновых (Мансуровский пер., 9). С. С. Топленинов обитал в нижнем, полуподвальном этаже, и в 1929–1930 гг. в трудный период своей жизни к нему нередко заходил Булгаков, порой оставаясь ночевать, позировал для портретов (в архиве художника сохранились два из них). По воспоминаниям вдовы старшего брата, актера Владимира Сергеевича Топленинова, Евгении Владимировны Власовой, Булгаков, когда гостил у Топлениновых, часто писал роман при свете свечей и под треск дров в печи, как это делает и Мастер в своем подвальчике.
Там же, в Мансуровском переулке, жил и С.А. Ермолинский. На допросе в НКВД 11 марта 1941 года Ермолинский утверждал: «С писателем БУЛГАКОВЫМ я познакомился в 1929 году у него на квартире через его жену БЕЛОЗЕРСКУЮ. В первые годы нашего знакомства я с ним встречался редко. Примерно в 1931–1932 гг., когда БУЛГАКОВ женился второй раз – на ШИЛОВСКОЙ, я с ним стал встречаться чаще, и в результате этих встреч у меня с ним установились дружеские отношения. За 3–4 года до его смерти (умер он в 1940 г.) я встречался с ним на квартире, где встречал дирижера Большого театра МЕЛИК-ПАШАЕВА, художника ВИЛЬЯМСА Петра Владимировича и художника ДМИТРИЕВА.
Кроме указанных лиц, у БУЛГАКОВА я встречал рад актеров, главным образом Художественного театра.
При посещении квартиры БУЛГАКОВА велись разговоры главным образом на театральные темы. В разговорах за последнее время БУЛГАКОВ увлекался СТАЛИНЫМ. Во всех разговорах БУЛГАКОВ хорошо отзывался о СТАЛИНЕ.
Никаких антисоветских разговоров на квартире БУЛГАКОВА не проводилось, во всяком случае я на таковых не присутствовал».
Не исключено, что именно Ермолинского имел в виду автор «Мастера и Маргариты», когда сообщал П. С. Попову 24 марта 1937 года: «Некоторые мои доброжелатели избрали довольно странный способ утешать меня. Я не раз слышал уже подозрительно елейные голоса: «Ничего, после вашей смерти все будет напечатано!» Я им очень благодарен, конечно!» (отметим, что, согласно дневниковой записи Е. С. Булгаковой, Ермолинские посетили их накануне, 22 марта). Точно так же о невозможности прижизненной публикации романа говорил Мастеру Алоизий Могарыч. 16 мая 1939 года Булгаков, как уже говорилось, надписал жене свою фотографию: «Вот как может выглядеть человек, возившийся несколько лет с Алоизием Могарычем, Никанором Ивановичем и прочими». Здесь писатель указывал не только на усталость от десятилетней работы над романом, но и на длительное общение с перевертышами типа Могарыча, образ которого в тот момент еще носил общий и собирательный характер, без конкретных деталей. История знакомства Мастера с Алоизием была написана уже во время смертельной болезни автора – зимой 1939—40 года.
Александр Александрович Фадеев (1901–1956) – русский советский писатель и общественный деятель
И как раз 5 марта 1940 года Е. С. Булгакова написала в дневнике: «Приход Фадеева. Разговор продолжался сколько мог. Мне: «Он мне друг». Сергею Ермолинскому: «Предал он меня или не предал? Нет, не предал? Нет, не предал!». Булгаковские слова, несомненно, относились к Ермолинскому, который действительно был его другом, а не к Александру Александровичу Фадееву, первому секретарю Союза советских писателей, познакомившемуся с Булгаковым только 11 ноября 1939 года, когда он по должности навестил заболевшего члена Союза. Другом Булгакова Фадеев не был и предать его при всем желании не мог, хотя вскоре после его смерти и стал любовником Елены Сергеевны, за что впоследствии даже подвергся партийному взысканию (об этом дальше). Он решал чисто бытовые вопросы. Так, Елена Сергеевна зафиксировала в дневнике 15 февраля 1940 года: «Вчера позвонил Фадеев с просьбой повидать Мишу, а сегодня пришел. Разговор вел на две темы: о романе и о поездке на юг Италии для выздоровления. Сказал, что наведет все справки и через несколько дней позвонит».
Сам Булгаков и его третья жена нисколько не заблуждались насчет того, что Фадеев навестил их именно по должности, несомненно, получив указание сверху (может быть, от самого Сталина!), а отнюдь не оттого, что является поклонником булгаковской личности и творчества. Произведений Булгакова ранее он, как кажется, вообще не знал. То, что не к Фадееву, а к Ермолинскому были обращены булгаковские слова: «Он мне друг» и «Предал он меня или не предал? Нет, не предал? Нет, не предал!», доказывается беседой Елены Сергеевны с известными литературоведом С.Н. Семановым 1 августа 1969 года. Она, в частности, сказала: «Друг ли Ермолинский? Он был «привязан» к М.А., часто заходил, «рассказывал о событиях. В статье е го всё изложено правильно, у нас одна претензия: зачем М.А. «говорит» словами Ермолинского». То, что слово «привязан» закавычено, можно интерпретировать и в том смысле, что Елена Сергеевна подозревала, что Ермолинский был приставлен следить за Булгаковым. Однако, скорее всего, здесь мы имеем дело лишь с субъективным восприятием ее слов С.Н. Семановым, в чьей записи мы и цитируем беседу.
Подозревавший Ермолинского в предательстве автор «Мастера и Маргариты», как видно из цитированного выше разговора, за пять дней до смерти подозрения отверг. Вероятно, в связи с этим рассказ Мастера о знакомстве с Могарычем был перечеркнут Булгаковым, однако нового варианта он написать уже не успел (не исключено также, что текст был перечеркнут Е. С. Булгаковой). Там также набросаны возможные элементы новой биографии Могарыча: «Начало болезни / Продолжение газетной травли / Отъезд Алоизия в Харьков за вещами». И еще есть загадочная запись против фрагмента с историей знакомства Мастера с Могарычем: «Попытки сделать из понравившегося человека». То ли имелось в виду, что Мастер Могарычу тоже понравился и тот сначала пытался наставить его на путь истинный, показать, как именно надо писать, и только убедившись, что новый друг не обучаем, решает донести на него, чтобы завладеть его жилплощадью. В любом случае, в публикациях романа, осуществленных до 1973 года, а также в большинстве изданий, вышедших после 1989 года, Алоизий Могарыч оставался человеком без биографии, ничего не говорилось об истории его знакомства с Мастером, он возникал лишь в сцене после бала Воланда, а затем в эпилоге и оставался совершенно не запоминающимся, бледным персонажем. Ясно, что Булгаков планировал написать новую историю знакомства Могарыча с автором романа о Пилате и, вероятно, дать ему другую профессию не успел. Поэтому логичнее было бы все-таки включать в канонический текст дошедшую до нас историю знакомства Алоизия с Мастером. Иначе образ Алоизия да и весь роман оказывается художественно обедненным. Здесь, как и во многих других местах все-таки незаконченного, «закатного» романа, последнюю творческую волю писателя однозначно определить нельзя. Есть столько же аргументов за то, чтобы включать биографию Могарыча в условно канонический текст романа, сколько и за то, чтобы не включать. Против – то, что Булгаков (или Елена Сергеевна по его поручению) перечеркнул этот текст. Против – то, что Булгаков явно хотел наградить Могарыча конкретной биографией и сделать его близким другом Мастера. Без всего этого Алоизий превращается в совершенно эпизодический персонаж, на котором читательский глаз не задерживается. Поэтому мы решили, что правильнее будет включить биографию Могарыча в основной текст романа, что и было осуществлено в издании «Вагриуса» 2007 года. Ведь Булгаков собирался написать эту биографию, но не успел.
С сожалением приходится констатировать, что создать единственно верный канонический текст «Мастера и Маргариты» в принципе невозможно. Булгаков фабульно завершил роман, но из-за болезни и преждевеменной смерти не успел его отредактировать до конца, свести воедино все сюжетные линии и даже не успел создать какой-то последний текст, предназначавшийся к публикации. Поэтому любому текстологу, готовящему текст «Мастера и Маргариты» к публикации, приходится решать творческие задачи, которые не успел решить писатель, а не действовать по какой-то единой формальной схеме. В результате может появиться столько же вариантов окончательного текста, сколько разных текстологов в разное время занимались или еще займутся публикацией романа.
Возможно, что поводом для подозрений насчет Ермолинского послужил отзыв Сергея Александровича о пьесе «Батум» уже после ее запрещения, зафиксированный Е. С. Булгаковой 18 августа 1939 года: «Сегодня днем Сергей Ермолинский, почти что с поезда, только что приехал из Одессы и узнал (о запрете «Батума». – Б. С.). Попросил Мишу прочитать пьесу. После окончания – крепко поцеловал Мишу. Считает пьесу замечательной. Говорит, что образ героя сделан так, что если он уходит со сцены, ждешь – не дождешься, чтобы он скорей появился опять. Вообще говорил много и восхищался, как профессионал, понимающий все трудности задачи и виртуозность их выполнения». По всей видимости, Булгаков не обманывал себя насчет художественных достоинств пьесы о Сталине и почувствовал лицемерие, хотя и вызванное благой целью – утешить потрясенного катастрофой с «Батумом» драматурга, у которого уже начиналась грозная болезнь, сведшая его в могилу. Вероятно, автор «Мастера и Маргариты» рассудил, что если Ермолинский слукавил сейчас, то мог лукавить и раньше. Отсюда в возбужденном сознании больного Булгакова родилось подозрение, что друг мог доносить на него в НКВД, и это подозрение материализовалось в образе Могарыча. Поведение Ермолинского в последние недели булгаковской жизни, много часов самоотверженно проведшего у постели больного, очевидно, рассеяло подозрения, но написать новый текст у Булгакова уже не было сил.
Стоит подчеркнуть, что имя и фамилия персонажа – Алоизий Могарыч тоже могут быть прочитаны как указаниие на прототип – Ермолинского. Дело в том, что Ермак, Ермол, Ермола – это простонародная форма имени Ермолай (народ Гермеса (греч.) – вестника богов, покровителя путников торговцев). Но есть и еще более прозрачная этимология, связывающая обладателя данной фамилии с презренным металлом. Существует также тюркская этимология имени «Ермолай» и его производных – от тюркского слова «ярмак» – деньги. Алолизий – имя латинское, оно происходит от Aloeus, имени гиганта (титана) Алоэя (или Элоя), сына морского бога Нептуна (или Посейдона у греков). Он восходит к древнегреческому божеству обмолоченного зерна. По-немецки же имя Aloyisius (в Австрии – Aloisius) значит «прославленный в битвах» (здесь учли, по всей вероятности, богатырскую силу Алоэя) и особенно его сыновей, Аллодов, от красавицы Афимидейи (по одной из версий мифа, их отцом был сам могущественный морской бог Посейдон), отличавшихся необычайным ростом и силой. Каждый год они вырастали на локоть в ширину и на сажень в высоту. Достигнув девятилетнего возраста, они пытались взобраться на небо, собираясь для этой цели взгромоздить на Олимп Оссу, а на Оссу Пелион. Чтобы не дать им возможности исполнить это намерение, Аполлон убил их своими стрелами раньше, чем у них начала расти борода.
А вот «могарыч (магарыч) – это, согласно толковому словарю Фасмера, «выпивка с угощением после заключения сделки», т. е. после того, как деньги уплачены. Кстати, «могарыч» тоже происходит от тюркского слова «мога» – сушеный гриб. «Могарычить» в старину значило «бездельничать, промышлять срывом могарычей». Получается, что Алоизий Могарыч – славный в битве за дармовую выпивку с угощением. Булгаков, вероятно, учел германскую этимологию этого слова, поскольку это имя наиболее распространено в Германии и Австрии.
Замечу также, что называя своего героя Алоизием Булгаков, возможно, также имел в виду роман Александра Амфитеатрова «Жар-цвет» (1910), где так назван эпизодический персонаж, старый закрыстын (кастелян) польского графа Валерия Гичовского. Это может указывать и на реальный прототип: Ермолинский был родом из Вильно и носил фамилию польско-еврейского происхождения.
В одном из ранних вариантов романа Могарыч носил «говорящую фамилию» Богохульский (а еще раньше – Понковский), которая, по мнению М.О. Чудаковой, могла указывать на конкретный прототип литератора – Эммануила Львовича Жуховицкого. Однако Жуховицкий никогда не был близким другом Булгакова, это видно и из дневника Елены Сергеевны.
Например, согласно записи от 31 августа 1934 года, Жуховицкий «истязал М.А., чтобы он написал декларативное заявление, что он принимает большевизм».
Скорее всего, Е. С. Булгакова знала, кто был прототипом друга-предателя. 17 ноября 1967 года она записала в дневнике свой разговор с Ермолинским по поводу его воспоминаний в журнале «Театр» (тогда Елена Сергеевна собирала книгу воспоминаний о Булгакове): «Если ты хочешь, чтобы я приняла твою статью целиком, переведи прямую речь Миши в косвенную. Ты не передаешь его интонации, его манеры, его слова. Я слышу, как говорит Ермолинский, но не Булгаков. И, говоря откровенно, мне определенно не нравятся две сцены, одна – это разговор якобы ты журналист, а вторая – игра в палешан. Причем я не могу себе представить, где же я была в это время, что я не помню этой игры!». «Игра в палешан» – это рассказ в воспоминаниях Ермолинского о застольной импровизации на тему спектакля Камерного театра «Богатыри» по пьесе Демьяна Бедного, на оформление которого пригласили художников из Палеха. Булгаков и его товарищи «в лицах» разыграли, как палешане возвращаются домой после провала постановки. Ермолинский писал:
«Я вспоминаю булгаковский дом (его и Лены!) с тем душевным волнением, какое трудно передать.
Да-да, это был веселый, жизнерадостный дом! Говорили, это оттого, что у Булгакова было повышенное «чувство театра». Нет, никакого «театра» в его поведении не было. Это был его характер. Если угодно – и ее.
В передней над дверью в столовую висел печатный плакатик с перечеркнутой бутылкой: «Водка – яд, сберкасса – друг». А на столе уже все было приготовлено – чтобы и выпить, и закусить, и обменяться сюжетами на острые злободневные темы. Слетала всякая шелуха, душевная накипь, суетные заботы, накопившиеся за день, и всегда получалось весело.
Я уже говорил, как из смешных рассказов из жизни МХАТа вырос «Театральный роман». Таких устных рассказов у него было множество и по другим поводам. Они редко повторялись, не становились, как бывает у многих, застольным «репертуаром». Они рождались в ходе беседы, превращались в театральную импровизацию.
Помню, поводом для одной из таких импровизаций был спектакль Камерного театра «Богатыри» по пьесе Демьяна Бедного. В качестве оформителей пригласили художников из Палеха. Они должны были придать «истинно русский», былинный характер постановке, столь неожиданной для такого изысканного, рафинированного театра, как Камерный. Из этой затеи ничего путного не вышло, спектакль подвергли резкой критике.
– Думаю, – говорил Булгаков, – произошла противоестественная смесь из Демьяна Бедного, Таирова и палешан. От души сочувствую ни в чем не повинным мужичкам.
И уж тут невозможно было не переворотить все это в веселую буффонаду, и он стал изображать насмерть перепуганных творцов современного фольклора, как они возвращаются домой, лежа на жестких вагонных полках и подняв к небу свои древние бороды. Его рассказ тут же подхватывали все те же постоянные участники булгаковского застолья – Мелик-Пашаев, главный дирижер Большого театра, и театральные художники Дмитриев и Вильяме. Мелик, изображая сокрушенного палешанина, еще хорохорился: мы-де еще покажем, ни хрена они в Москве не понимают о нашем истинно русском. А Дмитриев совсем поник. У обоих кошки скребут на сердце, слышится грозный голос жены – жену изображает Булгаков: «Не быть добру, коли не сидится в своей лакированной коробочке! Плохо в ней вам было, так, что ли? Высунулись! Добро бы мальчишки, а то ведь за сорок уже! Срам на всю округу, и денег ни шиша!»
Охваченный тоской и страхом перед грядущим возмездием, Мелик-Пашаев подползает к дверям (кабинета) и робко стучит. «Это я, я, – тоненько, шепотом произносит он, – потерял копеечку», – поет он, как юродивый в «Борисе Годунове». Дверь распахивается – в дверях Булгаков-жена. Хохолок спереди взвит кверху, на голове повязан платок. Взор его столь гневен, что Мелик немеет окончательно.
– Искусству захотел! Я у тебя эту дурь выбью! – замахивается «жена». Мелик, покорно повернувшись, пригибается и получает хорошую затрещину пониже спины. Тихо стонет. У Дмитриева отвисла губа, он уже хватил с горя не один шкалик и валяется в канаве (под столом). Приложив к глазу горлышко пустого графина и разглядывая ночные светила (люстру), он вдруг рявкнул непристойную песню: «Э-эх, семь бед – один ответ, пропади пропадом коробочка лакированная», – и трахнул крепким русским словцом! Вильяме возмущенно поджал губы: «Не выражайся, тут дамы». У Вильямса свой образ – он пытается сохранить надменное достоинство. А Лена время от времени вскрикивает: «Перестаньте! Я умру от смеха!»
Подумать только, в течение целого вечера мы, как мальчишки, отдурачивали целый спектакль, вплетая в него и шутки о том, что произошло в Большом театре, в МХАТе, у художников. И в этом развеселом балагурстве то и дело проглядывала внутренняя серьезность – мысли о том, что происходило тогда в нашем многострадальном искусстве. Мелик-Пашаев вдруг срывался, подбегал к роялю и, при сразу возникшей тишине, проигрывал куски из «Катерины Измайловой», только что скандально запрещенной оперы Шостаковича, Не обладая голосом, но очень выразительно Александр Шамильевич напевал нам отрывки из арий и речитативы, бурно воспроизводил отдельные оркестровые варьяции, а иногда, вскочивши, пел, изображая скрипки, трубы, литавры, и темпераментно дирижировал…
Как мало людей бывало у Булгакова и видело его в таком дружеском окружении, таким неподдельно веселым, естественным, позабывшим на миг будничные заботы, вечное ожидание неприятностей, вечной чиновной власти над собой.
Возвращались мы в приподнятом настроении. Обычно, прежде чем разойтись, провожали меня до Мансуровского. Еще продолжали смеяться, но и что-то тревожное возникало.
– Удивительный дом, – говорил Мелик-Пашаев, остановившись на углу моего переулка, где был гастроном.
– Человек удивительный! – подхватывал Дмитриев. – Да… Вот так…
Все стояли кружком, примолкнув.
– Дай бог, чтобы его никогда не покинуло озорство, – произнес Дмитриев без тени шутки и повернулся к Вильямсу. – А помнишь, Петя, когда я выдумал водконапорную башню от этого гастронома прямо к дому Сергея…
– Это, Володя, я выдумал, – ревниво уточнил Вильямс.
– Возможно, возможно. Но я нашел систему труб и установку счетчика, отмечающего литры, как киловатт-часы. Помнишь, с каким увлечением Михаил Афанасьевич принялся помогать мне, едва я начал чертеж? Казалось, ничего важнее не было. А через несколько дней он читал нам главу, в которой Иешуа ведут на Голгофу. Сердце сжималось. Как будто он про себя читал. Вот то-то. И знаешь, мне иногда кажется, что его писательство вырастает из озорства, он, как гимнаст, проверяет на нем свои силы… А силы были нужны – чем дальше, тем больше».
Е. С. Булгакова в записи от 2 ноября 1936 года охарактеризовала «Богатырей» как «стыдный спектакль», а 14 ноября с удовлетворением констатировала: «В газете – постановление Комитета по делам искусств: «Богатыри» снимаются. «…За глумление над крещением Руси…», в частности» и привела по этому поводу реплику Булгакова:
«Таиров лежит с капустным листом на голове, уверяю тебя». Вероятно, ей не хотелось еще раз вспоминать об этом спектакле, тем более что в ходе кампании, начавшейся в прессе по поводу «Богатырей», вновь стали поносить булгаковский «Багровый остров». Да и содержавшаяся в рассказе Ермолинского насмешка (от лица Булгакова) над официальной «народностью» могла показаться опасной вдове писателя. Что же касается эпизода с Ермолинским-журналистом, то его стоит привести полностью: «Я бывал (во время последней болезни. – Б. С.) у него каждый день. Пытаясь восстановить факты его жизни, предложил игру в навязчивого журналиста, приставшего с вопросами к знаменитому писателю.
– Ты хитришь, – сказал он, но игру принял.
В дальнейшем она развлекала его, и я в шуточной форме записал несколько таких бесед, состоявших из вопросов и ответов. Несколько листков случайно сохранилось. Вот эта запись.
Он. Мне непонятно все-таки, уважаемый товарищ, зачем вы ко мне пристаете?
Я. Мировому человечеству интересна каждая деталь из вашей жизни.
Он. Я согласен, это так. Но я обязан все ж по благородству своего характера предупредить вас… – тут он прищурился и добавил юмористически: – Я, дорогой мой, «не наш» человек.
Я. Быть может, как раз, поэтому вы и представляете особый интерес?
Он (уже с непритворным негодованием). Это отвратительно, что вы говорите, голубчик! Я наш человек, а не наш – это я сам выдумал, сам подстроил.
Я. Простите, не понял.
Он. Вчера вы допрашивали меня о начале моего литературного пути.
Я. Совершенно верно. Я весь внимание.
Он. Именно тогда я и подложил себе первую свинью.
Я. Каким образом вам удалось это сделать?
Он. Молодость! Молодость! Я заявился со своим первым произведением в одну из весьма почтенных редакций, приодевшись не по моде. Я раздобыл пиджачную пару, что само по себе было тогда дико, завязал бантиком игривый галстук и, усевшись у редакторского стола, подкинул монокль и ловко поймал его глазом. У меня даже где-то валяется карточка – я снят на ней с моноклем в глазу, а волосы блестяще зачесаны назад (речь идет об известной фотографии 1926 года. – Б. С.).
Редактор смотрел на меня потрясенно. Но я не остановился на этом. Из жилетного кармана я извлек дедовскую «луковицу», нажал кнопку, и мой фамильный брегет проиграл нечто похожее на «Коль славен наш господь в Сионе» (неофициальный гимн императорской России до принятия последнего гимна «Боже царя храни!». Возможно, Булгаков вспомнил эпизод с исполнением запрещенного царского гимна в петлюровском Киеве. – Б. С.). «Ну-с?» – вопросительно сказал я, взглянув на редактора, перед которым внутренне трепетал, почти обожествлял его. «Ну-с, – хмуро ответил мне редактор. – Возьмите вашу рукопись и займитесь всем, чем угодно, только не литературой, молодой человек». Сказавши это, он встал во весь свой могучий рост, давая понять, что аудиенция окончена. Я вышел и, уходя, услышал явственно, как он сказал своему вертлявому секретарю: «Не наш человек». Без сомнения, это относилось ко мне.
Я. И вы считаете, что этот случай сыграл роковую роль во всех ваших дальнейших взаимоотношениях с редакциями.
Он. Взгляните, голубчик, на этот случай шире. Дело в моем характере. Луковица и монокль были всего лишь плохо продуманным физическим приспособлением, чтобы побороть застенчивость и найти способ выразить свою независимость.
Я. Последуем дальше. Что привело вас в театр?
Он. Жажда денег и славы. Затаенная мечта выйти на аплодисменты публики владела мною с детства. Я во сне видел свою длинную шатающуюся фигуру с растрепанными волосами, которая стоит на сцене, а благодарный режиссер кидается ко мне на шею и обцеловывает меня буквально под рев восторженного зрительного зала.
Я. Позвольте, но при возобновлении «Турбиных» занавес раздвигался шестнадцать раз, все время кричали «автора!», а вы даже носа не высунули.
Он. Французы говорят, что нам дарят штаны, когда у нас уже нет задницы, простите за грубое выражение. (И подозрительно.) А вы не из французской ли газеты?
Я. Нет.
Он (вкрадчиво). А может быть, из какой-нибудь другой иностранной, а?
Я. Нет, нет… Я из русской.
Он. Не из рижской ли, белоэмигрантской? (И он угрожающе поднял кулак.)
Я. Избави бог! (Я отмахнулся в ужасе.) Я из «Вечерки»! Из прекрасной, неповторимой «Вечерки» нашей!
Он. Ура! Тюпа! Люся! Водку на стол! Пускай этот господин напьется в свое полное удовольствие! Мне отнюдь не грозит опасность, что он напечатает обо мне хоть одну строчку!».
Очевидно, что Булгаков впоследствии шутливые вопросы Ермолинского осмыслил вполне серьезно и заподозрил друга в попытке выведать его подноготную для доклада в «дорогие органы». А в пристрастной подаче весьма грозно могло прозвучать и признание писателя, что он – «не наш человек», и слова по поводу нежелания выходить к зрителям в связи с возобновлением «Дней Турбиных», о штанах, которые появились тогда, когда уже нет задницы. Е. С. Булгакова прекрасно осознавала, что именно в связи с этим разговором автор «Мастера и Маргариты» сделал Алоизия Могарыча журналистом, которым, как мы помним, когда-то начинал Ермолинский. Можно сказать, что Могарыч разыгрывал перед Мастером роль журналиста, только чтобы получить его жилплощадь. А Сегей Александрович играл роль журналиста в шуточной мини-пьесе, блестяще представленной им с Михаилом Афанасьевичем. Ермолинский же не знал, что в романе есть столь разоблачительная для него история знакомства Мастера с Алоизием Могарычем, поскольку она не была включена ни в журнальную публикацию «Мастера и Маргариты» 1966–1967 годов, ни в машинопись романа, подготовленную в 60-е годы вдовой писателя. Эпизод с Могарычем вошел только в издание романа 1973 года, осуществленное при участии Е. С. Булгаковой, которая, однако, умерла за три года до выхода книги в свет, так что текст к печати готовила редактор А.А. Саакянц.
Подозрения Булгакова насчет Ермолинского, от которых сам Михаил Афанасьевич отказался буквально в последние дни жизни, были безосновательными. И не только потому, что в декабре 1940 года Сергей Александрович был арестован, и в ходе допросов, как свидетельствуют их опубликованные протоколы, связи Сергея Александровича с НКВД никак не проявились.
Кстати, не исключено, что в шутливом разговоре с Ермолинским-журналистом Булгаков рассказывал о злоключениях своей повести «Роковые яйца». На допросе в НКВД 14 декабря 1940 года Сергей Александрович назвал ее «наиболее реакционным произведением Булгакова» из всех, ему известных, поскольку там проявилось неверие «в созидательные силы революции», но на прямой вопрос следователя: «О своем мнении вы как писатель сообщали в соответствующие органы?» – признался, что «о реакционном содержании произведения «Роковые яйца» никуда не сообщал потому, что произведение было опубликовано в печати». По утверждению Ермолинского, сделанном на допросе 27 декабря 1940 года, «сам Булгаков считал, что «Р. Я.» сыграли резко отрицательную роль в его литературной судьбе: он стал рассматриваться как реакционный писатель». Дарственная надпись с экземпляра повести, сохранившаяся в архивах НКВД, подтверждала показания: «Дорогому другу Сереже Ермолинскому. Сохрани обо мне память! Вот эти несчастные «Роковые яйца». Твой искренний М. Булгаков. Москва. 4.IV. 1935 г.». Повесть насторожила цензуру и осложнила публикацию булгаковских произведений (больше крупных вещей писателя при его жизни в СССР напечатано не было).
На допросе 27 декабря Ермолинский утверждал: «Разговор по этому поводу происходил давно, мне трудно восстановить в памяти формулировки БУЛГАКОВА. Примерно он называл это произведение сатирическим памфлетом на ряд недостатков советской действительности 1922—23 года… Я соглашался с тем, что произведение сатирическое, но говорил, что у критики есть все основания назвать это произведение реакционным».
В конце концов, можно допустить, что еще не все протоколы Ермолинского опубликованы и в архивах таятся те из них, где речь идет о нем как о сексоте.
В конце концов, сексотство отнюдь не было охранной грамотой от репрессий, в том числе самых крутых. Взять хотя бы расстрелянных осведомителей из состава Еврейского антифашистского комитета. А театрального критика В. Голубова-Потапова, освещавшего для МГБ деятельность главы ЕАК великого режиссера С.А. Михоэлса, чекисты вместе с Михоэлсом и убили, еще живых переехав грузовиком, чтобы надежнее инсценировать несчастный случай и избавиться от нежелательных свидетелей. Но Ермолинский точно не был сексотом, просто потому, что сексотом был другой, очень близкий Булгакову человек.
Булгаков и Елена Сергеевна нисколько не сомневались, что стукачами являются такие личности, как литераторы М.А. Добраницкий и Э.М. Жуховицкий, часто навещавшие булгаковский дом и бесстрашно работавшие с иностранцами. И здесь они не ошиблись. Позднее, уже в 90-е годы, М.О. Чудакова обнародовала следственные дела Жуховицкого и Добраницкого, погибших в ходе Великой Чистки, из которых однозначно следовало, что оба были сексотами НКВД, что совсем не уберегло их от расстрела. Добраницкого и Жуховицкого Булгаков особо не опасался. С ними он и жена всегда были настороже, хотя Жуховицкий даже перевел совместно с Ч. Бооленом «Зойкину квартиру» на английский язык.
Насчет Ермолинского Булгаков ошибся. Тот его не продавал. А вот настоящего Иуду в своем ближайшем окружении так и не выявил, змею на своей груди так и не заметил. Судя по опубликованным донесениям осведомителей НКВД, сексотом, плотно опекавшим Булгакова, скорее всего, был Евгений Васильевич Калужский, актер МХАТа и свояк Булгакова, муж сестры Е. С. Булгаковой Ольги Сергеевны Бокшанской (урожденной Нюренберг).
Взять, например, историю со статьей «Внешний блеск и фальшивое содержание» с резкой критикой поставленной во МХАТе булгаковской пьесы «Мольер». Только Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич решили, что многолетняя эпопея постановкой «Мольера» наконец позади. Е.С. Булгакова записала 11 февраля 1936 года: «Сегодня был первый, закрытый, спектакль «Мольера» – для пролетарского студенчества. Перед спектаклем Немирович произнес какую-то речь – я не слышала, пришла позже. М.А. сказал: «ненужная, нелепая речь». После конца, кажется, двадцать один занавес. Вызывали автора, М.А. выходил. Ко мне подошел какой-то человек и сказал: «Я узнал случайно, что вы – жена Булгакова. Разрешите мне поцеловать вашу руку и сказать, что мы, студенты, бесконечно счастливы, что опять произведение Булгакова на сцене. Мы его любим и ценим необыкновенно. Просто скажите ему, что это зритель просил передать». После спектакля нас пригласили пойти в Клуб мастеров – отпраздновать новый спектакль. Пошли: Станицын, мы, Шверубович Дима, Яншин, Вильямс, почему-то Раевский с женой. Было ни весело, ни скучно. Но когда подошли к нашему столу Менделевич и Юрьев – стало хуже. Танцевали». Впрочем, какая-то тревога все-таки ощущалась.
А тут – статья «Правды» «Внешний блеск и фальшивое содержаниие». Она появилась 9 марта 1936 года во исполнение решения Политбюро, которое таким образом решило заставить МХАТ снять спектакль, не прибегая к формальному запрету. После публикации статьи всем стало ясно, что «Мольер» погиб. В этот день Елена Сергеевна записала в дневнике: «В «Правде» статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», без подписи. Когда прочитали, М.А. сказал: «Конец «Мольеру», конец «Ивану Васильевичу»». Днем пошли во МХАТ – «Мольера» сняли, завтра не пойдет. Другие лица. Вечером звонок Феди (Михальского, администратора МХАТа. – Б. С.): «Надо Мише оправдываться письмом». – В чем? М.А. не будет такого письма писать. Потом пришли Оля, Калужский и – поздно – Горчаков. То же самое – письмо. И то же – по телефону – Марков. Все дружно одно и то же – оправдываться. Не будет М.А. оправдываться. Не в чем ему оправдываться». 14 марта 1936 года сообщил булгаковскую реакцию на снятие с репертуара Художественного театра после 7 представлений спектакля по булгаковской пьесе «Мольер» (это произошло вследствие резкой критики постановки в статье «Правды» «Внешний блеск и фальшивое содержание»): «Статья в «Правде» и последовавшее за ней снятие с репертуара пьесы М. Булгакова особенно усилили как разговоры на эту тему, так и растерянность. Сам Булгаков сейчас находится в очень подавленном состоянии (у него вновь усилилась его боязнь ходить по улицам одному), хотя внешне он старается ее скрыть. Кроме огорчения от того, что его пьеса, которая репетировалась четыре с половиной года, снята после семи представлений, его пугает его дальнейшая судьба как писателя… Он боится, что театры не будут больше рисковать ставить его пьесы, в частности, уже принятую театром Вахтангова «Александр Пушкин», и конечно, не последнее место занимает боязнь потерять свое материальное благополучие. В разговорах о причине снятия пьесы он все время спрашивает «неужели это действительно плохая пьеса?» и обсуждает отзыв о ней в газетах, совершенно не касаясь той идеи, какая в этой пьесе заключена (подавление поэта властью). Когда моя жена сказала ему, что, на его счастье, рецензенты обходят молчанием политический смысл его пьесы, он с притворной наивностью (намеренно) спросил: «А разве в «Мольере» есть политический смысл?» и дальше этой темы не развивал. Также замалчивает Булгаков мои попытки уговорить его написать пьесу с безоговорочной советской позиции, хотя по моим наблюдениям, вопрос этот для него самого уже не раз вставал, но ему не хватает какой-то решимости или толчка. В театре ему предлагали написать декларативное письмо, но этого он сделать боится, видимо, считая, что это «уронит» его как независимого писателя и поставит на одну плоскость с «кающимися» и подхалимствующими. Возможно, что тактичный разговор в ЦК партии мог бы побудить его сейчас отказаться от его постоянной темы (в «Багровом Острове», «Мольере» и «Александре Пушкине») – противопоставления свободного творчества писателя и насилия со стороны власти; темы, которой он в большой мере обязан своему провинциализму и оторванности от большого русла текущей жизни».
Гриша Конский на роль доносчика в данном случае никак не годится, хотя бы по той причине, что тогда не был женат, оттого и жил в одной квартире с Калужским и его женой. Ермолинский на роль автора цитированного донесения тоже никак не годится. Сергей Александрович женат был, но Марика Артемьевна явно не была с Булгаковым в столь близких отношениях с Булгаковым, чтобы говорить ему: тебе, мол, повезло, что в пьесе не разглядели политический смысл (в действительности-то, разглядели, оттого-то и решили убрать «Мольера» из репертуара). Зато в связи с данным эпизодом является слишком много неоспоримых улик именно против Калужского. Как мы только что убедились, 9 марта 1936 года, в день публикации статьи в «Правде», Калужский с женой были у Булгаковых как раз в тот момент, когда руководство МХАТа предлагало драматургу оправдываться письмом в инстанции, и сами говорили о необходимости такого письма. А Ольга Сергеевна Бокшанская, жена Калужского, вполне могла обратиться к Булгакову с подобной репликой. Как мы уже убедились из писем Булгакова, она явно подозревала нехороший политический подтекст и в «Мастере и Маргарите».
Сам Калужский однажды как будто даже намекал на свою связь с органами. 24 августа 1934 года Е. С. Булгакова отметила в дневнике: «Вечером был Женя Калужский, рассказывал про свою летнюю поездку. Приехал во Владикавказ, остановился в гостинице. Дико утомленный, уснул. Ночью пришли в номер четыре человека, устроили обыск, потом повели его в ГПУ. Там часа два расспрашивали обо всем… Потом извинились: Ошибка. Приняли за другого». На Калужского как на осведомителя указывает и следующее более раннее обзорное донесение от 23 мая 1935 года, принадлежащее, очевидно, тому же агенту, что информировал о событиях, связанных со снятием «Мольера»: «БУЛГАКОВ М. болен каким-то нервным расстройством. Он говорит, что не может даже ходить один по улицам и его провожают даже в театр, днем». Далее приводится дословная оценка драматургом руководителей МХАТа: «Работать в Художественном театре сейчас невозможно. Меня угнетает атмосфера, которую напустили эти два старика СТАНИСЛАВСКИЙ и ДАНЧЕНКО. Они уже юродствуют от старости и презирают все, чему не 200 лет. Если бы я работал в молодом театре, меня бы подтаскивали, вынимали из скорлупы, заставили бы состязаться с молодежью, а здесь все затхло, почетно и далеко от жизни. Если бы я поборол мысль, что меня преследуют, я ушел бы в другой театр, где, наверное бы, помолодел». В дневнике Е. С. Булгаковой именно такой разговор записан 20 марта 1935 г. и как раз с Е. В. Калужским: «Вчера у нас были Оля с Калужским. М. А. рассказывал нам, как все это (репетиции «Мольера». – Б. С.) происходит в Леонтьевском. Семнадцатый век старик (Станиславский. – Б. С.) называет «средним веком», его же – «восемнадцатым». Пересыпает свои речи длинными анекдотами и отступлениями… доказывает, что люди со шпагами не могут появиться на сцене, то есть нападает на все то, на чем пьеса держится. Портя какое-нибудь место, уговаривает М. А. «полюбить эти искажения»».
В пользу того, что именно Калужский был осведомителем НКВД в Художественном театре, говорит и следующий примечательный факт. В опубликованных в 1998 году обзорных донесениях неизвестного сексота о МХАТе в 1935–1936 гг. ни разу не упомянут Калужский, – фигура в номенклатуре театра далеко не последняя. Очевидно, агент никак не мог писать о самом себе.
Михаил Афанасьевич так и не узнал, что вместе с Еленой Сергеевной Шиловской в его дом вошел сексот ОГПУ (потом НКВД), которого они так до конца своей жизни и не разоблачили, хотя все время подозревали в стукачестве многих своих друзей и знакомых. Так, Елена Сергеевна грешила на молодого актера МХАТа Григория Григорьевича Конского. Например, 9 апреля 1935 года она записала о Конском: «Гриша сказал, что он непременно придет отправлять нас на посольский вечер (имеется в виду бал у американского посла в Москве, послуживший прообразом Великого бала у Воланда. – Б. С.) хочет видеть, как все это будет. Очень заинтересован, почему пригласили». Этот вопрос жене Булгакова уже показался подозрительным. 17 мая 1935 года она отмечает: «Обедал Конский. Расстроился, что не позвали на рожденье». А не позвали, очевидно, именно потому, что подозревали в наушничестве.
24 сентября 1935 года Е.С. Булгакова отметила, что ночью Михаил Афанасьевич по просьбе Конского «прочел три первые главы романа. На Гришу впечатление совершенно необыкновенное, и я думаю, что он не притворяется. Я плакала». По этой и некоторым другим чувствуется, что Елена Сергеевна симпатизировала Конскому, и в ее душе симпатия к нему боролась с подозрениями.
Дальше – больше. 15 ноября 1937 года Елена Сергеевна фиксирует: «Позвонил Конский – соскучился, – можно прийти? Пришел, но вел себя странно. Когда М.А. пошел к телефону, Гриша, войдя в кабинет, подошел к бюро, вынул альбом оттуда, стал рассматривать, подробно осмотрел бюро, даже пытался заглянуть в конверт с карточками, лежащий на бюро. Форменный Битков (так звали полицейского агента в булгаковской пьесе о Пушкине. – Б. С.). Говорил, что с Калужским жизнь в общей квартире у них не налаживается».
10 марта 1939 года Елена Сергеевна столь же откровенно обвиняет Григория Григорьевича в сексотстве, но, разумеется, не в лицо, а только в дневнике: «Тут же приехал и Гриша Конский (после телефонного звонка). Просьба почитать роман. Миша говорит – я Вам лучше картину из «Дон-Кихота» прочту. Прочитал, тот слушал, хвалил, но ясно было, что не «Дон-Кихот» его интересовал. И, уходя, опять начал выпрашивать роман хоть на одну ночь. Миша не дал».
19 апреля 1939 года Елена Сергеевна развивала ту же тему: «Поужинали хорошо, весело. Сидели долго. Но Гриша! Битков форменный!»
8 мая она подтверждает свою мысль: «Вечером позвонил и пришел Гриша, принес два ананаса почему-то. Ведь вот обида – человек умный, остроумный, понимающий – а битковщина все портит! Умолял Мишу прочитать хоть немного из романа, обижался, что его не звали на чтение. Миша прочитал «Казнь». Тогда стал просить, чтобы разрешили прийти к нам – на несколько часов – прочитать весь роман. Миша ответил – когда перепечатаю. Просится, чтобы взяли его вместе жить летом. Разговоры: что у вас в жизн и сейчас нового? Как относитесь к Фадееву? Что будете делать с романом?»
Тут все дело в психологической установке. Стоит только внушить себе и окружающим, что такой-то – стукач, как сразу же все его действия становятся подозрительными. Рассматривает альбом с фотографиями – ну, не иначе как с целью найти там каких – то «врагов народа». Просит прочесть ему главы «Мастера и Маргариты» – наверняка, затем, чтобы выяснить, нет ли там какой крамолы. Хотя все то же самое будет делать и искренний поклонник творчества великого драматурга и писателя, каким, как кажется, был Конский, который трепетно интересовался всем, связанным с его жизнью и творчеством, в том числе и фотографиями. И, уж конечно, его, как и других булгаковских гостей, гораздо больше привлекал «Мастер и Маргарита», а не булгаковский «Дон Кихот».
На самом деле Григорий Конский никогда не был стукачом, хотя и жил одно время в одной квартире с настоящим стукачом в булгаковском окружении, которым был не кто иной, как Евгений Васильевич Калужский, актер МХАТа, сын одного из мхатовских ветеранов Василия Васильевича Лужского и муж Ольги Сергеевны Бокшанской, сестры Елены Сергеевны. Как мы убедимся далее, сравнение донесений анонимного осведомителя с дневниковыми записями Елены Сергеевны однозначно доказывает, кто именно был этот осведомитель.
Надо сказать, что Булгаков, хотя и не догадывался о подлинной роли Калужского, но Ольгу Сергеевну всегда недолюбливал. А ведь именно она перепечатывала под диктовку его «закатный» роман. Это хорошо видно из булгаковских писем Елене Сергеевне. Так, 2 июня 1938 года он писал ей о Бокшанской: «Начнем о романе. Почти 1/3, как писал в открытке, перепечатано. Нужно отдать справедливость Ольге, она работает хорошо. Мы пишем помногу часов подряд, и в голове тихий стон утомления, но это утомление правильное, не мучительное. Итак, все, казалось бы, хорошо, и вдруг из кулисы на сцену выходит один из злых гениев… Со свойственной тебе проницательностью ты немедленно воскликнешь: – Немирович! И ты совершенно права. Это именно он. Дело в том, что, как я говорил и знал, все рассказы сестренки о том, как ему худо, как врачи скрывают… и прочее такое же – чушь собачья и самые пошлые враки карлсбадско-мариенбадского порядка. Он здоров, как гоголевский каретник, и в Барвихе изнывает от праздности, теребя Ольгу всякой ерундой. Окончательно расстроившись в Барвихе, где нет ни Астории, ни актрис и актеров и прочего, начал угрожать своим явлением в Москву 7-го. И сестренка уже заявила победоносно, что теперь начнутся сбои в работе. Этого мало: к этому добавила, пылая от счастья, что, может быть, он «увлечет ее 15-го в Ленинград». Хорошо бы было, если б Воланд залетел в Барвиху! Увы, это бывает только в романе. Остановка переписки – гроб! Я потеряю связи, нить правки, всю слаженность. Переписку нужно закончить во что бы то ни стало. У меня уже лихорадочно работает голова над вопросом, где взять переписчицу. И взять ее, конечно, и негде и невозможно. Роман нужно окончить! Теперь! Теперь!
Со всей настойчивостью прошу тебя ни одного слова не писать о переписке и о сбое. Иначе – она окончательно отравит мне жизнь грубостями, «червем – яблоком», вопросом о том, не думаю ли я, что «я – один», воплями «Владимир Иванович!!», «Пых… пых» и другими штуками из ее арсенала, который тебе хорошо известен. А я уже за эти дни насытился. Итак, если ты не хочешь, чтобы она села верхом на мою душу, ни одного слова о переписке. Сейчас мне нужна эта душа полностью для романа. В особенно восторженном настроении находясь, называет Немировича: «Этот старый циник!», заливаясь счастливым смешком». А 3 июня 1938 года в письме Елене Сергеевне Булгаков передает реплики Ольги Сергеевны: «Шикарная фраза: «Тебе бы следовало показать роман Владимиру Ивановичу». Это в минуту особенно охватившей растерянности и задумчивости. Как же, как же! Я прямо горю нетерпением роман филистеру показывать».
14 июня 1938 года в письме Булгакова опять речь идет о сестре Елены Сергеевны, о которой он пишет, как обычно, со злой иронией: «Sist. (радостно, торжественно). Я написала Владимиру Ивановичу о том, что ты страшно был польщен тем, что Владимир Иванович тебе передал поклон. Далее скандал, устроенный мною. Требование не сметь писать от моего имени того, чего я не говорил. Сообщение о том, что я не польщен. Напоминание о включении меня без предупреждения в турбинское поздравление, посланное из Ленинграда Немировичу. Дикое ошеломление S. от того, что не она, а ей впервые в жизни устроили скандал. Бормотание о том, что я «не понял!» и что она может «показать копию»… Sist. (деловым голосом). Я уже послала Жене письмо о том, что я пока еще не вижу главной линии в твоем романе. Я (глухо). Это зачем? Sist. (не замечая тяжкого взгляда). Ну, да! То есть, я не говорю, что ее не будет. Ведь я еще не дошла до конца. Но пока я ее не вижу. Я (про себя) ………..!».
Ольга Сергеевна отнюдь не считала Булгакова гением, а роман считала сомнительным в политическом отношении, чт о и подтвердил ее муж в своем доносе.
Одним из прототипов Алоизия Могарыча, кстати сказать, послужила… божья коровка, гордо именующая себя поэт Алоизий Семиточечный, из сказки немецкого писателя Вальдемара Бонзельса «Приключения пчелки Майи» (1912). Она больше известна сегодня по одноименному мультфильму, появившемуся в 1972 году. В этой сказке пчелка Майя встречает Алоизия при следующих обстоятельствах: «Каждый раз, когда Майя вспоминала о родном улье, ей делалось грустно и она впадала в глубокую задумчивость.
– Здравствуйте! – неожиданно раздался возле нее чей-то голос. – Вы, как мне кажется, прехитрая штучка!
Пчелка вздрогнула от неожиданности.
– О нет! Неправда! – крикнула она в ответ и оглянулась вокруг.
Возле нее сидело маленькое светло-бурое существо, имевшее вид полушарика, с семью черными пятнышками на поверхности. Из-под его блестящего щитка высовывались крохотная головка с двумя ярко блестевшими глазками и тонкие, как ниточки, короткие ножки. Несмотря на свою странную наружность, это насекомое, так неожиданно заговорившее с Майей, ей очень понравилось, потому что в нем было нечто приятное.
– Кто вы? – спросила она и добавила: – Я пчела Майя.
– Почему вы меня обижаете? – ответил вопросом толстяк. – Неужели вы меня не знаете?
– Я не хотела вас обидеть! – поспешила успокоить его пчелка. – Я действительно вас не знаю.
– Но меня всякий знает! – возразил собеседник. – Ну хорошо: я помогу вам. Считайте!
И он медленно повернулся к ней спиной.
– Что считать? – спросила Майя. – Точки на вашей спине?
– Ну да!
– Семь, – сказала пчелка.
– Ну? Значит?.. Вы все еще не знаете? Ну хорошо, я скажу вам. Моя фамилия – Семиточечный, мое имя – Алоизий, а по роду занятий я – поэт. Люди еще называют меня божьей коровкой. Но это их дело… Это-то, я надеюсь, вам известно?
Чтобы не обидеть его, Майя не решилась ответить отрицательно.
– Да! – воскликнул Алоизий. – Я живу лишь солнечным светом, дневным покоем и людской любовью.
– Неужели вы ничего больше не кушаете? – удивилась пчелка.
– Конечно, кушаю: травяных вшей. А вы их едите?
– Нет, – ответила Майя. – Они такие…
– Какие? Что вы хотите сказать?
– Это у нас не принято, – робко поправилась пчелка.
– Еще бы! – воскликнул Алоизий. – Еще бы! Вы – мещанка и делаете только то, что принято. Мы, поэты, с этим не считаемся… Есть у вас время? – спросил он вдруг.
– Конечно, есть, – ответила Майя.
– Тогда я прочту вам мое стихотворение. Только сидите смирно и закройте глаза, чтобы окружающее вас не отвлекало. Мое произведение называется «Палец человека». В нем описываются мои личные переживания… Вы слушаете?
– Да, – кивнула головой пчелка. – Я слушаю внимательно каждое ваше слово.
– Итак, – начал Алоизий. – Стихотворение. «Палец человека»:
День был солнечный и ясный — Ты нашел меня в куртинке. Весь ты кругленький и красный, Наверху блестит пластинка С гладкой ровной серединкой. Ею всюду двигать можно — Сам внизу сидишь надежно.– Каково? – спросил поэт после короткой паузы. В глазах у него стояли слезы, а голос дрожал.
– Ваш «Палец человека» произвел на меня неизгладимое впечатление, – сказала Майя, несмотря на то, что она слышала стихи и получше.
– А как вы находите форму? – осведомился Алоизий с грустной улыбкой.
Он был, по-видимому, сильно тронут похвалой пчелки.
– Круглой, чуть продолговатой…
– Я говорю о художественной форме моего стихотворения! – перебил ее Алоизий.
– О! – поспешила поправиться ничего не понявшая Майя. – Она превосходна.
– Неужели? – воскликнул толстяк. – Вы хотите сказать, что мое произведение превосходит все, что вы до сих пор слышали, и что вообще подобное творение услышишь нечасто? В искусстве всегда должно быть что-то новое. А поэты порой забывают об этом… А как вам нравится размер?
– О! – пробормотала пчелка. – Мне кажется…
– Ваше признание моего таланта смущает меня, – произнес Алоизий. – Благодарю вас. Но мне необходимо удалиться, ибо уединение – отрада всякого истинного художника… Прощайте!
– Прощайте, – ответила Майя, которая так и не поняла, чего хотел от нее странный толстяк.
Она вспомнила вопрос поэта о размере и подумала: «Конечно, он неочень-то велик, но, может быть, он еще подрастет». И Майя задумчиво смотрела вслед Алоизию, пока он усердно карабкался вверх по ветке. Его ножки были чуть заметны, и издали казалось, что он не идет, а катится. Пчелка перевела взгляд на ржаное поле, где бабочки продолжали свою игру, которая понравилась Майе гораздо больше стихов Алоизия Семиточечного».
Здесь можно заметить сходство и с характеристиками Алоизия Могарыча, который не только прекрасно разбирался в литературе, но и имел своеобразный талант точно определять, какое произведение может быть напечатано, а какое нет и почему, а также в состоянии был объяснить смысл любой газетной заметки. Он живет столь же уединенно, как и божья коровка Алоизий, но только потому, что стремится сперва обрести достаточную жилплощадь. А в уединении сподручнее писать доносы. Возможно, сказка Бонзельса также подсказала Булгакову идею сочетать изысканное имя Алоизий с комическим эпитетом.
Дом Грибоедова, или Кто есть кто в МАССОЛИТе
Дом Грибоедова, вымышленное Булгаковым здание, где помещается возглавляемый Берлиозом МАССОЛИТ, имеет своим прототипом так называемый Дом Герцена (Тверской бульвар, 25), где в 20-е годы размещался ряд литературных организаций, в частности, РАПП (Российская
ассоциация пролетарских писателей) и МАПП (Московская ассоциация пролетарских писателей), по образцу которых и создан вымышленный МАССОЛИТ. Расшифровки этого сокращения в тексте «Мастера и Маргариты» нет. Один из напрашивающихся вариантов – Мастера (или Мастерская) социалистической литературы, по аналогии с существовавшим в 20-е годы объединением драматургов МАСТКОМДРАМ (Мастерская коммунистической драмы).
Дом Грибоедова имеет своим прототипом Дом Герцена на Тверском бульваре, 25; сейчас там располагается Литературный институт им. Горького
Председатель МАССОЛИТа Михаил Александрович Берлиоз. Некоторыми чертами портрета Берлиоз напоминает известного поэта, автора антирелигиозных стихов, в том числе «Евангелия от Демьяна», Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Придворова). Как и Бедный, Михаил Александрович «был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе». К портрету автора «Евангелия от Демьяна» здесь добавлены роговые очки, а традиционная для Бедного шляпа пирожком из зимней по сезону превращена в летнюю (хотя летние головные уборы обычно так не называют). Роговые же очки связывают Берлиоза не только с подобным ему мнимым иностранцем в Торгсине, но и с еще одним реальным прототипом – председателем РАППа Леопольдом Леонидовичем Авербахом. Намек на эту фамилию в завуалированной форме, присутствует в эпизоде, когда Воланд угощает Берлиоза и Ивана Бездомного именно тем сортом папирос, каковой желает Бездомный – «Нашей маркой». В связи с этим возникает ассоциация со сценой в погребе Ауэрбаха из «Фауста» Гёте, где Мефистофель мгновенно предоставляет посетителям тот сорт вина, который они желают. Здесь надо иметь в виду практическое тождество фамилий Авербах и Ауэрбах.
В «Новом завете без изъяна евангелиста Демьяна» Д. Бедного, опубликованном в «Правде» в апреле – мае 1925 года, финал звучал следующим образом:
Точное суждение о Новом завете: Иисуса Христа никогда не было на свете. Так что некому было умирать и воскресать, Не о ком было Евангелия писать.Точно так же Берлиоз убеждает Бездомного, что «главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем – простые выдумки, самый обыкновенный миф». Отметим, что в булгаковском архиве сохранились вырезки из «Правды» с фельетонами Д. Бедного, а ответ на демьяново «Евангелие» был конфискован при обыске у Булгакова в мае 1926 года. В этом «Послании евангелисту Демьяну», написанном поэтом и журналистом Николаем Горбачевым, есть такие строки:
Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос — Далекий миф, – мы это Понимаем, — Но все-таки нельзя, как Годовалый пес, На все и вся захлебываться Лаем. Христос, сын плотника, когда-то Был казнен, Пусть это – миф, но все ж, Когда прохожий Спросил его: «Кто ты?», – ему ответил он, — «Сын человеческий», а не сказал – «Сын Божий». Пусть миф Христос, как мифом Был Сократ, Платонов «Пир» – вот кто нам Дал Сократа. Так что ж, поэтому и надобно Подряд Плевать на все, что в человеке Свято? ……………………………………… Нет, ты Демьян, Христа не Оскорбил, Ты не задел его своим пером Нимало. Разбойник был, Иуда был, Тебя лишь только не хватало. Ты сгустки крови у Креста Копнул ноздрей, как толстый Боров, Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакеевич Придворов. Но ты свершил двойной, Тяжелый грех. Своим дешевым, балаганным Вздором Ты оскорбил поэтов вольный цех И малый свой талант покрыл Большим позором.Стихи Демьяна Бедного о новом завете Булгаков в романе как бы передал Бездомному, а их критику с позиций Горбачева – Мастеру.
Падение Демьяна Бедного началось с так называемого «кремлевского дела», начатого в январе 1935 года. Речь шла о будто бы существовавших террористических планах среди сотрудников правительственных учреждений. Аресту подверглись технические сотрудники кремлевских служб и Президиума ЦИК. В рамках этого дела 11 февраля был арестован ответственный секретарь издававшегося ЦИК журнала «Советское строительство» Михаил Яковлевич Презент, близкий к секретарю ЦИК Авелю Сафроновичу Енукидзе. Главной причиной задержания, однако, стал его дневник, о котором ходили легенды в московской литературной среде. Уже в день ареста дневник Презента оказался на столе у Сталина, а затем был возвращен Ягоде для предметного разбирательства.
Презент записал многие достаточно откровенные высказывания представителей советской политической и литературной элиты. Среди них были как бывшие деятели оппозиции, так и достаточно лояльные Сталину старые большевики, не являвшиеся открытыми сторонниками Троцкого или Бухарина. Всем им откровенность в беседах с Презентом впоследствии вышла боком. Автор же дневника, тяжело больной диабетом, не вынес потрясения, связанные с неожиданным и несправедливым арестом. В тюрьме он был лишен жизненно необходимого инсулина и 112 дней спустя умер в тюремной больнице.
Ягода (или сам Сталин?) взял на карандаш многие крамольные места из презентовского дневника.
Презент описал и визит Демьяна Бедного на сталинскую дачу 17 мая 1929 года: «Сегодня в третьем часу дня Демьян, его дочь Тамара, А.В. Ефремин и я поехали в Зубалово, – Демьян к Сталину, а мы в ожидании Демьяна – в сосновый лес…
Около 5 ч. Демьян вернулся, и мы покатили в город.
– Сколько оптимизма в этом человеке! – рассказывал Демьян о Сталине. – Как скромно живет! Застал я его за книгой. Вы не поверите: он оканчивает вторую часть «Клима Самгина». А я первую часть бросил, не мог читать. Но если б вы знали, чем он разрезает книгу! Пальцем! Это же невозможно. Я ему говорю, что если бы Сталин подлежал партийной чистке, я бы его за это вычистил из партии».
Эта шутка наверняка не понравилась Иосифу Виссарионовичу. И в 38-м году он сам вычистил зарвавшегося Демьяна из рядов ВКП(б). До этого была скандальная опера «Богатыри» по либретто Д. Бедного, о которой шла речь выше.
Большая часть следующей страницы из дневника Презента оказалась вырвана. Вполне вероятно, что там содержался очень резкий отзыв Демьяна Бедного о Сталине, о котором поведала вдова поэта Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна: «…Я посоветовала Пастернаку поговорить с Демьяном (чтобы тот помог арестованному Мандельштаму. – Б. С.). Борис Леонидович позвонил ему едва ли не в первый день, когда у нас рылись в сундуке, но Демьян как будто уже кое-что знал. «Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя», – сказал он Пастернаку… Знал ли Демьян, что речь идет о стихах против человека с жирными пальцами, с которым ему уже пришлось столкнуться?.. Во всяком случае, Демьян сам уже был в немилости из-за своего книголюбия. Он имел неосторожность записать в дневнике, что не любит давать книги Сталину, потому что тот оставляет на белых страницах отпечатки жирных пальцев. Секретарь Демьяна решил выслужиться и переписал для Сталина эту выдержку из дневника. Предательство, кажется, не принесло ему пользы, а Демьян долго бедствовал и даже продал свою библиотеку». В мае 1934 года Осип Эмильевич был арестован за стихи о «кремлевском горце», где были такие строки:
Его толстые пальцы как черви жирны, А слова как пудовые гири верны.Эпизод с отрезанной головой Берлиоза имеет множество литературных параллелей, начиная от усекновения головы Иоанна Крестителя. Тут можно вспомнить «Голову профессора Доуэля» известного русского писателя-фантаста Александра Романовича Беляева. Мари Лоран, героиня этого рассказа, в 1937 году переработанному в роман, видит в лаборатории профессора Керна голову Доуэля, прикрепленную к квадратной стеклянной доске, причем «голова внимательно и скорбно смотрела на Лоран, мигая веками». У Булгакова на Великом балу у сатаны «веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза». Доуэль, как и Берлиоз, сначала умер (от астмы), а потом его голова, как и голова председателя МАССОЛИТа, была воскрешена, чтобы помогать в дьявольских опытах профессору Керну. В «Мастере и Маргарите» голова Берлиоза воскресла лишь затем, чтобы выслушать окончание доказательства Воланда, начатого гибелью литератора под трамваем на Патриарших прудах: «Все сбылось, не правда ли? – продолжал Воланд, глядя в глаза головы, – голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, и живу я в вашей квартире. Это – факт. А факт – самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже совершившийся факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам, в присутствии моих гостей, хотя они служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория солидна и остроумна. Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие». Берлиозу не дано «жизни в смерти» не столько из-за его неверия (ведь на Великом балу у сатаны в реальность дьявола он, кажется, поверил), сколько по причине того, что после председателя МАССОЛИТа, в отличие от Мастера, не осталось на Земле ничего нетленного. У Беляева мозг гениального Доуэля способен существовать и без телесной оболочки. А для Берлиоза жизнь заключена лишь в материальных благах, и существование его головы (или души) без тела теряет всякий смысл.
Совпадает и целый ряд деталей у Беляева и Булгакова. Профессор Доуэль, очнувшись, видит, что его голова лежит на кухонном столе, а рядом, на более высоком прозекторском столе покоится его обезглавленное тело с вскрытой грудной клеткой, из которой извлечено сердце. Точно так же в «Мастере и Маргарите» в прозекторской мы видим на одном столе отрезанную голову Берлиоза, а на другом – его тело с раздавленной грудной клеткой.
Керн, которому для опытов нужно достать пару трупов, рассуждает почти так же, как Воланд в беседе с председателем МАССОЛИТа: «Каждый день с непреложностью закона природы в городе гибнет от уличного движения несколько человек, не считая несчастных случаев на заводах, фабриках, постройках. Ну и вот эти обреченные, жизнерадостные, полные сил и здоровья люди сегодня спокойно уснут, не зная, что их ожидает завтра. Завтра утром они встанут и, весело напевая, будут одеваться, чтобы идти, как они будут думать, на работу, а на самом деле – навстречу своей неизбежной смерти. В то же время в другом конце города так же беззаботно напевая, будет одеваться их невольный палач: шофер или вагоновожатый. Потом жертва выйдет из своей квартиры, палач выедет из противоположного конца города из своего гаража или трамвайного парка. Преодолевая поток уличного движения, они упорно будут приближаться друг к другу, не зная друг друга, до самой роковой точки пересечения их путей. Потом на одно короткое мгновение кто-то из них зазевается – и готово. На статистических счетах, отмечающих число жертв уличного движения, прибавится одна косточка. Тысячи случайностей должны привести их к этой фатальной точке пересечения. И тем не менее все это неуклонно совершится с точностью часового механизма, сдвигающего на мгновение в одну плоскость две часовые стрелки, идущие с различной скоростью».
Точно так же сатана предсказывает Берлиозу, что его невольным палачом будет «русская женщина, комсомолка» – вагоновожатая трамвая, а не враги-интервенты, как заученно думает председатель МАССОЛИТа. Различие между романами Беляева и Булгакова оказывается в том, что «Голова профессора Доуэля» – это научная фантастика, а «Мастер и Маргарита» – волшебная фантастика. Поэтому у Беляева есть подробное объяснение, с помощью каких приспособлений может существовать отдельно от тела голова умершего профессора, а сама случайная гибель человека трактуется как статистическая закономерность. У Булгакова же гибель Берлиоза и пропажа его головы, вновь появляющейся и оживающей только на Великом балу у сатаны, представлена как результат деятельности потусторонних сил. Ее превращение в чашу-череп, из которой пьют кровь, ставшую вином, происходит в точном соответствии с законами шабаша. В подготовительных материалах к первой редакции романа сохранилась выписка из статьи Л. Я. Штернберга «Шабаш ведьм» из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона: «Лошадиный череп, из которого пьют». В первоисточнике в этом месте говорится, что участники шабаша «едят лошадиное мясо», а «напитки пьют из коровьих копыт и лошадиных черепов».
12 октября 1924 года Булгаков записал в дневнике: «Сейчас хоронят В.Я. Брюсова. У Литературно-художественного института его имени на Поварской стоит толпа в колоннах. Ждут лошади с красными султанами. В колоннах интеллигенция и полуинтеллигенция. Много молодежи – коммунистически рабфаковского мейерхольдовского типа». Не исключено, что позднее этот эпизод отразился в сцене похорон Берлиоза, особенно в ранних редакциях, где гроб везли не на грузовике, а на конном катафалке.
Т.Н. Лаппа вспоминала: «С Кисельгофом Давидом встречались, ходили в кино, театры. Уже после того, как я оставила Крешкова и вышла за него замуж, он прочитал «Мастера и Маргариту»… и говорил, что Берлиоз написан с Михаила Кольцова. Кисельгоф был знаком с Борисом Ефимовым (братом М.Е. Кольцова. – Б. С.). И вот Ефимов ему рассказал, что после Испании Кольцова вызвал Сталин и расспрашивал обо всем. И после Кольцов сказал брату, что, когда он уходил, Сталин так на него посмотрел, что ему стало жутко. Вскоре его арестовали и расстреляли».
Этот рассказ, как мы помним, отразился в неосуществленной булгаковской пьесе «Ласточкино гнездо». В ранних редакциях будущий Берлиоз носил довольно прозрачную фамилию Мирцев, указывающую на связь с Кольцовым как с прототипом. 22 декабря 1938 года Елена Сергеевна отметила в дневнике: «В Москве уже несколько дней ходят слухи о том, что арестован Кольцов».
О том, что он был расстрелян 2 февраля 1940 года, за месяц с небольшим до смерти Булгакова, она так и не узнала, поскольку после 1956 года официально поддерживалась версия, что Михаил Ефимович умер в заключении в 1942 году.
У Берлиоза был еще один прототип из писательской среды, но он имел отношение не к самому образу, а только к эпизоду смерти Михаила Александровича. Ради этого Булгаков даже возвел на Патриарших прудах трамвайную линию, которой там никогда не было. По свидетельству Т.Н. Лаппа, «трамвай там не ходил. По Садовой ходил, а у Патриаршего (пруда. – Б. С.) нет. Мы там несколько лет жили. К Крешковым ходили, у них дверь прямо на пруд выходила…»
Дело в том, что 13 августа 1926 года писатель Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) был сбит на Чистопрудном бульваре трамваем. Он отделался легким сотрясением мозга с временной потерей сознания, а также серьезным вывихом плеча. Булгаков заменил Чистопрудный бульвар на Патриаршие пруды, легкое сотрясение мозга на полное отделение мозга вместе с головой от туловища, а легкий вывих плеча на перебитую трамваем руку председателя МАССОЛИТа.
Михаил Ефимович Кольцов (Мойсей Фридлянд; 1898–1940) – советский писатель, журналист, общественный деятель; был направлен в Испанию во время Гражданской войны как корреспондент «Правды» и одновременно негласный политический представитель властей СССР при республиканском правительстве. В романе Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» М. Кольцов выведен под именем Каркова. В 1938 году был отозван из Испании, арестован и 1 февраля 1940 года Военной коллегией Верховного суда СССР приговорён к смертной казни по обвинению в «антисоветской и троцкистской деятельности». В 1954 году той же Военной коллегией ВС СССР Михаил Кольцов был реабилитирован
В ресторане Дома Грибоедова отразились черты не только ресторана Дома Герцена, но и ресторана Клуба театральных работников, директором которых в разное время был Я. Д. Розенталь, послуживший прототипом директора грибоедовского ресторана Арчибальда Арчибальдовича. Ресторан Клуба театральных работников, располагавшийся в Старопименовском переулке, на весну и лето переезжал в филиал, которым служил садик у старинного особнячка (дом № 11) на Страстном бульваре, где размещалось журнально-газетное объединение («Жургаз»), которое возглавлял один из прототипов Берлиоза М.Е. Кольцов. В этом объединении Булгаков предполагал издавать своего «Мольера». В саду «Жургаза», куда проникнуть можно было только по специальным пропускам, играл знаменитый джаз-оркестр Александра Цфасмана, часто исполнявший популярный в 20-е и 30-е годы фокстрот «Аллилуйя» американского композитора Винцента Юманса (в булгаковском архиве сохранились ноты этого фокстрота). «Аллилуйя» играет оркестр ресторана Дома Грибоедова перед тем, как туда приходит известие о гибели Берлиоза, а также джаз-оркестр на Великом балу у сатаны. Этот фокстрот символизирует пародию на христианское богослужение в уподобленном аду грибоедовском ресторане.
Вид с колокольни Страстного монастыря на Тверской бульвар и памятник Пушкину (1920-е годы)
Дом Герцена пародийно уподоблен Дому Грибоедова, поскольку фамилия известного драматурга Александра Сергеевича Грибоедова «гастрономическая» и указывает на главную страсть членов МАССОЛИТа – стремление хорошо поесть. Однако у реального Дома Герцена с именем Грибоедова есть и некоторая опосредованная связь, возможно, подтолкнувшая Булгакова дать местопребыванию МАССОЛИТа имя автора «Горя от ума». В этом доме в 1812 году действительно родился писатель и публицист Александр Иванович Герцен, внебрачный сын крупного помещика И. А. Яковлева, брата владельца дома сенатора А. А. Яковлева. Сын сенатора Алексей, двоюродный брат А. И. Герцена, упоминается в грибоедовском «Горе от ума» княгиней Тугоуховской как чудак, который «чинов не хочет знать»: «Он химик, он ботаник, князь Федор мой племянник!».
В булгаковском романе приведена история Дома Грибоедова: «Дом назывался «Домом Грибоедова» на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя – Александра Сергеевича Грибоедова. Ну владела или не владела – мы точно не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было… Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тетке, раскинувшейся на софе (намек на двоюродного брата Герцена в «Горе от ума», где восходящий к нему персонаж – племянник Тугоуховской. – Б. С.). А, впрочем, черт его знает, может быть, и читал, не важно это!»
Ряд литераторов МАССОЛИТа, обитающих в Дома Грибоедова, имеет своих конкретных прототипов. Так, драматург Всеволод Вишневский отразился в одном из посетителей ресторана – «писателе Иоганне из Кронштадта». Здесь – намек на киносценарии «Мы из Кронштадта» и «Мы – русский народ», написанные Вишневским и связывающие драматурга с другим прототипом Иоганна из Кронштадта – известным церковным деятелем и проповедником, причисленным русской православной церковью к лику святых, о. Иоанном Кронштадтским (И. И. Сергеевым). О. Иоанн был протоиереем Кронштадтского собора и почетным членом черносотенного «Союза русского народа». В 1882 году он основал Дом трудолюбия в Кронштадте, где были устроены рабочие мастерские, вечерние курсы ручного труда, школа для трехсот детей, библиотека, сиротский приют, народная столовая и другие учреждения для призрения нуждающихся. Дом Грибоедова – это пародия на Дом трудолюбия. Народная столовая здесь превратилась в роскошный ресторан. Зато библиотека в Доме Грибоедова блистательно отсутствует – членам МАССОЛИТа она не нужна, ведь коллеги Берлиоза не читатели, а писатели. Вместо трудовых учреждений Дома трудолюбия, в Доме Герцена располагаются отделения, связанные исключительно с отдыхом и развлечениями: «Рыбно-дачная секция», «Однодневная творческая путевка. Обращаться к М. В. Подложной», «Перелыгино» (пародия на дачный писательский поселок Переделкино), «Касса», «Личные расчеты скетчистов», «Квартирный вопрос», «Полнообъемные творческие отпуска от двух недель (рассказ-новелла) до одного года (роман, трилогия). Ялта, Суук-су, Боровое, Цихидзири, Махинджаури, Ленинград (Зимний дворец)» (названия курортов и туристских достопримечательностей говорят сами за себя), «Бильярдная» и др.
Неслучайно в Доме Грибоедова такое большое место занимает роскошный ресторан. Чревоугодие было одной из немногих страстей, которой охотно отдавались официально признанные советские литераторы. Председатель Главреперткома в 1932–1937 годах Осаф Семенович Литовский был одним из самых непримиримых противников Булгакова и деятельно способствовал запрещению всех булгаковских пьес. В своей мемуарной книге «Так и было» он с удовольствием приводит диалог «красного графа» Алексея Толстого с актером Театра Революции (нынешнего Театра Моссовета) М. М. Штраухом на премьере одной посредственной пьесы: «Как-то раз после обеда у меня Алексей Николаевич пошел в Театр Революции на премьеру довольно слабой пьесы «Клевета»… Когда в первом же антракте Максим Максимович Штраух спросил, как ему понравилась пьеса, Толстой ответил на вопрос вопросом и спросил, обедал ли он когда-нибудь у Литовского.
– Если вы, Максим Максимович, не обедали, я вам очень рекомендую. Это настоящий хлебосол, типичный еврейский помещик. А как кормят! Гм… – промычал Толстой и поцеловал кончики пальцев».
Фамилия Литовского спародирована в фамилии погубившего Мастера критика Латунского, члена МАССОЛИТа. Двенадцать же членов руководства МАССОЛИТа, напрасно ожидающих своего председателя, пародийно уподоблены двенадцати апостолам, только не христианской, а новой коммунистической веры. Погибший Берлиоз повторяет судьбу Иисуса Христа, правда смерть претерпевает как Иоанн Креститель – от усекновения головы.
«Штурман Жорж» – это не только пародия на французскую писательницу Жорж Санд (Аврору Дюпен) (под таким псевдонимом пишет присутствующая на заседании «московская купеческая сирота» Настасья Лукинична Непременова, автор морских батальных рассказов). Тут есть и конкретный прототип из булгаковских современниц – драматург Софья Александровна Апраксина-Лавринайтис, писавшая под псевдонимом «Сергей Мятежный». Как свидетельствуют записи в дневнике Елены Сергеевны, Апраксина-Лавринайтис была знакома с Булгаковым и в марте 1939 года безуспешно пыталась дать ему свое либретто для Большого Театра. 5 марта Елена Сергеевна отметила:
«Звонок. – «Я писательница, встречалась раньше с Михаилом Андреевичем и хорошо его знаю…»
– С Михаилом Афанасьевичем? Поперхнулась. Фамилия неразборчивая. Словом, написала либретто. Хочет, чтобы М. А. прочитал». 8 марта писательница позвонила вторично и «оказалась Сергей Мятежный». Отметим, что в отличие от «С. Мятежного», Булгаков хорошо запомнил Апраксину-Лавринайтис, ибо восходящая к ней колоритная героиня появлялась уже в ранних редакциях «Мастера и Маргариты» под псевдонимом «Боцман Жорж» и с почти апокалиптическим возрастом 66 лет. Другим прототипом «Штурмана Жоржа», скорее всего, стала Лариса Михайловна Рейснер, писательница и активный участник гражданской войны, во время которой она вместе со своим мужем Федором Федоровичем Раскольниковым (Ильиным) в качестве политработника находилась на кораблях красного флота. Впечатления того времени воплотились в военно-морской прозе Л. А. Рейснер. Она стала прототипом женщины-комиссара в пьесе Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». Ф. Ф. Раскольников, один из руководителей советских военно-морских сил, а позднее дипломат, в конце 20-х годов был начальником Главреперткома и редактором журнала «Красная Новь». В это время Булгаков не побоялся подвергнуть публичной критике пьесу Раскольникова «Робеспьер» (по воспоминаниям Е. С. Булгаковой, автор пьесы был настолько взбешен критикой, что ее муж даже опасался выстрела в спину).
Беллетрист Бескудников в ранней редакции романа был председателем секции драматургов, причем появлялся в Доме Грибоедова «в хорошем, из парижской материи, костюме и крепкой обуви, тоже французского производства». Эти детали связывают данный персонаж с героем фрагмента «Был май» молодым драматургом Полиевктом Эдуардовичем, только что вернувшимся из-за границы и одетым во все иностранное. Очевидно, у Полиевкта Эдуардовича и Бескудникова был общий прототип – писатель и драматург Владимир Михайлович Киршон, гонитель и конкурент Булгакова.
Сцена, когда Коровьева-Фагота и Бегемота не пускают в ресторан Дома Грибоедова из-за отсутствия писательских удостоверений, – это не только бытовая московская зарисовка реальных событий у того же ресторана в садике «Жургаза», но и отсылка к вполне конкретному литературному источнику. Речь идет о романе Анатоля Франса «На белом камне», где герой, оказавшись в социалистическом будущем, не может попасть в ресторан, так как от него требуют предъявить членский билет какой-либо трудовой артели. Булгаковская мысль о том, что противоестественно считать человека способным к творческому труду – писательству – только на основании его принадлежности к литературной организации, оказывается созвучна традиции. А. Франс предвидел, что в обществе будущего осуществление социалистического идеала приведет к гипертрофированному развитию машинного производства и примитивной уравниловке, не оставит места для подлинного творчества. Булгаков писал уже в социалистическом обществе, и Дом Грибоедова с расположенным в нем МАССОЛИТом – злая сатира на это общество, где человека определяют писателем только по наличию у него клочка картона в дорогой коже «с золотой широкой каймой».
Бегемот и Коровьев смогли проникнуть в ресторан Дома Грибоедова, назвавшись именами писателя и журналиста Ивана Ивановича Панаева и критика и историка литературы Александра Михайловича Скабичевского, причем эти имена оказываются взаимозаменяемы: «Коровьев против фамилии «Панаев» написал «Скабичевский», а Бегемот против Скабического написал «Панаев»». Оба они олицетворяли поверхностную, неглубокую критику демократического направления, не способную постичь сути явлений, но достаточно популярную среди советских литераторов в первые послереволюционные годы.
Между прочим, прототипом Бегемота в этом эпизоде послужил не кто иной, как маршал Михаил Николаевич Тухачевский. Его гимназический товарищ Владимир Студенский вспоминал: «Характером Миша был весьма общителен, хорошо относился к товарищам, которые ему платили тем же, и даже дружеское прозвище “Бегемот” явилось только выражением товарищеского поощрения, а может быть, и некоторой зависти к его силе». Бегемот – животное большое, сильное и добродушное, поэтому Михаила и наградили таким прозвищем. Оно подчеркивало еще и невероятную устойчивость Тухачевского – его, как и многотонного обитателя Нила, очень трудно было свалить с ног. Другой одноклассник Тухачевского Сергей Островский так объяснил происхождение забавного прозвища: «Был невероятно сильный, широкоплечий, мы его в шутку называли “бегемотом” – он разрешал себя бить по спине и никогда не падал». И в жизни Тухачевский был очень стойким: неудачи и неприятности никогда не могли его сломить или даже надолго вывести из душевного равновесия.
Гимназиста Мишу Тухачевского много лет спустя назвали «демоном гражданской войны» – в эти слова глава Реввоенсовета Лев Троцкий вкладывал сугубо положительный смысл, подчеркивая заслуги Михаила Николаевича в разгроме белых армий. Позднее многие публицисты, не ведая о гимназической кличке, называли самого молодого красного маршала демоном уже в традиционном смысле этого слова, припоминая ему жестокость при подавлении Кронштадтского и Тамбовского восстаний. Многие верят, что имя определяет судьбу человека. Не повлияло ли на жизненный путь Тухачевского шуточное прозвище? Впрочем, гимназисты о демоне Бегемоте, вероятно, ничего не знали.
У Тухачевского же понятие об офицерской чести подверглось эрозии очень рано – еще в 1917 году, в Ингольштадте, когда он бежал, нарушив данное прежде письменное обязательство не бежать на прогулках, которые им разрешили в городе. Тогда Тухачевский и его будущий товарищ по побегу капитан С.С. Чернивецкий сделали так, что под обязательством Тухачевского подписался Чернивецкий, а под обязательством Чернивецкого – Тухачевский, чтобы формально каждый из них в случае, если поймают, мог говорить, что обязательства не подписывал. В письме, оставленном коменданту Ингольштадтского лагеря, Тухачевмкий утверждал: «Подпись моя на Ваших же глазах и в присутствии французского переводчика была подделана капитаном Чернивецким, т. е. попросту была им написана моя фамилия на листе, который Вы подали ему, а я написал фамилию капитана Чернивецкого на моем листе. Таким образом, воспользовавшись Вашей небрежностью, мы все время ходили на прогулки, никогда не давая слова. Совершенно искренно сожалею о злоупотреблении Вашей ошибкой, но события в России не позволяют колебаться». Комедия с подменой подписей очень напоминает эпизод из «Мастера и Маргариты», о котором говорилось выше. Булгаковские бесы, как и Тухачевский с Чернивецким, позаботились, чтобы их подписи стали недействительны. Кстати сказать, Михаил Афанасьевич, вполне возможно, знал историю Тухачевского и не слишком одобрял избранный им способ побега. Ведь бывший муж Елены Сергеевны Е.А. Шиловский, наверняка, хорошо знал Тухачевского и мог слышать историю его побега, которую Тухачевский, как кажется, не стеснялся рассказывать. Да и юношеское прозвище Тухачевского «Бегемот» писателю тоже могло быть известно. Некоторые исследователи утверждают, что Шиловский вообще пользовался покровительством Тухачевского и благодаря этому делал стремительную карьеру. Но в такое, честно говоря, не верится. Если бы Евгений Александрович действительно был протеже Михаила Николаевича, то, наверняка, разделил бы его участь. Тут никакое свойство с Алексеем Толстым не помогло бы.
Фамилия А. М. Скабичевского рядом с фамилией Достоевского употреблена неслучайно. Вероятно, Булгаков вспомнил следующую характеристику, данную Скабичевским Достоевскому в «Истории новейшей русской литературы»: «В то время как большинство беллетристов 40-х годов, будучи выходцами из деревень, принадлежат к рыхлому помещичьему типу, Достоевский является представителем разночинного служилого класса общества, холерически нервным сыном города; а, во-вторых, в то время как большинство их были люди обеспеченные, Достоевский один среди них принадлежал к вновь возникшему классу интеллигентного пролетариата». Михаил Афанасьевич, напомним, сам называл себя «пролетарием» в своих московских фельетонах и, как и Достоевский, вынужден был зарабатывать на жизнь литературой и театром.
Такая же формальная иерархия, как и в написанной Скабичевским «Истории новейшей литературы» (1891), присутствует в МАССОЛИТе, где писателями считают только лиц с соответствующими удостоверениями, а особо выдающимися – тех, кто входит в состав руководящих органов. Скабичевский и Панаев вполне подходят под формальные критерии обитателей Дома Грибоедова. «Литературные воспоминания» А. М. Скабичевского, последний раз переизданные в наиболее полном виде в 1928 году, накануне начала работы Булгакова над «Мастером и Маргаритой», послужили важным источником для описания пожара в Доме Грибоедова и других пожаров в Москве (Торгсина на Смоленском рынке и дома 302-бис на Садовой).
Скабичевский рассказывал о пожарной эпидемии 1862 года в Петербурге, запечатленной также в романе Достоевского «Бесы». Александр Михайлович яркими красками нарисовал пожар Апраксина двора, случившийся в Духов день, 28 мая 1862 года: «В исторический день Апраксинского пожара стечение публики в Летнем саду, благодаря хорошей погоде, было особенно многолюдное. И вот в самый разгар гулянья, часу в пятом, разом во всех концах сада раздались крики:
– Спасайтесь, горим, Апраксин весь в огне!..
Началась страшная паника. Публика, в ужасе, бросилась к выходам из сада, и у каждых ворот произошла смертельная давка, из которой многих женщин вынесли замертво. Пользуясь этой суматохою, мазурики уже не воровали, а прямо срывали с девиц драгоценности, с клочьями платья и кровью из разорванных ушей. Это и дало повод предполагать, что поджог был произведен мазуриками, с специальной целью поживиться насчет гуляющих в Летнем саду разодетых купчих. Другие утверждали, что пожар начался с часовни, так как купцы и их дщери-невесты слишком переусердствовали и расставили такую массу свечей ради праздника, что от жара все кругом вспыхнуло.
Первое, что поразило меня, когда мы переехали на ялике через Неву – это вид Невского проспекта: все магазины сплошь были закрыты, не видно было ни одного экипажа вдоль проспекта, ни одного пешехода на тротуарах. Город точно весь вымер. Я никогда не видал Невского столь пустынным, даже в глухую ночь, в три, в четыре часа: было как-то особенно жутко. На Казанской площади глазам нашим представился высокий холм из кусков разных материй.
Пройдя затем Гостиный двор, мы свернули на площадь Александрийского театра и, через Театральный переулок, вышли на Чернышеву площадь. Здесь пожар предстал перед нами во всем своем грандиозном ужасе.
Я уже и не помню, как мы с отцом перебрались через площадь сквозь удушливый дым, нестерпимый жар, осыпаемые бумажным пеплом, летевшим из окон пылавшего министерства внутренних дел. Только перейдя через Чернышев мост, мы имели возможность оглядеться и отдать себе отчет в происходящем. С одной стороны из окон министерства вились громадные снопы пламени, на наших глазах занималась одна зала за другой, и, когда огонь проникал в новую залу, с треском сыпались стекла из ее окон и появлялись вслед за тем новые языки пламени.
С другой стороны огонь, перебросившись через Фонтанку, пожирал высокие поленницы дровяного двора. Замечательно при этом, что рыбный садок близ Чернышева моста, несмотря на то, что находился на пути огня, был пощажен им и остался нетронутым. Не ограничиваясь набережными Фонтанки, огонь по Чернышеву и Лештукову переулку дошел почти до Пяти углов, пожрав по пути много десятков домов…
Выйдя на набережную Фонтанки, мы пошли вдоль нее по направлению к Семеновскому мосту. Щукин и Апраксин дворы в это время представляли собой сплошное море пламени в квадратную версту в окружности. Зданий не было уже видно: одно бушующее пламя, нечто вроде Дантова ада. Жар был почти нестерпимый, так как ветер дул в нашу сторону. Мимо нас проскакал рысью, нам навстречу, император, верхом на коне, окруженный свитою. За ним бежала толпа народа. Среди толпы ходили слухи, что разъяренная чернь побросала несколько человек в огонь, подозревая в них поджигателей.
Повернув затем на Гороховую и Садовую, мы прошли в тылу пожара мимо горящих рядов. Здесь было легче идти, так как ветер дул в противоположную сторону, и мы могли подходить вследствие загромождения улицы к самым рядам. Выбравшись затем на Невский и обойдя таким образом весь пожар, мы направились домой.
Вечером вспыхнуло в городе еще несколько пожаров в разных окраинах, так что небо со всех сторон было в заревах. Пожары эти были предоставлены самим себе, так как все силы были сосредоточены на главном, угрожавшем и Гостиному двору, и банку, и публичной библиотеке, но если все эти здания удалось отстоять, то благодаря лишь направлению ветра в противоположную сторону.
После того прошло еще два или три дня, в которые было по три, по четыре пожара в сутки. Дошло до такой паники, что в канцелярии Суворова (петербургского генерал-губернатора. – Б. С.) чиновники побросали занятия и намеревались расходиться по домам. Но во всяком случае, ни одного мало-мальски внушительного пожара больше уже не было. А затем вскоре погода испортилась, пошли дожди; вместе с тем, прекратились и пожары, свидетельствуя этим, что главная причина их заключалась не в чем ином, как в засухе».
Петербургские пожары 1862 года описаны и в «Воспоминаниях» вдовы И. И. Панаева Авдотьи Яковлевны Панаевой (муж ее скончался 18 февраля 1862 года, за несколько месяцев до начала пожарной эпидемии). Булгаков, несомненно, был знаком с обеими книгами, и это стало еще одной причиной взаимозаменяемости фамилий «Скабичевский» и «Панаев» в сцене на веранде грибоедовского ресторана.
Свидетельство А. Я. Панаевой во многом совпало с мемуарами А. М. Скабичевского: «В духов день… в дверях комнаты, где я сидела за работой, появился Андрей, мой лакей, и перепуганным голосом проговорил: «Авдотья Яковлевна, Петербург со всех сторон подожгли!»
У меня мелькнула мысль, что Андрей вдруг сошел с ума; я невольно посмотрела ему в глаза, но не нашла в них ничего дикого, кроме страшного испуга, а он поспешил добавить:
– Извольте сами выйти на подъезд и увидите, что делается на улице.
Я вышла на подъезд и в самом деле поразилась сумятицей, которая происходила на улице. Собственные экипажи мчались по направлению к Невскому, на извозчиках сидели и стояли по нескольку седоков. Народ толпами бежал посреди улицы, а на тротуаре у каждого дома стояли жильцы; у нашего подъезда также стояла группа прислуги и жильцов. На лицах всех было выражение испуга. Да и точно можно было испугаться скачущих экипажей, бегущей толпы народа и крика кучеров. К довершению всего, сильный ветер рвал с головы шляпы, пыль столбом поднималась с мостовой и ослепляла глаза».
Далее А. Я. Панаева приводит рассказ ограбленной на пожаре купеческой свахи:
«– И, матушка, точнехонько свету представление приключилось, мужской пол как бросился из саду, а за ним и наша сестра. В воротах такая стала давка, что смерть, а мошенники-душегубцы и ну тащить с нас, что попало. С меня сволокли ковровый платок, а с Марьи Савишны – тысячную шаль с брошкой сорвали. Кричали мы, кричали, да кому было нас, слабых женщин, защищать! С дочерей Марьи Савишны с шеи сорвали жемчуг. Вот в какое разорение все купечество подпало, до свадеб ли теперь, а нашей сестре приходится с голоду помирать».
Панаева передает различные слухи и описывает, как на ее глазах толпа схватила двух молодых людей, помогавгших пожарным тушить пожар, подозревая в них поджигателей: ««– Хороши эти молодцы, – вечор подожгли, а теперь для отводу глаз качают воду да еще посмеиваются», причем какая-то пожилая женщина в платке, стоявшая около меня, перекрестилась и радостно произнесла: «Слава те, господи, что изловили этих нехристей, а то опять быть пожару». В поджогах подозревали поляков, студентов, и «нигилистов», и едва ли не нечистую силу. Когда зашла речь о том, что «жильцы имеют право потребовать от дворников, чтобы они заперли ворота…», кучер утвердительно заметил:
– Не поможет! У поджигателей, сказывают, имеется такой состав: мазанут им стену дома, а он через час пречудесно вспыхнет. Известно – все поляки поджигают».
Ряд деталей пожара в Доме Грибоедова и других местах в Москве Булгаков взял из мемуаров Панаевой. Подобно мнимым поджигателям во время петербургского пожара 1862 года, настоящий поджигатель Коровьев-Фагот помогает пожарным тушить Дом Грибоедова, и в результате здание сгорает дотла. Для поджогов Бегемот и Коровьев используют зажигательную смесь из примуса – бензин. Во время охоты за Воландом и его свитой в эпилоге романа обезумевшая толпа хватает сотни котов, а также всех людей с фамилиями, хоть отдаленно напоминающими Коровьева и Воланда. Среди задержанных оказался и человек с польской фамилией – кандидат химических нау Ветчинкевич. Здесь можно усмотреть отзвук передаваемых Панаевой слухов, что поджог устроили поляки. Точно так же, как Авдотья Яковлевна, сперва заподозрившая своего лакея в сумасшествии, а затем по глазам убедившаяся в его полной нормальности, Александр Рюхин, взглянув в глаза Ивану Бездомному, приходит к выводу, что тот совершенно здоров и его зря привезли в психиатрическую клинику профессора Стравинского. Когда Мастер и Маргарита вместе с поджегшим арбатский подвальчик Азазелло садятся на черных коней, чтобы покинуть Москву, увидевшая их кухарка, «простонав, хотела поднять руку для крестного знамения», как и женщина из рассказа Панаевой, но подручный Воланда пригрозил ей отрезать руку.
Еще больше деталей московских пожаров взято Булгаковым у Скабичевского. Воланд, подобно автору «Литературных воспоминаний», использовал как синонимы слова «толпа» и «чернь» в ранней редакции «Мастера и Маргариты», когда втолковывал Берлиозу и Бездомному, что «толпа – во все времена толпа, чернь…».
Во всех редакциях романа, кроме последней, масштаб пожаров в Москве, вызванных подручными Воланда, приближался к масштабу петербургских пожаров в описании Скабичевского, причем было много жертв. Лишь в последней редакции сгорело всего несколько зданий, вокруг которых разворачивалось действие, и обошлось без жертв. Пожар в романе уничтожил те дома, которые были порождены фантазией писателя, в том числе и Дом Грибоедова, позволяя считать все происшедшее сном, не оставившим никаких материальных следов в реальной жизни. Картину опустевшего в миг Петербурга, нарисованную Скабичевским, Булгаков использовал в пьесе «Адам и Ева», когда изображал обезлюдевший в результате газовой атаки Ленинград. При пожаре Дома Грибоедова «как бы зияющая пасть с черными краями появилась в тенте и стала расползаться во все стороны. Огонь, проскочив сквозь нее, поднялся до самой крыши грибоедовского дома. Лежащие на окне второго этажа папки с бумагами в комнате редакции вдруг вспыхнули, а за ними схватило штору, и тут огонь, гудя, как будто кто-то его раздувал, столбами пошел внутрь теткиного дома», а из ресторана «к чугунной решетке бульвара, откуда в среду вечером пришел не понятый никем первый вестник несчастья Иванушка, теперь бежали недообедавшие писатели, официанты, Софья Павловна, Боба, Петракова, Петраков». У Скабичевского сходным образом горит здание министерства внутренних дел, когда бумажный пепел осыпает наблюдателя, а толпа гуляющих, подобно посетителям грибоедовского ресторана, в панике покидает Летний сад. Коровьев и Бегемот внешне очень походят на «мазуриков», которым молва, по свидетельству автора «Литературных воспоминаний», приписывала поджог с целью поживиться в возникшей панике имуществом гуляющих купчих. У Булгакова, однако, добыча Бегемота и Коровьева на грибоедовском пожаре невелика: обгоревший поварской халат, «небольшой ландшафтик в золотой раме» и целая семга. Немного больше – два больших балыка смог унести с собой директор ресторана Арчибальд Арчибальдович (как и у Скабичевского, огонь пощадил рыбу). В Петербурге горят места торговли – Апраксин и Гостиный дворы, у Булгакова жертвой пожара становится Торгсин на Смоленской. Подобно Скабичевскому, Воланд видит на пожаре носителя верховной власти – Сталина, констатируя в окончательном тексте «Мастера и Маргариты»: «У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все кончено здесь». Как и петербургские пожары 1862 года, московские пожары прекращает посланный Воландом сильнейший ливень с грозой.
В варианте 1934 года Маргарита и Мастер наблюдали пожар почти так же, как и А. Я. Панаева. У Булгакова читаем: «Первый пожар подплыл под ноги поэту на Волхонке. Там пылал трехэтажный дом напротив музея. Люди, находящиеся в состоянии отчаяния, бегали по мостовой, на которой валялись в полном беспорядке разбитая мебель, искрошенные цветочные вазоны». А из панаевских «Воспоминаний» узнаем: «В одном доме на полуразрушенной стене комнаты каким-то чудом уцелел большой поясной портрет в золоченой раме (не отсюда ли спасенный Бегемотом ландшафтик в золоченой раме? – Б. С.). Вся мостовая была завалена выбитыми из домов рамами, искалеченной мебелью и домашней утварью».
У Скабичевского петербургский пожар сравнивается с Дантовым адом. В начале булгаковского романа с адом сравнивается Дом Грибоедова, чем уже предопределяется его гибель в огне пожара. Расписываясь как «Панаев» и «Скабичевский», Коровьев-Фагот и Бегемот напоминают о знаменитых петербургских пожарах, описания которых связаны с этими фамилиями, однако угрожающему предупреждению внял только проницательный Арчибальд Арчибальдович.
Еще одно место в мемуарах Скабичевского, вероятно, привлекло внимание Булгакова – рассказ о студенческих вечеринках: «…Напивались очень быстро и не проходило и часа после начала попойки, как поднимался страшный содом общего беснования: кто плясал вприсядку, кто боролся с товарищем; менее опьяненные продолжали вести какой-нибудь философский спор, причем заплетающиеся языки несли невообразимую чушь; в конце концов спорившие менялись своими утверждениями…». (Возможно, это еще одна причина, почему Бегемот и Коровьев так легко меняются фамилиями.) В ресторане Дома Грибоедова царит подобное же содомское веселье: «Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда». Скабичевский утверждал: «Никаких ссор в пьяном виде у нас не было». В грибоедовском ресторане происходит не только ссора, но и драка Ивана Бездомного с членами МАССОЛИТа, в том числе со своим другом поэтом Александром Рюхиным, причем в ранних редакциях «Мастера и Маргариты» по реакции окружающих было очевидно, что ссоры по пьяному делу в писательском ресторане отнюдь не редкость. Булгаков наглядно демонстрирует падение литературных нравов со времен Скабичевского.
В сценах, связанных с Домом Грибоедова, обнаруживаются неожиданные параллели с трагической судьбой Сергея Есенина. Булгаков, несомненно, проявлял интерес к есенинскому творчеству. Напомним, что когда 7 мая 1926 года ОГПУ нагрянуло к Булгакову с обыском, то конфисковало не только крамольную повесть «Собачье сердце» и не менее крамольный дневник, но и стихотворение Веры Инбер, представлявшее собой пародию на Есенина.
Сразу после самоубийства поэта был издан сборник воспоминаний и статей «Памяти Есенина». Там в статье литературоведа Ивана Розанова описывалось, каким был Есенин на 125-летнем юбилее Пушкина 6 июня 1924 года: «Все писатели приглашались к 6 ч. вечера к «Дому Герцена» на Тверском бульваре. Оттуда, выстроившись рядами, со знаменем во главе, двинулись к памятнику Пушкину, где должно было происходить возложение венка. Кажется, в истории русской литературы, а может быть, и не только русской, это была первая процессия писателей, и довольно многолюдная. «Читатели» стояли по обеим сторонам и созерцали невиданное зрелище».
Это очень напоминает описание процессии писателей, идущих за гробом Берлиоза. Характерно, что именно на словах Маргариты: «Так это литераторы за гробом идут?» – смертельно больной Булгаков прекратил правку романа. Может быть, он вспомнил, что мемуары, легшие в основу этого эпизода, появились в связи со смертью великого поэта.
Розанов запечатлел Есенина на пушкинских торжествах у памятника на Тверском бульваре: «…Появилась фигура Есенина. Он был без шляпы. Льняные кудри резко выделяли его из окружающих. Сильно раскачиваясь руками и выкрикивая строчки, он прочел свое обращение «К Пушкину». Впервые прозвучало стихотворение, известное теперь всем и каждому:
Мечтал о могучем даре Того, кто русской стал судьбой, Стою я на Тверском бульваре, Стою и говорю с собой. …………………………………. О Александр! Ты был повеса, Как я сегодня хулиган…От «Дома Герцена», расходясь по домам, мы шли до Никитских ворот небольшой группой в 5–6 человек. Обменивались впечатлениями. Из стихов Сергея Городецкого произвела впечатление, вызвав недоумение, и осталась в памяти фраза, что Пушкин умер от ««провокаторской» (?!) пули Дантеса».
Также поэт Евгений Сокол оставил яркую зарисовку Есенина в «Доме Герцена» в ночь с 22 на 23 декабря 1925 года – последнюю ночь Сергея Александровича в Москве: «В клубе «Дома Герцена» сошлись мы часов около одиннадцати – Есенин, С.А. Поляков, К.А. Свирский (сын) и я.
Есенин нервничал, как нервничал всегда, когда много пил, – а он единственный из нас в этот день пил много, пил еще днем, там же в клубе.
Днем он шумел, затевал скандал, со многими ссорился, назвал одного из писателей «продажной душой», других – иными, не менее резкими словами.
Его тогда усмирили с трудом и увели из клуба.
Кто уводил его, не знаю: днем я в клубе не был.
Часов в одиннадцать, выспавшись, Есенин появился опять и опять пил вино, расплескивая его из бокала сильно дрожавшей рукой.
Помнил он все, что делал днем.
И как будто оправдываясь, как будто извиняясь, говорил С.А. Полякову, бывшему в тот день дежурным старшиной по клубу:
– Ведь я же не виноват. Ведь они же меня нарочно на скандал вызывают, травят, ножку всегда подставить стараются. Завидуют они мне, и из зависти все это.
Пил, волновался заметней:
– Меня выводить из клуба? Меня назвать хулиганом? Да ведь они все – мразь и подметки моей, ногтя моего не стоят, а тоже мнят о себе… Сволочи!.. Я писатель. Я большой поэт, а они кто? Что они написали? Что своего создали? Строчками моими живут! Кровью моей живут, и меня же осуждают.
Пил и расплескивал вино. Чокался громко, чуть не опрокидывая другие бокалы.
Говорил об этом – об обидах своих – долго и многословно, с болью, с надрывом.
Но это не были пьяные жалобы. Чувствовалось в каждом слове давно наболевшее, давно рвавшееся быть высказанным, подолгу сдерживаемое в себе самом и наконец прорвавшееся скандалом».
Это очень напоминает скандал, устроенный Иваном Бездомным в ресторане Дома Грибоедова. А поэт Рюхин, тяжко завидующий Пушкину, которого «обессмертил белогвардеец Дантес», практически цитирует стихи Сергея Городецкого о «провокаторе Дантесе»? Скандал становится для Бездомного родом катарсиса, и здесь в его речах возникают есенинские нотки. Из комсомольского поэта, вроде Александра Безыменского, который был одним из прототипов этого персонажа, Иван превращается в человека с корнями, в профессора Понырева, правда, по завету мастера, навсегда бросив писать стихи.
В Доме Грибоедова есть пародийные отзвуки «Горя от ума». Грибоедовская Софья Павловна превращается в девушку на контроле, спрашивающую у посетителей писательские удостоверения. Слова же Воланда о новом здании, которое непременно будет построено на месте сгоревшего Дома Грибоедова, могут быть иронически соотнесены со знаменитым утверждением Чацкого: «Дома новы, да предрассудки стары».
В качестве одного из важных литературных источников «ресторанной темы» Дома Грибоедова стали произведения австрийского писателя-мистика Густава Мейринка. В его романе «Голем» рассказывается, как обладающая явно инфернальными чертами рыжая Розина танцует голой в ресторане «У Лойзичека», где собираются литераторы-декаденты. На ней во время танца остаются только шляпка и фрак, являющиеся униформой официанток данного заведения. А рыжая ведьма-вампир Гелла предстает перед буфетчиком Театра Варьете Соковым в наколке и кружевном фартуке официантки, надетом на голое тело (хотя скупец (или скопец?) никакого разврата со своими сотрудницами и в мыслях не допускает). Сама же атмосфера ресторана «У Лойзичека» очень напоминает атмосферу ресторана Дома Грибоедова. Вот как Атанасиус Пернат описывает то, что последовало за появлением в ресторане Розины: «Картины, мелькающие передо мной, становятся фантастическими: как в чаду опиума. Ротмистр обнял полуголую Розину и медленно в такт кружится с ней… Шеи вытягиваются, и к танцующей паре присоединяется еще одна, еще более странная. Похожий на женщину юноша, в розовом трико, с длинными светлыми волосами до плеч, с губами и щеками, нарумяненными как у проститутки, опустив в кокетливом смущении глаза, – прижимается к груди князя Атенштадта. Арфа струит слащавый вальс. Дикое отвращение к жизни сжимает мне горло».
Точно так же в булгаковском романе автор-рассказчик, наблюдая веселье в грибоедовском ресторане, проникается отвращением к жизни: «…Ударил знаменитый грибоедовский джаз… Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жукопов-романист с какой-то киноактрисой в желтом платье… Плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами (намек на сотрудников ОГПУ в штатском. – Б. С.), плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло перышко зеленого лука, плясала с ним хилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом измятом платье… И плавится лед в вазочке, и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно… О боги, боги мои, яду мне, яду!..» Подобным же образом мысль о яде малодушно посещает Пилата, когда он понимает, что ему придется утвердить смертный приговор Иешуа Га-Ноцри. Столь же обоснованными оказываются слова о яде в связи с грибоедовской публикой. Ведь, как выясняется из дальнейшего повествования, именно эти люди погубили гениального Мастера. И у Булгакова, и у Мейринка писательские рестораны символизируют низкое материальное, чему привержено большинство литераторов. Этому противостоит стремление Атанасиуса Перната и Мастера к высшим проявлениям духа.
Прототипом директора ресторана Дома Грибоедова Арчибальда Арчибальдовича послужил Яков Данилович Розенталь, по прозвищу «Борода», который в 1925–1931 годах был директором ресторанов Дома Герцена, Дома Союза писателей (ул. Воровского, 56) и Дома печати (Суворовский бульвар, 8). Впоследствии Я. Д. Розенталь стал управляющим ресторана Клуба театральных работников, расположенного в Старопименовском переулке (теперь Воротниковский переулок, 7, к. З). О прототипе Арчибальда Арчибальдовича сохранились колоритные воспоминания создателя Клуба Б. М. Филиппова: «Ресторан клуба ТР возглавлялся энтузиастом заведения, любимцем всех муз Я. Д. Розенталем, прозванным актерами Бородой: обильная растительность, окаймлявшая его восточное лицо, вполне оправдывала это. По воспоминаниям друзей и знакомых легендарного бессменного директора, проработавшего десять лет в ресторане до самой войны, он имел внушительный рост, представительную внешность, густую черную ассирийскую, конусом, большую, по грудь, бороду». О Я. Д. Розентале есть теплые слова в мемуарах известного певца и одного из пионеров советского джаза Леонида Осиповича Утесова (Лазаря Васбейна): «…Вспоминаю Бороду – так мы называли незабвенного Я. Д. Розенталя. Мы говорили: идем к Бороде, потому что чувствовали себя желанными гостями этого хлебосольного хозяина. Он не только знал весь театральный мир, но и вкусы каждого, умел внушить, что здесь именно отдыхают, а не работают на реализацию плана по винам и закускам. Это – начиная с конца двадцатых годов. Но и в шестидесятых элегантная фигура Бороды была знакома посетителям ВТО: в последние годы жизни он работал там и был доброй душой дома». В Первую мировую войну Я. Д. Розенталь был интендантским офицером, затем работал в Киеве, а в Москву перебрался в конце 1921 года, в одно время с Булгаковым. Он действительно мог круто обойтись с провинившимся официантом, как и Арчибальд Арчибальдович в грибоедовском ресторане. Портрет же Арчибальда Арчибальдовича явно совпадает с портретом прототипа: «Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой, во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукоятки пистолетов, а его волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Карибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой». Здесь – возможный намек на военную службу Я. Д. Розенталя, изобиловавшую, по воспоминаниям знакомых, необыкновенными приключениями. Мистические же черты облика Арчибальда Арчибальдовича, вероятно, во многом происходят от его литературного прототипа – инфернального персонажа романа А. Белого «Московский чудак» Эдуарда Эдуардовича фон-Мандро, человека неопределенного, загадочного происхождения, оказавшегося в конце концов евреем-подкидышем. Предки же Я. Д. Розенталя были испанскими евреями-сефардами. С именем героя Белого связано имя персонажа «Мастера и Маргариты» – английское Арчибальд по аналогии с английским же Эдуардом (Мандро выдает себя за шотландца), и так же, как у Белого, одинаково повторенное в отчестве. Еще один вероятный литературный прототип Арчибальда Арчибальдовича – персонаж романа Густава Мейринка «Вальпургиева ночь» – владелец ресторана Венцель Бздинка.
В дневнике Е. С. Булгаковой сохранилась одна запись, посвященная Я. Д. Розенталю и датированная 11 августа 1939 года: «Сегодня встретила одного знакомого… – «слышал, что М.А. написал изумительную пьесу» («Батум» – Б.С.). Слышал не в Москве, а где-то на юге.
Забавный был случай: Бюро заказов Елисеева. То же сообщение – Фанни Ник. – А кто вам сказал? – Яков Данилыч. Говорил, что потрясающая пьеса.
Яков Данилыч – главный заведующий рестораном в Жургазе. Слышал он, конечно, от посетителей. Но уж очень забавно: заведующий рестораном заказывает в гастрономе продукты – и тут же разговоры о пьесе, да, так, как будто сам он лично слышал ее».
Вероятно, под влиянием этого эпизода и последовавшего за ним трагического для драматурга запрета «Батума» Булгаков несколько снизил образ Арчибальда Арчибальдовича в окончательном тексте «Мастера и Маргариты». Если в варианте 1934 года Арчибальд Арчибальдович покидал Дом Грибоедова перед самым пожаром с пустыми руками, то в последней редакции директор ресторана прихватывал с собой два ворованных балыка.
«Ресторанные» мотивы роднят «Мастера и Маргариту» также с другим романом Мейринка, с «Вальпургиевой ночью», где фигурирует заведение «Зеленая лягушка». Этот ресторан, как можно судить уже по одному только названию и имени владельца, охарактеризован с большой долей авторской иронии: «Великие головы всех времен и народов украшали стены в виде многочисленных портретов; их строгий подбор свидетельствовал, вне всяких сомнений, о лояльных вщглядах хозяина, господина Венцеля Бздинки – с ударением на «бзд» – одновременно они клеймили бесстыдные утверждения подлых клеветников, что в юности господин Бздинка был якобы морским разбойником». В булгаковском романе этот остроумный пассаж развернут в колоритный образ директора ресторана Дома Грибоедова и мнимого пирата Арчибальда Арчибальдовича: «И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой, во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукоятки пистолетов, а его волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой. Но нет, нет! Лгут обольстители-мистики (уж не Мейринк ли подразумевается под таким обольстителем? – Б. С.), никаких Карибских морей нет на свете, и не плывут в них отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелется над волною пушечный дым (море-то, разумеется, есть, но для чуждой романтики грибоедовской публике этого «флибустьерского моря» как бы не существует. – Б. С.). Нет ничего, и ничего не было! Вон чахлая липа есть, есть чугунная решетка и за ней бульвар…».
Рассуждения о флибустьерстве Арчибальда Арчибальдовича – это шутливая перекличка с Мейринком. Булгакова с австрийским писателем роднила стойкая нелюбовь к обывательскому неприятию необыкновенных явлений. В «Мастере и Маргарите» и в «Вальпургиевой ночи» подобный филистерский взгляд спародирован в авторских монологах.
Появление в «Зеленой лягушке» страдающего лунатизмом актера Цркадло (чья фамилия в переводе с чешского означает «зеркало») очень напоминает визит в ресторан Дома Грибоедова Ивана Бездомного после гибели Берлиоза на Патриарших. Бздинка у Мейринка выступает олицетворением сатаны Люцифера. Бездомный, как и Цркадло, попадает под гипнотическое воздействие представителя потусторонних сил – Воланда и, подобно лунатику, теряет способность ориентироваться в пространстве и воспринимать истинную хронологию и последовательность событий. В «Вальпургиевой ночи» приход Цпкадло воспринимается как нечто необъяснимое и таинственное: «Как могло случиться, что в самой гуще этого пьяного кавардака вдруг как из-под земли появился актер Цркадло, было загадкой… «Нотариус» тоже сначала не заметил его присутствия. Поэтому, несмотря на его грубые, однако, увы, слишком запоздалые знаки, Цпкадло не двигался с места, явно не замечая их; удалять же актера силой было рискованно: центральный директор от изумления, наверняка бы, грохнулся в обморок и посему свернул бы себе шею еще до расчета.
Первым из посетителей заметил странного гостя «факир». Он в ужасе вскочил и уставился на Цркадло, абсолютно убежденный, что в результате его медитаций из потустороннего материализовалось астральное тело, намеревающееся теперь открутить ему за это голову. И в самом деле: внешность актера была устрашающей; на этот раз он был без грима: желтый пергамент кожи стал совсем восковым и запавшие глаза казались на нем засохшими черными вишнями.
Большая часть господ была слишком пьяна, чтобы сразу понять всю странность случившегося; и господин центральный директор особенно; он начисто утратил способность удивляться и лишь блаженно усмехался, полагая, что какой-то новый друг хочет своим присутствием украсить застолье. Он сполз со стула, намереваясь приветствовать призрачного гостя братским поцелуем. Цркадло, не меняя выражения лица, позволил ему приблизиться… И только, когда господин центральный директор уже покачивался рядом с ним, раскрыв объятья, и, блея свое обычное «бёё, бёё», Цркадло резко вскинул голову, бросил на него враждебный взгляд». От этого взгляда незадачливый директор умер на месте.
И совершенно так же, правда, с менее трагическими последствиями, происходит явление Ивана Бездомного посетителям ресторана Дома Грибоедова: «…Откуда ни возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонечек и стал приближаться к веранде. Сидящие за столиками стали приподниматься и всматриваться и увидели, что вместе с огонечком шествует к ресторану более привидение (привидение как раз и есть материализовавшееся астральное тело, о котором говорил Мейринк. – Б. С.), все как закостенели за столиками с кусками стерлядки на вилках и вытаращив глаза. Швейцар, вышедший в этот момент из дверей ресторанной вешалки во двор, чтобы покурить, затоптал папиросу и двинулся было к привидению с явной целью преградить ему доступ в ресторан, но почему-то не сделал этого и остановился, глуповато улыбаясь».
Поведение грибоедовского швейцара по сути копирует поведение «нотариуса» из «Вальпургиевой ночи», а внешний вид Бездомного столь же завораживающе и устрашающе действует на посетителей, как и внешний вид Цркадло. Иван бос, в разодранной толстовке, со ссадиной на щеке и с бумажной иконкой на груди, насмерть перепугавшей казенных атеистов из МАССОЛИТа. К счастью, для неизвестного в очках с ласковым мясистым и бритым лицом, неосторожно вступившего в разговор с безумным поэтом, результат был не столь печален, как для господина центрального директора из «Вальпургиевой ночи»: доброхот с «юбилейным голосом» всего лишь заработал оплеуху.
В романе Мейринка события разворачиваются в период после ночи на 1 мая, знаменитой Вальпургиевой ночи, когда нечисть входит в мир. В «Мастере и Маргарите» действие начинается как раз вечером 1 мая, с прибытия Воланда и его свиты на Патриаршие пруды.
Одним из прототипов завсегдатаев грибоедовского ресторана поэта Александра Рюхина послужил поэт Владимир Маяковский. Бездарные вирши Рюхина, который пишет революционные стихи, хотя в революцию уже не верит, профанируют высокие пушкинские традиции поэтического слова. Маяковский был хорошим знакомым Булгакова и его непримиримым идейным противником.
С Мяковским Булгаков нередко играл на бильярде. Об этом сохранились, в частности, воспоминания драматурга С.А. Ермолинского: «Если в бильярдной находился в это время Маяковский и Булгаков направлялся туда, за ними устремлялись любопытные. Еще бы – Булгаков и Маяковский! Того гляди разразится скандал.
Играли сосредоточенно и деловито, каждый старался блеснуть ударом. Маяковский, насколько помню, играл лучше.
– От двух бортов в середину, – говорил Булгаков. Промах.
– Бывает, – сочувствовал Маяковский, похаживая вокруг стола и выбирая удобную позицию. – Разбогатеете окончательно на своих тетях манях и дядях ванях, выстроите загородный дом и огромный собственный бильярд. Непременно навещу и потренирую.
– Благодарствую. Какой уж там дом!
– А почему бы?
– О, Владимир Владимирович, но и вам клопомор не поможет, смею уверить. Загородный дом с собственным бильярдом выстроит на наших с вами костях ваш Присыпкин.
Маяковский выкатил лошадиный глаз и, зажав папиросу в углу рта, мотнул головой:
– Абсолютно согласен.
Независимо от результата игры прощались дружески. И все расходились разочарованные».
Те же бильярдные сражения в «Кружке» – Клубе работников искусств в Старопименовском переулке, только гораздо менее идиллически, описала вторая жена Булгакова Л. Е. Белозерская, объяснившая, почему Булгаков играл с Маяковским «с таким каменным замкнутым лицом». Маяковский в пьесе «Клоп» отнес Булгакова в «Словарь умерших слов» фантастического коммунистического будущего, призывал к обструкции булгаковских «Дней Турбиных» и утверждал в стихотворении «Лицо классового врага. Буржуй-Нуво», что нэпманский «буржуй-нуво»
…На ложу в окно театральных касс тыкая ногтем лаковым, он дает социальный заказ На «Дни Турбиных» — Булгаковым.Впервые Булгаков отобразил Маяковского в образе развязно-фамильярного поэта Владимира Баргузина в неоконченной повести 1929 года «Тайному другу», где Баргузин свысока критикует роман автобиографического героя повести. Революционное творчество Маяковского здесь ассоциируется с ураганным ветром – баргузином – и с известной арестантской песней: «Эй, баргузин, пошевеливай вал / Молодцу плыть недалечко». «Славное море, священный Байкал», вспомним, исполняют под руководством Коровьева-Фагота сотрудники Зрелищной комиссии в «Мастере и Маргарите».
Бурно приветствовавшего революцию Маяковского, вообще отличавшегося взрывным характером, было вполне логично уподобить ветру баргузину.
На прениях по докладу наркома просвещения А. В. Луначарского «Театральная политика Советской власти» 2 октября 1926 года, за несколько дней до премьеры «Дней Турбиных», Маяковский высказался следующим образом: «В отношении политики запрещения я считаю, что она абсолютно вредна… Но запретить пьесу, которая есть, которая только концентрирует и выводит на свежую водицу определенные настроения, какие есть, – такую пьесу запрещать не приходится. А если там вывели двух комсомольцев (во время генеральной репетиции пьесы с публикой 23 сентября 1926 года. – Б. С.), то, давайте, я вам поставлю срыв этой пьесы, – меня не выведут. Двести человек будут свистеть, и сорвем, и скандала, и милиции, и протоколов не побоимся. (Аплодисменты.)
…Мы случайно дали возможность под руку буржуазии Булгакову пискнуть – и пискнул. А дальше мы не дадим. (Голос с места: «Запретить?»). Нет, не запретить. Чего вы добьетесь запрещением? Что эта литература будет разноситься по углам и читаться с таким же удовольствием, как я двести раз читал в переписанном виде стихотворения Есенина…
Вот эта безобразная политика пускания всей нашей работы по руслу свободной торговли: то, что может быть приобретено, приобретается, это хорошо, а все остальное плохо, – это чрезвычайно вредит и театральной, и литературной, и всякой другой политике. И это значительно вреднее для нас, чем вылезшая, нарвавшая «Белая гвардия»».
Едва намеченный образ поэта Вовы Баргузина был развернут в «Мастере и Маргарите» в образ поэта Александра Рюхина, также имеющего своим прототипом Маяковского. Там Булгаков в отместку сделал его самого жертвой «скандала с протоколом», который учиняет в ресторане Дома Грибоедова, а позднее в клинике Стравинского Иван Бездомный.
Ссора Рюхина с Бездомным пародирует действительные взаимоотношения Маяковского с поэтом Александром Безыменским, послужившим одним из прототипов Бездомного. Уничижительный отзыв о Безыменском есть в стихотворении Маяковского «Юбилейное»:
Ну, а что вот Безыменский?! Так… ничего… морковный кофе.В эпиграмме 1930 года характеристика Безыменского была не менее резкой:
Уберите от меня Этого бородатого комсомольца!..Стихотворение Рюхина, посвященное Первомаю, на которое нападает Бездомный, это, скорее всего, лозунговое стихотворение Маяковского к 1 мая 1924 года. Рассуждения Александра Рюхина насчет Пушкина (Булгаков пародийно наделил героя именем великого поэта): «Вот пример настоящей удачливости… – тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека, – какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не постигаю… Что-нибудь особенное есть в этих словах. «Буря мглою…»? Не понимаю!.. Повезло, повезло! – вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся, – стрелял, стрелял в него этот белогвардеец Дантес и раздробил бедро и обеспечил бессмертие…» – это отзвук посвященного Пушкину стихотворения Маяковского «Юбилейное». У Булгакова спародировано стремление автора стихотворения фамильярно поздороваться с Пушкиным. Маяковский писал:
Александр Сергеевич, разрешите представиться. Маяковский. Дайте руку! Вот грудная клетка. Слушайте, уже не стук, а стон.Рюхин тоже поднимает руку, встав во весь рост и обращаясь к памятнику Пушкина на Тверском бульваре, только рука у него поднята скорее не для рукопожатия, а в бессильной злобе, рожденной завистью, как бы для удара.
Булгаков издевается над следующими словами Маяковского:
На Тверском бульваре Очень к вам привыкли. Ну, давайте, подсажу на пьедестал. Мне бы памятник при жизни полагается по чину. Заложил бы Динамиту – ну-ка, дрызнь!Слова же о «белогвардейце Дантесе» навеяны другим пассажем Маяковского:
Сукин сын Дантес! Великосветский шкода. Мы б его спросили: – А ваши кто родители? Чем вы занимались до 17-го года? Только этого Дантеса бы и видели.В первой редакции романа Булгаков иронически давал понять, что Рюхин именно «левый поэт», как и Маяковский: «Иванушка шел плача и пытался укусить за руку то правого Пантелея (вышибалу ресторана Дома Грибоедова. – Б. С.), то левого поэта Рюхина…» Тут можно увидеть при желании и пародию на правый и левый уклон в партии.
Друг, а потом враг Александра Рюхина Иван Бездомный, он же Иван Николаевич Понырев, тоже пролетарский поэт, превращающийся в эпилоге в профессора Института истории и философии. Одним из прототипов Бездомного был поэт Александр Ильич Безыменский, чей псевдоним, ставший фамилией, спародирован в псевдониме Бездомный. В редакции романа 1929 года упоминался памятник «знаменитому поэту Александру Ивановичу Житомирскому, отравившемуся в 1933-м году осетриной», причем памятник располагался напротив Дома Грибоедова. Учитывая, что Безыменский был родом из Житомира, намек здесь был еще прозрачнее, чем в окончательном тексте, где комсомольский поэт остался связан лишь с образом Бездомного. Безыменский выступал с резкими нападками на «Дни Турбиных», а его пьеса «Выстрел» (1929) пародировала это булгаковское произведение. «Выстрел» был высмеян в эпиграмме Владимира Маяковского, написанной в декабре 1929 или январе 1930 года, где о Безыменском было сказано достаточно резко: «Уберите от меня этого бородатого комсомольца!..».
Одним из прототипов Бездомного, возможно, послужил писатель и поэт Иван Сергеевич Рукавишников. Вот что сообщает о нем Владислав Ходасевич в очерке «Белый коридор», опубликованном в берлинской газете «Дни» в первых числах ноября 1925 года: «Рукавишников, плодовитый, но безвкусный писатель, был родом из нижегородских миллионеров. Промотался и пропился он, кажется, еще до революции. Он был женат на бывшей цирковой артистке, очень хорошенькой, чем и объясняется его положение в Кремле. Вскоре Луначарский учредил при Тео новую секцию – цирковую, которую и возглавил госпожей Рукавишниковой. После этого какие-то личности кокаинного типа появились в Тео, а у подъезда, рядом с автомобилем Каменевой, появился парный выезд Рукавишниковой: вороные кони под синей сеткой – из придворных конюшен».
Как и Бездомный, Рукавишников страдал пристрастием к выпивке. И Ходасевич зафиксировал один его замечательный монолог, в котором можно увидеть прообраз Дома Грибоедова: «Мы вошли к Луначарскому. Просторная комната; типично-дворцовая мебель восьмидесятых годов, черная, лакированная, обитая пунцовым атласом. Вероятно, до революции, здесь жили дворцовые служащие.
Поздоровавшись, сели мы как-то нескладно, чуть ли не в ряд. Луначарский сел против нас, посреди комнаты. Позади его помещался писатель Иван Рукавишников, козлобородый, рыжий, в зеленом френче. Когда мы вошли, он уже сидел в большом кресле, с которого не поднялся ни при нашем появлении, ни потом. Он только слегка кивнул головой, что-то промычав. Его присутствие так же, как неподвижность, слегка удивили нас. Но позже всё объяснилось…
Казалось, аудиенция кончена. Но тут Иван Рукавишников зашевелился, сделал попытку встать с кресла, затем рухнул в него обратно и коснеющим языком произнес:
– Пр-рошу… ссллова…
Пришлось остаться и битых полчаса слушать вдребезги пьяную ахинею. Отдуваясь и сопя, порой подолгу молча жуя губами, Рукавишников «п-п-п-а-аазволил п-п-предложить нашему вниманию» свой план того, как вообще жить и работать писателям. Оказалось, что надо построить огромный дворец на берегу моря или хотя бы Москва-реки… м-м-дааа… дворец из стекла и мррра-мора… и ал-л-люми-иния… м-м-мда-а… и чтобы все комнаты и красивые одежды… эдакие хитоны, – и как его? Это самое…. – коммунальное питание. И чтобы тут же были художники. Художники пишут картины, а музыканты играют на инструментах, а кроме того, замечательнейшая тут же библиотека, вроде Публичной, и хорошее купание. И когда рабоче-крестьянскому пр-р-равительству нужна трагедия или – как ее там? – опера, то сейчас это всё кол-л-лективно сочиняют з-з-звучные слова и рисуют декорацию, и все вместе делают пластические позы и музыку на инструментах. Таким образом ар-р-ртель и красивая жизнь, и пускай все будут очень сча-а-астливы. Величина театрального зала должна равняться тысяча пятистам сорока восьми с половиной квадратным саженям, а каждая комната – восемь сажен в длину и столько же в ширину. И в каждой комнате обязательно умывальник с эмалированным тазом».
Возможно, неслучайно одежду у Бездомного крадут как раз на набережной Москава-реки. А Дом Грибоедова – это пародия над пародийным самим по себе писательским дворцом, возникающим в пьяных фантазиях Рукавишникова.
Предсказание Воланда, что Бездомный окажется в сумасшедшем доме, восходит к роману английского писателя Чарльза Мэтьюрина «Мельмот Скиталец». Там один из героев, некий Стентон, встречается с Мельмотом, продавшим душу дьяволу. Мельмот предсказывает, что их следующая встреча произойдет в стенах сумасшедшего дома ровно в двенадцать часов дня. Отметим, что в ранней редакции «Мастера и Маргариты» в психиатрической лечебнице профессора Стравинского перед Бездомным являлся не Мастер, как в окончательном тексте, а Воланд. Стентон, самоуверенно полагавший, что ему нечего узнавать у посланца сатаны, действительно вскоре заключается своими близкими в сумасшедший дом, причем это вызвано «постоянными разговорами его о Мельмоте, безрассудной погоней за ним, странным поведением в театре и подробным описанием их необыкновенных встреч, которые делались с глубочайшей убежденностью». В лечебнице Стентон сначала буйствует, но потом решает, что «самым лучшим для него будет прикинуться покорным и спокойным в надежде, что с течением времени он либо умилостивит негодяев, в чьих руках он сейчас оказался, либо, убедив их в том, что он человек безобидный, добьется себе таких поблажек, которые в дальнейшем, может быть, облегчат ему побег». У героя Мэтьюрина в сумасшедшем доме «оказались два пренеприятных соседа», один из которых постоянно распевал оперные куплеты, а второй, прозванный «Буйной головой», все время повторял в бреду: «Руфь, сестра моя, не искушай меня этой телячьей головой (здесь имеется в виду голова казненного во время Пуританской революции английского короля Карла I. – Б. С.), из нее струится кровь; молю тебя, брось ее на пол, не пристало женщине держать ее в руках, даже ежели братья пьют эту кровь». И однажды в полночь к Стентону в лечебницу является Мельмот.
Злоключения незадачливого героя Мэтьюрина у Булгакова в точности повторяет Бездомный. Поэт гонится за Воландом; после рассказа о встрече с «иностранным профессором» на Патриарших, который будто бы беседовал с Понтием Пилатом, Ивана принимают за сумасшедшего и заключают в клинику Стравинского. Там он в конечном счете приходит к той же линии поведения, что и Стентон в «Мельмоте Скитальце». Соседями Ивана в лечебнице оказываются председатель жилтоварищества Никанор Иванович Босой, декламирующий во сне монолог пушкинского Скупого рыцаря, и конферансье Театра Варьете Жорж Бенгальский, бредящий о своей отрезанной во время сеанса черной магии голове. Можно вспомнить и об отрезанной голове Берлиоза.
Одним из литературных источников образа Бездомного мог послужить роман Александра Амфитеатрова «Жар-цвет». Здесь уже присутствует описание московской психолечебницы, куда заключен сошедший с ума присяжный поверенный Петров. Больного мучает галлюцинация – любовница Анна, покончившая с собой из-за предстоящей женитьбы Петрова. Его приятель, Алексей Леонидович Дебрянский, заражается от Петрова сумасшествием, и после смерти Петрова призрак Анны преследует уже Дебрянского. Алексей Леонидович предугадывает смерть своего товарища, очнувшись от сна, хотя никто не мог ему о ней сообщить. У Булгакова проснувшийся Иван Бездомный чувствует, что Мастер и Маргарита уже умерли.
В судьбе Бездомного, превратившегося к финалу романа в профессора Понырева, Булгаков как бы дал ответ на предположение одного из видных мыслителей-евразийцев и гениального лингвиста князя Николая Сергеевича Трубецкого, который в 1925 года в статье «Мы и другие», опубликованной в берлинском «Евразийском временнике», высказывал надежду, что «положительное значение большевизма может быть в том, что, сняв маску и показав всем сатану в его неприкрытом виде, он многих через уверенность в реальность сатаны привел к вере в Бога. Но, помимо этого, большевизм своим бессмысленным (вследствие неспособности к творчеству) ковырянием жизни глубоко перепахал русскую целину, вывернул на поверхность пласты, лежавшие внизу, а вниз – пласты, прежде лежавшие на поверхности. И, быть может, когда для созидания новой национальной культуры понадобятся новые люди, такие люди найдутся именно в тех слоях, которые большевизм случайно поднял на поверхность русской жизни. Во всяком случае, степень пригодности к делу созидания национальной культуры и связь с положительными духовными основами, заложенными в русском прошлом, послужат естественным признаком отбора новых людей. Те, созданные большевизмом новые люди, которые этим признаком не обладают, окажутся нежизнеспособными и, естественно, погибнут вместе с породившим их большевизмом, погибнут не от какой-нибудь интервенции, а от того, что природа не терпит не только пустоты, но и чистого разрушения и отрицания и требует созидания, творчества, а истинное, положительное творчество возможно только при утверждении начала национального и при ощущении религиозной связи человека и нации с Творцом Вселенной». При встрече с Иваном, тогда еще Бездомным, Воланд призывает поэта сперва поверить в дьявола, рассчитывая, что тем самым Иван убедится в истинности истории Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри, а затем поверит и в существование Спасителя. В полном соответствии с мыслями Н. С. Трубецкого поэт Бездомный обрел свою «малую родину», сделавшись профессором Поныревым (фамилия происходит от станции Поныри в Курской области), как бы приобщаясь тем самым к истокам национальной культуры. Однако нового Ивана поразила бацилла всезнайства. Этот человек, поднятый революцией на поверхность общественной жизни, сначала – известный поэт, после – известный ученый. Он пополнил свои знания, перестав быть тем девственным юношей, который пытался задержать Воланда на Патриарших прудах. Однако в реальность дьявола, в подлинность истории Пилата и Иешуа Иван верил, только пока сатана и его свита были в Москве и пока сам поэт общался с Мастером, чей завет, формально говоря, выполнил, отказавшись в итоге от поэтического творчества. Но подобным же образом Степа Лиходеев по рекомендации Воланда перестал пить портвейн и перешел на одну только водку, настоянную на смородиновых почках. Иван Николаевич Понырев по-прежнему убежден, что нет ни Бога, ни дьявола, а он сам в прошлом стал жертвой гипнотизера. Обретенная было новая вера оживает у профессора только раз в год, в ночь весеннего полнолуния, когда он видит во сне казнь Иешуа, воспринимаемую как мировая катастрофа. Видит Иван и Иешуа и Пилата, мирно беседующих на широкой, заливаемой лунным светом дороге, видит и узнает Мастера и Маргариту. Сам же Бездомный-Понырев к подлинному творчеству не способен, а истинный творец – Мастер – вынужден искать защиты у Воланда в последнем приюте. Здесь проявился глубокий скептицизм Булгакова относительно возможности перерождения к лучшему тех, кто был привнесен в культуру и общественную жизнь Октябрьским переворотом 1917 года. Михаил Афанасьевич не видел в советской действительности таких людей, появление которых предсказывали и на которых надеялись князь Н. С. Трубецкой и другие евразийцы. Взращенные революцией, вышедшие из народа поэты-самородки, по мнению писателя, были слишком далеки от ощущения «религиозной связи человека и нации с Творцом Вселенной», и утопией оказалась идея, что они смогут стать творцами новой национальной культуры. «Прозревший» и превратившийся из Бездомного в Понырева Иван ощущает подобную связь лишь во сне.
Превращение Ивана из поэта в единственного ученика Мастера и в профессора, забывшего и о поэзии, и о Мастере, также воспроизводит один из сюжетов «Фауста» Гёте – историю Студента, пришедшего учиться у Фауста и ставшего достойным учеником Мефистофеля. Ведь Бездомный – ученик не только Мастера, но и Воланда, так как именно сатана преподает ему историю Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри и заставляет поверить в существование нечистой силы. Гетевский Студент признается:
Скажу со всею прямотой: Мне хочется уже домой. От здешних тесных помещений На мысль находит помраченье. Кругом ни травки, ни куста, Лишь сумрак, шум и духота.Бездомный оказывается заключен в палату в клинике Стравинского, за окном которой – недоступные больному река, зеленая трава и сосновый бор. Здесь у него наступает помрачение ума: поэт плачет и никак не может изложить на бумаге историю своей встречи с Воландом и услышанный рассказ о прокураторе Иудеи. Затем следует дьявольское просветление – Иван перестает горевать о погибшем Берлиозе: «Важное, в самом деле, происшествие – редактора журнала задавило!.. Ну, царство небесное ему! Ну, будет другой редактор и даже, может быть, еще красноречивее прежнего». И. Бездомный, превращаясь из Бездомного в Понырева, как бы избавляется от тоски по дому, присущей и герою Гёте. Студент утверждает:
Три года обученья – срок, По совести, конечно, плевый. Я б многого достигнуть мог, Имей я твердую основу.Эти слова пародирует Булгаков, заставляя Бездомного предложить: «Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки!» Воланд же приходит в восторг от этого предложения, замечая, что «ему там самое место!» и вспоминая разговор со «стариком Иммануилом» за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут». Здесь имеется в виду весьма специфическое обучение Канта – в концлагере на Соловках, а три года – как раз срок обучения средневековых студентов, о котором говорит герой «Фауста». Нравственное доказательство бытия Божия, выдвинутое Иммануилом Кантом, утверждает основу нашей совести, данную Богом в виде категорического императива – не делать другому того, что ты не хотел бы испытать на себе. Ясно, что оно неприемлемо для сатаны. Гетевский Мефистофель после слов Студента о твердой основе призывает ученика не следовать клятве Гиппократа, а предаться медицине другого рода:
Смысл медицины очень прост. Вот общая ее идея: Все в мире изучив до звезд, Все за борт выбросьте позднее. Зачем трудить мозги напрасно? Валяйте лучше напрямик. Кто улучит удобный миг, Тот и устроится прекрасно. Вы стройны и во всей красе, Ваш вид надменен, взгляд рассеян. В того невольно верят все, Кто больше всех самонадеян. Ступайте к дамам в будуар. Они – податливый товар. Их обмороки, ахи, охи, Одышки и переполохи Лечить возьмитесь не за страх — И все они у вас в руках.Предложение отправить Канта на перевоспитание в Соловки отразило и личные впечатления писателя. Елена Сергеевна отметила в дневнике 11 декабря 1933 г. рассказ сестры Булгакова Надежды о том, как один из родственников ее мужа, коммунист, предложил насчет Булгакова: «Послать бы его на три месяца на Днепрострой, да не кормить, тогда бы он переродился».
В речи Ивана Булгаков превратился в Канта (кстати, с этим философом многими своими чертами связан и автобиографический Мастер), три месяца – в три года, а Днепрострой – в Соловки. Общение же с медициной для Бездомного оказалось куда менее приятным, чем для поучаемого Мефистофелем Студента: будущий профессор Понырев очутился в сумасшедшем доме.
Гетевский Студент слышит от представшего в костюме Фауста лукавого учителя:
Заучивайте на дому Текст лекции по руководству. Учитель, сохраняя сходство, Весь курс читает по нему. И все же с жадной быстротой Записывайте мыслей звенья. Как будто эти откровенья Продиктовал вам дух святой, и отвечает: Я это знаю и весьма Ценю значение письма. Изображенное в тетради У вас, как в каменной ограде.Бездомный в клинике Стравинского за высокой оградой безуспешно пытается воспроизвести на бумаге то «откровение» о Пилате и Иешуа, что «продиктовал» ему на Патриарших вместо «духа святого» сам Воланд.
Студент признается:
Я б стать хотел большим ученым И овладеть всем потаенным, Что есть на небе и земле, —и в дальнейшем превращается в самоуверенного бахвала-всезнайку Бакалавра, возглашающего:
Вот назначенье жизни молодой: Мир не был до меня и создан мной, Я вывел солнце из морского лона, Пустил луну кружить по небосклону. День разгорелся на моем пути, Земля пошла вся в зелени цвести, И в первую же ночь все звезды сразу Зажглись вверху по моему приказу. Кто, как не я, в приливе свежих сил Вас от филистерства освободил? Куда хочу, протаптываю след, В пути мой светоч – внутренний мой свет. Им все озарено передо мною, А то, что позади, объято тьмою.Мефистофель поражен пошлостью своего ученика:
Ступай, чудак, про гений свой трубя! Что б сталось с важностью твоей бахвальской, Когда б ты знал: нет мысли мало-мальской, Которой бы не знали до тебя! Разлившиеся реки входят в русло. Тебе перебеситься суждено. В конце концов, как ни бродило б сусло, В итоге получается вино.Бывший Студент в запале восклицает: «Я захочу, и черт пойдет насмарку», – на что Мефистофель замечает: «Тебе подставит ножку он, не каркай». У Булгакова Воланд как раз и «подставляет ножку» Бездомному, приводя поэта в сумасшедший дом. 6 декабря 1829 г. в беседе со своим секретарем и биографом, автором «Разговоров с Гёте в последние годы его жизни» Иоганном Петером Эккерманом создатель «Фауста» следующим образом отозвался об образе Бакалавра: «В нем олицетворена та претенциозная самоуверенность, которая особенно свойственна юному возрасту и которую в столь ярких образчиках имели вы возможность наблюдать у нас в первые годы после освободительной войны (имеется в виду война германских государств против французского императора Наполеона в 1813–1815 годах. – Б. С.). В юности каждый думает, что мир начал, собственно говоря, существовать только вместе с ним и что все существуют, в сущности, только ради него». В отличие от героя Гёте, Иван Бездомный, еще не будучи обремененным практически никакими знаниями, легкомысленно отвергает бытие не только Бога, но и дьявола, за что и несет наказание. Бакалавр просто отрицает пользу полученных знаний, абсолютизируя собственную свободу воли:
Мальчиком я, рот разиня, Слушал в этих же палатах Одного из бородатых И за чистую монету Принимал его советы. Все они мой ум невинный Забивали мертвечиной, Жизнь мою и век свой тратя На ненужные занятья.Бездомный, в противоположность ему, в эпилоге романа предстает многознающим профессором, отрицающим существование черта, тогда как Бакалавр считает нечистую силу подвластной своей воле. Булгаков нового Студента, по сравнению с Гёте, повысил с бакалавра до профессора. Здесь он учитывал существовавшую русскую традицию восприятия этого героя «Фауста». Так, А. В. Амфитеатров в книге «Дьявол в быте, легенде и в литературе средних веков» отмечал: «Следуя дьявольским советам, студент – во второй части «Фауста» – обратился в такого пошлейшего «приват-доцента», что самому черту стало совестно: какого вывел он «профессора по назначению»». Иван Николаевич, может быть, и не такой пошлый, как гетевский Бакалавр, но уверенность новоиспеченного профессора Понырева, что ему «все известно», что «он все знает и понимает», лишает его способности к подлинному творчеству, к восхождению на вершины познания, как не может подняться к высотам этического подвига Иешуа гениальный Мастер. «Исколотая память» обоих одинаково затихает и пробуждается только в волшебную ночь весеннего полнолуния, когда Иван и Мастер встречаются вновь. Профессор Иван Николаевич Понырев – это действительно «профессор по назначению», типичный «красный профессор», отрицающий духовное начало в творчестве и, в отличие от Бакалавра Гёте, – сторонник только эмпирического опытного знания, почему все происшедшее с ним, включая встречи с Воландом и Мастером, Бездомный-Понырев в эпилоге объясняет гипнозом.
Театр Варьете: «Люди как люди… квартирный вопрос только испортил…»
Вымышленный Театр Варьете, с которым в архитектонике романа связано мнимое пространство, в ранних редакциях назывался «театр Кабаре». Здесь происходит сеанс черной магии Волонда с последующим разоблачением. Разоблачение в данном случае происходит буквально: обладатели полученных от дьявола взамен на их скромные московские платья новейших парижских туалетов после сеанса в одно мгновение помимо своей воли разоблачаются, так как модные парижские тряпки исчезают неведомо куда.
Прототипом Театра Варьете послужил Московский мюзик-холл, существовавший в 1926–1936 годах и располагавшийся неподалеку от Нехорошей квартиры по адресу: Б. Садовая, 18. Ныне здесь находится Московский Театр Сатиры. А до 1926 года на этом мест е размещался цирк братьев Никитиных, причем здание специально было построено для него еще в 1911 году по проекту архитектора Богдана Михайловича Нилуса. Программа Тетра Варьете содержит ряд чисто цирковых номеров, вроде «чудес велосипедной техники семьи Джули», прототипом которой послужили знаменитые циркачи-велофигуристы семьи Польди (Подрезовых), с успехом выступавшие на сцене Московского мюзик-холла.
«Денежный дождь», пролитый на зрителей Варьете подручными Воланда, имеет богатую литературную традицию. В гетевском «Фаусте» Мефистофель, оказавшись вместе с Фаустом при дворе императора, изобретает бумажные деньги, которые оказываются фикцией. Другой возможный источник – то место в «Путевых картинах» Гейне, где дано аллегорическое описание политической борьбы между либералами и консерваторами, представленное как рассказ пациента Бедлама. Мировое зло рассказчик объясняет тем, что «Господь Бог сотворил слишком мало денег». Воланд и его помощники, раздавая толпе бумажные червонцы, как бы восполняют мнимую нехватку наличности. Но дьявольские червонцы быстро превращаются в обыкновенную бумагу, и тысячи посетителей Театра Варьете становятся жертвой обмана. Мнимые деньги для Воланда – это только способ выявить внутреннюю сущность тех, с кем соприкасается сатана и его свита. Но эпизод с дождем червонцев имеет и более близкий по времени литературный источник – отрывки из второй части романа Владимира Зазубрина (Зубцова) «Два мира», публиковавшиеся в 1922 году в журнале «Сибирские огни». Там крестьяне – члены коммуны – решают упразднить и уничтожить деньги, не дожидаясь декрета Советской власти. Однако вскоре выясняется, что деньги в стране не отменены, и тогда толпа подступает к руководителям коммуны, называет их обманщиками и мошенниками, угрожает расправой и хочет добиться невозможного – вернуть уже уничтоженные купюры. На сеансе Воланда ситуация как бы зеркальна. Зрители сначала получают «якобы деньги» (так называлась одна из глав ранней редакции романа), которые принимают за настоящие. Когда же мнимые деньги превращаются в ничего не стоящие бумажки, буфетчик Соков требует от Воланда заменить их на полновесные червонцы.
Разудалые слова марша, которым Коровьев-Фагот вынуждает оркестр завершить скандальный сеанс, – это цитата из стихотворения «Современная заметка», опубликованного в № 13 «Петербургского вестника» за 1862 год и подписанного инициалами Л. К. (не исключено, что автором был известный журналист Лев Логинович Камбек). Полностью стихотворение звучит так:
Его превосходительство Любил домашних птиц И брал под покровительство Хорошеньких девиц. Он слыл большим проказником И в клубе в вист играл, Грошами он по праздникам Всем нищим раздавал. Актрис к местам пристраивал, Брильянтами дарил, Крестьян своих расстраивал И по миру пустил.У Булгакова эти куплеты адресованы непосредственно к председателю Акустической комиссии Семплеярову, требовавшему разоблачения черной магии, но разоблаченному самому.
Театр Варьете имеет и довольно глубокие эстетические корни. В 1914 году манифест одного из основателей футуризма итальянского писателя Филиппо Томмазо Маринетти «Мюзик-холл» был опубликован в русском переводе в № 5 журнала «Театр и искусство» под названием «Похвала театру Варьете» (вероятно, подобная трансформация названия подсказала Булгакову мысль заменить реальный Московский мюзик-холл на вымышленный Театр Варьете). Маринетти, в частности, утверждал: «Театр Варьете разрушает все торжественное, святое, серьезное в искусстве. Он способствует предстоящему уничтожению бессмертных произведений, изменяя и пародируя их, представляя их кое-как, без всякой обстановки, не смущаясь, как самую обыденную вещь… Необходимо абсолютно уничтожить всякую логичность в спектаклях варьете, заметно преувеличить их экстравагантность, усилить контрасты и предоставить царствовать на сцене всему экстравагантному… Прерывайте певицу. Сопровождайте пение романса ругательными и оскорбительными словами… Заставить зрителей партера, лож и галереи принимать участие в действии… Систематически профанируйте классическое искусство на сцене, изображая, например, все греческие, французские и итальянские трагедии одновременно в один вечер, сокращенными и комически перепутанными вместе… Поощряйте всячески жанр американских эксцентриков, их гротескные эффекты, поражающие движения, их неуклюжие выходки, их безмерные грубости, их жилетки, наполненные всяческими сюрпризами и штанами, глубокими, как корабельные трюмы, из которых вместе с тысячью предметов исходит великий футуристический смех, долженствующий обновить физиогномию мира».
Булгаков не жаловал футуризм и другие теории «левого искусства», но в романе точно следует всем рекомендациям знаменитого итальянца. Театр Варьете действительно разрушает все святое и серьезное в искусстве. Программы здесь лишены какой-либо логики, что олицетворяет, в частности, конферансье Жорж Бенгальский, который несет чушь и отличается, подобно американским эксцентрикам, неуклюжестью и грубостью. Воланд и его подручные действительно заставляют участвовать в представлении и партер, и ложи, и галерку, побуждая публику определить судьбу незадачливого Бенгальского, а затем ловить падающие бумажным дождем червонцы. Коровьев-Фагот делает так, что марш сопровождается экстравагантными разудалыми куплетами и достает из своих карманов множество предметов, порождающих у публики «великий футуристический смех»: от часов финдиректора Варьете Римского и волшебной колоды карт до дьявольских червонцев и магазина парижского модного платья. А чего стоит кот Бегемот, легко пьющий воду из стакана или отрывающий голову надоевшему конферансье. Воланд, устраивая опыт с деньгами и незадачливым Жоржем Бенгальским, испытывает москвичей, выясняет, насколько изменились они внутренне, по-своему стремится «обновить физиогномию мира». И Булгаков руками нечистой силы наказывает всех причастных к Театру Варьете за опошление высокого искусства в духе призывов Маринетти, манифест которого оборачивается сеансом черной магии. Здесь театр – отнюдь не храм. Директор Театра Варьете Степан Лиходеев выброшен Воландом в Ялту, администратор Варенуха становится жертвой вампира Геллы и сам превращается в вампира, с трудом избавляясь в финале от этой неприятной должности. Тот же Варенуха с Геллой едва не погубили финдиректора Римского, который лишь чудом избежал участи, постигшей администратора. Наказана и публика, потерявшая и призрачные парижские наряды, и свои настоящие московские.
Многие реалии сеанса черной магии не выдуманы Булгаковым, а взяты, что называется, из жизни. Так, 4 августа 1924 года Г. Г. Ягода, появляющийся в качестве одного из гостей на Великом бале у сатаны, разослал на места секретный циркуляр, где говорилось: «Главный Репертуарный комитет циркуляром за № 1606 от 15 / VII с. г. всем облитам и гублитам дал директиву… о том, чтобы они при разрешении сеансов так называемых «ясновидцев», «чтецов мыслей», «факиров» и т. д. ставили непременными условиями: 1) указание на каждой афишной рекламе, что секреты опытов будут раскрыты, 2) чтобы в течение каждого сеанса или по окончании его чётко и популярно было разъяснено аудитории об опытах, дабы у тамошнего обывателя не создалось веры в потусторонний мир, сверхъестественную силу и «пророков».
Местным органам ОГПУ надлежит строго следить за выполнением указанных условий и в случае уклонения и нежелательных результатов запрещать подобные сеансы через облиты и гублиты».
А ведь многие читатели романа думали, что текст афиш «Сегодня и ежедневно в театре Варьете сверх программы: Профессор Воланд. Сеансы чёрной магии с полным её разоблачением», равно как и появление после скандального сеанса людей из солидного учреждения на Лубянке, – это целиком плод булгаковской фантазии. На самом деле за обязательным разоблачением всяческой «магии» на театральной или цирковой сцене в ту пору на самом деле бдительно следило такое серьёзное учреждение, как ОГПУ.
Дьявольский магазин французской моды во время сеанса черной магии взят из рассказа Александра Амфитеатрова «Питерские контрабандистки», где на дому одной из известных контрабандисток действует подпольный магазин модного женского платья, незаконно ввезенного в Россию.
В эпизоде с червонцами Воланда отразился очерк «Легенда о Агриппе» Валерия Брюсова, написанный для русского перевода книги Жозефа Орсье «Агриппа Неттесгеймский: Знаменитый авантюрист XVI века». Там отмечалось, что средневековый германский ученый и богослов Агриппа Неттесгеймский, по мнению современников – чародей, будто бы «часто, во время своих переездов… расплачивался в гостиницах деньгами, которые имели все признаки подлинных. Конечно, по отъезде философа монеты превращались в навоз. – Одной женщине Агриппа подарил корзину золотых монет; на другой день с этими монетами произошло то же самое: корзина оказалась наполненной лошадиным навозом». После Великого бала у сатаны Воланд дарит пачку червонцев злой соседке Берлиоза Аннушке-Чуме, невольно способствовавшей гибели председателя МАССОЛИТа и пытавшейся украсть подаренную Маргарите дьяволом золотую подкову – не только символ счастья, но и атрибут копыта дьявола. Эти деньги, которые можно рассматривать как плату за пособничество в убийстве, потом превращаются в доллары, которые у Аннушки изъяла милиция. Для героини валюта оказалась столь же бесполезна, как и навоз для женщины, мнимо облагодетельствованной Агриппой. Ведь на самом деле это воланд направил Берлиоза под колеса трамвая.
В редакции 1929 года будущий директор Театра Варьете Степан Богданович Лиходеев именовался Гарусей Педулаевым и возлавлял «Театр Кабаре». Он имел своим прототипом владикавказского знакомого Булгакова кумыка Туаджина Пейзулаева, соавтора по пьесе «Сыновья муллы». В первой редакции романа Воланд выбрасывал Гарасю Педулаева во Владикавказ. Тогда этот герой пролетал над крышей дома 302-бис на Садовой и тут же видел большой и очень красивый сад, а за ним «громоздящуюся высоко на небе тяжелую гору с плоской как стол вершиной» (знаменитую Столовую гору, у подножья которой расположен Владикавказ). Перед взором Гараси возник «проспект, по которому весело позванивал маленький трамвай. Тогда, оборотясь назад, в смутной надежде увидеть там свой дом на Садовой, Гарася убедился, что сделать этого он никак не может: не было не только дома – не было и самой Садовой сзади… Гарася залился детскими слезами, и сел на уличную тумбу, и слышал вокруг ровный шум сада. Карлик в черном… пиджаке и в пыльном цилиндре вышел из этого сада.
Его бабье безволосое лицо удивленно сморщилось при виде плачущего мужчины.
– Вы чего, гражданин? – спросил он у Гараси, дико глядя на него.
Директор карлику не удивился.
– Какой это сад? – спросил он только.
– Трэк, – удивленно ответил карлик.
– А вы кто?
– Я – Пульз, – пропищал тот.
– А какая это гора? – полюбопытствовал Гарася.
– Столовая Гора.
– В каком городе я?
Злоба выразилась на крохотном личике уродца.
– Вы что, гражданин, смеетесь? Я думал, вы серьезно спрашиваете!..»
Лилипут уходит от Гараси, возмущенный, и тогда тот кричит:
«– Маленький человек!.. Остановись, сжалься!.. Я… все забыл, ничего не помню, скажи, где я, какой город.
– Владикавказ, – ответил карлик.
Тут Гарася поник главой, сполз с тумбы и, ударившись головой оземь, затих, раскинув руки.
Маленький человечек сорвал с головы цилиндр, замахал им вдаль и тоненько закричал:
– Милиционер, милиционер!»
Здесь отразились булгаковские впечатления от гастролировавшей во Владикавказе труппы лилипутов.
В последующих редакциях директор Театра Варьете назывался Степой Бомбеевым или Лиходеевым, но вплоть до 1937 года его выбрасывали из Нехорошей квартиры во Владикавказ. Интересно, что в 1936 году Т. Пейзулаев скончался в Москве. Возможно, узнав о смерти прототипа, Булгаков решил убрать детали, связывающие с ним Лиходеева. В последней редакции романа незадачливого директора Азазелло отправлял уже не во Владикавказ, а в Ялту. И тут становится очевидной связь Лиходеева с героем рассказа Михаила Зощенко «Землетрясение» Снопковым, который «через всю Ялту… прошел в своих кальсонах. Хотя, впрочем, никто не удивился по случаю землетрясения. Да, впрочем, и так никто бы не поразился». В отличие от героя «Землетрясения», Степа своим появлением в непотребном виде производит в Ялте смятение. Впрочем, он тоже выступает как жертва стихии, только не землетрясения, а потусторонних сил. Показательно, что в происшествиях, случившихся со Снопковым и Лиходеевым, совпадают многие мелкие детали. Герой Булгакова наказан среди прочего и за пьянство: перед вынужденным путешествием в исподнем и без сапог в Ялту он выпил чересчур много водки и портвейна (его приключения во многом предвосхищают сюжет известного фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», где вместо Ялты фигурирует Ленинград). Точно так же герой Зощенко накануне землетрясения (речь идет о Большом Крымском землетрясении 11 сентября 1927 года в районе Ялты) «выкушал полторы бутылки русской горькой», затем заснул, был ограблен и раздет до подштанников. Очнувшись и пройдя несколько верст от города, «он присел на камушек и загорюнился. Местности он не узнает, и мыслей он никаких подвести не может. И душа и тело у него холодеют. И жрать чрезвычайно хочется.
Только под утро Иван Яковлевич Снопков узнал, как и чего. Он у прохожего спросил.
Прохожий ему говорит:
– А ты чего тут, для примеру, в кальсонах ходишь?
Снопков говорит:
– Прямо и сам не понимаю. Скажите, будьте любезны, где я нахожусь?
Ну, разговорились. Прохожий говорит:
– Так что до Ялты верст, может, тридцать будет. Эва куда ты зашел».
Сходным образом в окончательном тексте Булгаков описывает пребывание Степы в Ялте: «Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он открыл как следует, глаза, он увидел, что шумит море… и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, и что под ним голубое сверкающее море, а сзади – красивый город на горах.
Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу.
На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами. Тогда Степа отколол такую штуку: стал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес:
– Умоляю, скажите, какой это город?
– Однако! – сказал бездушный курильщик.
– Я не пьян, – хрипло ответил Степа, – я болен, со мной что-то случилось, я болен… Где я? Какой это город?..
– Ну, Ялта…
Степа тихо вздохнул, покатился на бок, головою стукнулся о нагретый камень мола».
Просторечный стиль рассказчика совпадает в обоих случаях. А вот реакция героев на происходящее оказывается прямо противоположной. Само слово «Ялта» успокаивает Снопкова, узнающего, что он не так уж далеко от дома забрался в своих странствиях. Лиходеева оно, наоборот, повергает в ужас. Директор Театра Варьете не в состоянии понять, как он за одно мгновение очутился в сотнях километров от Москвы. Различие здесь и в объектах осмеяния. У Зощенко в конечном счете рассказ юмористический, бичующий пьянство. Его герой – простой сапожник. «Землетрясение» – это как бы иллюстрация к известной поговорке «пьян как сапожник». У Булгакова же образ Лиходеева – образ сатирический. Пьянство – не единственный и далеко не главный порок директора. Он наказан прежде всего за то, что занимает не свое место. В ранних редакциях Степа был прямо назван «красным директором». Так официально именовались назначенцы из числа партийных работников, которых ставили во главе театральных коллективов с целью осуществления административных функций и контроля, причем «красные директора», как правило, никакого отношения к театральному искусству не имели. В эпилоге Лиходеев получает более подходящее при его страсти к выпивке и закуске назначение – директором большого гастронома в Ростове.
В образе Степы отразился и материал булгаковского фельетона «Чаша жизни». Известное замечание Воланда: «Я чувствую, что после водки вы пили портвейн! Помилуйте, да разве это можно делать!» – выросло из сентенции одного из героев этого фельетона: «Портвейн московский знаете? Человек от него не пьянеет, а так лишается всякого понятия». Степан Богданович, пробудившись, припоминает только, как целовал какую-то даму и как ехал на таксомоторе со скетчистом Хустовым. В «Чаше жизни» один из героев, Пал Васильич, обнимает и целует неизвестную даму, а потом рассказчик помнит только, как они ехали на такси. Очнувшись же дома, он, как и директор Театра Варьете, оказывается не в состоянии подняться.
Лиходеев оказывается связан также с булгаковским фельетоном «День нашей жизни». Его герой возвращается домой после попойки и заплетающимся языком произносит последний монолог перед тем, как забыться: «Что, бишь, я хотел сделать? да лечь… Это правильно. Я ложусь… но только умоляю разбудить меня, разбудить меня, непременно, чтоб меня черт взял в десять минут пятого… нет, пять десятого… Я начинаю новую жизнь… Завтра». Степа якобы назначает свидание Воланду на десять часов, а затем директора действительно «черт взял» и кинул из Москвы в Ялту. В эпилоге же показано, как Лиходеев начинает «новую жизнь»: отказывается от портвейна и пьет только водку, настоянную на смородиновых почках, буквально следуя совету Воланда. Он «стал молчалив и сторонится женщин».
Ирония заключена в отчестве Лиходеева – Богданович, поскольку скорее не Бог, а черт принес Степу в Театр Варьете, где от него стонут подчиненные, так что на предположение администратора Варенухи, не попал ли Степа, как и Берлиоз, под трамвай, финдиректор Римский отвечает: «А хорошо бы было…».
Сомнительный разговор с Берлиозом «на какую-то ненужную тему», происходивший, «как помнится, двадцать четвертого апреля», который директор Театра Варьете связывает с печатью на двери Берлиоза и возможным арестом председателя МАССОЛИТа, восходит к переписке Булгакова с одним старым знакомым. 19 апреля 1929 года ему написал из Рязани актер Николай Васильевич Безекирский. Он знал Булгакова со времени работы в Лито (Литературном отделе) Главполитпросвета. Безекирский сообщал: «Вы, вероятно, очень будете удивлены, что малознакомый к Вам пишет, но я, вспомня наше короткое с Вами знакомство в трудное время и зная, что Вы некоторое время сами были в скверном материальном положении, а следовательно, скорее поймете мое теперешнее ужасное положение: я административно выслан на 3 года минус 6 губерний. Причина для меня до сих пор довольно туманная – следователь ГПУ обвинял меня в контрреволюционном разговоре в одном доме, где я часто бывал, ну и в результате я в Рязани, лишился службы в Москве, не член уже стал союза и пр., и здесь я не могу нигде найти работы, и я сейчас в таком положении, что хоть где-нибудь зацепись за крюк!» Судя по тому, что второе и последнее из известных писем Безекирского Булгакову с благодарностью за помощь датировано 26 апреля 1929 г. на открытке «для ответа» и поступило к Булгакову, как можно заключить по почтовому штемпелю, 28 апреля, то не дошедшее до нас письмо Булгакова Безекирскому было написано и отослано 24 апреля 1929 г., как раз в тот день, когда произошел разговор Лиходеева с Берлиозом. Происшествие с сосланным в Рязань актером было использовано в образе Мастера во второй из редакции романа, где упоминались «рязанские страдания» героя. Там в сцене последнего полета Коровьев-Фагот предлагал Мастеру нырнуть в кафе «освежиться, так сказать, после рязанских страданий», после чего «тоска вдруг сжала сердце поэта».
Жорж Бенгальский является конферансье Театра Варьете. Бенгальский – это распространенный сценический псевдоним, с которым мы в данном случае, скорее всего, имеем дело. Не исключено, что здесь Булгаков ориентировался на одного из эпизодических персонажей романа Федора Сологуба (Тетерникова) «Мелкий бес» – драматического артиста Бенгальского. Непосредственным прототипом Жоржа Бенгальского, возможно, послужил один из конферансье, выступавших в Московском мюзик-холле Георгий (или Жорж) Раздольский. Однако у Бенгальского был и другой прототип, очень хорошо известный Булгакову. Это – один из двух руководителей МХАТа Владимир Иванович Немирович-Данченко, в «Театральном романе» запечатленный в образе одного из двух директоров Независимого Театра – Аристарха Платоновича, который почти безвылазно находился за границей. Булгаков Немировича-Данченко не любил и не скрывал этого, в частности, в письмах к Елене Сергеевне.
В «Театральном романе» Аристарх Платонович находится в Индии и шлет письма с берегов Ганга. А эта река как раз протекает по территории Бенгалии – исторической области Индии. Вероятно, здесь одна из причин, почему конферансье Театра Варьете получил фамилию Бенгальский. Он представлен в романе циником и обывателем (филистером).
У Андрея Фокича Сокова, буфетчика Театра Варьете, в чьи уста вложены бессмертные в России слова об «осетрине второй свежести», прототипы, литературные и реальные, оказываются самые неожиданные. Эпизод, когда Скоков узнает от Воланда и его свиты о своей болезни и близкой смерти, но отказывается от предложения потратить свои немалые сокровища, скопленные отнюдь не трудами праведными, а за счет все той же «осетрины второй свежести», на радости жизни, явно навеян книгой Ф.В. Фаррара «Жизнь Иисуса Христа». Там излагалась рассказанная Иисусом Христом притча, которая «при всей своей краткости богата значением». Это – «маленькая притча о богатом глупце, который в своем жадном, до богозабвения самонадеянном своекорыстии намеревался делать то и другое и который, совсем забывая, что существует смерть и что душа не может питаться хлебом, думал, что душе его надолго хватит этих «плодов», «добра» и «житниц» и что ей достаточно только «есть, пить и веселиться», но которому, как страшное эхо, прогремел с неба потрясающий и полный иронии приговор: «Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? (Лук., XII, 16–21)». А вот как выглядело предсказание, данное Сокову Коровьевым:
«…Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате.
Буфетчик стал желт лицом.
– Девять месяцев, – задумчиво считал Воланд, – двести сорок девять тысяч… Это выходит круглым счетом двадцать семь тысяч в месяц? Маловато, но при скромной жизни хватит…
– Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику, – продолжал артист, – какой смысл умирать в палате под стоны и хрип безнадежных больных. Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?»
У Булгакова с иронией обращается к Сокову не Бог, а дьявол, и, в отличие от героя евангельской притчи, буфетчик Театра Варьете – скуп и не наслаждается жизнью. Писатель, заменив Бога на дьявола, а богача-гедонист на жулика-скрягу, пародирует евангельский сюжет.
Уже в ранней редакции Воланд предрекал Сокову смерть через год, но не называл точной даты. Февраль будущего года как время смерти буфетчика появился в тексте романа в январе 1940 года так же, как и визит Андрея Фокича к профессору Кузьмину. Смертельно больной писатель вывел здесь реального профессора В. И. Кузьмина, безуспешно лечившего его в конце 1939 года от наследственного нефросклероза. Называя февраль, Булгаков как бы предсказывал тогда собственную смерть, но ошибся на несколько дней: он умер 10 марта 1940 года (по хронологии «Мастера и Маргариты» смерть С. происходит за десять лет до того – в феврале 1930 г.).
Сцена визита Сокова к Воланду, когда посетитель обнаруживает, что его шляпа, поданная ведьмой Геллой, превратилась в черного котенка, имеет своим источником то место у Белого, когда при посещении Мандро профессором Коробкиным хозяин указывает близорукому гостю вместо его меховой шапки на свернувшегося клубочком кота. Герой «Московского чудака» «надел на себя не кота, а – терновый венец». У Булгакова шляпа на голове злосчастного буфетчика превращается в котенка, который и расцарапал лысину Сокова. Перед тем как вернуться за шляпой, плут буфетчик поминает Христа: «Оставьте меня, Христа ради», обращаясь к женщине, пытавшейся его задержать. Немедленно следует пародийное наказание со стороны нечистой силы, и Соков претерпевает те же муки, что и Христос перед распятием – котенок, возникший из шляпы, играет здесь роль тернового венца.
И в «Московском чудаке» и в «Мастере и Маргарите» оба героя, подвергшиеся сходному истязанию, вскоре должны погибнуть. Белый в своем романе ориентировался на рассказ Эдгара А. По «Черный кот», где кот сидит на черепе трупа. Вероятно, Булгакову был известен не только роман Белого, но и этот рассказ «предтечи символизма». В ранней редакции «Мастера и Маргариты» описание кабинета Воланда, каким его видел буфетчик, почти совпадало с описанием кабинета Мандро. У Белого «фестонный камин в завитках рококо открывал свою черную пасть». У Булгакова «на зов из черной пасти камина вылез черный кот».
Глава придуманной Булгаковым Акустической комиссии Аркадий Аполлонович Семплеяров имеет легко узнаваемые реальные прототипы. Фамилия «Семплеяров» произведена от фамилии хорошего знакомого Булгакова, композитора и дирижера Александра Афанасьевича Спендиарова. Вторая жена писателя Л. Е. Белозерская вспоминает о знакомстве со Спендиаровым и его семейством в начале 1927 года и приводит дневниковый рассказ его дочери Марины: «Мы с папой были у Булгаковых. Любовь Евгеньевна спросила заранее, какое любимое папино блюдо. Я сказала: «Рябчики с красной капустой». С утра я искала папу, чтобы сообщить ему адрес Булгаковых… Помню его голос в телефоне: «Это ты, Марюшка? Ну, что ты? Ну, говори адрес… Хорошо, я приду, детка». Когда я пришла, Михаил Афанасьевич, Любовь Евгеньевна и папа сидели вокруг стола. Папа сидел спиной к свету на фоне рождественской елки. Меня поразило то, что он такой грустный, поникший. Он весь в себе был, в своих мрачных мыслях и, не выходя из своего мрачного в то время мирка, говорил, глядя в тарелку, о накопившихся у него неприятностях. Потом, как-то неожиданно для нас всех, перешел на восхваление Армении. Чувствовалось, что в сутолочной Москве он соскучился по ней». Сама Л. Е. Белозерская отозвалась о прототипе Семплеярове так: «Мне Александр Афанасьевич понравился, но показался необычайно озабоченным, а поэтому каким-то отсутствующим». Именно таким выглядит Аркадий Аполлонович после скандала в Театре Варьете, где были разоблачены Коровьевым-Фаготом его любовные похождения. Тогда супруга Семплеярова на телефонный звонок «ответила мрачно, что Аркадий Аполлонович нездоров, лег почивать и подойти к аппарату не может». Разговор его с представителем учреждения, имевшем короткое, но грозное название (в ранних редакциях романа прямо называвшемся – ГПУ), во многом напоминает разговор с М. А. Спендиаровой: «Да, да, да, как же, я понимаю… Сейчас выезжаю».
Главным же прототипом Семплеярова, которого в какой-то мере маскировала фигура армянина А. А. Спендиарова, был тоже кавказец, но грузин – Авель Сафронович Енукидзе, являвшийся в 1922–1935 годах секретарем Президиума ЦИК и председателем Правительственной комиссии по руководству Большим и Художественным театрами. Для собственно театрального искусства эта комиссия была столь же бесполезна, как и Акустическая комиссия в булгаковском романе, однако представляла собой дополнительный барьер для появления «идеологически вредных» спектаклей. Енукидзе также был членом коллегии Наркомпроса и Государственной комиссии по просвещению, располагавшихся на Чистых прудах в доме № 6. На Чистых прудах находилась и акустическая комиссия Семплеярова. Кстати сказать, если обозначить имя, отчество и фамилию Семплеярова инициалами, они практически совпадут с инициалами А.С. Енукидзе. Авель Сафронович был неравнодушен к прекрасному полу, особенно к актрисам подведомственных театров, что и послужило поводом для его падения в рамках очередной «чистки» в высшем эшелоне власти, связанной с уже упоминавшимся «кремлевским делом». В марте 1935 года он был перемещен на пост председателя ЦИК Закавказской Федерации. А уже 7 июня 1935 года Пленум ЦК ВКП(б) принял резолюцию, один из пунктов которой звучал так: «За политическое и бытовое разложение бывшего секретаря ЦИК СССР т. А. Енукидзе вывести его из состава ЦК ВКП(б)». Вскоре он был исключен из партии и назначен сначала уполномоченным по курортам Кавказских минеральных вод, затем начальником харьковской конторы Центрального управления дорожного транспорта. В 1937 году Енукидзе был арестован и 16 декабря в компании с рядом других подсудимых, в том числе Б. С. Штейгером, прототипом барона Майгеля, был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению «в измене Родине, террористической деятельности и систематическом шпионаже в пользу одного из иностранных государств» и расстрелян (в фантастичности этих обвинений вряд ли сомневались мыслящие современники). Посмертно, в 1960 году, Авеля Сафроновича реабилитировали.
Семплеяров фигурировал еще в 1931 году в списке персонажей будущего романа. Тогда его звали Пафнутий Аркадьевич Семплеяров. В сцене сеанса черной магии в Театре Варьете он впервые появился в варианте конца 1934 года. Возможно, сатирическое изображение в этом образе А. С. Енукидзе было вызвано тем, что именно ему Булгаков в конце апреля 1934 г. направил прошение о двухмесячной поездке за границу, а секретарь ВЦИК, как зафиксировала в дневнике 4 мая 1934 года Елена Сергеевна, не рискнул единолично решить вопрос о выезде и наложил на прошении резолюцию: «Направить в ЦК». В результате поездка была сорвана, причем отказ последовал в унизительной форме. «Разоблачение» Семплеярова на сеансе черной магии стало своеобразной местью Булгакова Енукидзе, причем еще задолго до падения Авеля Сафроновича. Но в эпилоге, написанном уже после казни незадачливого секретаря ВЦИК и председателя комиссии по двум главнейшим театрам страны, писатель существенно смягчил участь героя по сравнению с прототипом: Семплеярова всего лишь отправляют заведовать грибозаготовочным пунктом в Брянске, поскольку «не клеились у Аркадия Аполлоновича дела с акустикой, и сколько ни старался он улучшить ее, она какая была, такая и осталась».
Имя и отчество Семплеярова – Аркадий Аполлонович – можно перевести как «пастух Аполлона», поскольку «Аркадий» означает пастух – иронический намек на служение героя Аполлону – богу, покровителю искусств (имя персонажа в черновике 1931 года – Пафнутий – переводится с древнеегипетского как «принадлежащий Богу»).
Семплеяров генетически связан с упоминаемым персонажем пьесы «Адам и Ева» – всесильным покровителем литератора-конъюнктурщика Пончика-Непобеды Аполлоном Акимовичем, который требует его «к священной жертве», совсем как бог Аполлон.
Нехорошая квартира и Великий бал у сатаны: как коммуналка на Садовой превратилась в резиденцию американского посла
Нехорошая квартира № 50 в доме 302-бис по Садовой улице в романе «Мастер и Маргарита», имеет своим прообразом квартиру № 50 в доме № 10 по Б. Садовой улице в Москве, где Булгаков жил в 1921–1924 годах. Некоторыми чертами планировки Нехорошая квартира также соответствует более просторной квартире № 34 в том же доме, где писатель поселился в период с августа по ноябрь 1924 года. Вымышленный номер 302-бис – это зашифрованный номер 10 здания-прототипа по формуле 10 = (3+2)х2. В этом номере угадывается также связь с нечистой силой (по-украински «бис» означает «бес»). А фантастически большой номер (ни на одной из Садовых улиц в Москве никогда не было и нет дома с таким большим номером, обычно нумерация не доходит даже до сотни) должен подчеркнуть нереальность происходящего так же, как и невероятно большой номер отделения милиции, выдавшего паспорт дяде Берлиоза Максимилиану Андреевичу Поплавскому – 412-й.
Первая жена Булгакова Т. Н. Лаппа вспоминала квартиру № 50 и прототип погубившей Берлиоза Аннушки Чумы: «Эта квартира не такая, как остальные, была. Это бывшее общежитие, и была коридорная система: комнаты направо и налево. По-моему, комнат семь было и кухня. Ванной, конечно, никакой не было, и черного хода тоже. Хорошая у нас комната была, светлая, два окна. От входа четвертая, предпоследняя, потому что в первой коммунист один жил, потом милиционер с женой, потом Дуся рядом с нами, у нее одно окно было, а потом уже мы, и после нас еще одна комната была. В основном в квартире рабочие жили. А на той стороне коридора, напротив, жила такая Горячева Аннушка. У нее был сын, и она все время его била, а он орал. И вообще, там невообразимо что творилось. Купят самогону, напьются, обязательно начинают драться, женщины орут: «Спасите! Помогите!» Булгаков, конечно, выскакивает, бежит вызывать милицию. А милиция приходит – они закрываются на ключ и сидят тихо. Его даже оштрафовать хотели». В отличие от коридорной системы № 50, в квартире № 34 было пять комнат, в двух из которых жил богатый финансист Артур Борисович Манасевич с женой, еще в одной – их прислуга, в четвертой – Александра Николаевна Кибель с сыном Вовкой, послужившие прототипами героев рассказа «Псалом», а в пятой вместо выехавшего сына А. Б. Манасевича – будущего писателя Владимира Артуровича Лёвшина (Манасевича) – поселились Булгаков с Т. Н. Лаппа.
Председатель жилищного товарищества дома 302-бис по Садовой, где распологалась Нехорошая квартира, Никанор Иванович Босой в ранней редакции романа звался Никодимом Григорьевичем Поротым, заставляя вспомнить автора апокрифического Никодимова Евангелия, особенно подробно излагавшего историю Понтия Пилата. Босой завершает длинный ряд управдомов-мошенников в булгаковском творчестве, начатый «барашковым председателем» в «Воспоминании…», Швондером в «Собачьем сердце» и Аллилуйей-Портупеей в «Зойкиной квартире» и продолженный Буншей-Корецким в «Блаженстве» и «Иване Васильевиче». Председатель жилтоварищества дома 302-бис достаточно далеко ушел от своего прототипа – управляющего домом № 50 по Б. Садовой караима К. Сакизчи (в рассказе «№ 13. – Дом Эльпит-Рабкоммуна» он выведен под именем Христи), превратившись в русского, а после проделок Воланда уверовав в христианского Бога: «– Бог истинный, бог всемогущий, – заговорил Никанор Иванович, – все видит, а мне туда и дорога. В руках никогда не держал и не подозревал, какая такая валюта! Господь меня наказует за скверну мою, – с чувством продолжал Никанор Иванович, то застегивая рубашку, то расстегивая, то крестясь, – брал! Брал, но брал нашими, советскими! Прописывал за деньги, не спорю, бывало…
На просьбу не валять дурака, а рассказывать, как попали доллары в вентиляцию, Никанор Иванович стал на колени и качнулся, раскрывая рот, как бы желая проглотить паркетную шашку.
– Желаете, – промычал он, – землю буду есть, что не брал? А Коровьев – он черт.
Всякому терпению положен предел, и за столом уже повысили голос, намекнули, что ему пора заговорить на человеческом языке.
Тут комнату с этим самым диваном огласил дикий рев Никанора Ивановича, вскочившего с колен:
– Вон он! Вон он за шкафом! Вот ухмыляется! И пенсне его… держите его! Окропить помещение!
Кровь отлила от лица Никанора Ивановича, он, дрожа, крестил воздух, метался к двери и обратно, запел какую-то молитву и, наконец, понес полную околесицу».
Ловля управдомом черта – Коровъева – у следователя ОГПУ разительно напоминает поиски черта Иваном Карамазовым во время допроса в «Братьях Карамазовых» Достоевского, причем оба героя одинаково сходят с ума. У Булгакова идет пародийное снижение по сравнению с Достоевским: в черта, а через него и в Бога поверил не образованный богоборец-нигилист, а полуграмотный хапуга-управдом.
Эпизод сна Босого, где он видит себя в помещении очень своеобразного театра (там небритых мужчин заставляют сдавать валюту и ценности), навеяна личными впечатлениями близкого друга Булгакова Н. Н. Лямина. Как вспоминала Н. А. Ушакова, «Николая Николаевича тоже вызвали. Уж не знаю, почему они решили, что у нас что-то есть. Может быть, потому, что они уже вызывали первую жену Николая Николаевича – Александру Сергеевну Лямину, которая была из известной купеческой семьи Прохоровых, кроме того, у них уже сидела ее тетка. Николай Николаевич просидел там недели две». В 1929 году ОГПУ начало кампанию по изъятию у населения валюты, золота и драгоценностей. Подозреваемых «валютчиков» держали в тюремных камерах иногда по нескольку недель в надежде, что те «добровольно» выдадут хотя бы часть того, что имеют. При этом задержанных кормили соленой пищей, а воды давали мало.
Н. А. Ушакова свидетельствовала, что тетка ее мужа, Прохорова, «у них уже долго сидела. Какое-то ожерелье или колье они искали… не помню, чье оно и у кого было спрятано. И Николая Николаевича все время об этом спрашивали, но он от всего отказывался и говорил, что ничего не знает. А первую жену Николая Николаевича тоже туда вызывали и тоже о колье спрашивали, но они заранее договорились ни в чем не признаваться. В общем, он ничего не говорил о тетке до тех пор, пока ее не провели перед ним. Тогда он убедился, что они ее все равно знают. Потом у нас сделали обыск, но у нас, конечно, ничего не было, и они унесли две дешевые побрякушки со стекляшками вместо камней, и Николая Николаевича выпустили. И вот, он Булгакову обо всем этом подробно рассказывал, и тот написал эту главу про сон Никанора Ивановича почти слово в слово».
Возможно, арест Лямина произошел осенью 1931 года. Булгаков написал о нем П. С. Попову в Ленинград: «Коля живет пристойно, но простудился на днях». Слова о простуде могли быть иносказательным сообщением о задержании. Первый вариант главы о сне Босого был написан в сентябре 1933 года. Тогда она называлась «Замок чудес». 17 и 27 сентября, судя по записям Елены Сергеевны, Булгаков читал ее Лямину. В дальнейшем глава неоднократно переделывалась и частично уничтожалась, вероятно, из-за политической остроты содержания. Однако и в окончательном тексте сохранилась история тетки Пороховниковой на Пречистенке, скрывающей валюту и драгоценности. В фамилии Пороховникова угадывается созвучие с Прохоровыми.
В первом варианте главы «Последний полет», написанном в июле 1936 года, Воланд предупреждал Мастера: «Исчезнет из памяти дом на Садовой, страшный Босой, но исчезнет мысль о Ганоцри и о прощенном игемоне». Скорее всего, первоначально Босой должен был быть фигурой более зловещей – не только взяточником, но и вымогателем и доносчиком, возможно, игравшим по отношению к Мастеру ту же роль, которая в окончательном тексте досталась Алоизию Могарычу. Очевидно, тогда Никанор Иванович еще проецировался на кого-то из «теплой компании» жилтоварищества дома № 50 по Б. Садовой, о которой Булгаков писал сестре Наде 1 декабря 1921 года: «Одно время пережил натиск со стороны компании из конторы нашего дома. «Да А. М. (имеется в виду А. М. Земский. – Б. С.) триста шестьдесят пять дней не бывает. Нужно его выписать. И вы тоже неизвестно откуда взялись» и т. д. и т. д. Не вступая ни в какую войну, дипломатически вынес в достаточной степени наглый и развязный тон, в особенности со стороны С. смотрителя. По-видимому, отцепились. Андрея настоял не выписывать… С. довел меня до белого каления, но я сдерживаюсь, потому что не чувствую, на твердой ли я почве. Одним словом, пока отцепились». 24 марта 1922 года писатель сообщал сестре: «…Дом уже «жилищного рабочего кооператива» и во главе фирмы вся теплая компания, от 4–7 по-прежнему заседания в комнате налево от ворот». Так же и Босой наделен только одной страстью – к еде и выпивке. От любимого занятия его и отрывают сотрудники ОГПУ. В окончательном тексте Босой – фигура уже не столь зловещая, в большей мере юмористическая.
Между прочим, эпизод с театром для валютчиков Булгаков не выдумал. По воспоминаниям чекиста М.П. Шрейдера, руководство Экономического управления ОГПУ, состоявшее сплошь из евреев, дало указание следователям провести с арестованными «валютчиками» еврейской национальности беседы на предмет того, что их деньги пойдут на строительство нового общества, свободного от антисемитизма. При этом специально приглашенные музыканты исполняли еврейские мелодии – «Плачь Израиля», «Колнидре» и др. Поистине трагически фантасмагорична была окружавшая Булгакова действительность.
Репертуар, которому вынуждены внимать Босой и арестованные валютчики, определялся циркуляром от 4 августа 1924 года, подписанным Ягодой. Там утверждалось, что тогдашний репертуар лагерных и тюремных театров «ни в какой мере не соответствует задачам перевоспитания заключённых; постановки переполнены сентиментализмом, порнографией и пьесами, отрицательно влияющими на психику заключённых». Сам Генрих Григорьевич знал толк в порнографии. После ареста, последовавшего 28 марта 1937 года, у Ягоды при обыске нашли большую коллекцию порнографии и, в частности, 11 порнофильмов и 3904 порнографических фотографии. Но одно дело – он сам, друзья чекисты и прочие представители советской элиты, и совсем другое – зэки, которых надлежит кормить только «идеологически выдержанной» культурной продукцией, без всяких там сентиментальностей или непристойностей.
Булгаков как раз и спародировал такой «правильный» тюремный репертуар. Управдом-взяточник Никанор Иванович Босой оказывается в кампании арестованных валютчиков, которым в воспитательных целях читают со сцены «Скупого рыцаря».
Прототип Босого запечатлен в рассказе «Воспоминание…»: «Председатель домового управления, толстый, окрашенный в самоварную краску человек, в барашковой шапке и с барашковым же воротником, сидел, растопырив локти, и медными глазами смотрел на дыры моего полушубка». В романе также подчеркивается, что председатель жилтоварищества – «тучный», «толстяк с багровой физиономией» (багровым лицо у Босого стало от потрясения, вызванного долларами, обнаруженными в вентиляции, и арестом).
В Нехорошей квартире, в отличие от реальной квартиры № 50, живет только двое (с прислугой – трое) жильцов – директор Театра Варьете Степа Лиходеев, держащий прислугу Груню, и председатель МАССОЛИТа Михаил Александрович Берлиоз. По своей относительно небольшой населенности это скорее напоминает квартиру № 34, где живут представители бывшей элиты. В Нехорошей же квартире обитают представители новой, советской элиты, и они оказываются гораздо несимпатичнее прежних «хозяев жизни».
Но ни одна из этих квартир не сравнится с теми огромными залами, в которых Воланд проводит свой бал – Великий бал у сатаны. Он расширяет пространство московской коммуналки, пусть даже предназначенной для привилегированых жильцов, до, как говорит Коровьев Маргарите, «черт знает каких пределов».
Как вспоминала Елена Сергеевна Булгакова, в описании бала были использованы впечатления от приема в американском посольстве в Москве в ночь с 22 на 23 апреля 1935 года. Таким образом, коммунальная квартира № 50 чудесным образом превратилась даже не в роскошную квартиру, а в залы шикарного особняка со Спасопесковской площадки, 10 – резиденции посла США в СССР. Посол Уильям Буллит пригласил писателя с женой на это торжественное мероприятие. Об истории создания 23-й главы романа «Великий бал у сатаны» Е. С. Булгакова рассказывала В. А. Чеботаревой: «Сначала был написан малый бал. Он проходил в спальне Воланда; то есть в комнате Степы Лиходеева. И он мне страшно нравился. Но затем, уже во время болезни, Михаил Афанасьевич написал большой бал. Я долго не соглашалась, что большой бал был лучше малого… И однажды, когда я ушла из дома, он уничтожил рукопись с первым балом. Я это заметила, но ничего не сказала… Михаил Афанасьевич полностью доверял мне, но он был Мастер, он не мог допустить случайности, ошибки, и потому уничтожил тот вариант. А в роскоши большого бала отразился, мне кажется, прием у У. К. Буллита, американского посла в СССР.
Раз в год Буллит давал большие приемы по поводу национального праздника. Приглашались и литераторы. Однажды мы получили такое приглашение. На визитной карточке Буллита чернилами было приписано: «фрак или черный пиджак». Миша мучился, что эта приписка только для него. И я очень старалась за короткое время «создать» фрак. Однако портной не смог найти нужный черный шелк для отделки, и пришлось идти в костюме. Прием был роскошный, особенно запомнился огромный зал, в котором был бассейн и масса экзотических цветов». Этот прием Е. С. Булгакова подробно описала в дневниковой записи 23 апреля 1935 года, характерно назвав «балом»: «Бал у американского посла. М. А. в черном костюме. У меня вечернее платье исчерна-синее с бледно-розовыми цветами. Поехали к двенадцати часам. Все во фраках, было только несколько смокингов и пиджаков.
Афиногенов в пиджаке, почему-то с палкой. Берсенев с Гиацинтовой, Мейерхольд и Райх. Вл. Ив. с Котиком (имеются в виду В. И. Немирович-Данченко с О. С. Бокшанской. – Б. С.). Таиров с Коонен. Буденный, Тухачевский, Бухарин в старомодном сюртуке, под руку с женой, тоже старомодной. Радек в каком-то туристском костюме. Бубнов в защитной форме…
В зале с колоннами танцуют, с хор – прожектора разноцветные. За сеткой – птицы – масса – порхают. Оркестр, выписанный из Стокгольма. М. А. пленился больше всего фраком дирижера – до пят.
Ужин в специально пристроенной для этого бала к посольскому особняку столовой, на отдельных столиках. В углах столовой – выгоны небольшие, на них – козлята, овечки, медвежата. По стенкам – клетки с петухами. Часа в три заиграли гармоники и петухи запели. Стиль рюсс. Масса тюльпанов, роз – из Голландии. В верхнем этаже – шашлычная. Красные розы, красное французское вино. Внизу – всюду шампанское, сигареты.
Хотели уехать часа в три, американцы не пустили – и секретари, и Файмонвилл (атташе), и Уорд все время были с нами. Около шести мы сели в их посольский кадиллак и поехали домой. Привезли домой громадный букет тюльпанов от Боолена (секретаря посольства. – Б. С.)».
Для полуопального литератора, каковым был Булгаков, прием в американском посольстве – событие почти невероятное, сравнимое с балом у сатаны. Советская наглядная пропаганда тех лет часто изображала «американский империализм» в облике дьявола. В романе реальные приметы обстановки резиденции американского посла сочетаются с деталями и образами отчетливо литературного происхождения.
Для того, чтобы вместить бал в Нехорошую квартиру, потребовалось раздвинуть ее до сверхъестественных размеров. Как объясняет Коровъев-Фагот, «тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов». Здесь вспоминается роман «Человек-невидимка» Герберта Уэллса, где главный герой Гриффин рассказывает о своем изобретении, позволяющем достичь невидимости: «Я нашел общий закон пигментов и преломлений света, формулу, геометрическое выражение, включающее четыре измерения. Дураки, обыкновенные люди, даже обыкновенные математики и не подозревают, какое значение может иметь для изучающего молекулярную физику какое-нибудь общее выражение». Булгаков идет дальше английского фантаста, увеличив число измерений с достаточно традиционных четырех (можно вспомнить стереотипное «мир в четвертом измерении») до пяти. В пятом измерении становятся видимыми гигантские залы, где происходит бал, а сами участники бала, наоборот, невидимы для окружающих людей, в том числе для агентов ОГПУ, дежурящих у дверей Нехорошей квартиры.
В Париже Л. Е. Белозерская одно время танцевала в балетной труппе знаменитого мюзик-холла «Фоли-Бержер». Она, в частности, описывает в книге «У чужого порога» статисток Большого парижского ревю в этом мюзик-холле: «Просто – толпа и «ню» – обнаженные. Вся тяжесть ложится на последних. Они переодеваются (скорее – раздеваются) раз по десять-пятнадцать за вечер и присутствуют на сцене в течение всего спектакля. Они – декоративная оправа всего ревю». Вероятно, эти воспоминания повлияли на замысел Великого бала у сатаны, где присутствует толпа обнаженных женщин вместе с одетыми мужчинами. Не исключено также, что некоторые черты образа Маргариты на этом балу были подсказаны рассказом Любови Евгеньевны о ее последней репетиции в «Фоли-Бержер»: «В картине «Ночь на колокольне Нотр-Дам» участвовала вся труппа. По углам таинственно вырисовывались Химеры. Зловещий горбатый монах в сутане стоял над громадным колоколом, простирая руки над вырывающимся из-под его ног пламенем. Из пламени медленно поднималась фигура лежащей женщины. Черный бархат скрадывал железную подпорку, и казалось, что женщина плывет в воздухе (не отсюда ли полет нагой Маргариты в ночном небе? – Б. С.) На колоколе, привязанная гирляндами цветов, висела совершенно обнаженная девушка. В полутьме мерцало ее прекрасное тело, казавшееся неживым. Голова, в потоке темных волос, была безжизненно запрокинута.
Под звуки глазуновской «Вакханалии» оживали химеры. Ведьмы хороводом проносились вокруг монаха. Вдруг одна из них крикнула: «Она умерла!» и остановилась. Произошло смятение. Задние наскочили на передних.
– Где? Кто? – Оркестр продолжал играть. – О! Умерла!
– Тихо! – крикнул режиссер. – Без паники!
Артистку сняли с колокола. Она была в глубоком обмороке. Впопыхах ее положили прямо на пол. Появился врач, запахло камфарой. «Она закоченела, – сказал он. – Прикройте ее!» Монах набросил на девушку свою сутану». Похожим образом и столь же мнимо умирает Маргарита, отравленная вместе с Мастером Азазелло, умирает, чтобы вновь воскреснуть в последнем полете.
Обильно украсив бальные залы розами, Булгаков учитывал сложную и многогранную символику, связанную с этим цветком. Писатель, без сомнения, был знаком со статьей имевшегося в его библиотеке Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона о розах в этнографии, литературе и искусстве. Там отмечалось, что в культурной традиции западноевропейских народов древности и Средневековья розы выступали олицетворением как траура, так и любви и чистоты. Розы были издавна включены в символику католической церкви. Еще у видного богослова Амвросия Миланского роза напоминала о крови Спасителя. У других духовных и светских писателей Западной Европы роза – это райский цветок, символ чистоты и святости, символ самого Христа или пресвятой девы Марии. В то же время розы оставались чужды русской и восточнославянской культурной традиции и практически не отразились в народной обрядности и поэзии. Здесь они приобрели некоторое значение не ранее XIX века. В конце XIX – начале XX века розы были важным мотивом в прозе и поэзии русских символистов, известной Булгакову. В статье Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона упоминались также розарии Древнего Рима – поминки по умершему, когда розами украшали могилы. Там же говорилось об обычаях римлян украшать розами храмы, статуи, венки в религиозных процессиях и на свадьбах. Рассказывалось и о праздниках роз в Риме, проводимых в мае, в период цветения. С учетом всего этого розы на балу можно рассматривать и как символ любви Маргариты к Мастеру, и как предвестие их скорой смерти. Розы здесь – и аллегория Христа, память о пролитой крови, и указание на грядущее в конце бала убийство Майгеля (согласно древним мифам, розы возникли из капель крови Венеры или Адониса). Обилие роз – цветов, чуждых собственно русской традиции, подчеркивает иноземное происхождение Воланда и его свиты и придает балу элемент пародии на католическую мессу.
В подготовительных материалах к последней редакции романа, относящихся к 1937–1938 годам, сохранилась следующая запись: «Стены роз молочно-белых, желтых, темно-красных, как венозная кровь, лилово-розовых и темно-розовых, пурпурных и светло-розовых». Скорее всего, здесь отразились впечатления от приема в американском посольстве.
Избрание Маргариты королевой бала и ее уподобление одной из французских королев, живших в XVI веке, также связано с Брокгаузом и Ефроном. Сохранились булгаковские выписки из статей этого словаря, посвященных двум французским королевам, носившим имя Маргарита, – Наваррской и Валуа, которых молва связывала с нечистой силой… Маргарита Валуа в 1572 году вышла замуж за короля Наваррского – будущего короля Франции Генриха IV, причем «ее свадьба, отпразднованная с большой пышностью, закончилась Варфоломеевской ночью, или парижской кровавой свадьбой», когда погибли тысячи протестантов-гугенотов. Толстяк, повстречавшийся Маргарите по дороге на бал, назвал ее «светлой королевой Марго» и «залопотал, мешая русские фразы с французскими, какой-то вздор про кровавую свадьбу своего друга в Париже Гессара, и про коньяк…». Здесь Булгаков показывает степень опьянения толстяка, ибо Гессар – это упоминаемый в статье о Маргарите Валуа издатель ее писем, живший в Париже в середине XIX века. Собеседник Маргариты спьяну совместил два события, разделенные почти тремя веками – Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572 года и издание писем королевы Франции Гессаром. Таким образом, бал Воланда ассоциативно оказывается связан с резней гугенотов католиками.
Историческая Маргарита Валуа осталась бездетной, и Маргарита, следовательно, не могла быть ее потомком. Поэтому Булгаков связал королеву бала с Маргаритой Наваррской, имевшей потомство. Она была «светлой королевой» – известной писательницей, автором сборника «Гептамерон», написанного в духе «Декамерона» Джованни Боккаччо. В новеллах «Гептамерона» действуют условные рассказчики, декларирующие свое намерение рассказывать лишь об истинных происшествиях, свидетелями которых они были сами или о которых слышали от заслуживающих доверие людей. Точно такой же рассказчик есть у Булгакова в «Мастере и Маргарите» и романе «Мольер».
С «Северной (первой героической)» симфонией А. Белого связан Великий бал у сатаны, который назван «весенним балом полнолуния, или балом ста королей», а Маргарита выступает на нем в роли королевы. Главная героиня «Северной» симфонии – королевна, а в финале в связи с ее вознесением на небе устраивается пир почивших северных королей, когда из золотых чаш пьют кровавое вино (на балу у Воланда в такую чашу превращается голова Берлиоза). Маргарита приветствует гостей бала, находясь на возвышающейся над залом мраморной лестнице и стоя на одном колене. У Белого королевна тоже стоит на одном колене на возвышении, принимая рыцарей в пернатых шлемах, которые целуют ей руку и колено (Маргарите – только колено). И у королевны, и у хозяйки Великого бала у сатаны на голове – алмазная корона. В «Северной» симфонии женщина в черном плаще олицетворяет смерть и Вечность. Такое же символическое значение имеет черный плащ, который оказывается на плечах Маргариты после бала, и черные плащи всех участников последнего полета. Королевна в симфонии «просила, чтобы миновал сон этой жизни и чтобы мы очнулись от сна». В финале «Мастера и Маргариты» главные действующие лица восклицают: «– Гори, гори, прежняя жизнь! Гори, страдание!» В «Северной» симфонии герои в конце концов восходят к вершинам света – мраморно-белой башне с террасой, с которой видна «голубая бесконечность». В эпилоге королевна соединяется со своим возлюбленным рыцарем в Вечности, и они вместе встречают свет звезды Утренницы. Любовь королевны выводит рыцаря из «бездны безвременья», где он оказался за то, что знался с нечистой силой, и дарит ему свет. В «Мастере и Маргарите» главным героям дарован не свет, а покой, где-то на границе дня и ночи, куда возвращаются и двое влюбленных, изображенных в «Северной» симфонии. Воланд обещает Мастеру и Маргарите перед последним приютом: «…Вы немедленно встретите рассвет». В «Северной» симфонии герои награждены покоем, однако мир, где они пребывают, подвижный, но лишенный мысли и монотонный: «Здесь позабыли о труде и неволе! Ни о чем не говорили. Позабыли все и все знали! Веселились. Не танцевали, а взлетывали в изящных междупланетных аккордах. Смеялись беззвучным водяным смехом. А когда уставали – застывали в целомудренном экстазе, уходя в сонное счастье холодно-синих волн»: Любовь у Белого – целомудренна и мистична. Она олицетворяет «вечную женственность» Владимира Соловьева. У Булгакова любовь Мастера и Маргариты – вполне земная, хотя и необыкновенная по своей силе. Мастеру оставлена способность творить и в последнем приюте, где ему предстоит «подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что… удастся вылепить нового гомункула». В «Северной» же симфонии покой – это вообще высшая возможная награда, даруемая Богом, а не дьяволом тем, кто стремится к земному величию: гордецам, титанам и героям, даруемая, если они смирились и обратились к Всевышнему:
«Еще давно великан поднял перед Господом свое гордое, бледнокаменное лицо, увенчанное зарей.
Еще давно они все поднимали тучи и воздвигали громады. Громоздили громаду на громаду. Выводили узоры и строили дворцы.
Но все пали под тяжестью громад, а туманные башни тихо, таяли на вечернем небе.
И суждено им было шагать долгие годы среди синих туч – обломков былого, величия…
Это все старики великаны… Они смирились и вот идут к Богу просить покоя и снисхождения…».
У Белого покой несовместим с творчеством, он выше его. У Булгакова в «Мастере и Маргарите» покой с творчеством совместимы, хотя и в последнем приюте, вне земной жизни. Такой покой, однако, оказывается ниже духовных высот, которых достигнут те, кто поднялся до нравственного уровня Иешуа Га-Ноцри.
Описание шабаша в «Северной» симфонии, возможно, отразилось в шабаше ранней редакции «Мастера и Маргариты». Там, в видении Феси, превратившегося в Мастера позднейших редакций, возникает сцена шабаша, где присутствуют черные ведьмы на скакунах. После шабаша, как можно судить по сохранившимся фрагментам, гости расходятся «недовольные и раздраженные». У Белого шабаш происходит в замке рыцаря, и там присутствуют «и пешие, и конные», «и козлы, и горбуны, и черные рыцари», но, поскольку сатана не удостоил владельца чести посещения, присутствовавшие «уезжали с пира несолоно хлебавши» и «уничтожали хозяина взорами презрения». От варианта романа 1933 года сохранилось более подробное описание шабаша в Нехорошей квартире. Туда Маргарита попадала через трубу и видела «скачущие в яростной польке пары». В «Северной» симфонии участники шабаша танцуют дьявольский танец козловак, а в разгар его является женщина в черном, как и Маргарита, символизирующая вечность. В окончательном тексте «Мастера и Маргариты» шабаш происходит на берегу реки, причем главную роль здесь играет козлоногий, подносящий Маргарите бокал с шампанским. Есть и толстяк, смешащий всех своей неловкостью. Ноги у него в илистой грязи, как в черных ботинках. В «Северной» симфонии шабаш возглавляет козлоногий дворецкий, а среди участников выделяется «забавный толстяк», который «взгромоздился на стол, топча парчовую скатерть грубыми сапожищами, подбитыми гвоздями».
Не исключено, что из «Северной» симфонии берет начало тот залихватский свист, в котором соревнуются Бегемот и Коровьев-Фагот на Воробьевых горах:
«Воланд кивнул Бегемоту, тот очень оживился, соскочил с седла наземь, вложил пальцы в рот, надул щеки и свистнул… Мастер вздрогнул от свиста, но не обернулся, а стал жестикулировать еще беспокойнее… – Мессир, поверьте, – отозвался Коровьев и приложил руку к сердцу, – пошутить, исключительно пошутить… – тут он вдруг вытянулся вверх, как будто был резиновый, из пальцев правой руки устроил какую-то хитрую фигуру, завился, как винт, и затем, внезапно раскрутившись, свистнул.
Этого свиста Маргарита не услыхала, но она его увидела в то время, как ее вместе с горячим конем бросило саженей на десять в сторону. Рядом с нею с корнем вырвало дубовое дерево, и земля покрылась трещинами до самой реки». У Белого: «тут выпрыгнул из чащи мой сосновый знакомец, великан. Подбоченясь, он глумился надо мной…
Свистал в кулак и щелкал пальцами перед моим глупым носом. И я наскоро собрал свою убогую собственность. Пошел отсюда прочь…
Большая луна плыла вдоль разорванных облак…
Мне показалось, что эта ночь продолжается века и что впереди лежат тысячелетия…».
Возможно, именно это место «Северной» симфонии послужило толчком для разработки многих важных эпизодов и мотивов «Мастера и Маргариты»: глумления Коровьева над Бездомным после гибели Берлиоза, растянувшейся на неопределенно долгое время полночи на Великом балу у сатаны, тысячелетий грядущего бессмертия, которые предчувствует Понтий Пилат.
У Булгакова Маргарита становится ведьмой не по собственному желанию, а по зову крови, будучи прапраправнучкой одной из двух Маргарит – Наваррской или Валуа. Кстати, в «Записной книжке» А. В. Амфитеатрова упоминаются «сочинения обеих Маргарит Валуа» – «подлинные памятники «любви», как понимало ее лучшее, самое избранное и образованное общество во Франции XVI–XVII века», причем, по оценке автора, это «такая вонь, которой не то что в русских старинных памятниках литературы, но, пожалуй, даже и в изустных похабных сказках скоморошьих не встретишь. И притом, именно вонь грубая, беспримесная, без извинений и иллюзий. Вонь чувств и вонь языка». Может быть, в этом была одна из причин, почему молва сделала французских королев любезными дьяволу.
Обе исторические Маргариты покровительствовали писателям и поэтам, и булгаковская Маргарита оказывается связана с гениальным Мастером, извлечения которого из лечебницы она добивается после бала.
Еще один источник бала в булгаковском романе – описание бала в Михайловском дворце, данное в книге маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году»: «… Свет отдельных групп цветных лампионов живописно отражался на колоннах дворца и на деревьях сада, в глубине которого несколько военных оркестров исполняли симфоническую музыку. Группы деревьев, освещенные сверху прикрытым светом, производили чарующее впечатление, также ничего не может быть фантастичнее ярко освещенной зелени на фоне тихой, прекрасной ночи.
Большая галерея, предназначенная для танцев, была декорирована с исключительной роскошью. Полторы тысячи кадок и горшков с редчайшими цветами образовали благоухающий боскет. В конце залы, в густой тени экзотических растений, виднелся бассейн, из которого беспрерывно вырывалась струя фонтана. Брызги воды, освещенные яркими огнями, сверкали, как алмазные пылинки, и освежали воздух…
Трудно представить себе великолепие этой картины. Совершенно терялось представление о том, где ты находишься. Исчезали всякие границы, все было полно света, золота, цветов, отражений и чарующей, волшебной иллюзии».
Подобную картину видит Маргарита на балу, ощущая себя в тропическом лесу, среди сотен цветов и разноцветных фонтанов, и слушая музыку лучших в мире оркестров.
Изображая Великий бал у сатаны, Булгаков учитывал и традиции русского символизма, в частности «Северной» первой симфонии А. Белого. Бал Воланда назван «весенним балом полнолуния, или балом ста королей», у Белого же, как уже было сказано, в надмирности в связи с вознесением королевны на небо устраивается пир почивших северных королей. Многие детали роскошного бассейна. заимствованы из третьей симфонии А. Белого «Возврат», где описан мраморный бассейн московских бань, украшенный чугунными изображениями морских обитателей.
Бал Воланда, помимо симфоний А. Белого, имеет своим источником пьесу Леонида Андреева «Жизнь человека», с успехом поставленную во МХАТе. Здесь на сцене постоянно присутствует безмолвствующий (он произносит речи лишь в прологе и эпилоге) Некто в сером, именуемый Он – олицетворение Рока, Судьбы или «Князя тьмы». У Булгакова ему подобен Воланд в сцене бала. Главные же герои «Жизни человека» – Человек и Жена – очень напоминают Мастера и Маргариту. Человек – это творческая личность, чья жизнь проходит перед зрителями от рожденья до смерти, познающий и бедность, и богатство, но всегда любимый своей Женой. Идея бала могла родиться из следующего диалога:
«Человек…Вообрази, что это – великолепный, роскошный, изумительный, сверхъестественный, красивый дворец.
Жена. Вообразила.
Человек. Вообрази, что ты – царица бала.
Жена. Готово.
Человек. И к тебе подходят маркизы, графы, пэры. Но ты отказываешь им и избираешь этого, как его – в трико. Принца. Что же ты?
Жена. Я не люблю принцев.
Человек. Вот как! Кого же ты любишь?
Жена. Я люблю талантливых художников.
Человек. Готово. Он подошел. Боже мой, но ведь ты кокетничаешь с пустотой? Женщина!
Жена. Я вообразила.
Человек. Ну ладно. Вообрази изумительный оркестр. Вот турецкий барабан: бум-бум-бум!…
Жена. Милый мой! Это только в цирке собирают публику барабаном, а во дворце…
Человек. Ах, черт возьми! Перестань воображать. Воображай опять! Вот заливаются певучие скрипки. Вот нежно поет свирель. Вот гудит, как жук, толстый контрабас…
Жена. Я царица бала».
И целая картина пьесы посвящена балу, который происходит «в лучшей зале обширного дома» внезапно разбогатевшего Человека. И этот же бал возникает в его памяти перед самой смертью.
Бал у сатаны, в частности, можно представить как плод воображения Маргариты, собирающейся покончить с собой. К ней как к царице (или королеве) бала подходят многие именитые вельможи-преступники, но всем Маргарита предпочитает своего возлюбленного – гениального писателя Мастера. Отметим, что балу предшествует сеанс черной магии в похожем на цирк Театре Варьете, где в финале музыканты играют марш (а в произведениях этого жанра всегда велика роль именно барабанов).
Живые шахматные фигурки, которыми играют Воланд и Бегемот перед началом бала, скорее всего, возникли не без влияния повести известного экономиста-агрария Александра Васильевича Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей». Эта книга была подарена Булгакову в 1926 году Н. А. Ушаковой (она иллюстрировала «Венедиктова»). В повести Чаянова рассказчик носил фамилию Булгаков и очень напоминал хроникера-рассказчика первой редакции романа, создававшейся в 1929–1930 годах. В повести Чаянова, как и в булгаковском романе, рассказывалось о посещении сатаной Москвы, только в начале XIX века. Главный герой, Венедиктов, в клубе лондонских дьяволов наблюдает черную мессу и играет в живые карты: «Порнографическое искусство всего мира бледнело перед изображениями, которые трепетали в моих руках. Взбухшие бедра и груди, готовые лопнуть, голые животы наливали кровью мои глаза, и я с ужасом почувствовал, что изображения эти живут, дышат, двигаются у меня под пальцами. Рыжий толкнул меня под бок. Был мой ход. Банкомет открыл мне пикового валета – отвратительного негра, подвергавшегося какой-то похотливой судороге, я покрыл его козырной дамой, и они, сцепившись, покатились кубарем в сладострастных движениях, а банкомет бросил мне несколько сверкающих треугольников». Ставки в этой игре делались человеческими душами в виде золотых треугольников.
В своих «живых шахматах» Булгаков ориентировался также на «Легенду об арабском звездочете» из книги американского писателя Вашингтона Ирвинга «Альгамбра», где астролог демонстрирует султану Абер Абусу живые шахматные фигурки, движение которых означает, что враги уже идут на подвластную султану Гранаду (область Испании, дольше всего удерживавшуюся арабами). Звездочет предлагает на выбор: или заставить врагов отступить без пролития крови, коснувшись фигурок тупым концом копья, или спровоцировать среди них кровавое побоище, коснувшись фигурок острием копья. Султан выбирает кровопролитие, и происходит кровавая резня среди людей, которых обозначают фигурки. Таким образом, шахматная партия Бегемота и Воланда оказывается связана с гражданской войной в Испании 1936–1939 годов, бедствия которой, как мы сейчас покажем, Маргарита видит на хрустальном глобусе Воланда. Там «кусок земли, бок которого моет океан» – это Пиренейский полуостров, где под бдительным оком демона войны Абадонны (в других написаниях: Абаддон, Аваддон, Аббадона. – Прим. ред.) воюют друг с другом республиканцы и сторонники монархии. Эта война как бы предопределена заранее (учитывая, что действие московской части романа происходит в 1929 году – за 7 лет до ее фактического начала) живыми шахматами и глобусом сатаны. Можно предположить, что в шахматной партии Бегемота и Воланда решается и дальнейшая судьба Мастера и Маргариты.
Своим появлением в романе демон войны Абадонна, вероятно, обязан повести писателя и историка Н. А. Полевого «Абадонна» и особенно стихотворению поэта Василия Жуковского «Аббадона», представляющему собой вольный перевод эпилога поэмы немецкого романтика Фридриха Готлиба Клопштока «Мессиада». Герой стихотворения Жуковского – ветхозаветный падший ангел, возглавивший восстание ангелов против Бога и в наказание сброшенный на землю. Аббадона, обреченный на бессмертие, напрасно ищет гибели: «Вдруг налетела на солнце заблудшая в бездне планета; час ей настал разрушенья… она уж дымилась и рдела… К ней полетел Аббадона, разрушиться вкупе надеясь… Дымом она разлетелась, но, ах!.. не погиб Аббадона!» В «Мастере и Маргарите» разлетевшаяся дымом планета превратилась в хрустальный глобус Воланда, где гибнут люди и дымятся поражаемые бомбами и снарядами дома, а Абадонна беспристрастно наблюдает, чтобы страдания для обеих воюющих сторон были одинаковыми. Здесь сказалась антивоенная позиция Булгакова. Отметим, что впервые эпизод с Абадонной и глобусом появился в варианте 1937 года, когда война в Испании неизменно присутствовала в кинохронике и выпусках новостей по радио (Воланд как раз сетует на невнятные голоса радиодикторов, для чего и завел себе хрустальный глобус – прообраз телевизора, только живого). К событиям в Испании Булгаков проявлял постоянный интерес, и с ними связана одна из его последних газетных публикаций. 26 декабря 1936 года «Литературная газета» напечатала несколько писем советских писателей в связи с потоплением неизвестной подводной лодкой торгового судна «Комсомолец», шедшего в Испанию. Было здесь и булгаковское письмо, в котором автор «Мастера и Маргариты» присоединял свой голос к тем, кто высказывался за направление в испанские воды эскадры (вопрос насчет эскадры был поставлен редакцией): «Советские военные корабли сумеют и отконвоировать торговые суда, и внушить уважение к флагу Союза, а в случае крайности, напомнить, насколько глубоки и опасны воды, в которых плавают поджигатели войны». При этом Булгаков заметил: «по моему глубокому убеждению, слова возмущения здесь ничем не помогут». Хотя письмо и его содержание во многом были заданы заранее, нет основания сомневаться, что здесь отразились и собственные убеждения писателя: войны можно прекратить не словами возмущения, а применением силы против агрессора. Вероятно, здесь лежит разгадка, почему Воланд относится бесстрастно к результатам работы Абадонны и не разделяет негодования Маргариты относительно ужасных последствий войны, в частности гибели невинных младенцев. Он внушает героине, что слова в данном случае бесполезны. Ведь Абадонна всегда в черных очках, все видит в черном цвете и не может оказывать предпочтение никому из участников войны. Свои очки демон войны снимает только однажды – во время убийства барона Майгеля – именно этого предателя надо было уничтожить, поскольку он угрожал погубить весь мир Воланда и выступал чрезвычайно удачливым конкурентом сатаны на дьявольском поприще.
Имя Абадонна восходит к древнееврейскому Аваддон. Так зовут ангела Апокалипсиса. Он упоминается в романе «Белая гвардия», где так назван Троцкий. Дословно Аваддон переводится, как «прекращение бытия». Не исключено, что из этой, возникшей в «Белой гвардии» связи главы Красной армии с Аваддоном родилась мысль в «Мастере и Маргарите» назвать Абадонной демона войны. Даже портрет Абадонны в чем-то подсказан внешностью Троцкого, поскольку демон – худой человек в очках и его работа столь же безукоризненна, как и деятельность Троцкого на посту главы военного ведомства. Оба они равнодушны к жертвам войны.
Череда гостей, которые проходят перед Маргаритой на балу, подобрана неслучайно. Шествие открывает «господин Жак с супругой», «один из интереснейших мужчин», «убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик», который «прославился тем… что отравил королевскую любовницу». Здесь речь идет об известном французском государственном деятеле XV века Жаке Ле Кёре. В статье «Алхимия» Брокгауза и Ефрона отмечалось, что Кёр был алхимиком и вместе с королем Карлом VII пускал в оборот фальшивую монету. В словарной же статье, непосредственно посвященной прототипу булгаковского персонажа, утверждалось, что он заведовал французскими финансами и, разбогатев, стал кредитором влиятельных людей королевства, причем «должники постарались избавиться от него при первой возможности», обвинив в изготовлении фальшивых денег и в отравлении королевской любовницы Агнессы Сорель, а также в государственной измене. Кёр был арестован, заключен под стражу, лишен своего многомиллионного состояния и изгнан из Франции. Вместе с тем в статье подчеркивалось, что Кёр на самом деле был хорошим финансистом, а после изгнания папа Каликст III вверил ему командование частью флота в войне против турок. Дети Кёра, по предсмертной просьбе отца, получили от Карла VII назад часть конфискованного имущества, что косвенно свидетельствовало о вздорности выдвинутых против финансиста обвинений. В булгаковском архиве сохранились выписки из Брокгауза и Ефрона, посвященные «господину Жаку»: «фальшивомонетчик, алхимик и государственный изменник. Интереснейшая личность. Отравил королевскую любовницу». Булгаков, несомненно, знал, что реальный Кёр не был такой уж зловещей фигурой и что обвинения против него остались недоказанными и были порождены, прежде всего, наветами именитых должников. Но на балу он сознательно вкладывает в уста Коровьева-Фагота в целом негативную характеристику Кёра – человека одаренного. Здесь подчеркнута связь таланта с нечистой силой (в такую связь и в Средние века, и позднее обычно верила толпа). На балу сатана и его свита оказывают покровительство как преступникам, так и замечательным личностям прошлого, которых неосновательно обвиняли в различных преступлениях. В натуре тех, кто предстает перед Маргаритой, добро и зло оказываются тесно переплетены между собой.
Исторический Жак ле Кёр умер своей смертью, но на балу у Воланда он предстает повешенным. Его казнь, скорее всего, понадобилась Булгакову для нагнетания атмосферы бального съезда. На самом деле Ле Кёр был отравителем мнимым, как и следующий за ним граф Роберт Дэдли Лейчестер («граф Роберт… был любовником королевы и отравил свою жену»). О нем тоже сохранились в архиве Булгакова выписки из Брокгауза и Ефрона. Там отмечалось, что Лейчестер был фаворитом английской королевы Елизаветы I, мечтал о браке с ней и потому «интриговал против брачных предложений, исходивших от австрийского и французского дворов; его подозревали даже в отравлении жены его, Ами Робсарт, но подозрение это, послужившее сюжетом для романа Вальтера-Скотта «Кенильворт», не может считаться доказанным». Официальных обвинений в отравлении жены против Лейчестера никогда не выдвигалось, и граф умер своей смертью, хотя за злоупотребления не раз подвергался опале. Булгаков, вслед за Вальтером Скоттом, сделал Лейчестера виновным в гибели Ами Робсарт, и казнил его, как и «господина Жака». В романе мнимое преступление превратилось в действительное, и за него следует воздаяние смертью. Характерно, что на балу Лейчестер появляется в одиночестве, поскольку его любовница королева к преступлению не причастна.
Перед Маргаритой проходит еще один «чародей и алхимик» – германский император Рудольф II, который, как сообщалось в статье «Алхимия» Брокгауза и Ефрона, «был меценатом странствующих алхимиков, и его резиденция представляла центральный пункт алхимической науки того времени». Вместе с тем в специально посвященной императору статье утверждалось, что Рудольф II «отличался вялым, апатичным характером, был крайне подозрителен, склонен к меланхолии» и что характерными его чертами были «своенравие, трусость и грубость». Булгаков противопоставил деятельность знаменитого алхимика, способствовавшую прогрессу знания, традиционному образу посредственного правителя, вынужденного в конце жизни отречься от престола.
Длинный ряд алхимиков, представленных на балу, начинается еще во время встречи Воланда с литераторами на Патриарших прудах. Там сатана утверждает, что «в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века». Из Брокгауза и Ефрона Булгаков узнал, в частности, что Герберт Аврилакский, будущий римский папа Сильвестр II, «в 967 г. отправился в Испанию, где ознакомился с арабской образованностью и даже, как передает средневековая легенда, учился в Кордовском и Севильском университетах арабскому чернокнижному искусству». Что же касается его научной деятельности, то, как отмечал тот же источник, Герберт Аврилакский, обладая энциклопедическими знаниями, «как ученый… вряд ли имел себе равного между современниками». Он открывает галерею запечатленных в романе средневековых мыслителей и государственных деятелей, многим из которых приписывались сношения с дьяволом и различные преступления, чаще всего отравления. Однако последние мнимые отравители на балу оказываются современниками Булгакова:
«По лестнице подымались двое последних гостей.
– Да это кто-то новенький, – говорил Коровьев, щурясь сквозь стеклышко, – ах да, да. Как-то раз Азазелло навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачений которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому, находящемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом.
– Как его зовут? – спросила Маргарита.
– А, право, я сам еще не знаю, – ответил Коровьев, – надо спросить у Азазелло.
– А кто с ним?
– А вот этот самый исполнительный его подчиненный».
В основу данного эпизода легли материалы состоявшегося в марте 1938 года процесса так называемого «право-троцкистского блока», в ходе которого были осуждены советские партийные и государственные деятели Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, Н. Н. Крестинский, Г. Г. Ягода и др. В письмах трудовых коллективов, требовавших высшей меры наказания для подсудимых, провозглашалось: «Слава стальному наркому тов. Ежову!» Согласно показаниям Павла Петровича Буланова, личного секретаря Генриха Григорьевича Ягоды в бытность его главой НКВД, после назначения Николая Ивановича Ежова в сентябре 1936 года на пост наркома внутренних дел Ягода будто бы опасался, что тот сможет выявить его роль в организации убийства главы ленинградских большевиков С. М. Кирова, и решил устроить покушение на Ежова. Вот что утверждал на суде бывший секретарь Ягоды: «Когда он (Г. Г. Ягода. – Б. С.) был снят с должности наркома внутренних дел, он предпринял уже прямое отравление кабинета и той части комнат, которые примыкают к кабинету, здания НКВД, там, где должен был работать Николай Иванович Ежов. Он дал мне лично прямое распоряжение подготовить яд, а именно взять ртуть и растворить ее кислотой. Я ни в химии, ни в медицине ничего не понимаю, может быть, путаюсь в названиях, но помню, что он предупреждал против серной кислоты, против ожогов, запаха и что-то в этом духе. Это было 28 сентября 1936 года. Это поручение Ягоды я выполнил, раствор сделал. Опрыскивание кабинета, в котором должен был сидеть Ежов, и прилегающих к нему комнат, дорожек, ковров и портьер было произведено Саволайненом (сотрудник НКВД. – Б. С.) в присутствии меня и Ягоды».
Ягода и Буланов, как и большинство других подсудимых, были приговорены к смертной казни и расстреляны 15 марта 1938 года. В 1939–1940 годах, во время следствия по делу Ежова, было установлено, что «ртутное отравление» он сам и организовал, чтобы повысить свой вес в глазах Сталина. По приказу Ежова начальник контрразведывательного отдела НКВД Н. Г. Николаев-Журид, проконсультировавшись со специалистами об условиях действия ртути, втёр ртутный раствор в обивку мягкой мебели в кабинете наркома, а затем отдал кусочек ткани на лабораторный анализ. В подготовке покушения Николаев и Ежов обвинили сотрудника секретариата НКВД Саволайнена, которому подбросили банку с ртутью. После допроса с побоями Саволайнен во всём сознался.
Булгаков видел всю анекдотичность и фарсовость истории, рассказанной Булановым по подсказке следователей и выдержанной в духе средневековых легенд о великих отравлениях. Еще 8 июня 1937 года в дневнике Елены Сергеевны появилась запись насчет одного из будущих подсудимых на процессе «право-троцкистского блока» кремлевского врача Д. Д. Плетнева: «Какая-то чудовищная история с профессором Плетневым. В «Правде» статья без подписи: «Профессор – насильник-садист». Будто бы в 1934-м году принял пациентку, укусил ее за грудь, развилась какая-то неизлечимая болезнь. Пациентка его преследует. Бред».
Однако этот бред вполне серьезно был повторен на суде, где Плетневу, Ягоде и другим были также предъявлены обвинения в отравлении и неправильном лечении шефа ОГПУ В. Р. Менжинского, одного из близких к Сталину государственных и партийных деятелей – В. В. Куйбышева и писателя Максима Горького. Интересно, что эпизод с неправильным лечением Горького потом пародийно отразился в сатирическом романе английского писателя Джорджа Оруэлла (Эрика Блэра) «Ферма животных» («Скотный двор»), где сообщники племенного хряка Снежка (Л. Д. Троцкого) – две овцы – обвиняются в умерщвлении старого барана, особо преданного племенному хряку – диктатору Наполеону (И. В. Сталину). Барана они специально заставляли бегать вокруг костра, не обращая внимания на его кашель (именно в этом обвинили врачей, лечивших Горького от туберкулеза). Такого же рода была и история с будто бы планировавшимся покушением на Н. И. Ежова. Мнимость готовившегося отравления подчеркнута в тексте «Мастера и Маргариты» тем обстоятельством, что идею отравить неугодное влиятельное лицо нашептал начальнику за коньяком демон-убийца Азазелло. И Ягода, и Буланов были отравителями мнимыми, а весь процесс очень явно напоминал средневековые суды над ведьмами, обвинявшимися в контактах с нечистой силой. Неслучайно Булгаков не называет имен последних гостей бала, а также того, кого они собирались отравить. После осуждения Ягоды и Буланова их имена было запрещено упоминать в печати. Та же участь через несколько месяцев постигла и всесильного прежде Ежова, снятого с поста главы НКВД в конце 1938 года и расстрелянного по ложному обвинению в государственной измене 4 февраля 1940 года, незадолго до смерти самого Булгакова. Интересно, что эпизод с Ягодой, Булановым и Ежовым присутствует уже в тексте, созданном в середине 1938 года, но фамилия Ежова и там не упоминается. Булгаков как бы предугадал будущий печальный конец «стального наркома» и грядущий запрет на упоминание его имени.
Фигура Г. Г. Ягоды отразилась в последнем замысле уже смертельно больного Булгакова. К этой пьесе сохранилась единственная булгаковская запись:
«Задумывалась осенью 1939 г. Пером начата 6.1.1940 г. Пьеса.
Шкаф, выход. Ласточкино гнездо. Альгамбра (очевидно, здесь – название книги Вашингтона Ирвинга, соотнесенное также с прямым значением этого слова – арочный вход во дворец. Альгамбра есть, в частности, перед Воронцовским дворцом в Алупке в Крыму. Отсюда Крым оказывается связан в пьесе со средневековой Гранадой (Гренадой) и, возможно, современной Булгакову Испанией. – Б. С.). Мушкетеры. Монолог о наглости. Гренада, гибель Гренады. Ричард I.
Ничего не пишется, голова, как котел!.. Болею, болею». Позднее Е. С. Булгакова так передавала по памяти суть этого замысла:
«Первая картина. Кабинет. Громадный письменный стол. Ковры. Много книг на полках. В кабинет входит писатель – молодой человек развязного типа. Его вводит военный (НКВД) и уходит. Писатель оглядывает комнату. В это время книжная полка быстро поворачивается, и в открывшуюся дверь входит человек в форме НКВД (Ричард Ричардович) (Генрих Григорьевич Ягода иногда именовался Генрихом Генриховичем. – Б. С.). Начинается разговор. Вначале ошеломленный писатель приходит в себя и начинает жаловаться на свое положение, настаивает на своей гениальности, просит, требует помощи, уверяет, что может быть очень полезен. Ричард в ответ произносит монолог о наглости. Но потом происходит соглашение. Писатель куплен, обещает написать пьесу на нужную тему. Ричард обещает помощь, обещает продвинуть пьесу, приехать на премьеру. Конец картины.
Вторая картина. Мансарда, где живет писатель со своей женой. Жена раздражена. Входит писатель, внешне оживлен, но внутренне смущен – сдал позиции. Рассказывает, что попугай на улице вынул для него билетик «с счастьем». Потом сообщает о разговоре с Ричардом. Ссора с женой. Она уходит от него. Писатель один. Это его в какой-то мере устраивает. Он полон надежд, начинает обдумывать будущую пьесу.
Третья картина (второй акт). За кулисами театра. Старики и молодежь (в пользу молодежи написаны характеры). Появляется писатель. Разговоры о ролях, о репетициях.
Четвертая картина. Там же. Генеральная. За кулисы приходит Ричард. Приглашает ведущих актеров и автора к себе на дачу – после премьеры.
Пятая картина (третий акт). Загородная дача. Сад. Стена из роз на заднем плане. Ночь. Сначала общие разговоры. Потом на сцене остаются Ричард и женщина (жена или родственница знаменитого писателя). Объяснение. Ричард, потеряв голову, выдает себя полностью, рассказывает, что у него за границей громадные капиталы. Молит ее бежать с ним за границу. Женщина холодная, расчетливая, разжигает его, но прямого ответа не дает, хотя и не отказывается окончательно. Ричард один. Взволнован. Внезапно во тьме, у розовых кустов, загорается огонек от спички. Раздается голос: «Ричард!…» Ричард в ужасе узнает этот голос. У того – трубка в руке. Короткий диалог, из которого Ричард не может понять – был ли этот человек с трубкой и раньше в саду? – «Ричард, у тебя револьвер при себе?» – «Да». – «Дай мне». Ричард дает. Человек с трубкой держит некоторое время револьвер на ладони. Потом медленно говорит: «Возьми. Он может тебе пригодиться». Уходит. Занавес.
Шестая картина (четвертый акт). За кулисами театра. Общее потрясение – известие об аресте Ричарда. О самоубийстве его… О том, что он – враг… Пьеса летит ко всем чертям. Автор вылетает из театра.
Седьмая квартира. Мансарда. Там жена писателя. Появляется уничтоженный автор. Все погибло. Он умоляет простить, забыть. Уговаривает, что надо терпеливо ждать следующего случая…
Ричард – Яго. Писатель – типа В. (скорее всего, имеется в виду писатель и драматург Владимир Михайлович Киршон. – Б. С.). У него намечался роман с одной из актрис театра».
Вполне вероятно, что в своей записи во время предсмертной болезни Булгаков невольно сдвинул время возникновения замысла с весны на осень. В дневниковой записи Е. С. Булгаковой от 18 мая 1939 года отмечалось:
«Миша задумал пьесу («Ричард Первый»). Рассказал – удивительно интересно, чисто «булгаковская пьеса» задумана».
Дружба Ягоды и Киршона была широко известна. Поэтому Елена Сергеевна записала в дневнике 4 апреля 1937 года: «Киршона забаллотировали на общемосковском собрании писателей при выборах президиума. И хотя ясно, что это в связи с падением Ягоды, все же приятно, что есть Немезида и т. д.».
В записи от 10 марта 1938 года, в дни процесса над «право-троцкистским блоком», она в завуалированной форме выразила сомнение в реальности некоторых обвинений, предъявляемых Ягоде: «Ну что за чудовище – Ягода. Но одно трудно понять – как мог Горький, такой психолог, не чувствовать – кем он окружен. Ягода, Крючков! Я помню, как М. А. раз приехал из горьковского дома (кажется, это было в 1933-м году. Горький жил тогда, если не ошибаюсь, в Горках) и на мои вопросы: ну как там? что там? – отвечал: там за каждой дверью вот такое ухо! – и показывал ухо с пол-аршина». Подобным же образом соглядатаи окружают Нехорошую квартиру, что видит Маргарита, направляясь на бал.
То, что Булгаков не верил в подлинность обвинений, предъявленных тем фигурантам политических процессов 30-х годов, которые появляются на балу у Воланда, доказывается воспоминаниями Валентина Катаева: «В 1937 году мы встретились как-то у памятника Гоголю. Тогда как раз арестовали маршалов. Помню, мы заговорили про это, и я сказал ему, возражая:
– Но они же выдавали наши военные планы!
Он ответил очень серьезно, твердо:
– Да, планы выдавать нельзя». Очевидно, что для Булгакова, в отличие от Катаева, надуманность версии о «маршальском заговоре», равно как и кознях Ягоды, Бухарина и др., была очевидна.
Эпизод с револьвером восходит к широко известному рассказу редактора «Огонька» и «Крокодила» журналиста Михаила Ефимовича Кольцова (Фридлянда) своему брату художнику Борису Ефимову о том, как после возвращения из Испании Сталин при встрече спросил, есть ли у него револьвер, и, получив утвердительный ответ, шутливо осведомился: «Но вы не собираетесь из него застрелиться?» Вскоре, в декабре 1938 года, Кольцов был арестован и расстрелян. Еще один подсудимый на процессе «право-троцкистского блока» появляется в Нехорошей квартире перед балом. Это – превращенный в борова «нижний жилец» Николай Иванович. Это – Николай Иванович Бухарин. У персонажа с прототипом совпадают не только имя и отчество, но и некоторые детали внешности и биографии.
Вспомним эпилог, где ставший Поныревым Бездомный говорит о «нижнем жильце»: «…Это еще одна жертва, вроде меня», и горестные сожаления самого Николая Ивановича об упущенном в жизни: «Эх я, дурак! Зачем, зачем я не улетел с нею? Чего я испугался, старый осел! Бумажку выправил! Эх, терпи теперь, старый кретин!»
Бумажка не спасла. Просьба «нижнего жильца» после бала у сатаны «выдать… удостоверение» о том, где он «провел предыдущую ночь… на предмет представления милиции и супруге», и само это удостоверение очень напоминают ситуацию, сложившуюся после прозвучавших против Бухарина и его соратников обвинений в блоке с троцкистами на процессе Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева в августе 1936 года. Бегемот выдал Николаю Ивановичу следующее удостоверение, которое под его диктовку напечатала на машинке голая Гелла: «Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Иванович провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства… поставь, Гелла, скобку! В скобке пиши «боров». Подпись – Бегемот.
– А число? – пискнул Николай Иванович.
– Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной, – отозвался кот, подмахнув бумагу, откуда-то добыл печать, по всем правилам подышал на нее, оттиснув на бумаге слово «уплочено» и вручил бумагу Николаю Ивановичу. После этого Николай Иванович бесследно исчез…». А опубликованное 10 сентября 1936 года постановление Прокуратуры СССР гласило: «Следствие не установило юридических данных для привлечения Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова к судебной ответственности, в силу чего настоящее дело дальнейшим следственным производством прекращается». Это была поистине Бегемотова индульгенция (генеральный прокурор при Сталине – то же самое, что Бегемот при Воланде), поскольку через полтора года оба фигуранта были благополучно расстреляны. Булгаков-то уже знал, что прототипу «нижнего жильца» суждено было бесследно исчезнуть.
Сожаления же романного Николая Ивановича о том, что так и не смог убежать от опостылевшей жизни, могут быть спроецированы на тот факт, что Бухарин не воспользовался для бегства своей поездкой в Париж в 1936 году. Во время этой поездки он тайно встретился с видным меньшевиком Ф. И. Даном и признался ему, что Сталин – «это маленький злобный человек, не человек, а дьявол», но «жить, как вы, эмигрантом, я бы не мог… Нет, будь что будет… Да, может, ничего и не будет». На вопрос же Дана, как могли Бухарин и другие коммунисты доверить этому дьяволу судьбу страны, партии и свою собственную, собеседник признался: «…Вот уж так случилось, что он вроде как символ партии, низы, рабочие, народ верят ему, может, это и наша вина, но так это произошло, вот почему мы все и лезем к нему в хайло… зная наверняка, что он пожрет нас. И он это знает и только выбирает более удобный момент».
Булгаков, разумеется, не мог знать об этом разговоре, но психологическое состояние Бухарина понял довольно точно и пародийно запечатлел опального вождя в своем «нижнем жильце».
К Бухарину Булгаков, судя по всему, испытывал смешанные чувства презрения и жалости, воплотив его в превращенном в борова «нижнем жильце». Вот его портрет: «Николай Иванович, видный в луне до последней пуговки на серой жилетке, до последнего волоска в светлой бородке клинышком». Такая же бородка была у светловолосого Бухарина.
Бухарин присутствовал на приеме в американском посольстве 22 апреля 1935 года, как мы убедились из дневниковой записи Е. С. Булгаковой, а этот прием послужил прообразом Великого бала у сатаны. Совпадает и общая старомодность облика. Бухарин, по свидетельству Е. С. Булгаковой, был в старомодном сюртуке, булгаковский Николай Иванович – в старомодных же пенсне и жилетке. Похотливость «нижнего жильца», пытающегося соблазнить служанку Маргариты Наташу, наказывается превращением в борова – пародийный намек на широко известное донжуанство Бухарина. Последний в своей автобиографии признался, что в детстве считал себя антихристом, и Булгаков превратил своего Николая Ивановича в борова, явно ориентируясь на известный рассказ Евангелия от Луки о бесах, что вышли из человека и вошли в стадо свиней, бросившихся затем в озеро и потонувших (VIII, 26–39) (этот рассказ Достоевский сделал эпиграфом к роману «Бесы»). Бухарин, как известно, был казнен по приговору неправедного суда. Булгаков же в сцене перед началом бала только пародирует казнь Николая Ивановича, превращенного в «транспортное средство» для доставки на бал Наташи. Воланд отправляет борова на кухню к поварам, но когда Маргарита пугается, думая, что Николая Ивановича там зарежут, выясняется, что борова просто подержат на кухне до окончания бала – чести быть приглашенным на бал он так и не удостаивается. Николай Иванович – не настоящий злодей. Но он не способен к подлинному полету мысли и к настоящей любви. Воланд оказывается милосерднее Сталина, не пощадившего своего прежнего любимца и друга. Возможно, Булгаков считал, что Бухарина постигло возмездие за то, что он слишком долго пребывал на балу у Сталина, помогая Кобе укреплять единоличную диктатуру.
В самом превращении «нижнего жильца» в борова пародируются слова заместителя прокурора СССР А.Я. Вышинского, назвавшего Бухарина на процессе «право-троцкистского блока» «слезливой помесью свиньи и лисицы».
Л.М. Яновская полагает, что в данном случае Н.И.Бухарин решительно ни при чем. У благополучнейшего обывателя Николая Ивановича в романе «Мастер и Маргарита» другая родословная, кстати, связанная с расположением персонажей в вертикалях пространства.
Маргарита живет в верхнем этаже – точно так же, как жили любимые герои «Белой гвардии» – Турбины…
Да, последний роман Булгакова вбирал все – прожитое, пережитое, продуманное, сотворенное. Образы, уже решенные и воплощенные, притом решенные и воплощенные на достаточно высоком уровне, заново входят в великий роман, занимая в нем свое важное место. И Маргарита поселяется в верхнем этаже двухэтажного дома, а в Николае Ивановиче обретает новую образную жизнь старый знакомец Василий Иванович Лисович, он же Василиса, домовладелец и жилец «нижней квартиры» в любимой, незавершенной, навсегда отложенной «Белой гвардии».
Вспомните: «Смотри, Явдоха, – сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами (не вышла бы жена), – уж очень вы распустились с этой революцией… «Н-ноги-то – а-ах!!» – застонало в голове у Василисы… – С кем это ты? – быстро швырнув глазом вверх, спросила супруга. – С Явдохой, – равнодушно ответил Василиса, – представь себе, молоко сегодня пятьдесят. …Явдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе…».
Николаю Ивановичу она не представилась, а предстала голой ведьмой… «Венера! Венера!.. Эх я, дурак!.. Бумажку выправил!» И неприятный женский голос спросит: «Николай Иванович, где вы? Что это за фантазия? Малярию хотите подцепить?» И он ответит голосом лживым: «Воздухом, воздухом хотел подышать, душенька моя».
Василисе очень хотелось плюнуть на подол жены. А Николай Иванович «украдкой погрозит кулаком закрывающемуся внизу окну и поплетется в дом». Впрочем, и Василиса: «…он чуть-чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он ушел в прохладную полутьму комнат…».
Даже «чуть-чуть поросячьи черты лица» Николая Ивановича – из-за чего так легко вообразить его боровом с портфелем в копытцах и с пенсне, болтающимся на шнурке, – это ведь тоже оттуда, из «Белой гвардии»: «Нажрал морду, розовый, як свинья…», – наступает на Василису бандит, похожий на волка… И уж у Василисы точно был прототип, правильнее сказать – модель для его внешности: киевский инженер и домовладелец Василий Павлович Листовничий, человек «с чуть-чуть поросячьими чертами лица», что хорошо видно на сохранившихся фотографиях».
Вполне соглашусь с милейшей Лидией Марковной, что у этого персонажа «Мастера и Маргариты» можно обнаружить сходство с Василилисой «Белой гвардии». Однако здесь гораздо важнее несходство. Прототип Василисы, владелец дома на Андреевском спуске В.П. Листовничий, то ли сгинул в гражданскую войну, то ли благополучно эмигрировал в Константинополь. Но он в любом случае не мог стать высокопоставленным номенклатурным работником, за которым приезжает персональная машина. А ведь это – основная функция «нижнего жильца» в «Мастере и Маргарите», которой вполне соответствует реальный Бухарин.
Для тех читателей, кто хорошо помнил «Белую гвардию», образ Василисы-Листовничего призван был замаскировать политически небезопасный бухаринский след. Ведь хотя «нижний жилец» и изображен не самым привлекательным образом, но превалирующий мотив по отношению к этому герою – не осуждение, а жалость. А за жалость к своему бывшему другу, превратившемуся во «врага народа», Сталин по головке бы не погладил.
Наверное, Булгаков припомнил тут и свои впечатления от знакомства с журналом «Безбожник». Первый номер «Безбожника», издание которого было начато в 1923 году, открывался статьей Бухарина «На борьбу с международными богами». Там, в частности говорилось: «Русский пролетариат сшиб, как известно, корону царя. И не только корону, но и голову. Немецкий – свалил корону с Вильгельма, но голова, к сожалению, осталась. Австрийский рабочий добрался до короны, не добрался до головы, но король сам испугался и от испуга умер. Недавно греки сшибли еще одну корону. Словом, на земле на этот счет не приходится сомневаться: рискованное дело носить это украшение.
Не совсем так обстоит дело на небе… Международные боги… еще очень сильны… Так дальше жить нельзя! Пора добраться и до небесных корон, взять на учет кое-кого на небе.
Для этого нужно прежде всего начать с выпуска противобожественных прокламаций, с этого начинается великая революция. Правда, у богов есть своя армия и даже, говорят, полиция: архистратиги разные. Георгии Победоносцы и прочие георгиевские кавалеры. В аду у них настоящий военно-полевой суд, охранка и застенок. Но чего же нам-то бояться? Не видали мы, что ли, этаких зверей и у нас на земле?
Так вот, товарищи, мы предъявляем наши требования: отмена самодержавия на небесах; выселение богов из храмов и первод их в подвалы (злостных в концентрационные лагеря); передача главных богов, как виновников всех несчастий, суду пролетапрского ревтрибунала… Пока что мы начинаем поход против богов в печати… В бой против богов! Единым пролетарским фронтом против этих шкурников!»
Бухарин тогда не знал, что самая опасная профессия в мире – это отнюдь не та, которая связана с ношением короны на земле и на небе. Оказалось, что самая опасная профессия – это состоять в ленинском Политбюро. Из всех членов и кандидатов в члены, пребывавших в этом замечательном органе в начале 1924 года, только В. И. Ленину, И. В. Сталину, М. И. Калинину и В. М. Молотову посчастливилось умереть своей смертью. Зато Г. Е. Зиновьеву, Л. Б. Каменеву, А. И. Рыкову, Н. И. Бухарину, Я. Э. Рудзутаку пришлось получить пулю в затылок, а Троцкий получил смертельный удар ледорубом в голову от агента НКВД. Только одному М. П. Томскому повезло вовремя застрелиться: он безошибочно догадался, что пуля в затылок не за горами, когда на процессе Зиновьева и Каменева назвали его имя. Милейший Николай Иванович, разумеется, не догадывался, что с него самого снимет голову лучший друг Коба всего через каких-нибудь 15 лет. И сделает это при помощи родной советской тайной политической полиции – НКВД. Пришлось бедняге Бухарину и познакомиться с родным лубянским застенком, и кончить жизнь в столь же родном лубянском подвале. В концлагерь попасть ему не посчастливиорсь – слишком много знал, а главное – считался Сталиным опасной политической фигурой. И зря Николай Иванович бахвалился: мол, видали мы и не таких чудовищ, как боги. Судя по его предсмертным письмам из тюрьмы Сталину, смерти он ох как боялся! И просил друга Кобу пощадить его, отпустить под чужой фамилией в Америку бороться против Троцкого. А если уж нельзя помиловать, то не расстреливать, а просто дать яд, чтобы он тихо заснул. Не помогло. Коба не пощадил.
В политическом завещании, продиктованном третьей жене А. М. Лариной, он признавал:
«Ухожу из жизни. Опускаю голову не перед пролетарской секирой, должной быть беспощадной, но и целомудренной (террор Бухарин принимал, был одним из убежденных его сторонников в годы гражданской войны, но смириться с тем, что теперь объектом террора стал он сам, естественно, не смог. – Б. С.). Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами Средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно».
Почти точно так же булгаковский Воланд характеризует И. В. Сталина перед последним полетом: «У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все кончено здесь».
Булгаков, конечно, бухаринские письма Сталину, равно как и его завещание, не читал. Зато он, наверняка, читал эту и подобные бухаринские статьи и испытывал чувства жалости и презрения к поверженному вождю, так легкомысленно кощунствовавшего над Богом.
Между прочим, еще в 1923 году в фельетоне «Лестница в рай» Булгаков упоминает книгу Н. И. Бухарина и Е. А. Преображенского «Азбука коммунизма: популярное объяснение программы Российской коммунистической партии (большевиков)» (1919). Рабочий, пытающийся овладеть азами науки строительства коммунистического общества – новой лестницы в рай, сгинул во тьме из-за того, что вовремя не очистили настоящую лестницу ото льда. Здесь – та же тема «разрухи в головах», которая позднее получит свое законченное выражение в повести «Собачье сердце».
Интересно, что любимым героем Бухарина был Фауст, а творчеству Иоганна Вольфганга Гёте он в 1932 году посвятил специальный доклад, где доказывал, что «конец «Фауста» – уже смутное предчувствие, пророческая греза о социализме». В этой связи финал «Мастера и Маргариты» можно прочесть и как полемику с этим утверждением Бухарина, поскольку Мастер, чьим прототипом послужил Фауст, и его вечная спутница обретают последний приют, где автор романа о Понтии Пилате вновь получает возможность творить, зато оказывается отгорожен от социализма, сломавшего его жизнь.
Булгаков наверняка чувствовал, насколько все соратники Сталина (в том числе и Бухарин, в середине 20-х годов один из ближайших к Сталину членов Политбюро) мельче самого диктатора. Очень вероятно, что писатель был знаком со знаменитым стихотворением Осипа Мандельштама о «кремлевском горце» – Сталине:
А вокруг него сброд тонкошеих вождей, Он играет услугами полулюдей, Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Он один лишь бабачит и тычет.По свидетельству вдовы поэта Надежды Яковлевны Мандельштам, «тонкую шею О. М. приметил у Молотова – она торчала из воротничка, увенчанная маленькой головкой. «Как у кота», – сказал О. М., показывая мне портрет». Не исключено, что именно поэтому ближайший помощник Воланда, Фагот-Коровьев наделен тонкой шееей – ведь точно такую же роль играл Молотов при Сталине! Кстати сказать, именно Молотов санкционировал в мае 1926 года предложение фактического руководителя ОГПУ Ягоды о закрытии журнала «Россия», где печаталась «Белая гвардия», высылке за границу ее редактора Лежнева и проведение обысков у наиболее видных сменовеховцев, включая Булгакова. Во время обыска, проведенного на квартире Булгакова в Обухове (Чистом) переулке, д. 9, кв. 4, были изъяты два экземпляра машинописи «Собачьего сердца», булгаковские дневники, анонимное «Послание евангелисту Демьяну Бедному», пародия на Есенина Веры Инбер, а также загадочная машинопись, названная «чтение мыслей» и не найденная до сих пор.
Бал Воланда имеет, по всей вероятности, еще один неожиданный источник, прямо связанный с деятельностью подчиненных и соратников Ягоды. Речь идет о так называемой «коммуне Бокия». Глеб Иванович Бокий был видным чекистом, расстрелянным в 1937 году. Некоторые его сотрудники подверглись репрессиям уже после гибели «батьки Бокия» и на следствии дали о нем прелюбопытнейшие показания. Например, некто Н. В. Клименков на допросе 29 сентября 1938 года сообщил: «…С 1921 года я работал в спецотделе НКВД (разумеется, тогда это была еще ВЧК. – Б. С.). Отдел в то время возглавлял Бокий Глеб Иванович, который через некоторое время назначил меня нач. 2-го отделения спецотдела.
В это время уже существовала созданная Бокием так называемая «Дачная коммуна», причем ее существование тщательно скрывалось от сотрудников отдела, и знали об этом только приближенные Бокия…
Последний в одно время сообщил мне, что им в Кучино создана «Дачная коммуна», в которую входят отобранные им, Бокием, люди, и пригласил меня ехать на дачу вместе с ним. После этого я на даче в Кучино бывал очень часто, хотя «юридически» и не являлся членом «коммуны», так как не платил 10 процентов отчислений зарплаты в ее фонд, но вся антисоветская деятельность которой мне известна.
При первом моем посещении «Дачной коммуны» мне объявили ее порядки, что накануне каждого выходного дня каждый член «коммуны» выезжает на дачу и, приехав туда, обязан выполнять все установленные «батькой Бокием» правила.
«Правила» эти сводились к следующему: участники, прибыв под выходной день на дачу, пьянствовали весь выходной день и ночь под следующий рабочий день.
Эти пьяные оргии очень часто сопровождались драками, переходящими в общую свалку. Причинами этих драк, как правило, было то, что мужья замечали разврат своих жен с присутствующими здесь же мужчинами, выполняющими «правила батьки Бокия».
«Правила» в этом случае были таковы. На даче все время топилась баня. По указанию Бокия после изрядной выпивки партиями направлялись в баню, где открыто занимались групповым половым развратом.
Пьянки, как правило, сопровождались доходящими до дикости хулиганством и издевательством друг над другом: пьяным намазывали половые органы краской, горчицей. Спящих же в пьяном виде часто «хоронили» живыми, однажды решили похоронить, кажется, Филиппова и чуть его не засыпали в яме живого. Все это делалось при поповском облачении, которое специально для «дачи» было привезено из Соловков. Обычно двое-трое наряжались в это поповское платье, и начиналось «пьяное богослужение»…
На дачу съезжались участники «коммуны» с женами. Вместе с этим приглашались и посторонние, в том числе и женщины из проституток. Женщин спаивали допьяна, раздевали их и использовали по очереди, предоставляя преимущество Бокию, к которому помещали этих женщин несколько.
Подобный разврат приводил к тому, что на почве ревности мужей к своим женам на «Дачной коммуне» было несколько самоубийств: Евстафьев – бывш. нач. технического отделен, бросился под поезд, также погиб Майоров, с женой которого сожительствовал Бокий, на этой же почве застрелился пом. нач. 5-го отделения Баринов…
Ежемесячно собирались членские взносы с каждого члена «коммуны» в размере 10 процентов месячного оклада, что далеко не хватало для покрытия всех расходов. «Дефицит» покрывался Бокием из получаемых отделом доходов от мастерских несгораемых шкафов, из сметы отдела на оперативные нужды. «Дефицит» покрывался также и спиртом из химической лаборатории, выписываемым якобы для технических надобностей. Этот спирт на «Дачной коммуне» оснащался ягодами и выпивался, т. е. на средства, украденные Бокием у государства…
К концу 1925 года число членов «Дачной коммуны» увеличилось настолько, что она стала терять свой конспиративный характер. В самом отделе участились скандалы между членами «Дачной коммуны» и секретарем отдела, выдающим заработную плату. Первые не хотели платить «членских взносов», а секретарь отдела упрекал их в том, что они получают «все удовольствия» на «даче», а платить не хотят…».
Показания «халявщика» Клименкова полностью подтвердил полноправный член «коммуны» «доктор» Гоппиус: «Каждый член коммуны обязан за «трапезой» обязательно выпить первые пять стопок водки, после чего члену коммуны предоставлялось право пить или не пить, по его усмотрению. Обязательным было также посещение общей бани мужчинами и женщинами. В этом принимали участие все члены коммуны, в том числе и две дочери Бокия. Это называлось в уставе коммуны – «культом приближения к природе». Участники занимались и обработкой огорода. Обязательным было пребывание мужчин и женщин на территории дачи в голом и полуголом виде…».
Атмосфера чекистской «коммуны» очень напоминает атмосферу Великого бала у сатаны, в том числе и своей пародией на богослужение и христианские похороны, в результате которых один из участников едва не погиб. Конечно, Булгаков не мог быть знаком с показаниями арестованных в 1937–1938 годах членов коммуны, однако, по признанию того же Клименкова, к середине 20-х годов творившееся на даче Бокия перестало быть тайной для окружающих. А ведь в Кучино жили или отдыхали многие представители литературно-театрального мира, например А. Белый. От них автор «Мастера и Маргариты» вполне мог узнать о нравах «коммуны». Появляющимся на балу у сатаны чекистам Ягоде и Буланову творящееся тут, можно сказать, не в диковинку. И его законы, о которых говорит Коровьев-Фагот, совпадают с законами «коммуны» Бокия. Спиртом, только чистым, без всяких ягод, Воланд угощает Маргариту. Устраивают на балу и своего рода похороны Михаила Александровича Берлиоза и Майгеля, только покойники тут настоящие, а не сонные пьяницы, и мысль о самоубийстве посещает Маргариту, когда она сознает, что к прошлому возврата нет, а Воланд не торопится предложить ожидаемую награду. Гости Воланда столь же пьяны, а женщины столь же обнажены, как и на даче у Бокия. Правда, горчицей Бегемот мажет не половые органы незадачливых пьяниц, а их своеобразный заменитель – устрицу, которую тотчас съедает. А вот в ранней редакции, где шабаш в Нехорошей квартире был куда откровеннее, одна из ведьм капала свечкой на половой член мальчика, с которым развлекалась. Чекисты, возможно, казались Булгакову современными аналогами нечистой силы. И действительно, оргии Бокия и его подчиненных даже превзошли то, что происходило на рожденном писательской фантазией Великом бале у сатаны.
Сам Бокий был личностью в те времена почти легендарной, и слухи о его подвигах вполне могли дойти до Булгакова. В 1918–1919 годах, будучи главой Петроградской ЧК, Глеб Иванович в доле с Ф. Э. Дзержинским, знаменитым «железным Феликсом», шефом всероссийской «чрезвычайки», развернул неплохой бизнес на заложниках. В рамках «красного террора» всех представителей имущих классов, а также бывших офицеров и чиновников арестовывали и при первом удобном случае расстреливали за любые подлинные или мнимые «террористические вылазки» белых. Бокий предложил брать с состоятельных заложников денежный выкуп (не уплатившие, ясное дело, расстреливались). Уплатившие его честно переправлялись чекистами через финскую границу. Полученные суммы Бокий, Дзержинский и еще несколько высокопоставленных чекистов частью делили между собой, а частью использовали на нужды ЧК. Однако на Бокия «стукнула» его заместитель В. Н. Яковлева. Разразился скандал. «Железного Феликса» трогать не стали, а Бокия сослали на Восточный фронт, а в 1920 году сделали главой Туркестанской ЧК. На этой должности Бокий, проявив неимоверную жестокость, полностью реабилитировался за прежние грехи. Чекист-перебежчик Георгий Агабеков в октябре 1930 года писал в парижской газете «Матэн»: «В Ташкенте я миновал встречу с Бокием, настоящим чудовищем. В 1919 и 1920 годах он до такой степени терроризировал Ташкент, что ещё и сейчас там говорят о нём с ужасом. Так вот, этот человек, ставший легендарным из-за своей жестокости, является сейчас начальником специального отдела ГПУ, где он является хранителем важнейших тайн».
Действительно, в 1921 году Бокий возглавил Специальный (шифровальный) отдел ОГПУ, через который шла важнейшая партийная и правительственная корреспонденция и который занимался также перехватом и расшифровкой сообщений правительств и спецслужб других государств. Что интересно, Бокий с 1909 года был розенкрейцером, а после революции он вместе с заместителем наркома иностранных дел Борисом Спиридоновичем Стомоняковым, заведующим организационно-распределительным отделом ЦК ВКП(б) Иваном Михайловичем Москвиным и профессором Александр Васильевич Барченко, специалистом по оккультизму и парапсихологии, организовал «Единое Трудовое братство» – тайное сообщество, построенное по образцу масонской ложи. Барченко консультировал Бокия в отношении знахарей, шаманов, медиумов и гипнотезеров, которых пытались привлечь к сотрудничеству с ОГПУ, а позднее – с НКВД, чтобы выведывать иностранные секреты и разоблачать «врагов народа». Для лаборатории Барченко была оброрудована специальная «черная комната» в здании НКВД (Фуркассовский переулок, 1), куда частенько наведывался Бокий. Однажды там проверяли способности медиум Валентина Сергеевича Смышляева – актера и режиссера 2-го МХАТа, будто бы предсказавшего год (1935) и причину смерти (рак печени) Юзефа Пилсудского. Со Смышляевым Булгаков был хорошо знаком. Именно на Смышляева ссылался режиссер В. Э. Мейерхольд, когда 26 мая 1927 года просил Булгакова предоставить его театру новую пьесу (вероятно, речь шла о «Беге»): «Смышляев говорил мне, что Вы имеете уже новую пьесу и что Вы не стали бы возражать, если бы эта пьеса пошла в театре, мною руководимом». Тем более что до революции Смышляев состоял в одной ложе розенкрейцеров не только с Бокием, но и с режиссером Юрием Александровичем Завадским, для театра-студии которого Булгаков написал «Полоумного Журдена». Через Смышляева или Завадского писатель мог быть осведомлен и об оргиях, устраиваемых Бокием и другими чекистами. И через них же, добавим, Булгаков теоретически мог быть связан с масонами, розенкрейерами и другими тайными обществами.
После того как 16 мая 1937 года Глеб Иванович был арестован, участие в «Едином Трудовом братстве» стало одним из пунктов обвинения. Расстреляли Бокия 15 ноября 1937 года за то, что слишком много знал и был человеком Ягоды, от выдвиженцев которого чистил НКВД Ежов.
Во время бала перед Маргаритой проходят не только мнимые отравители и убийцы, но и подлинные злодеи всех времен и народов. Интересно, что если все мнимые отравители на балу – мужчины, то все истинные отравительницы – женщины. Первой выступает «госпожа Тофана». Сведения об этой знаменитой итальянке Булгаков почерпнул из статьи Брокгауза и Ефрона «Аква Тофана» (это название яда, в дословном переводе – «вода Тофаны»). Выписки из этой статьи сохранились в булгаковском архиве. В ней сообщалось, что в 1709 году Тофана была арестована, подвергнута пытке и задушена в тюрьме (эта версия отражена в романе). Однако в статье также отмечалось, что по другим данным сицилийская отравительница еще в 1730 г. содержалась в темнице и, скорее всего, умерла там своей смертью.
Кстати сказать, у Амфитеатрова в романе «Жар-цвет» подробно описывается история яда «аква тофана» и, в частности, отмечается, что яд этот обычно добавляли в суп. У Булгакова госпожа Тофана появилась на Великом балу у сатаны благодаря статье об «аква тофана» в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, однако детали с супом, имеющейся в «Мастере и Маргарите», в словарной статье не было. Скорее всего, знакомство с «Жар-цветом» побудило Булгакова искать дополнительные сведения об упомянутом там яде.
Следующая отравительница на балу – маркиза, которая «отравила отца, двух братьев и двух сестер из-за наследства». В более раннем варианте 1938 грда Коровьев называл маркизу по имени: «Маркиза де Бренвиллье… Отравила отца, двух братьев и двух сестер и завладела наследством… Господин де Годен, вас ли мы видим?» В подготовительных материалах сохранилось название посвященной ей статьи Брокгауза и Ефрона. Там говорилось, что эта известная во Франции отравительница вместе со своим любовником Жаном-Батистом де Годеном де Сен-Круа «отравила своего отца, двух своих братьев и своих сестер, чтобы присвоить себе все их состояние» и была казнена за свои преступления в 1676 году.
На балу Маргарита видит знаменитых развратниц и сводниц прошлого и современности. Тут и московская портниха, организовавшая в своей мастерской дом свиданий (Булгаков ввел в число участниц бала прототип главной героини своей пьесы «Зойкина квартира»), и Валерия Мессалина, третья жена римского императора Клавдия I, преемника тоже присутствующего на балу Гая Цезаря Калигулы. Имена Калигулы и Мессалины стали нарицательными для обозначения жестоких сластолюбцев. Калигула был убит солдатами преторианской гвардии. Мессалина же в отсутствие Клавдия вступила в брак со своим любовником Гаем Салием и за попытку возвести его на престол была казнена в 48 году. Есть среди гостей бала и «госпожа Минкина» – экономка и любовница всесильного при Александре I временщика графа А. А. Аракчеева Настасья Федоровна Минкина. Эпизод убийства в 1825 году этой жестокой женщины, истязавшей крепостных и из ревности изуродовавшей раскаленными щипцами для завивки лицо горничной, что и спровоцировало крестьянскую расправу, изложен по посвященной Минкиной статье Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, где также отмечалось, что «крестьяне считали ее колдуньей, так как, систематически организовав шпионство, она узнавала самые тайные их намерения». Это обстоятельство стало еще одним побудительным мотивом поместить Минкину среди гостей Воланда.
На балу у Воланда присутствует и главный опричник Малюта Скуратов (Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский), который погиб в бою при взятии замка Вейсенштейн (ныне г. Пайде в Эстонии) 1 января I573 года, в связи с чем, справляя тризну по погибшему наперснику, царь приказал предать мучительной казни всех захваченных в плен защитников замка. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сообщалось, что «память о Малюте Скуратове и его злодеяниях сохранилась в народных песнях и даже самое имя стало нарицательным именем злодея». Но вот сам Иван Грозный на балу отсутствует, вероятно, потому, что он своими руками никого не убил – все делали лихие исполнители вроде Малюты. Да и умер царь своей, а не насильственной смертью, в отличие от почти всех гостей Воланда. Кроме того, учитывая любовь Сталина к Грозному, не очень удобно было помещать царя среди главных злодеев. Иван Грозный был далеко не нейтральной фигурой, вроде госпожи Тофаны.
То, что на балу перед Маргаритой проходит вереница убийц, отравительниц, палачей, развратниц и сводниц, совсем не случайно. Булгаковская героиня мучается из-за измены мужу и, пусть подсознательно, свой проступок ставит в один ряд с величайшими преступлениями прошлого и настоящего. Обилие отравителей и отравительниц, подлинных и мнимых, – это отражение в мозгу Маргариты мысли о возможном самоубийстве вместе с Мастером с помощью яда. В то же время последующее отравление их, осуществленное Азазелло, можно счесть мнимым, а не действительным, поскольку практически все отравители-мужчины на балу – отравители мнимые. Другое объяснение этого эпизода – самоубийство Мастера и Маргариты. Воланд, знакомя героиню со знаменитыми злодеями и развратницами, усиливает муки ее совести. Но Булгаков как бы оставляет и альтернативную возможность: бал и все связанные с ним события происходят лишь в больном воображении Маргариты, мучающейся из-за отсутствия известий о Мастере и вины перед мужем и подсознательно думающей о самоубийстве. Подобное альтернативное объяснение применительно к московским похождениям сатаны и его подручных Булгаков предлагает в эпилоге романа, ясно давая понять, что оно далеко не исчерпывает происходящего. Также и любое рациональное объяснение бала, согласно авторскому замыслу, никак не может быть полным.
Из работы А. Фореля «Половой вопрос», вероятно, во многом почерпнуто изобразительное решение бала. Швейцарский профессор упоминал «бал нагих или полунагих», устраиваемый ежегодно в Париже «художниками и их натурщицами в обществе их ближайших друзей» и завершающийся «половой оргией». Все женщины на бале сатаны, подобно натурщицам на парижском балу, обнажены.
Воскресение мертвецов для бала заставляет вспомнить стихотворение А. Белого «И опять, и опять, и опять». У Булгакова: «вдруг что-то грохнуло внизу в громадном камине, и из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прахом. Этот прах сорвался с веревки, ударился об пол, и из него выскочил черноволосый красавец во фраке и в лакированных туфлях. Из камина выбежал полуистлевший небольшой гроб, крышка его отскочила, и из него вывалился другой прах. Красавец галантно подскочил к нему и подал руку калачиком, второй прах сложился в нагую вертлявую женщину в черных туфельках и с черными перьями на голове, и тогда оба, и мужчина и женщина, заспешили вверх по лестнице». У Белого: «Из расколотых старых гробов / Пролетает сквозною струёй – / Мертвецов, Мертвецов, Мертвецов – / Воскресающий, радостный рой!» В булгаковском романе в разгар бального съезда из камина идет сплошной поток гробов, из которых появляются воскресшие и веселящиеся трупы.
В текстах «Мастера и Маргариты», создававшихся в 1929–1936 годах, вместо Великого бала у сатаны в Нехорошей квартире происходил шабаш. В подготовительных материалах сохранились выписки из книги М. А. Орлова «История сношений человека с дьяволом» с указанием страниц: «Антессер. Шабашные игрища (стр.36). Опилки и колокол (37)». Здесь внимание Булгакова привлекло описание шведского шабаша по материалам процесса над ведьмами 1670 года: «По шведскому обычаю, колдуны и ведьмы отправлялись на шабаш не верхом на метлах и палках и не с помощью волшебных мазей, а просто выходили на один перекресток, на росстань, как выражаются в наших русских сказаниях. Около этого перекрестка находилась глубокая и мрачная пещера. Ведьмы становились перед этою пещерою и трижды восклицали: «Антессер, приди и унеси нас на Блокулу». Эта Блокула была гора, совершенно соответствующая немецкому Брокену или Лысой горе наших сказаний. Антессер же – имя демона, который заведовал шабашными игрищами. Этот демон являлся на призыв своих поклонников одетым в серый кафтан, красные штаны с бантами, синие чулки и остроконечную шляпу. У него была большая рыжая борода. Он подхватывал всех своих гостей и мгновенно переносил их по воздуху на Блокулу, в чем ему помогала толпа чертей, которая являлась вслед за ним. Все эти черти принимали вид козлов; гости и мчались на шабаш, сидя на них верхом. Многие ведьмы водили с собою на шабаш детей. Эта мелкая публика доставлялась на шабаш особым способом, а именно: козлам ведьмы втыкали копья. Ребятишки и садились верхом на эти копья. По прибытии на Блокулу дело шло обычным порядком, т. е. шабаш справлялся, как и всюду в других местах. В шведском шабаше отмечено, впрочем, несколько особенностей, которые, однако же, иногда, хотя изредка, упоминаются в сказаниях и у других народов. Шведские ведьмы во время шабаша делали себе уколы на пальцах и вытекшею кровью подписывали договор с дьяволом, который вслед за тем совершал над ними крещение, разумеется, уже во имя свое, причем давал им медные стружки, которые получаются при обтачивании колоколов. Ведьмы бросали эти стружки в воду, произнося при этом такие заклинания на собственную душу: «Как эти опилки никогда не вернутся к колоколу, с которого они содраны, так пусть и душа моя никогда не увидит Царствия Небесного».
Замечательно еще, что по шведскому народному верованию главною приманкою на шабашах является еда. Можно было бы подумать, что шведы – великие чревоугодники, но, кажется, этого за ними не было замечено, и лишь по части выпивки они, сколько нам известно, тонко понимают дело. На шведских шабашах застольное пиршество – главный номер в программе увеселений. Народные сказания приводят даже полное меню шабашного стола: щи с салом, овсяная каша, коровье масло, молоко и сыр. Меню в своем роде характеристическое. Верно, не очень-то сытно жилось народу, коли он мечтал о таких пирах как о чем-то достижимом лишь при посредстве продажи души дьяволу (главным в меню шабаша было преобладание «скоромных» блюд, которые нельзя употреблять в христианский пост. – Б. С.)! После застольного пира ведьмы принимались для развлечения драться между собою. Хозяин бала, дьявол Антессер, ежели бывал в добром расположении духа, принимал участие в этих невинных забавах и собственноручно хлестал ведьм прутьями и при этом во все горло хохотал. Иногда, будучи в особо благодушном настроении, он услаждал своих гостей игрою на арфе. От брака демона с ведьмами, по шведскому поверью, нарождались на свете жабы и змеи. Отмечена еще одна любопытная подробность шведских сказаний. Иногда дьявол, присутствовавший на шабашах, оказывался больным. Чем именно и в чем выражалась болезнь, об этом история умалчивает; но зато объясняется, что гости шабаша усердно ухаживали за больным хозяином и лечили его – ставили ему банки. Своим верным приверженцам шведский черт давал верных рабов в виде разных животных – кому ворона, а кому кота. Этих зверей можно было посылать куда угодно и с каким угодно поручением, и они все аккуратно исполняли».
Многие детали шведского шабаша Булгаков использовал при описании бала и предшествовавшего ему шабаша на берегу реки, на котором побывала Маргарита. Для полета на бал она использует упоминаемые Орловым традиционные «транспортные средства» – волшебный крем и половую щетку. Зато Наташа берет транспорт, излюбленный именно шведскими ведьмами – превратившегося в беса-борова «нижнего жильца» Николая Ивановича. Обыграна здесь и болезнь дьявола, характерная для шведских сказаний. В окончательном тексте перед началом бала «Воланд широко раскинулся на постели, был одет в одну ночную длинную рубашку; грязную и заплатанную на левом плече. Одну голую ногу он поджал под себя, другую вытянул на скамеечку. Колено этой темной ноги и натирала какою-то дымящеюся мазью Гелла». Далее дьявол сообщает Маргарите, что, по мнению приближенных, у него ревматизм: «… я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в тысяча пятьсот семьдесят первом году в Брокенских горах, на Чертовой Кафедре». Здесь Булгаков заменил шведскую Блокулу на фигурирующий в немецких легендах и в «Фаусте» Гёте Брокен. Вероятно, Булгаков рассматривал выписанное им имя Антессер как возможное имя дьявола в своем романе, поскольку русской публике оно было почти неизвестно, но потом остановился на Воланде как на имени, непосредственно связанном с поэмой Гёте. Наверняка, он обратил внимание на то, что в описании Орлова шведский шабаш однажды назван балом, и, возможно, уже тогда, в 1929 году, у него зародилась идея Великого бала у сатаны. У Воланда, в полном соответствии со шведской традицией, есть слуги-животные – кот Бегемот и грач, которые выполняют различные поручения. В частности, шофер-грач доставляет Маргариту на бал. У булгаковского сатаны есть и служанка-ведьма Гелла, которая «расторопна, понятлива, и нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать». Булгаков учел приведенное Орловым шведское поверье, что обильная еда – одно из притягательных свойств шабаша. Только традиционную и не блещущую разнообразием кухню североевропейских крестьян Булгаков заменил на жареное мясо, устрицы, икру, и ананасы, как на приеме в американском посольстве, где ему довелось побывать. После бала происходят шабашные игрища – «невинные забавы», когда притворно, «для развлечения», борются между собой Гелла и Бегемот. Воланд, в отличие от Антессера шведских сказаний, рыжей бороды не носит, зато шведскому дьяволу на балу Воланда уподоблен Малюта Скуратов: Маргарита видит его лицо, «окаймленное действительно огненной бородой». Вероятно, Булгаков остановил свой выбор на шведском шабаше как на значительно менее известном русским читателям, поскольку подробно описан он только в книге М. А. Орлова.
В тексте 1933 года, в полном соответствии со шведским поверьем, на шабаше присутствовали и дети, а шабашные игрища были запечатлены куда подробнее и сексуальнее: «…На подушках, раскинувшись, лежал голый кудрявый мальчик, а на нем сидела верхом, нежилась ведьма с болтающимися в ушах серьгами и забавлялась тем, что наклонив семисвечие, капала мальчику стеарином на живот. Тот вскрикивал и щипал ведьму, оба хохотали, как исступленные… Гроздья винограду появились перед Маргаритой на столике, и она расхохоталась – ножкой вазы служил золотой фаллос. Хохоча, Маргарита тронула его, и он ожил в ее руке (как на живых дьявольских картах в «Венедиктове» А. В. Чаянова. – Б. С.). Заливаясь хохотом и отплевываясь, Маргарита отдернула руку. Тут подсели с двух сторон. Один мохнатый с горящими глазами, прильнул к левому уху и зашептал обольстительные непристойности, другой – фрачник – привалился к правому боку и стал нежно обнимать за талию. Девчонка уселась на корточки перед Маргаритой, начала целовать ее колени.
– Ах, весело! Ах, весело! – кричала Маргарита, – и все забудешь – Молчите, болван! – говорила она тому, который шептал, и зажимала ему горячий рот, но в то же время сама подставляла ухо». В дальнейшем, уступая внутренней цензуре, Булгаков сделал сцену гораздо целомудреннее (столь откровенное описание тогда, в 30-е годы, уже не имело возможности проникнуть в печать). В окончательном тексте романа мальчик, забавляющийся с ведьмой, был заменен котом Бегемотом, играющим с Геллой, а в сцене последнего полета превращающимся в худенького юношу-пажа.
Сообщение Орлова о том, что, по шведским сказаниям, дети от брака дьявола с ведьмами рождаются на свет жабами и змеями, проявляется в присутствии на шабаше на берегу реки (очевидно, Днепра у Лысой горы под Киевом) толстомордых лягушек, играющих на дудочках.
Для сцены шабаша, а потом – бала Булгаков сделал выписки из статьи «Шабаш ведьм» из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Там, в частности, говорилось, о более традиционной версии этого мероприятия, чем в рассказе М. А. Орлова об Антессере. В статье, написанной известным этнографом Л. Я. Штернбергом, отмечалось, что «перед полетом ведьмы мажут себя волшебными мазями», а для самого полета пользуются «метлами, кочергами, ухватами лопатами, граблями и просто палками». Там же указывалось, что ведьмы и черти, которые в народных поверьях являются участниками этого дьявольского сборища, произошли от языческих богов и богинь, в том числе от древнегерманской Фрейи, традиционно изображавшейся верхом на борове. Булгаков пародийно уподобил Фрейе служанку Маргариты Наташу, отправляющуюся на бал верхом на превратившемся в борова «нижнем жильце». Картина шабаша во многом соответствовала немецкому поверью, приводимому Л. Я. Штернбергом: «Среди сонма ведьм, оборотней и давно умерших женщин (души усопших в свите Одина) (Один – верховный бог древнегерманской мифологии Скандинавии, бог войны, хозяин вальхаллы, чертога мертвых, где находят приют павшие в битвах воины, продолжающие здесь свои героические подвиги; у древних германцев континентальной Европы Одину соответствовал бог Вотан, или Водан, от которого, возможно, произошел и Воланд средневековых легенд. – Б. С.), слетевшихся на шабаш каждая со своим возлюбленным чертом, при свете пылающих факелов восседает на большом каменном столе сам сатана в образе козла, с черным человеческим лицом… Затем следует бешеная постыдная пляска ведьм с чертями, от которой на другой день остаются следы ног коровьих и козьих». В тексте 1933 года на шабаше в Нехорошей квартире большую роль играл козлоногий (в окончательном тексте он фигурирует только в предшествующем балу шабаше на берегу реки), а Маргарита видит «скачущие в яростной польке пары». Отметим, что в ранней редакции на шабаш Маргарита попадает через камин. В окончательном тексте через камин на бал попадают все гости (кроме Маргариты), и пасть камина соответствует той мрачной и глубокой пещере шведских поверий, откуда отправляются на шабаш его участники. Отсюда и сравнение с пещерой темного глаза Воланда, которым он смотрит на Маргариту перед балом.
Как можно судить по сохранившимся рукописям, в тексте 1933 года, шабаш в Нехорошей квартире продолжался до половины двенадцатого, а затем следовал малый бал у сатаны, причем часть рукописи, где этот бал, вероятно, описывается, в полном соответствии с рассказом Е. С. Булгаковой оказалась уничтожена.
В книге «У чужого порога» Л. Е. Белозерская яркими красками рисует масленичный карнавал в Париже: «Избирается карнавальная королева. Ей полагается быть не старше 25 лет, быть незамужем и самой зарабатывать себе на жизнь.
В этот раз избрана машинистка из 13-го района, одного из самых бедных в Париже.
Вот она стоит на платформе украшенного цветами грузовика, озябшая и счастливая и улыбается всеми своими ямочками. По традиции в этот день ее принимает в своем дворце на Елисейских полях президент. Их обычно и снимают вдвоем: президент во фраке, со своей президентской лентой, она – в горностаевой королевской мантии.
Из большого, разнообразного, веселого шествия запомнилась мне одна колесница, отражающая в чисто французском духе злободневную тему – жилищный кризис.
На грузовике – двуспальная кровать (что греха таить: любят французы этот сюжет), в ней под одеялом двое улыбающихся молодоженов. Над ними – арка – часть моста: больше молодой паре деваться некуда. Чтобы подчеркнуть иллюзию моста, на арке стоит мужчина с удочкой – символ неугасающей страсти парижан к рыбной ловле (и, кстати сказать, своеобразный фаллический символ. – Б. С.), толпа отпускает пикантные шуточки, смеется, аплодирует…». Очевидно, это карнавальное шествие подсказало шествие знаменитых грешников всех времен и народов на Великом балу у сатаны. Но Маргарита, избранная королевой этого созданного булгаковской фантазией бала, наделена прямо противоположными качествами по отношению к королеве парижского карнавала. Ей тридцать лет, она замужем, не нуждается в заработке, будучи обеспечена состоятельным мужем – крупным инженером, и живет в богатстве, а не в бедности.
На балу Воланда присутствуют и музыкальные гении, непосредственно не связанные в своем творчестве с инфернальными мотивами. Маргарита встречает здесь «короля вальсов» – австрийского композитора Иоганна Штрауса, бельгийского скрипача и композитора Анри Вьетана, а в оркестре играют лучшие музыканты мира. Тем самым Булгаков иллюстрирует идею, что всякий талант – в чем-то от дьявола, и «король вальсов» Штраус несказанно рад, когда его приветствует Маргарита – королева бала.
М. А. Орлов описывал, как один итальянский юноша в XVI веке в окрестностях Рима «повстречал дьявола, который принял вид очень грязного и неопрятного человека, в старой рваной одежде, с растрепанными волосами и бородой и очень злым лицом». Таким, только без бороды, видит Маргарита Воланда перед началом бала: «Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут книзу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие параллельные острым бровям морщины… Воланд широко раскинулся на постели, был одет в одну ночную длинную рубашку, грязную и заплатанную на левом плече». От взгляда сатаны Маргарита «усилием воли постаралась сдержать дрожь в ногах», значит, он действительно испугал ее.
Доносчик и осведомитель Барон Майгель, последний гость на балу у сатаны, имеет несколько литературных и, по меньшей мере, одного реального прототипа из числа булгаковских современников. Этот реальный прототип – бывший барон Борис Сергеевич Штейгер, уроженец Киева, в 20-е и 30-е годы работавший в Москве в качестве уполномоченного Коллегии Наркомпроса РСФСР по внешним сношениям. Одновременно Штейгер являлся штатным сотрудником ОГПУ-НКВД. Он следил за входившими в контакт с иностранцами советскими гражданами и стремился получить от иностранных дипломатов сведения, интересовавшие советские органы безопасности. 17 апреля 1937 года Штейгер был арестован по делу бывшего секретаря Президиума ЦИК А. С. Енукидзе, являвшегося также председателем Правительственной комиссии по руководству Большим и Художественным театрами. 16 декабря 1937 года вместе с другими подсудимыми по этому делу бывшего барона по ложному обвинению в измене Родине, террористической деятельности и систематическом шпионаже в пользу одного из иностранных государств приговорила к расстрелу Военная Коллегия Верховного Суда СССР. Приговор был немедленно приведен в исполнение. В дневнике Е. С. Булгаковой Штейгер упоминается несколько раз. В частности, 3 мая 1935 года, описывая прием у советника американского посольства Уайли, она отмечает, что присутствовал, «конечно, барон Штейгер – непременная принадлежность таких вечеров, «наше домашнее ГПУ», как зовет его, говорят, жена Бубнова». Подчеркнем, что А. С. Бубнов был тогда наркомом просвещения, т. е., непосредственным начальником Б. С. Штейгера, и его жена знала, что говорила. В той же записи Елена Сергеевна указала, что накануне к ним заходил переводчик Эммануил Львович Жуховицкий, совместно с секретарем американского посольства Чарльзом Бооленом работавший над переводом на английский язык пьесы «Зойкина квартира», и «плохо отзывался о Штейгере». Вероятно, Жуховицкий, которого все подозревали – и совершенно основательно – в сотрудничестве с НКВД, видел в бывшем бароне опасного конкурента (хотя в итоге расстреляли их обоих). Вместе с Булгаковыми Штейгер был и на грандиозном приеме в американском посольстве, устроенном послом У. Буллитом 23 апреля 1935 года. Этот прием, как уже говорилось, послужил прообразом Великого бала у сатаны в «Мастере и Маргарите», где нашел свой конец Б. М. 24 апреля 1935 года, описывая по памяти прием у Буллита, Е. С. Булгакова упомянула и Штейгера:
«…Мы уехали в 5 1/2 (часов утра 24 апреля. – Б. С.) в одной из посольских машин, пригласив предварительно кой-кого из американских посольских к себе… С нами в машину сел незнакомый нам, но известный всей Москве и всегда бывающий среди иностранцев, кажется, Штейгер». Похоже, что это была первая встреча Булгаковых со знаменитым бароном, о котором писатель и его жена были наслышаны ранее. Они нисколько не сомневались, что Штейгер сел с ними в одну машину только в целях осведомления, пытаясь выведать впечатления о приеме для доклада в инстанции. Интересно, что в варианте романа, написанном в конце 1933 года, сцена смерти барона Майгеля уже присутствовала (правда, тогда вместо Великого бала у сатаны в Нехорошей квартире происходил куда менее значительный шабаш). В образе Майгеля Булгаков предсказал гибель Б. С. Штейгера за четыре года до того, как она произошла в действительности. А вот сцена убийства барона на балу у Воланда вошла в текст только в 1939 году, во время булгаковской болезни и уже после казни Штейгера.
У наушника и доносчика барона Майгеля были и литературные прототипы. Сама фамилия Майгель – это слегка измененная фамилия баронского рода Майделей, внесенного в дворянские матрикулы всех прибалтийских губерний России. Реальную фамилию Булгаков переделал так, что она стала ассоциироваться с магией, подчеркивая инфернальную сущность героя. Прототипом булгаковского Майгеля послужил комендант Петропавловской крепости барон Егор Иванович Майдель, который запечатлен в романе Льва Толстого «Воскресение» в образе коменданта барона Кригсмута. В воспоминаниях С. А. Берса приводится рассказ писателя о посещении им Е. И. Майделя в Петропавловской крепости: «Лев Николаевич с отвращением передавал мне, как комендант крепости с увлечением рассказывал ему о новом устройстве одиночных камер, об обшивке стен толстыми войлоками для предупреждения разговоров посредством звуковой азбуки между заключенными, об опытах крепостного начальства для проверки этих нововведений и т. п. и удивлялся этой равнодушной и систематической жестокости со стороны интеллигентного начальства. Лев Николаевич выразился так: «Комендант точно рапортовал по начальству, но с увлечением, потому что выказывал этим свою деятельность»».
Барон Майгель – служащий Зрелищной комиссии и занимается ознакомлением иностранцев с достопримечательностями столицы, подобно тому, как его прототип Б. С. Штейгер ведал внешними сношениями Наркомата просвещения. Председатель же Зрелищной комиссии Аркадий Аполлонович Семплеяров имел одним из своих прототипов А. С. Енукидзе, причем Штейгер, судя по всему, с Енукидзе был близко знаком. Интеллигентный, знающий языки, приятный в общении, светский барон Майгель совершенно равнодушен к жертвам своих доносов, будь то именитые иностранцы или простые советские граждане. Точно так же «интеллигентный» и «увлеченный» тюремщик Е. И. Майдель стремился произвести хорошее впечатление на известного писателя, выказывая при этом полнейшее равнодушие к заключенным – жертвам его «усовершенствований».
* * *
10 мая 1939 года Михаил Афанасьевич сделал памятную надпись на своей фотографии для жены: «Вот как может выглядеть человек, возившийся несколько лет с Алоизием Могарычем, Никанором Ивановичем и прочими. В надежде, что ты прояснишь это лицо, дарю тебе, Елена, карточку, целую и обнимаю».
Никто не будет спорить, что Михаил Булгаков стал по-настоящему знаменит в нашей стране и мире благодаря своему главному роману – «Мастер и Маргарита». Этот роман необоримо притягивает к себе, берет читателя в плен, не отпускает потом всю жизнь. В чем тут дело? Конечно, многих привлекает оригинальная трактовка евангельского сюжета. Особое значение имели ершалаимские главы романа в советское время. В обществе, где Библия была отнюдь не рекомендованным чтением, для многих «Мастер и Маргарита» стал важным источником сведений о христианстве и его ранней истории.
С другой стороны, читателей, безусловно, привлекает почти детективный сюжет романа. Загадочная фигура Воланда (хотя проницательный читатель, как и Мастер, сразу догадается, кто именно появился на Патриарших), тайна его миссии в Москве, тайна судьбы главных героев романа, которая определяется лишь на последних страницах, – все это держит нас в напряжении до самого конца.
Роман «Мастер и Маргарита» воспринимается прежде всего как фантастическая сатира, где древний Ершалаим чудесным образом соединяется с Москвой 1929 года через мир нечистой силы, возглавляемый Воландом. При этом при ближайшем рассмотрении выясняется, что сцены, казалось бы рожденные только полетом писательской фантазии, на самом деле представляют собой отражение событий, происходивших в современной Булгакову России.
По замыслу автора его главное произведение не должно было утратить своей актуальности и свежести читательского восприятия и через 50, и через 100, и через 200 лет. В образах мировой культуры здесь оказываются зашифрованы самые современные политические события и деятели. Древняя евангельская легенда, увиденная в неожиданном ракурсе, становится не только высшим этическим, но и эстетическим идеалом для окружающего писателя пошлого, сервильного мира. Любовь и творчество оказываются под защитой не только Бога, но и дьявола. Всезнающий и строгий Воланд вместе со своей свитой беспощадно вскрывает людские пороки, но отнюдь не спешит их исправлять. Это бремя ложится на самого человека, в душе которого вечно борются добро и зло, страх и сострадание, жестокость и милосердие. Иначе мир был бы плоским, и в нем неинтересно было бы жить.
В «закатном» булгаковском романе оригинально преломились взгляды русских религиозных философов начала XX века. Так, Николай Бердяев в «Новом Средневековье» утверждал: «Рациональный день новой истории кончается, солнце его заходит, наступают сумерки, мы приближаемся к ночи. Все категории пережитого уже солнечного дня непригодны для того, чтобы разобраться в событиях и явлениях нашего вечернего исторического часа. По всем признакам мы выступили из дневной исторической эпохи и вступили в эпоху ночную… Падают ложные покровы, и обнажаются добро и зло. Ночь не менее хороша, чем день, не менее божественна, в ночи ярко светят звезды, в ночи бывают откровения, которых не знает день. Ночь первозданнее, стихийнее, чем день. Бездна (Ungrund) Я. Беме раскрывается лишь в ночи. День набрасывает на нее покров… Когда наступают сумерки, теряется ясность очертаний, твердость границ». У Булгакова в «Мастере и Маргарите» силы тьмы не противостоят, а сложным образом взаимодействуют с силами света, и Воланд по-своему убеждает Мастера, что «ночь не менее хороша, чем день», что уготованный ему последний приют на границе света и тьмы ничуть не хуже, а в чем-то определенно лучше традиционного света, ибо там автор романа о Понтии Пилате сможет узнать откровения, невозможные при свете дня: «…О, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своею подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула?» Во время последнего полета падают все покровы и обнажаются добро и зло. Все летящие, включая Мастера и Маргариту, предстают в своей истинной сущности: «Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы». Воланд и другие демоны сбрасывают личины и, порожденные ночью, возвращаются в ночь. А шпоры сатаны превращаются в «белые пятна звезд».
В «Мастере и Маргарите», как и во многих других произведениях, Булгаков продемонстрировал умение просто, с минимумом словесных средств говорить о вещах сложных, будь то история и нравственная доктрина христианства или последние открытия биологии и физики, скрытые в подтексте «Собачьего сердца» или «Мастера и Маргариты». Также и в булгаковских пьесах достигается максимум выразительности минимумом средств. Персонажи, как правило, лишены длинных чеховских монологов, а серьезные программные декларации сопровождаются юмористическими репликами, как, например, в финале «Дней Турбиных». В этом, помимо прочего, секрет широкой зрительской популярности булгаковской драматургии, как прижизненной, так и посмертной.
Хорошо известно, что «Мастер и Маргарита», да и многие другие булгаковские произведения, по числу литературных реминисценций занимают одно из первых мест в русской литературе. Но это вовсе не значит, что Булгаков был реминисцентным писателем, а его творчество свелось к перепевам традиционных мотивов мировой культуры. Нет, булгаковское творчество было одновременно остроактуальным, затрагивающим самые болевые точки современной жизни. В этом заключалась причина неприятия Булгакова официальной советской критикой и коммунистической властью. Недаром писатель с грустью, но и не без гордости говорил в знаменитом письме Правительству в 1930 г.: «М. Булгаков СТАЛ САТИРИКОМ и как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима».
* * * * *
1
Царь Иван Васильевич Грозный. Худ. Васнецов В.М., 1897
2-1
Александрова (или Александровская) слобода
2-2
Загородный дворец великого князя Василия II, где, по одной из версий, была оставлена знаменитая Либерея Ивана Грозного
3-1
В экспозиции музея-заповедника «Александровская слобода» представлены рукописные книги XIV–XVI веков
3-2
Царские палаты в музее-заповеднике «Александровская слобода»
4
Схема исторических подземных ходов Кремля
5-1
Медведчики (развлечение). Старая Москва. Худ. Васнецов А. М., 1911. Такой увидела Москву византийская принцесса Софья Палеолог
5-2
При Иване III Московский Кремль обрел знакомый нам облик. Худ. Васнецов А. М.
6-1
Софья Палеолог
(ок. 1455–1503) – великая княгиня московская, вторая жена Ивана III, мать Василия III, бабушка Ивана IV Грозного. Реконструкция по черепу, С. А. Никитин, 1994 г.
6-2
Фома Палеолог
(1409–1465) – византийский деспот Мореи; отец Софьи Палеолог и прадед первого царя всея Руси Ивана IV Грозного. Фрагмент фрески Пинтуриккио; Сиенский собор
7-1
Иван III Васильевич (1440–1505) – великий князь московский с 1462 по 1505. Портрет из Царского титулярника, XVII век
7-2
Константин XI Палеолог (1405–1453) – последний византийский император, погибший во время захвата Константинополя турками в 1453 г., дядя Софьи Палеолог
8
Великий князь Иван III Васильевич на строительстве Московского Кремля. Худ. Гроссе О. И. Именно при Иване Великом начинается интенсивное строительство в Кремле: взамен старых деревянных и белокаменных укреплений были выстроены кирпичные, были возведены Успенский, Благовещенский соборы, Грановитая палата…
9-1
Успенский собор Московского Кремля. Худ. Генри Чарльз Брюэр
9-2
Успенский собор (1475–1479) был построен итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти на месте доведенного до сводов русскими зодчими Кривцовым и Мышкиным, но разрушенного во время землетрясения («труса») 20 мая 1474 года храма
10
Крестный ход у Благовещенского собора в Московском Кремле. Худ. Бодри К. П., 1860
11
Благовещенский собор был построен в 1489 году псковскими мастерами на оставшемся от старого собора белокаменном подклете и изначально был трёхкупольным. Собор очень сильно пострадал при пожаре 1547 года и восстановлен в 1564 году, с надстройкой двух глав с западной стороны. В 1572 году к собору было пристроено крыльцо, впоследствии получившее название Грозненского
12
На паперти Благовещенского собора, впервые расписанной при Иване Грозном в 1564, изображены греческие мудрецы: Аристотель (со свитком, на котором написано: «Первие Бог, потом слово и дух, и с ним едино»), Гомер, Плутарх, Менандр, Анаксагор, Птолемей
13
Южная паперть в Благовещенском соборе Кремля
14
Московский Кремль. Соборы. Худ. Васнецов А. М., 1894
15
Знаменитые кремлевские соборы, образующие Соборную площадь, и поныне возвышаются на холме за крепостной стеной
16-1
Грановитая палата, одно из старейших гражданских зданий Москвы, была построена в 1487–1491 годах по указу Ивана III архитекторами Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари
16-2
В Грановитой палате – главном парадном приёмном зале великокняжеского дворца – проходили собрания Боярской думы, заседания Земских соборов, празднества в честь покорения Казани (1552), победы под Полтавой (1709), заключения Ништадтского мира со Швецией (1721); в наше время палата является одним из представительских залов при резиденции президента Российской Федерации
17-1
Земский собор. Худ. Иванов С. В.,1908
17-2
Земский собор 1648–1649 гг. Худ. Максимов А.Ф.
18
Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею. Худ. Литовченко А. Д. Джерому Горсею Иван Грозный в 1581 году лично подарил Библию из своей библиотеки
19-1
Рукописные книги в «допечатные» времена были очень редки и дороги, а их переплеты и обложки инкрустировались драгоценными камнями и золотом и ценились порой больше, чем содержавшиеся в них тексты
19-2
Писцы книг. Миниатюра из лицевого «Жития преподобного Сергия Радонежского». XVI век
20
Афонский монах Максим Грек (1470–1556), по преданию переводивший книги из знаменитой Либереи. Великий князь Василий III попросил игумена Афонского монастыря послать ему монаха для перевода духовных книг. Что интересно, Максим не говорил по-русски, но все же отправился в Москву, где вместе с русскими переводчиками и писцами Дмитрием Герасимовым и Власом Игнатовым осуществил перевод Псалтири, а позже создал княжескую библиотеку и исправил тексты многих книг для богослужения
21-1
Первым усомнился в подлинности «Рукописи профессора Дабелова» историк, специалист в области источниковедения Николай Петрович Лихачев (1862–1936)
21-2
Критику сообщений
Дабелова и Клоссиуса относительно библиотеки Ивана Грозного продолжил церковный историк и археограф Сергей Алексеевич Белокуров (1862–1918). В 1898 году ученый опубликовал монографию «О библиотеке московских государей в XVI столетии», в которой отрицал факт существования «Библиотеки Ивана Грозного»
22-1
Николай Михайлович Карамзин (1766–1826). Худ. Тропинин В. А. Автор «Истории государства Российского» наивно уверял читателей, что собирание древних рукописей имело в государстве давние традиции, создавая у них преувеличенное представление об уровне распространения книжной культуры в России
22-2
Федерико да Монтефельтро (1422–1482) – герцог Урбино, собравший при своём дворе большое количество деятелей искусства и науки и, вероятно, послуживший прототипом для образа мудрого и могущественного московского царя, страстного коллекционера древних греческих и латинских авторов. Худ. Пьеро делла Франческа, 1472 (Федерико потерял глаз на рыцарском турнире, поэтому всегда позировал в профиль)
23
Красная площадь во второй половине XVII века. Худ. Васнецов А. М., 1925 Первые поиски Либереи в Кремле относятся к эпохе Петра Великого. По доношению пономаря Конона Осипова, в подземелье Кремля имеются «две палаты», заставленные до потолка сундуками с неизвестным содержимым, на них «замки вислые превеликие, печати на проволоке свинцовые; и у тех палат по одному окошку, а в них решетки без затворок»
24
Старое устье Неглинной в конце XVII века. Худ. Васнецов А. М. На допросе пономарь московской церкви Иоанна Предтечи Конон Осипов показал, что узнал о кремлевских тайниках от дьяка Василия Макарьева, бывшего при смерти. Тот наткнулся на хранилище во времена царевны Софьи. Тайники располагались возле Тайницких ворот, и выходил Макарьев в Круглую башню на реке Неглинной
25
Гермес Трисмегист – Гермес Триждывеличайший – имя синкретического божества, сочетающего в себе черты древнеегипетского бога мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса. В христианской традиции – автор теософского учения – герметизма, излагаемого в известных под его именем книгах и отдельных отрывках. Подобных трактатов и рукописей было немало в библиотеке московского «чернокнижника» Я. В. Брюса
26-1
Лаборатория средневекового алхимика. Примерно так мог выглядеть кабинет Брюса в Сухаревой башне, откуда, по слухам, по ночам вылетали «железные птицы»
26-2
Альберт Великий за «великим деланием». Книги средневекового ученого были в библиотеке Я. В. Брюса
27
Подавляющее большинство книг Брюсовой библиотеки, относящихся в той или иной степени к оккультизму, магии, алхимии и астрологии, содержат также чисто научные сведения, причем вполне практического свойства
28
Сухарева башня, где размещалась Школа навигацких и математических наук в 1701–1715 гг. Гравюра 1840-х гг.
29
Сухарева башня. Худ. Саврасов А. К.,1872. Это историческая фантазия художника: сама местность в 1872 году выглядела иначе
30-1
Такой болид наблюдал в марте 1716 года находившийся в Москве Брюс; в письме Петру I он так рассказал об огненном шаре: «Пламена огненные гораздо жидким цветом вверх от горизонта простирались и показывались везде по небу кругом по всем странам…»
30-2
18 июля 1716 года Брюс обрадовал Петра сообщением, что наблюдал пятна на Солнце: «Было мое желание вашему величеству донести, что я в солнце пятна усмотрел…»
31-1
22 марта 1699 года Брюс из Москвы писал Петру I: «…Когда изволишь потемнение солнца примечать, тогда изволь избрать избу, в которой бы можно было окны все закрыть… круг солнечный на разных бумажках начертить, чтобы в разные времена величество потемнения ведомо было. Остаюсь твой всем сердцем – Якушко Брюс»
31-2
32
Большой маскарад в 1772 году на улицах Москвы с участием Петра I и князя-кесаря И.Ф.Ромодановского. Худ Суриков В. И. Масленичный маскарад и празднования были устроены в связи с подписанием Ништадтского мирного договора, означавшего победу в Северной войне
33
Непревзойденным мастером в организации фейерверков считался Я. В. Брюс
34
Утро стрелецкой казни. Худ Суриков В. И., 1881. Так выглядела Москва при Петре Первом
35
Портрет Петра I. Худ. Дрождин П.С. Беспощадный к заговорщикам, Петр Первый сквозь пальцы смотрел на казнокрадство двух «Данилычей» – Меншикова и Брюса
36
Отъезд царя Петра из дома Лефорта. Александр Бенуа А., 1911. В Немецкой слободе, рядом с кирхой святого Михаила, в 1735 году был погребен граф Брюс
37
Приезд Петра в Троице-Сергиеву обитель 8 августа 1689 года. Худ. Лебедев К. В.,1893. Вероятно, здесь 5 сентября 1689 года познакомились Петр и поручик Я. В. Брюс. С тех пор и завязалась их дружба
38
Штурм крепости Нотебург. 11 октября 1702. Худ. А. Коцебу А.,1846. При взятии Нотебурга (Шлиссельбурга) в 1702 году Брюс командовал артиллерией
39
Петр I усмиряет ожесточенных солдат своих при взятии Нарвы в 1704 г. Худ. Зауервейд Н., 1859 г. За участие во взятии Нарвы Брюс был награжден земельными наделами в Новгородской губернии
40-1
Коронация Екатерины I состоялась в Успенском соборе Московского Кремля 7 мая 1724 года. Именно граф Я. В. Брюс внес на золоченой подушке новый символ монаршей власти в собор
40-2
Кончина Петра Великого. Худ. Чориков Б. А. Брюс расписал на 166 листах церемонию погребения Петра I до мельчайших деталей, а также руководил работами по бальзамированию тела императора
41-1
Выйдя в отставку, Я. В. Брюс поселился в подмосковном имении Глинки (ныне санаторий «Монино»)
41-2
42
Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе Худ Ге Н.Н., 1871. Брюс был не только верным исполнителем державных замыслов Петра, но и принимал участие в его семейных делах. Так, Петр поручил Якову Вилимовичу регулярно посещать царевича Алексея, надеясь, очевидно, что беседы умного и широко образованного человека повлияют на непутевого наследника.
43
В 1709 году в Полтавской битве Брюс командовал артиллерией, насчитывавшей тогда 102 орудия – против 4 шведских
44-1
За Полтавскую викторию Яков Вилимович получил из рук Петра орден Св. Апостола Андрея Первозванного
44-2
Екатерина I пожаловала в 1725 году Брюсу только что учрежденный орден Св. Александра Невского
45-1
45-2
В 1712 году Брюс командовал артиллерией в совместном походе русских, датских и саксонских войск в Померанию и Голштинию. От саксонского и польского короля Августа Брюс получил польский орден Белого орла
46-1
Такой могли видеть Красную площадь герои Булгакова
46-2
В 1932—33 годах между Манежем и будущей гостиницей ломали квартал
46-3
Московские улицы 1920-х годов
47
У входа в «Булгаковский дом» неразлучная парочка, чуть не спалившая пол-Москвы
48-1
Клетчатый, он же Коровьев-Фагот, с котом Бегемотом присели передохнуть от своих проказ на скамейку у Патриарших прудов
48-2
Патриаршие пруды в Москве




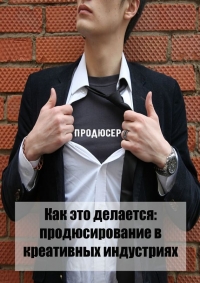


Комментарии к книге «Москва мистическая, Москва загадочная», Борис Вадимович Соколов
Всего 0 комментариев