Алейда Ассман Новое недовольство мемориальной культурой
Введение
В 1930 году Зигмунд Фрейд опубликовал в Вене работу под названием «Недовольство культурой», где рассматривал культуру как коллективный проект, ограничивающий желания Эго ради общественного блага. По мысли Фрейда, технический прогресс, движущий культуру модерна, не приводит (на фоне растущей власти над окружающим миром) ни к субъективному ощущению счастья, ни к полному удовлетворению. Причину отсутствия счастья и внутреннего удовлетворения Фрейд видел не в обостряющемся сознании растущих опасностей и рисков, которые несет научно-техническая цивилизация, а в том, что экспансия культуры влечет за собой и экспансию супер-Эго, все больше подавляющего собой Эго. Культура, по мнению Фрейда, сталкивает индивидуума с непосильными вызовами и непомерными этическими требованиями. Предъявляемые человеку обществом «культурные идеалы» имеют слишком высокую цену, – а именно искусственно поддерживаемое сознание вины, на основе которого формируется индивидуальная совесть, поэтому «вследствие его усиления прогресс культуры оплачивается ущемлением счастья»[1].
Остановимся на этом базовом аргументе, ибо доводы Фрейда затрагивают самый нерв послевоенной немецкой истории: платой за культурный прогресс служит растущее чувство вины. Реинтеграция Германии в круг цивилизованных стран произошла на основе негативной памяти, которая включила собственную преступную предысторию в коллективное представление нации о себе и ритуально поддерживает чувство вины посредством ее общественного признания. Но вина, о которой идет речь, уже не является фрейдовским эдиповым конструктом, предполагающим, что сговорившиеся между собой братья убивают отца, главу архаичного племени; здесь имеется в виду уничтожение европейских евреев и других беззащитных национальных меньшинств, которое задумывалось, планировалось и осуществлялось немцами вместе с коллаборационистами из других стран.
Если фрейдовская идея об убийстве праотца была научным мифом, то геноцид евреев – это недавнее преступление против человечества, документально подтвержденное многочисленными историческими источниками. Бремя подобной вины значительно превосходит все, что можно себе представить, эмоционально выдержать и искупить; это бремя ложится тяжким грузом на следующие поколения, его приходится нести с собой в будущее.
«Мемориальная культура», которой посвящена эта книга, является ответом на данное историческое событие. С 1990-х годов понятие «мемориальная культура» утвердилось в научных дискурсах, в выступлениях политиков, в публикациях СМИ и даже в повседневной разговорной речи. Мы регулярно встречаемся с ним, будь то в воскресной проповеди или в передовице еженедельника «Шпигель», поэтому не отдаем себе отчет, насколько новым является это словосочетание – «мемориальная культура».
В данном случае, как я постараюсь показать, новым является не только словосочетание, но и обозначаемое им понятие. Однако почему ответ на тягчайшее преступление XX века появился так поздно? Почему о мемориальной культуре заговорили спустя годы после окончания Второй мировой войны? Почему молчание столь долго считалось наиболее подходящим решением? Новое понятие соответствует новому, кардинально изменившемуся соотношению между настоящим, прошлым и будущим. Мы вправе также констатировать глубокую смену ценностей, начавшуюся в 1980-е годы. Речь идет о сдвигах в очевидностях, которые не ставятся под сомнение и не подлежат обсуждению, ибо они являются частью наших устойчивых представлений о мире. Подобные умалчиваемые сдвиги нормативных координат экологи называют «Shifting Baselines». Обычно люди не сознают происходящие в окружающем мире перемены социального или физического характера, поскольку «считают “естественным” то состояние окружающего мира, которое совпадает по времени с их биографией и жизненным опытом»[2].
Когда в 1989 году пала Берлинская стена, сокрушив и весь советский восточный блок, параллельно разрушилось еще нечто очень важное, а именно вера в модернизацию с ее надеждами на будущее и забвением прошлого.
Становление мемориальной культуры и падение веры в модернизацию непосредственно связаны друг с другом; они знаменуют собой постепенное осознание Западом совершающейся эволюции в восприятии времени[3]. Новая мемориальная культура радикально изменила традиционные формы коммеморации. Впервые за всю историю они относятся теперь не только к понесенным собственной страной жертвам войны, скорбно оплакиваемым или чествуемым как герои, но и к жертвам собственных преступлений, ответственность за которые ложится на государство и на последующие поколения. Подобная самокритичная коммеморация является совершенно новым историческим явлением.
Мемориальная культура формировалась в Германии на протяжении трех десятилетий с большой энергией, немалыми финансовыми затратами и значительными усилиями гражданского общества; за это время она обросла огромным количеством музеев, различных проектов, мероприятий и программ, став для всех зримой и общедоступной. Средства массовой информации обеспечили мемориальной культуре естественное вхождение в повседневный быт; она присутствует теперь непосредственно у порога дома, например в виде «камня преткновения»; она запечатлена в выдающихся памятниках и монументах общенациональной значимости. После начальной фазы интенсивного роста мемориальная культура проходит ныне своего рода экзамен на аттестат зрелости. Какую роль займут теперь воспоминания в нашем обществе? Следует ли продолжить развитие мемориальной культуры, и если да, то как? Куда ведет избранный путь и кто пойдет этим путем? Вот несколько фундаментальных вопросов актуальной повестки дня.
«Вскоре будет похоронен последний “пимпф”, которого можно упрекнуть в том, что он являлся членом детской нацистской организации, и который своевременно не покаялся в этом», – писал Герман Люббе в 2008 году[4]. По мнению Харальда Вельцера, «многое подсказывает, что интенсивность воспоминаний о национал-социализме, о войне и Холокосте со временем спадет и девитализируется». Вельцер связывает это с тем, что «по мере подрастания четвертого и пятого поколения после Холокоста исчезнет непосредственная историческая связь с этим историческим комплексом»[5].
Короткая историческая эпоха живых свидетелей скоро закончится. Но приблизятся ли к «естественному» концу и воспоминания об этой исторической эпохе? Превратятся ли вскоре Вторая мировая война и Холокост всего лишь в соответствующие главы в исторической монографии (Франк Ширрмахер)? Событие приобретает статус исторического факта, принадлежащего прошлому, когда это событие перестает быть частью нормативной самоидентификации коллективного «мы»: о нем можно забыть, отдав его на откуп историкам. В противном случае действует формула: «Мы не вправе забывать это как граждане нашей страны». На возможность самоидентификации с негативным историческим опытом указывал еще Ницше: поскольку мы являемся «…продуктами прежних поколений, то мы являемся в то же время продуктами и их заблуждений, страстей и ошибок и даже преступлений, и невозможно совершенно оторваться от этой цепи. Если даже мы осуждаем эти заблуждения и считаем себя от них свободными, то тем самым не устраняется факт, что мы связаны с ним нашим происхождением»[6].
Поэтому вопрос не в том, есть ли будущее у мемориальной культуры после следующего за историческим событием поколения и поколения, идущего за ним, сколько в том, как надлежит направлять развитие мемориальной культуры, какие проблемы, опасности, вызовы и шансы ожидают нас в будущем. Воспоминание – динамический процесс, который испытывает внутреннее давление и воздействие изменяющихся внешних обстоятельств. Предложенный Фридрихом Ницше генеалогический концепт «цепи» или «истока» предполагает наличие этнического коллектива, объединенного общей виной; такой коллектив невозможно сохранить в эпоху глобализации, миграции и связанной с ними плюрализации воспоминаний. Мы переживаем демографический и культурный поворот, поэтому помимо обновления и адаптации к складывающимся условиям нам необходимы формы рефлексии и дискурсы о решениях относительно выбора того или иного направления. Ныне крайне актуальна самокритичная дискуссия о месте, где мы находимся, и о динамике развития немецкой мемориальной культуры.
Непосредственным импульсом для написания данной книги послужило растущее недовольство мемориальной культурой, которое выражается во множестве различных высказываний и настроений. Оно отчетливо сигнализирует, что достигнута поворотная точка, где намечаются и уже происходят важные перемены в мемориальной культуре XXI века. Этот поворот характеризуется, прежде всего, двойной сменой поколений. С одной стороны, мы, как уже сказано, переживаем конец «эпохи очевидцев», которые до сих пор играли роль посредников, служили мостом между историей как личным опытом и просто дидактическим материалом. Очевидцы, уцелевшие участники исторических событий, выступая в школах или на мемориальных мероприятиях, способствуют приобретению живых впечатлений, пусть даже из вторых рук; эти встречи и само историческое событие останутся в личной памяти молодых людей из подрастающего поколения иначе, чем это происходит с цифрами и фактами, запечатленными памятью как чисто когнитивной способностью человека.
С другой стороны, мы наблюдаем сейчас завершение «интерпретативных полномочий» (Deutungsmacht) поколения 1968 года, которое вместе со старшим поколением бывших «помощников средств ПВО» (Flakhelfergeneration) и детей военных лет несут ответственность за состояние мемориальной культуры в качестве архитекторов, планировщиков или руководителей и соответствующих учреждений. Эти поколения должны передать свои полномочия в новые руки. Нынешняя дискуссия о недовольстве мемориальной культурой служит ясным признаком того, что новое поколение во все большей мере принимает на себя «интерпретативные полномочия», заявляя о себе собственными представлениями, эмоциями, идеями, ценностями и концепциями. Мое решение вновь вмешаться в эту дискуссию обусловлено тем, что она ставит фундаментальные вопросы о состоянии, целях, формах и перспективах немецкой мемориальной культуры, столь же актуальные, как и захватывающие. Настало время осмыслить эти насущные вопросы и вызовы, которые затмеваются рутинной повседневной деятельностью, связанной с жизнью мемориальной культуры.
Помимо ухода очевидцев и смены поколений существуют и другие причины для нынешнего недовольства немецкой мемориальной культурой. Воспоминания о Второй мировой войне и Холокосте приобретут вскоре исключительно медиатизированный характер. Важную роль играет существенное изменение медийного ландшафта из-за всеобщей доступности электронных средств массовой коммуникации и особенно социальных сетей. Какое значение имеет национальная принадлежность в дигитальном мире, где каждый в равной мере удален от каждого или близок каждому и обладает доступом к тому же самому репертуару визуальных образов, печатных текстов или звуковых файлов? Интенсивная миграция кардинально изменила и состав общества. К тому же немцы проявляют все большую склонность воспринимать собственную историю как часть общеевропейской истории. Все это требует новых подходов к прошлому, которые, в свою очередь, влияют на качество мемориальной культуры.
Речь Мартина Вальзера, произнесенная в 1998 году во франкфуртском соборе Святого Павла по случаю присуждения Премии мира, побудила меня изучить эту речь и проанализировать развернувшуюся вокруг нее дискуссию[7]. В этой дискуссии раздавались возмущенные голоса, заставившие меня разобраться с фигурировавшими в ней ключевыми понятиями и сделать их предметом детальной рефлексии. Предлагаемое здесь критическое освещение немецкой мемориальной культуры простирается от новейших медийных продуктов вроде телесериала «Наши матери, наши отцы», который транслировался каналом ZDF, до далекоидущих транснациональных коннотаций. Анализ не ограничивается наличным состоянием дел, ибо включает дискуссию о немецкой мемориальной культуре в широкий европейский и глобальный контекст. Тем самым рассмотрение мемориального дискурса не замыкается на немецкой специфике, а вопрос о значении и будущем мемориальной культуры обретает еще и транснациональную перспективу.
Многие вопросы, связанные с нынешним поворотным моментом, не могут, разумеется, претендовать на исчерпывающее освещение. Задача данной книги состоит в том, чтобы проанализировать основные понятия и темы, фигурирующие в дискуссии вокруг недовольства мемориальной культурой, воздать им должное как ценным критическим импульсам. Одновременно будет предпринята попытка уточнить понятийный аппарат, очертить основные проблемы и тем самым создать более прочную основу для этой важной дискуссии. Хотелось бы показать, что, несмотря на очевидные проблемы и порой ложные пути их решения, мемориальная культура является несущей опорой гражданского общества. Недовольство зачастую проявляет себя как раздражение, фрустрация, перерастает в ожесточенную полемику. Не всегда ясен предмет недовольства. Идет ли речь о личных инвективах? О споре экспертов относительно направлений развития мемориальной культуры? О возражениях против мемориальной культуры и ее общем неприятии? В различных голосах мне слышится проявление кризиса, о чем свидетельствует и эмоциональность высказываний. Они в свою очередь обнаруживают наличие накопившихся неразрешенных проблем, еще не вышедших на дискуссионный уровень. Данная книга призвана вывести недовольство мемориальной культурой на уровень критического обсуждения и внести посильный вклад в более глубокое осмысление и обновление нашего совместного проекта мемориальной культуры.
Забвение, умолчание, воспоминание
Всегда ли воспоминание – благо?
Всегда ли забвение – проклятье?
Каждое ли обращение к памяти легитимно?
Цветан Тодоров [8]1. Проблемы мемориальных исследований
Исследование, посвященное недовольству мемориальной культурой, я начинаю краткой характеристикой концептуальной основы представлений о памяти и критическим анализом понятийного аппарата, который используется в рамках данной концепции. Некоторые специалисты не просто выражают недовольство отдельными формами мемориальной культуры, но отрицают сам факт ее существования. Им кажется подозрительной сама посылка, полагающая воспоминание и забвение видами когнитивной деятельности, свойственной не только индивидууму, но и коллективам, то есть социальным группам, обществу и государству. Поэтому разберемся сначала с понятийными категориями, и особенно с концептом «коллективной памяти», до сих пор вызывающим упорное неприятие некоторых.
Индивидуальная и коллективная память
Прежде всего среди историков существует устойчивая группа авторов, отвергающих понятие «коллективная память». Это отторжение восходит к 20-м годам и Марку Блоку, одному из основателей школы «Анналов». Марк Блок указывал Морису Хальбваксу, основоположнику исследований памяти, что понятие «коллективной памяти» метафорично, а потому ложно. Подобная метафора порождает представление, будто коллектив «обладает» памятью точно так же, как памятью «обладает» индивид. Правда, Хальбвакс ничего подобного и не утверждал, поскольку в своих конкретных социологических штудиях изучал, как формируется память социальных групп. Эта общая, совместная память не предполагает подключение одного индивидуального мозга к другому, как это происходит с персональными компьютерами на «сетевой вечеринке» (LAN party), а основывается на общих ритуалах, символах и историях, в которых участвуют члены социальной группы и которые соотносятся друг с другом. Нет прямого пути от индивидуального опыта и индивидуальных воспоминаний к коллективной памяти. Это не совокупность отдельных воспоминаний, а историческая реконструкция, задающая рамки для индивидуальных воспоминаний, благодаря чему то, что пережито индивидуально, узнается субъектом в исторической реконструкции, или же субъект приписывает реконструированную историю собственному воспоминанию. Коллективная история репрезентативна в двойном смысле: она репрезентирует значимый для коллектива фрагмент прошлого и она репрезентативна по отношению к индивидуальной судьбе, представляя ее как часть истории. При этом речь всегда идет о двойном вопросе: что следует помнить? И что можно забыть? На данный вопрос можно дать либо один, либо другой ответ – именно в этом и заключается динамика незавершенного процесса.
Благодаря включению в коммуникацию и совместное воспроизводство традиции формируется та или иная групповая память, различающаяся степенью устойчивости, обязательности, а также широтой охвата. Лишь то, что выставлено в музеях, воплощено в памятниках и попало в школьные учебники, обретает шанс на передачу следующим поколениям. Коллективная память позволяет членам сообщества, преодолевая пространственные и временные дистанции, сохранять ценностные ориентиры и системы координат. Так возникает ощущение себя частью большого целого, значительно превосходящего горизонт индивидуального опыта. Уже упомянутые агностики не склонны принимать эти – изложенные в самом кратком виде – положения, составляющие основу исследований культурной памяти; напротив, они считают своей обязанностью снова и снова подвергать сомнению данные фундаментальные положения посредством аргументов воинствующего здравого смысла. Сошлемся в качестве примера на такого яркого представителя подобных взглядов, как историк Райнхард Козеллек (1923 – 2006): «Мой тезис гласит: я могу вспомнить лишь то, что пережил сам. Воспоминания привязаны к личному опыту. У меня нет воспоминаний, не обусловленных личным опытом. Я бы даже сказал, что каждый человек имеет право на собственные воспоминания. Это право на собственную биографию и собственное прошлое; данное право нельзя отнять никакими ссылками на коллективность и гомогенизацию, никакими требованиями или ожиданиями. Мое воспоминание есть нечто совершенно иное, нежели то, что является частью официальной коммеморации немецкого народа 27 января, в день освобождения Аушвица советскими войсками»[9].
Тезис Козеллека состоит из нескольких утверждений, каждое из которых подлежит отдельному разбору. «У меня нет воспоминаний, не обусловленных личным опытом». Сразу ясно, что здесь подразумевается: воспоминание невозможно имплементировать извне; оно по своей природе обусловлено оптикой личного восприятия и переживания, а потому является неотъемлемым достоянием индивидуума. Отсюда, по мнению Козеллека, следует право человека на собственные воспоминания; подобно праву на свободу совести оно принадлежит к числу фундаментальных прав свободной и аутентичной личности. Данная мысль выглядит вполне убедительной, хотя при ближайшем рассмотрении вызывает некоторые вопросы. Козеллек сам подчеркивает: «Хотя не существует коллективных воспоминаний, однако есть коллективные условия для воспоминаний». Собственные воспоминания неизбежно пронизаны рассказами или впечатлениями других людей, поэтому особенно в ранних воспоминаниях нет четкой границы между тем, что человек пережил сам, и тем, что он услышал от других. Мы объединены с другими не только языком или иными компонентами культуры, но и «рамками памяти» (Морис Хальбвакс). Это понятие подразумевает наличие у социальной группы определенных критериев, согласно которым отбирается то или иное событие, оценивается его значимость, определяется коллективный способ его толкования и эмоциональное насыщение[10]. Позволительно задать критикам теории коллективной памяти следующий полемический вопрос: «А существует ли вообще сугубо индивидуальная память?»[11] Индивидуальная память, в соответствии с этой теорией, не носит чисто солипсистский характер; индивидуум, сознает он это или нет, всегда является членом мемориального коллектива, в рамках которого он вспоминает нечто вместе с другими или вопреки другим.
Страстная аргументация Козеллека сводится к необходимости четко различать между личной и коллективной памятью. Но ведь этим он одновременно подтверждает существование феномена коллективной памяти. Следовательно, она не является лишь метафорой и вымыслом теоретиков, не имеющим никакого реального основания. Коллективная память действительно существует, хотя и на другом уровне: на уровне коммеморации (Gedenken). Козеллек справедливо отвергает попытки отождествить обе формы памяти, хотя и не вполне ясно, кто заявлял когда-либо о тождестве личных воспоминаний и коллективной памяти[12]. Я, во всяком случае, исхожу из того, что немцы, отмечая 27 января день освобождения Аушвица, прекрасно сознают отсутствие у них личных воспоминаний, связанных с этим местом. Но они могут увидеть фотографии и кинофильмы, услышать чьи-то выступления, посетить выставки или мемориалы и принять таким образом участие в ежегодных коммеморациях по поводу данного исторического события. Но они могут и проигнорировать эту дату, ибо причастность к конкретному знанию с его особой релевантностью для коллективной идентичности есть дело принципиально добровольное и не подлежит принуждению в демократическом обществе. Поэтому календарная дата не предписывает всеобщей и унифицированной коммеморации, а служит лишь поводом для нее, которым каждый волен воспользоваться по собственному усмотрению в соответствии с индивидуальными интересами и мотивацией.
История и память
Согласно Козеллеку, необходимо проводить четкое различие между коллективной и индивидуальной памятью. С большим пафосом он подчеркивает, что личные воспоминания не должны подавляться или унифицироваться коллективными воспоминаниями. Видимо, Козеллек имеет в виду собственный опыт сознательной и активной жизни в тоталитарном обществе при национал-социализме, когда он был гимназистом и солдатом. Как убедительно показал Оруэлл в послевоенном романе «1984», тоталитарное общество формирует прошлое в соответствии с конъюнктурой интересов власти, подавляя взрывчатую силу личных воспоминаний, которые противопоставляют коммуникативной фикции свое индивидуальное вето. Такое же неприятие политических конструкций прошлого, обслуживающих властные интересы, определяет и подход Козеллека к исторической науке. Как историк, он отстаивает историческую правду, «которую никто не вправе ни оспаривать, ни искажать, а именно это постоянно делают память и воспоминания»[13]. С той же страстностью, с какой Козеллек выступает за аутентичность личных воспоминаний и против коллективной памяти, он ратует за историческую правду, которая может быть подвержена махинациями, совершаемыми памятью: «Существует столько же воспоминаний, сколько людей; по моему убеждению, любой насаждаемый сверху коллективизм оказывается априори идеологией или мифом. Но ни идеологией, ни мифом не являются воспоминания, прошедшие через фильтр исторической критики»[14].
Предложенная Козеллеком оппозиция «хорошее – плохое» или «реальное – фиктивное» содержит четкую оценку. Кто же в таком случае не сделает выбор в пользу критической историографии и против идеологии или мифа? Однако подобная эпистемологическая посылка навсегда закрывает подход к изучению коллективной и культурной памяти. Ключом для такого подхода служит идентичность. Ведь люди существуют не только в качестве индивидуумов, хотя, разумеется, всегда остаются таковыми; они живут в сообществах, социальных группах и культурах, чувствуя свою причастность к ним и сознавая, определяя с их помощью самих себя. Всякая идентичность не может обойтись без отсылки к собственной истории, будь то в связи с ориентацией на некие образцы или из-за необходимости самоописания. Однако историк, по мнению Козеллека, обязан занимать противоположную позицию: «На мой взгляд, задача историка выше и важнее претензий на коллективизацию воспоминаний». Он даже делает следующий шаг: задача историка «не формировать идентичность, а уничтожать ее»[15].
Эти слова звучат вызовом не только исторической науке, но и тем, кто конструирует память. Кто отвечает за конструирование памяти? Ответ зависит от формации политического социума. В тоталитарных обществах коллективную память творит и контролирует государство; в демократическом обществе конструирование коллективной памяти осуществляют сами граждане, деятели культуры и искусств, политические партии и особенно СМИ. Козеллек стирает это важное различие, возлагая ответственность за конструирование памяти на «большую семерку» главных идеологов и мифотворцев: «профессоров, католических и протестантских священников, пиарщиков, журналистов, литераторов и политиков». Эти «общественные группы специализируются на создании коллективов посредством гомогенизации, коллективизации, упрощений и медиатизации»[16].
Если согласиться с предложенной Козеллеком оппозицией «историческая правда – миф памяти», то не останется ничего иного, как полностью отказаться от нового научного направления, то есть от мемориальных исследований. Если же считать, что люди живут не только в качестве разрозненных индивидуумов, а образуют социальные группы, которые объединены культурным опытом, влиянием истории и социальной лояльностью, то перед нами встает вопрос об интеграционном и конфликтном потенциале памяти, открывающий новое широкое поле научных изысканий.
Сделавшему шаг в сторону истории как коммеморации открывается сложная картина. Покинув защищенную наукой сферу истины и дистанцированности от предмета, он видит действующих лиц истории в хитросплетении ценностей и ожиданий, символических практик и эмоциональных инвестиций. Люди конструируют для себя удобное прошлое, поскольку их тяготят темные эпизоды собственной истории, к тому же прошлое способно оказывать различные виды давления. Пользуясь памятью, люди определяют для себя в настоящем общие цели на будущее. В этом свете понятия «идеология» или «миф» меняют свое значение. Они перестают считаться «манипуляцией» или «обманом» и воспринимаются как символические конструкты, которые объединяют людей, позволяя при этом индивидууму организовать собственную жизнь. Становится понятно, что люди не могут обойтись без таких символических конструктов, поскольку необходимы символические формы коллективного самосознания и ценностной ориентации. Если первый шаг сделан, то на следующем уровне встает вопрос, как устроены и как функционируют эти символические конструкты; далее будет более подробно показано, что память может быть продуктивной или агрессивной, она способна порождать насилие или служить цивилизующим фактором.
Таким образом, можно констатировать наличие различных форм памяти – индивидуальной и коллективной, – которые не исключают друг друга. То же самое относится к параллельному существованию исторической науки и конструктов памяти. Здесь мы вновь сталкиваемся с недовольством, то есть комплексом проблем, который постоянно порождает неясности, раздражение, взаимные упреки и полемику. Поэтому уместно ввести некоторые разъяснения, способные помочь делу. Полемическое противопоставление «истории» и «памяти» заняло прочное место в дискурсе 1990-х годов. Но их взаимоотношение все реже рассматривается как взаимоисключающее; все чаще говорится об их взаимодополнении. С одной стороны, в демократическом обществе нельзя диктовать исторической науке, о чем и как она должна помнить. Историки не занимаются вопросами нормативного характера, они не вправе брать на себя подобную миссию, находящуюся вне их компетенции. Именно это имеет в виду Козеллек, когда отмечает, что «задача историка – не формировать идентичность, а разрушать ее». Формированием идентичности занимаются, по его мнению, «историки на службе у власти», что следует четко отграничивать от обязанности историка «служить истине». В противном случае у исторической науки не будет иммунитета к конструктам памяти. То, что избирается обществом в качестве обязательной основы отношения к прошлому, должно стать объектом критического изучения. Когда устанавливается государственная монополия на прошлое и государство препятствует независимой историографии, то это ведет к возникновению идеологии и мифа в указанном выше смысле; с другой стороны, критическая историография, полностью утратив связь с памятью и идентичностью, оборачивается самоотчуждением исторической науки за счет ее искусственной сциентизации. Данный вопрос занимал уже Фридриха Ницше: как не допустить, чтобы современная историческая наука лишилась всякой связи с нормативными и культурными аспектами идентичности? Спустя полвека Вальтер Беньямин писал: «История не только наука, она в такой же мере служит формой памятования», а Юрген Хабермас добавил к этому тезису: «Наша ответственность распространяется и на прошлое[17].
Индивидуальная или коллективная память (коммеморация, культурная память) и историческая наука являются различными и самостоятельными подходами к прошлому, которые несводимы друг к другу; отсюда вытекает плюрализм памяти. Параллельное существование различных видов памяти не стоит считать постмодернистским релятивизмом; скорее здесь имеет место система сдержек и противовесов (checks and balances), взаимодополнений и обоюдного контроля. Одновременно нельзя не признать, что границы между различными сферами памяти отнюдь не непроницаемы и зачастую обнаруживают многообразные пересечения. Впрочем, историки, отстаивающие наряду с Козеллеком строгую дихотомию между «критической историографией» и «идеологией» или «мифом», занимают выигрышную позицию, которая позволяет им демонстрировать в полемических столкновениях собственное превосходство, дискредитируя оппонентов. Ведь борец против «идеологий» и «мифов» всегда вправе чувствовать свою моральную правоту. А вот тому, кто сознает, что собственные взгляды неизменно содержат известную долю мифа и идеологии, все труднее определить свою позицию упрощенно, если только речь не идет об острой политической конфронтации. Проблематичны не идеология и миф, а наличие противоположных политических опций применительно к каждому конкретному случаю: с одной стороны, инструментализация прошлого, которая обслуживает властные интересы, а с другой – самокритичное признание исторической ответственности в духе правового государства. Внутри исторической науки наличествуют не только агностики мемориальной культуры, но и широкий спектр разнообразных позиций в поле напряженных взаимоотношений между историей и памятью. Например, Йорн Рюзен, бывший билефельдский коллега Козеллека, разрабатывает концепцию «исторической культуры», которая охватывает такие важные аспекты культурологии, как травматические последствия исторических событий, их влияние на эмоциональное состояние общества и идентичность[18]. Парадоксален тот факт, что большинство исследователей, занимающихся изучением памяти, рекрутируются из цеха профессиональных историков, которые не усматривают в этом морального конфликта между истиной и ложью, а видят обогащение своего методологического инструментария и проблемного репертуара. Данное обстоятельство рассеивает опасения, что культурологические исследования памяти, оставив в стороне вопрос об истине, сами без зазрения совести оказываются причастными к продуцированию идеологии и мифотворчеству, ибо изучение различных уровней памяти отнюдь не исключает привычного подхода к исследуемому предмету. Напротив, это изучение само превратилось в рефлексивный метадискурс, важный раздел критического анализа и диагностики конструктов памяти. Отказ от плоской дихотомии между историей и памятью открывает многообразие взаимосвязей обеих форм обращения к прошлому и их взаимодополняемость. Память необходима, чтобы вдохнуть жизнь в массив исторических знаний в виде смыслов, перспектив и социальной релевантности; история нужна для критической поверки конструкций памяти, которые всегда формируются под воздействием определенной конфигурации власти и продиктованы насущными потребностями современности.
Культурная память
Директор гамбургского Института социальных исследований Ян Филипп Реемтсма является, подобно Козеллеку, представителем радикального индивидуализма. С этих позиций он отрицает или умаляет иные формы отношения к индивидууму. Как и Козеллек, Реемтсма считает, что только индивидуум обладает памятью. Воспоминания индивидуума кратковременны и эфемерны. «Осознанно воспринимается лишь немногое. Еще меньше попадает в оперативную память. Совсем мало сохраняется долговременной памятью, и ничтожно мало из биографически значимых фактов помнится на протяжении всей жизни»[19]. Наличие «культурной памяти» он категорически отрицает. А ведь понимание того, что память, базируясь на символах, служит для социальной группы формой самоопределения и ориентиром на будущее, стала важным интеллектуальным достижением, которое с 1980-х годов расширило наше представление о культуре и процессах ее трансформации. Согласно этому представлению, культура создает транспоколенческое пространство знаний и систему координат, посредством которых носители этой культуры оформляют собственный опыт. Поэтому история не есть нечто окончательно ушедшее и интересующее только историков. Как показал исследователь мозга Эрик Кандель на примере улитки Aplysia, «память, сообразуясь с раздражителем, сработавшим в прошлом, помогает справиться с задачами настоящего, чтобы выжить в будущем»[20]. В культуре память также «обеспечивает ориентацию в настоящем ради будущих действий»[21]. Нам неизвестна культура, которая не формировала бы тем или иным способом стратегию и практику своей культурной памяти.
У западных культур существует разделение труда применительно к прошлому, которым занимаются такие институции, как библиотеки, архивы и музеи, чтобы использовать прошлое как духовное богатство, художественный ресурс, объект познания и предмет различных дискурсов. Личное воспоминание и забвение всегда интегрируются в более широкие контексты памяти и забвения. Не только каждый индивидуум выбирает для себя, что он желает или не желает помнить, но и члены социальной группы сообща решают, что должно сохраниться для будущего, оставаясь доступным потомкам. В этом смысле постоянно определяется и будет определяться будущее памяти, то есть принимаются и будут приниматься решения о том, каких авторов люди продолжат читать и какую они музыку будут слушать, какие документы подлежат сохранению, какие события следует оставить в памяти. В отличие от конъюнктуры рынка, отбирающего то, что пользуется или не пользуется спросом сегодня, селективные решения культурной памяти обладают большей устойчивостью. Принятие таких решений обычно берет на себя меньшинство, однако в демократическом обществе этот процесс сопровождается публичным обсуждением. Таким образом, абстрактное понятие «культурная память» подразумевает широкий спектр культурных практик: консервация следов, архивирование документов, коллекционирование произведений искусства и антикварных предметов с возможностью их реактивации посредством медийной репрезентации и педагогической работы. Культурная память является не только пассивной накопительной памятью, она включает в себя реактивацию прошлого и возможность его широкого усвоения активной функциональной памятью. Важную роль играют при этом структуры перцепции, благодаря которым действуют вторичные процессы индивидуального и культурного восприятия. Все это отличает культурную память от абстрактного фонда энциклопедического знания, которое обладает универсальной значимостью, но не соотнесено с конкретной идентичностью.
Однако в условиях демократии партиципация является скорее опцией, нежели обязанностью. Партиципация осуществляет переход от «Я» к «Мы», формируя множество различных социальных групп. Как справедливо отмечает Козеллек, коллективизация посредством гомогенизации недопустима. Реемтсма описывает коллективное «Мы» как господство меньшинства над большинством. В своем эссе о смысле и бессмысленности мемориалов он подчеркивает, что «речь от первого лица множественного числа носит метафорический характер, поскольку это не предполагает, будто сказанное действительно отражает мнение большинства. …Мемориалами – как и вопросом, зачем они сооружаются и что с ними будет, – также интересуется меньшинство людей. Но это то меньшинство, которое отстояло свои интересы таким образом, будто оно является активным большинством, хотя последнее на самом деле лишь попустительствовало произошедшему»[22].
Связь с идентичностью
Козеллеку, как и многим другим представителям старшего поколения, кажется бесполезной вошедшая в научный обиход концепция коллективной идентичности. Важна только индивидуальность, нередуцируемая инаковость каждого отдельного и обособленного человека. «У каждого есть право на собственную биографию, на собственное прошлое, которое не может быть отнято никакой коллективизацией, никакой гомогенизацией, никаким принуждением»[23]. Здесь в Козеллеке говорит опыт тоталитаризма, перед лицом которого защита индивидуальности обязана считаться наивысшей целью. Однако подобный взгляд чреват догматизмом, поскольку автоматически отождествляет любой вид принадлежности к социальной группе с коллективизацией, гомогенизацией и принуждением. В наши дни, когда принадлежность к той или иной социальной группе, традициям и культуре воспринимается как важная составная часть индивидуальной идентичности, позицию Козеллека можно уважать, но ее уже не удастся отстоять в качестве общепринятой. Мир стал гораздо сложнее, и науки о культуре пытаются соответствовать возросшей сложности. Подобно тому, как миф перестал считаться всего лишь обманом и видится теперь обоснованием истории, соотнесенность с идентичностью также нельзя автоматически считать формой «коллективизации», поскольку идентичность следует воспринимать как «новую форму самоопределения». Происходит не отказ от индивидуальности, а ее дополнение, обогащение и новое акцентирование ее значимости. Хотя сейчас научные публикации на данную тему составляют целые библиотеки, многие историки до сих пор отвергают понятие «коллективной идентичности» как нелегитимную метафору. Это объясняется тем, что коллективная идентичность ассоциируется с идеями национал-социализма, которые подлежали искоренению в Германии после 1945 года. Урок тоталитарного прошлого гласил: «Впредь никаких разговоров о германской идентичности! Никогда!» Но возникшие мыслительные запреты со временем все больше обнаруживали свою проблематичность. Выявление рамок памяти, все более характерная для современного мира забота о сохранении национальной памяти, стремление приобщить к ней граждан своей страны подтверждается учреждением большого количества памятных дат, коммеморативных ритуалов и других символических практик коллективного возврата прошлого в нашу современность.
Любая память характеризуется той или иной перспективой; память небеспристрастна и определяется тем, что в нее отбирается и что из нее исключается. В демократических странах мемориальное сообщество никогда не бывает однородным; каждый индивидуум представляет собой сферу пересечений многих групповых памятей и сам делает выбор из множества коммеморативных опций. Эта неоднородность усугубляется многоуровневой коммуникацией: официальной (выступления в бундестаге и ландтагах), публичной (публикации в СМИ) и неофициальной (разговоры с приятелями за кружкой пива). В Германии наличествует множество различных «Мы» с их коллективной памятью: немцы как преступники, ответственные за Холокост; немецкие евреи как жертвы Холокоста; немцы как жертвы национал-социализма и Второй мировой войны; немцы как жертвы вынужденного бегства и насильственных депортаций; немцы как жертвы политических преследований в ГДР; наконец, немцы из семей бывших эмигрантов. И у всех них разные жизненные истории. Однако это не исключает наличия социальных рамок памяти, внутри которых каждая из перечисленных групп помещает собственную память. Но поскольку речь идет о рамках памяти, многое из них и исключается. В том числе вещи, ставящие под вопрос нормы общественного морального консенсуса (о чем дальше пойдет речь в разделе о политкорректности); впрочем, есть и нечто безотчетно забытое, что еще может стать частью немецкой памяти (о чем мы также поговорим в разделе, посвященном «диалогической памяти»).
Связь между памятью и коллективом отнюдь не тривиальна, поскольку она выстраивает память для будущего, которое не ограничивается биографическим периодом отдельно взятой жизни. Те, кто настаивают на сугубо индивидуальной природе памяти, отрицают возможность и необходимость существования мемориальной культуры: «Исторически завершенный опыт заканчивает и само событие, проводя под событием финальную черту, четко отделяющую его от современности: прошлое проходит слишком быстро. Поэтому речь идет не о формальных тонкостях в понятийных различиях, а о социальном характере памяти, всегда имеющей коллективную природу»[24]. Прошлое является не только объектом изучения, который можно положить в архив; вкупе с опытом, воспоминаниями, чувствами и различными элементами идентичности прошлое тесно связано с настоящим и будущим. Реемтсма точно и убедительно описал это в своем эссе: «Толкование истории как толкование самих себя: изучая историю, мы хотим понять, кто мы такие и на что смеем надеяться»[25]. Вера Каттерманн указывает с психоаналитических позиций на связь между коллективной коммеморацией и идентичностью: «Хотя смысл и значение памятных дней всякий раз определяется конвенционально и может изменяться, они являются результатом коллективной ключевой трактовки соответствующего исторического события, результатом временного консенсуса: “Сегодня мы именно такие, ибо пережили это”. В основе ценностей, которые нам важны, лежит наш опыт, и, отмечая памятные даты, мы вспоминаем об этом»[26].
Индивидуальная память помещена в более широкие рамки культурной памяти, что создает предпосылки для формирования коллективной идентичности, устанавливающей связь между прошлым, настоящим и будущим. Посредством памяти нация удостоверяется в собственной истории. Здесь вновь проявляется указанное Козеллеком раздвоение индивидуальной и коллективной памяти, ибо национальная идентичность всегда базируется не только на том, какой фрагмент истории избирается в качестве релевантного и актуализируется коллективной коммеморацией, но и на том, что еще присутствует в индивидуальных воспоминаниях людей и что ими уже забыто.
Значение понятия «мемориальная культура»
Недовольство мемориальной культурой отчасти обусловлено тем, что это понятие, переживая смысловую инфляцию, употребляется в совершенно различных значениях. При столь большой разнице в значениях и способах употребления термина «мемориальная культура» бывает почти невозможно понять, о чем, собственно, идет разговор. В качестве примера сошлюсь на Фолькхарда Книгге, который предлагает заменить этот термин выражением «критическое историческое сознание». Однако Книгге, руководитель фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора, имеет в виду не столько замену терминов, сколько содержательное изменение сложившихся культурных практик. Он ратует за переориентацию, которая вернет нас от мемориальной культуры к рефлексивному историческому сознанию. Особенно примечательно, что Книгге, будучи «давним протагонистом институционализированной мемориальной культуры, настаивает на сознательном уходе от коммеморативной парадигмы»[27]. В своей статье он описывает внутренний конфликт между функционером от мемориальной культуры и личностью. Хорошо зная предмет, Книгге тревожится, что в своей повседневной профессиональной деятельности он предает собственные идеалы. Понятие «мемориальная культура» аккумулирует для Книгге все недовольство, которое накапливается его рабочими буднями.
«Мемориальная культура», которую Книгге хотел бы упразднить, имеет, по его мнению, три аспекта. Во-первых, он критикует это понятие за «моральную перегруженность и расплывчатый пафос», призванный создать впечатление, будто память при всех обстоятельствах сама по себе есть благо. Во-вторых, он опровергает представление о единой и одинаковой памяти, которое не учитывает индивидуальную точку зрения на события прошлого, а также различия индивидуального исторического опыта. В-третьих, Книгге видит в мемориальной культуре альтернативу «критическому историческому сознанию» и «исследовательской работе, ориентированной на опыт». Но, перечислив три указанных аспекта, Книгге охарактеризовал на самом деле не мемориальную культуру, а конкретные ошибки, недостатки и недоразумения. Подобно Козеллеку, он полемизирует против тоталитарного мифа о единой памяти и подчеркивает, что «мемориал репрезентирует не одну память, а является точкой кристаллизации множества различных воспоминаний». У Книгге слышатся отголоски давнего спора между критической, просвещенной «историей» и самодостаточной, жреческой «памятью» (нечто похожее мы обнаружили и у Козеллека). Он считает мемориальную культуру отпочкованием от «научно-исторических исследований и методически обоснованной рациональности». Но это ошибочное представление о мемориальной культуре. Недовольство такой «мемориальной культурой» вполне понятно, но не оправдывает стремление к ликвидации подлинной мемориальной культуры. Недаром в конце своего эссе Книгге вновь обращается к памяти, от которой вроде бы отказывается. Говоря о политическом образовании и этическом воспитании, он подчеркивает значение коммеморации и мемориалов, настаивает на «увязке когнитивного и аффективного подходов к прошлому»[28]. Очевидно, что память нуждается в знании, но так же очевидно, что мемориальная культура не сводится к «выхолощенным ритуалам и показному сочувствию (Betroffenheit)» и не является «инструментом исторической политики, который используется под прикрытием чувств людей».
Чтобы избежать схоластического спора о словах и наметить переход от эмоционального недовольства к содержательной дискуссии, далее будут предложены некоторые понятийные различия. Помимо того значения, которое придает «мемориальной культуре» Фолькхард Книгге, считающий необходимым как можно скорее покончить с ней, мне хотелось бы предложить еще три значения этого термина в надежде – преодолев оправданное недовольство – расширить понятийное пространство и создать общую платформу для дискуссии.
В своем первом значении мемориальная культура является неспецифическим собирательным понятием, указывающим на плюрализацию и интенсификацию обращений к прошлому. Прошлое долго считалось сферой деятельности профессиональных экспертов: историков, архивистов, кураторов музейных экспозиций и выставок, специалистов по охране памятников. За последние три десятилетия ситуация изменилась. Ключевое понятие «меморация» драматическим образом расширило интерес к прошлому. Индивидуумы и социальные группы, города, регионы и страны открыли эту новую для себя тему.
Второе значение термина «мемориальная культура» подразумевает освоение прошлого определенной социальной группой. Ницше, один из первых теоретиков этой антропологической универсалии, не только описал различные формы освоения прошлого, но и подчеркнул его неизменную амбивалентность, способную обернуться как позитивной, так и негативной стороной, как выгодой, так и потерей. Ницше не оценочно, а чисто функционально описал три формы обращения к прошлому. Так монументальная память основывается на великих исторических образах, чтобы побуждать к подражанию, но она способна и нанести вред, если манипуляцией великими образами прошлого будет разжигаться фанатизм. Антикварная память способствует укоренению человека в определенном месте, усилению эмоционального отношения к знаниям о своих истоках; но антикварная память наталкивается на собственный предел, когда сохраняет слишком много устаревшего и некритично почитает его. Критическая память несет в себе революционное начало, ибо она судит, выносит приговор и разрушает. Посредством мемориальной культуры социальная группа укрепляет свою идентичность, утверждает собственные ценности, развивает свое самосознание и повышает деятельную активность.
В качестве третьего значения следует добавить этическое измерение мемориальной культуры, что представляет собой историческую новацию и является центральной темой данной книги. Начала этической мемориальной культуры восходят к середине XX века, но широкое распространение она приобрела лишь к концу столетия. Этический поворот глубоко изменил нашу систему ценностей и наше историческое сознание. Для характеристики этого третьего значения мемориальной культуры вновь сошлюсь на формулировку Фолькхарда Книгге. Он пишет о «критическом осмыслении преступлений государства и общества – с точки зрения жертв». Благодаря свидетельствам этих жертв «удалось восполнить ощутимые пробелы в истории» и одновременно «вернуть и упрочить субъектный статус людям, которые стали жертвами этих преступлений»[29].
2. Работа над немецкой семейной памятью – бесконечная история?
Нарушенное молчание – телесериал «Наши матери, наши отцы»
В марте 2013 года телеканал ZDF показал трехсерийный художественный кинофильм «Наши матери, наши отцы». Этот показ, сопровождавшийся крупномасштабной медийной кампанией, ознаменовался фантастическим рейтингом популярности; доля аудитории превысила 24 %, фильм посмотрели более 7 миллионов зрителей. Немецкие семьи сочли для себя этот киноурок истории обязательным и дали ему преимущественно положительную оценку. Телевизионные обсуждения, а также читательские письма в редакции газет и журналов свидетельствовали, что захватывающая драматургия фильма, его высокое техническое мастерство нашли вполне единодушное признание среди телезрителей всех поколений.
Создатели телесериала поставили перед собой амбициозную задачу дать возможность поколению детей и внуков с максимальной достоверностью пережить реальность Второй мировой войны, чтобы тем самым нарушить молчание о ее страшной правде. Информационное сопровождение в средствах массовой информации неизменно подчеркивало эпохальное значение телепроекта. Еженедельник «Spiegel» назвал его «новой рубежной вехой в истории немецкой мемориальной культуры»[30]. А сама эта история, по мнению еженедельника, представляет собой «череду волн, каждая из которых производила шоковое воздействие, сочетая в себе память, импульс просветительства, стыд, скорбь и желание преодолеть прошлое». Здесь же вкратце перечислялись другие вехи развития исторической памяти: книга Ойгена Когона «Эсэсовское государство: система немецких концлагерей» (1946), судебный процесс над Адольфом Эйхманом (1961), книга Александра и Маргареты Митчерлих «Неспособность скорбеть» (1967), американский телесериал «Холокост» (1979), «спор немецких историков» (1986), фильм «Список Шиндлера» (1993), выставка «Преступления вермахта» (1995) и книга Даниэля Гольдхагена «Добровольные пособники Гитлера» (1996).
Новым и эпохальным в «телевизионной эпопее» стал прежде всего сам взгляд на Вторую мировую войну. Впервые в историческом фильме речь шла не о реальных личностях вроде Эрвина Ромеля или Альберта Шпеера и не о вымышленных персонажах сочиненного сюжета, как это было с кинофильмом «Дрезден» или «Бегство», а о «наших» матерях и бабушках, отцах и дедах вообще. То есть на передний план выходило не историческое знание, не захватывающая инсценировка исторического события, а попытка восполнить очевидный пробел в немецкой семейной памяти. Иными словами, действующие лица фильма представали воображению зрителя, заменяя персонажей его собственной семейной истории и проясняя ее. По замыслу создателей фильма вымышленные эпизоды должны были донести до зрителя то, что довелось пережить ближайшим родственникам из его собственной семьи. А молодые люди получали возможность не только сопереживать, но и воспользоваться последним шансом, чтобы задать вопросы о событиях прошлого их очевидцам и осуществить непосредственный диалог с ними через головы промежуточных поколений.
Новым в телевизионной эпопее было и то, что прошлое показывалось увиденным не глазами очевидцев, – напротив, история для них как бы заново препарировалась. По общему мнению, тем самым на немецком телевидении появился «оригинальный вид исторической драмы, связанной с недавним прошлым»[31], что одновременно знаменовало собой поворотный момент для телевидения, специализирующегося на исторических темах, завершивший эру Гвидо Кноппа. На протяжении десятилетий доминировал неповторимый авторский почерк Кноппа, нашедшего собственный рецепт широкого и успешного просветительства для рассказов об эксцессах насилия в немецкой истории XX века. Его популярные телефильмы и сериалы строились на комбинации жанровых приемов, когда голос диктора, дающего необходимую информацию, короткие фрагменты с устными свидетельствами очевидцев и инсценировки исторических эпизодов умело монтировались друг с другом. Зритель всегда мог живо вообразить себя на месте реального события, одновременно он получал разъяснения, контекстуальную информацию и четкие оценки. В последние годы Гвидо Кнопп все большее значение придавал работе с непосредственными участниками и свидетелями исторических событий. В 2006 году он стал одним из учредителей общественной организации «Наша история. Память нации», которая затеяла широкомасштабный проект сбора устных свидетельств очевидцев. С 2011 года Кнопп объезжает на специально оборудованном автобусе телеканала ZDF города Германии, стараясь опросить максимальное количество респондентов, представляющих разные поколения, о важных и поворотных моментах немецкой истории. В этом проекте, который также сопровождался массированной пиар-кампанией, приняли участие тысячи граждан, однако он не смог привлечь к себе того общественного внимания, которое выпало на долю телесериала «Наши матери, наши отцы».
Новая эра исторического кино делает ставку не на очевидцев, а на фикционализацию истории в виде захватывающего сюжета с «голливудской» реалистической оптикой и перфекционистским звуковым оформлением. В век гипервизуализации создается технически и содержательно новая «картина» (в прямом и переносном смысле) истории для поколения, которое не пережило войну, но привыкло к изображению насилия в военных фильмах и боевиках с их стремительной монтажной техникой. Съемки фильма «Наши матери, наши отцы» заняли семь с половиной лет, срок его выхода на телеэкран тщательно готовился и планировался как крупное медийное событие. Фильм преследует и просветительские цели, но центральная роль отводится в нем не познавательности, а новому взгляду на то, что довелось пережить нашим родителям, бабушкам и дедам. Предметом киноповествования служит не столько историческое событие, сколько личностная вовлеченность в него, через которую дети и внуки должны сформировать новое отношение. Речь идет не только о фактах, но прежде всего об эмоциях, связанных с этими фактами.
Чтобы открыть доступ к этому эмоциональному слою истории, Нико Хофман (р. 1959), выступивший продюсером нескольких игровых телефильмов о годах нацизма, встроил в сериал «Наши матери, наши отцы» элементы собственной семейной истории. Родители Хофмана послужили прообразами сразу трех персонажей (Шарлотты, Вильгельма и Фридгельма), ибо амбивалентность отцовской судьбы обусловила – по драматургическим соображениям – появление двух характеров и двух переплетающихся сюжетных линий. К трем действующим лицам фильма, заимствованным у конкретной немецкой семьи, добавились еще два персонажа, которые обогащают сюжет скорее необычными красками: эстрадная певица Грета (несколько клишированный тип роковой женщины противопоставлен образу самоотверженной медсестры Шарлотты) и еврей Виктор, которому удается спастись от депортации в концлагерь и стать активным бойцом Сопротивления.
Пятеро друзей – на ум невольно приходит довольно неуместная ассоциация с популярной серией подростковых романов Энид Блайтон – устраивают прощальную вечеринку. Трое из них, два брата и медсестра, отправляются на Восточный фронт, в Россию, рассчитывая вернуться домой уже к Рождеству и вместе отпраздновать победу. Фильм прослеживает их судьбы. Грета, восходящая звезда эстрады, надеется ценой адюльтера с высокопоставленным эсэсовцем сделать успешную карьеру, а также помочь своему возлюбленному, еврею Виктору. Однако его все же депортируют. Виктор сумел бежать и примкнуть к польскому партизанскому отряду, где сталкивается с антисемитскими настроениями. Несмотря на все перипетии, ему удается выжить. Встрече пятерых друзей на Рождество 1941 года не суждено состояться, но их пути пересекаются при разных обстоятельствах на Восточном фронте. Более опытный старший брат Вильгельм и младший Фридгельм воюют в одном полку; под воздействием жестоких испытаний их судьбы складываются прямо противоположным образом. Идеалистически настроенная медсестра Шарлотта видит войну через призму полевого госпиталя, ей приходится справляться с собственными внутренними конфликтами. После войны друзья встречаются в берлинском баре. Отсутствуют двое: Грета расстреляна в женской тюрьме, Фридгельм погибает в бою, пытаясь помочь товарищам.
В фильме часто повторяется его центральная мысль: «Война выявляет в человеке самое плохое». Однако характеры персонажей скроены по несколько иному рецепту: каждый из пятерых друзей совершает героический поступок, но каждый и в чем-то виновен. Во всех главных персонажах смешаны положительные и отрицательные черты, ибо «принципиальная противоречивость любого человека служит залогом его гуманности»[32]. Грету снедает честолюбие, ее интересует прежде всего собственная карьера, но вместе с тем она любит Виктора, старается спасти его, переживает за его родителей-евреев. Шарлотта самоотверженно отдает все силы уходу за ранеными, однако она же доносит на медсестру-еврейку. Солдаты Вильгельм и Фридгельм эволюционируют в противоположных направлениях: старший брат, первоначально смелый, заботящийся о своих подчиненных, лейтенант, становится дезертиром, а у младшего пацифистские настроения сменяются цинизмом и жестокостью. Братья демонстрируют широкий диапазон морально-психологических черт и состояний: мужество, сознание личной ответственности за других, критичная отчужденность от действительности, цинизм, холодная расчетливость, разочарование, ожесточение. Такое сочетание противоречивых, отрицательных и положительных черт призвано создать эффект правдоподобия характеров; действительно ли они получились правдивыми – это уже другой вопрос. Вполне единодушное одобрение вызвала острая драматургия сюжета. Его сконструированность не вызывает особых возражений. Акцентируется внешняя динамика сюжета, а не преодоление внутренних конфликтов. Ментальное и эмоциональное воздействие национал-социалистической идеологии на главных действующих лиц вообще не играет заметной роли. Тем самым исчезает дистанция между персонажами из прошлого и нынешним зрителем. Пятеро друзей предстают перед зрителем «обычными людьми, такими же, как ты и я».
Важнейшим историческим источником для нового телесериала послужила семейная память его продюсера. Родители Нико Хофмана принадлежат к возрастной когорте молодых людей, которым в начале войны было лет по восемнадцать или меньше. Синопсис, написанный им вместе со сценаристом Штефаном Колдицем (р. 1956), режиссером Филиппом Кагельбахом (р. 1974) и реализованный студией «Teamworx», преследовал психотерапевтическую цель: проработку травмы миллионов семей. Подобная миссия адресовалась не только представителям следующих поколений, но и самому старшему поколению переживших войну. «Этот фильм, – говорит Нико Хофман, – всколыхнул в отце чувства, которые тот подавлял в себе на протяжении десятков лет. Отцу исполнилось восемьдесят восемь лет, и он впервые заговорил о прошлом, чего я никак не ожидал». Поэтому Хофман так хотел, чтобы отец успел посмотреть его фильм. «Думаю, хорошо, что он его увидел. И для меня это имело большое значение. А мать даже призналась: “Первый фильм о Второй мировой войне, о котором можно сказать: именно так все и было!”»[33]
Иными словами, фильм еще успел показать старикам из поколения очевидцев, что они пережили на самом деле. Этот фильм, снятый вторым поколением о пережитом первым поколением, адресован третьему поколению. Он осмысляет воспоминания из жизни родителей, но сами воспоминания уже успели сменить своих носителей. Мы оказались свидетелями переходного времени: воспоминания родителей перешли в интерпретативную власть следующих поколений, для которых поколение очевидцев утратило свой авторитет. Напротив, дети и внуки убеждены, что старшее поколение скрывало от них самую важную правду о прошлом, а теперь они сами могут показать это прошлое безо всяких прикрас. Но фильм «Наши матери, наши отцы» ставил своей целью не только продемонстрировать прошлое, шокировать зрителей, развлекать и воспитывать их, он намеревался произвести определенное воздействие на публику, – а именно нарушить молчание во внутрисемейном общении, показав различным поколениям историю такой, «какой она была на самом деле». «Этот фильм, – признался Нико Хофман в беседе с корреспондентом еженедельника «Spiegel», – завершил для меня тридцатилетние семейные трения». На что собеседник лаконично заметил: «Подобная психотерапия обошлась телеканалу ZDF в 14 миллиардов евро»[34]. Для индивидуального курса лечения цена изрядная, но для общенациональной терапии – абсолютно приемлемая.
«Жестокая своими подробностями военная драма “Наши матери, наши отцы” нарушит наконец молчание поколений. Телесериал знаменует собой смену эпох для немецкого телевидения», – говорилось в анонсе фильма[35]. «Нарушить молчание» – главная патетическая формула немецкой мемориальной культуры. Соответственно большими были и надежды, которые возлагались на историческую телевизионную эпопею. От нее ожидался не только высокий рейтинг, широкое эмоциональное воздействие на аудиторию, но и значительный психологический эффект, который должен был быть произведен на внутрисемейные отношения. В пресс-досье к фильму сказано: «Боль, чувство вины, молчание, являясь отдаленными последствиями коллективной травмы, унаследованы от Второй мировой войны нашим временем; они пронизывают многочисленные семейные истории». Для пожилых людей, переживших войну, телесериал «должен был послужить поводом к диалогу между поколениями внутри собственной семьи», необходимым, чтобы состоялся разговор о «забытом, подавленном и невыразимом»[36].
Возникает, однако, вопрос, может ли единственный телефильм раз и навсегда нарушить молчание, глубоко укоренившееся в семейной истории. Ведь каждое откровение одновременно скрывает нечто иное, что ждет последующих разоблачений. Всегда сохраняется некий остаток умолчания, нечто, чего не хочется знать, что обходят в разговорах, избегая конфликтов, и с чем (пока) не хочется разбираться. Хотя мы все лучше знаем историю, но из этого не следует, что однажды она станет нам ясной до конца со всеми ее сложностями и перипетиями, будто прочитанный до последней страницы детективный роман. Появляются все новые подходы, жанровые форматы, рамочные условия, которые каждый раз позволяют увидеть нечто иное и в другом свете. Телесериал «Наши матери, наши отцы» демонстрирует «не только все, о чем сегодня можно рассказать в Германии, но и указывает на то, что продолжает замалчиваться. …Так в нем не говорится о прежних симпатиях немцев к Гитлеру. В жанрах массовой культуры почти никогда не раскрываются политические убеждения большинства немцев, одобрявших нацистский режим. …В этом смысле фильм точно отражает немецкую мемориальную культуру с ее лакунами и темными местами»[37]. Мнение, высказанное в письме телезрителя, подтверждается откликом историка Ульриха Герберта, который пишет: «Наши матери и наши отцы не были всего лишь молодыми людьми, которым просто хотелось жить, чему помешала война, как внушает нам фильм. Речь идет о крайне идеологизированном, политизированном поколении, искренне желавшем победы Германии, – победы национал-социалистической Германии, ибо считало такую победу справедливой». Ульрих Герберт усматривает в фильме продолжающееся действие самоцензуры: «Похоже, до сих пор невозможно показать человека, который в здравом рассудке был бы убежденным приверженцем национал-социализма и не выглядел бы при этом какой-то аномалией»[38]. Сколь ни шокирует жестокость военных эпизодов, семейная память все еще характеризуется их приглушенностью, слепыми пятнами и готовностью оправдания.
Разумеется, историю никогда нельзя рассказать до конца. Историческая наука, заполнив целые библиотеки книгами о национал-социализме, также не может претендовать на способность охватить своими исследованиями прошлое во всей полноте. Непреодолим и всегда невосполним онтологический разрыв между «историей» как минувшей реальностью и пережитой действительностью, с одной стороны, и «историей» как рассказом об этой реальности и ее переживании, с другой стороны. Это еще более справедливо по отношению к истории трудной, непроработанной: всегда будет присутствовать остаток, хотя и со сдвигаемой границей.
Память о ситуациях экстремального насилия в годы Второй мировой войны и Холокоста, когда люди уничтожались, подвергались смертельной опасности, испытывали тяжелейшие потрясения или же сами становились виновными в массовых преступлениях, оправдывали или игнорировали их, не может со временем просто изгладиться сама по себе; эта память не отпускает людей, преследует их, приобретая впоследствии характер непреодоленной травмы. Боль и стыд деформируют, скрывают пережитое, поэтому следующее поколение начинает розыски утаенного от них прошлого. Литературовед Анне Фукс называет «взрывным событием» (impact event) – травму, подрывающую способность человека осознать ее и рассказать о ней. Такое событие порождает избыток «взрывных нарративов» (impact narratives), перед которыми стоит невыполнимая задача восполнить пробелы в осмыслении травматического опыта[39].
Сама же потребность восполнить эти пробелы – велика. Предпринимаются все новые и новые попытки в художественной форме воспроизвести события, для которых, казалось бы, невозможно найти слова, причем сами очевидцы описываемых событий готовы подтвердить их аутентичность. В качестве примера можно привести опубликованную автобиографию Биньямина Вилкомирского с вымышленными воспоминаниями о Холокосте, которая парадоксальным образом помогла многим реальным людям, пережившим Холокост, восстановить собственные воспоминания. Анимационный фильм и книга «Вальс с Баширом» также помогли израильским солдатам, участникам военной операции в Ливане, справиться с собственными воспоминаниями. «This was it», – сказал мне после своего рассказа один из них, положив руку на книгу. Фильм «Наши матери, наши отцы», названный знаменательной «вехой» в развитии немецкой мемориальной культуры, ставил своей целью показать нам то, что прежде замалчивалось в диалоге между поколениями. Вымышленный сюжет, препарированный по всем правилам кинематографического мейнстрима, претендует на правдивое изображение прошлого: вот как все было на самом деле! Уже Аристотель понимал, что художественная правда убедительнее документов и фактов. Каждая индивидуальная история была в реальности иной, зато в вымышленной истории себя узнают все. Недаром аутентичность фильма подтверждается многими зрителями из поколения, пережившего войну. «Именно так все и было!» – сказала после просмотра мать Нико Хофмана, послужившая прообразом для медсестры Шарлотты. «Все верно!» – подтвердил Гётц Али, узнавший в Шарлотте черты своей матери. А по словам писателя Дитера Веллерсхофа (р. 1925), военные эпизоды из кинофильма перемешались теперь с его собственными воспоминаниями о войне.
Удалось ли фильму «Наши матери, наши отцы» достичь нового консенсуса в немецком обществе, закрыв зиявший пробел в национальной памяти? Можно ли предложить молодым поколениям эту версию событий прошлого как общепринятую и обязательную? Ведь кинофильмы, мультфильмы и комиксы, повествуя о целых исторических эпохах, оказывают более массовое и действенное воздействие на публику, нежели книги, музейные экспозиции или передвижные выставки. Молодые поколения американцев знают Вторую мировую войну по фильму «Спасти рядового Райена», а Холокост – по киноленте «Список Шиндлера». Телесериал «Наши матери, наши отцы» отличается несколько иным свойством: он одновременно и пробуждает воспоминания, и «прикрывает» воспоминания о событиях, которые пережиты в миллионах индивидуальных версий, а теперь обрели вид компактной и наглядной истории, предложенной массовому зрителю.
Латентность молчания – Герман Люббе о послевоенной немецкой истории
От восьмидесятимиллионного народа просто нельзя ожидать, что весь он скажет mea culpa. Думается, такое не произошло бы ни во Франции, ни в Италии. И все-таки для меня остается проблемой, насколько мало этот народ, взятый целиком, волновала данная тема.
Оливер Шварц [40]Травмы разрушают человеческую память и образуют разрывы в коммуникации между поколениями. Чем интенсивнее реакция на провалы памяти и чем эти провалы глубже, тем сильнее желание их восполнить. Говоря о нарушенном молчании, следует обратиться к первопричинам самого молчания, наступившего после 1945 года, которое послужило основой немецкой мемориальной культуры. С проблемой молчания попытались разобраться Александр и Маргарета Митчерлих в вышедшей в 1967 году книге, которая упрекала немцев за их неспособность скорбеть. Согласно психоаналитическому толкованию супругов Митчерлих, после войны люди облачились в некий защитный панцирь, чтобы оградить себя от своих собственных эмоций. Иначе выглядело это молчание в выступлении философа Германа Люббе, которое состоялось на симпозиуме 1983 года, проходившем в здании бывшего рейхстага и посвященном пятидесятилетию захвата власти национал-социалистами. Основные положения своего выступления он воспроизвел позднее в сборнике статей, с удовлетворением констатировав, что его позиция, вызвавшая некогда шумное негодование, получила ныне общественное признание[41].
Люббе, в отличие от супругов Митчерлих, говорит не о вытеснении из сознания, а о преднамеренном умолчании. Разумеется, целый народ не может сразу что-то забыть, но он способен прийти к общему согласию в том, чтобы молчать о своем недавнем неблаговидном прошлом. Особенно не хотелось немцам говорить о собственной восторженной поддержке нацистского режима, о тех усилиях, надеждах, чувствах, которые были инвестированы ими в рухнувшее государство. Потребность в умолчании испытывали прежде всего те, кто служил опорой режима и оказался лично виновен в совершенных преступлениях. Но не их имел в виду Герман Люббе, что он и пояснил в своей более поздней работе. Естественно, виновные в тяжких преступлениях должны были ответить за них перед судом. Люббе проводил различие, которое сегодня кажется нам не столь уж простым, а именно различие между «нацистами, замешанными в преступлениях» и «безобидными нацистами». К последним он причислял самого себя и многих других, кто поддерживал нацистский режим и вступил в партию из оппортунизма или под дурманом пропаганды. Исходя из собственного примера, Люббе считал таких немцев репрезентативным большинством. Родившись в 1926 году, он принадлежал к поколению тех подростков, которые были призваны во вспомогательные части противовоздушной обороны; кому-то повезло уцелеть, и в 1945 году они получили шанс начать жизнь заново[42].
Совершим краткий обзор немецкой мемориальной истории, чтобы на примере этих рассуждений Германа Люббе указать на некоторые противоречия и существующие проблемы. Люббе говорит об общественном согласии относительно умолчания, с помощью которого после 1945 года из общественной коммуникации было исключено личное прошлое миллионов немцев, поддержавших Третий рейх. Но прошлое не было вытеснено этим умолчанием из сознания, прошлое продолжало сохраняться в памяти, оставаясь в латентном состоянии. Население Германии, еще недавно бывшее «немецкой народной общностью», не могло в одночасье по внутреннему убеждению уверовать в новую демократическую систему, но оно было готово дистанцироваться от прежней национал-социалистической идеологии, принять основы новых ценностей и «не оспариваемое публично осуждение национал-социализма»[43]. В послевоенном демократическом обществе эти люди стали «молчаливым большинством», поддерживающим – из оппортунизма или по убеждению – новую политическую систему. Не в последнюю очередь поддержка нового государства росла потому, что людей каждодневно не укоряли за их прошлые ошибки. Между противниками нацистского режима, которые оказались правы, и теми, кто был вынужден признать свою неправоту, не разверзлась пропасть. Напротив, первые охотно выдавали «свидетельства о благонадежности» вторым, и этот кредит доверия помогал последним обрести положительный настрой и готовность ужиться с новыми обстоятельствами. Моральное осуждение, жесткое перевоспитание имели бы, по мнению Люббе, обратный эффект. Какое-то время под защитой умолчания скрывалась «неправильная жизнь в правильной жизни», получившая шанс постепенно стать «правильной в правильной жизни».
В более позднем эссе Герман Люббе более точно и подробно обосновал свой прагматичный тезис о преобразующей силе умолчания. Он вовсе не оправдывал тех, кто, прикрывшись фальшивой идентичностью, пытался уйти от ответственности. Концепция умолчания подразумевала не умалчиваемое, а общеизвестное. Умолчание покоилось на сделке равных с равными. Сделка состояла в «негласной договоренности, что антифашисты не воспользуются известным им компроматом, а бывшие нацисты будут сдержаны в своих общественных притязаниях»[44]. Люббе видел продуктивную силу умолчания, связанного с недвусмысленной поддержкой нового правового государства, в том, что умолчание давало людям способность открыться для будущего. Именно этой ориентацией на будущее характеризовалось послевоенное восстановление Германии, ибо «будущее» тогда отождествлялось с общественной интеграцией посредством новых шансов, с реабилитацией и самоочищением, а «прошлое» ассоциировалось с полной противоположностью: расколом общества из-за взаимных обвинений, фиксированностью на отброшенных идентичностях.
Подобная прагматичная внутренняя установка соответствовала гибкому приспособлению к новой общественно-политической системе без необходимости публично демонстрировать моральное исправление. Всеобщее умолчание позволило военному поколению, по словам Люббе, «избежать назойливой назидательности со стороны тех, кто претендовал на роль защитников справедливости»[45]. Латентность прошлого предотвращала общественные конфликты. Внутреннее содержание биографии оставалось делом приватным. По мнению Люббе, именно эта латентность прошлого, деликатное умолчание по отношению к «общеизвестному» содержанию живой памяти миллионов немцев, способствовало быстрой интеграции западногерманского общества и ускоренному экономическому подъему. С прагматической точки зрения – и здесь Люббе совершенно прав – подобная практика была безальтернативной. Миллионы молодых членов партии, занимавших низшие посты в нацистском государстве, реально не могли быть подвергнуты поголовному юридическому преследованию и осуждению. Воспользовавшись возможностью инвестировать собственные силы в поддержку нового политического режима, они как бы заслужили самореабилитацию. Люббе сам принадлежит к поколению основателей и созидателей ФРГ, снискавших к себе уважение за это историческое свершение.
Да, климат взаимных подозрений, разоблачений и доносов крайне затруднил бы преобразование «народной общности» в гражданское общество. Однако нельзя не учитывать, что и замалчивание прошлого обошлось дорого: реэмигрантов (за редким исключением) встретила атмосфера политической враждебности; люди, подвергавшиеся репрессиям со стороны нацистского режима, долгое время не получали признания. Ведь в стране находились не только нацисты мелкого калибра (вроде Гельмута Шельски) и не только пользовавшиеся всеобщим уважением евреи, которым удалось выжить (вроде Гельмута Плесснера), но и весьма непопулярные в обществе раздосадованные реэмигранты, которые самоустранились от участия в общественной жизни, а также закоренелые нацисты, сохранившие, а порой даже расширившие свое влияние и власть; к тому же поражение сплотило их против бывших политических противников. На микросоциальном уровне процесс развивался не столь гармонично, как это выглядит в описании Германа Люббе. Изменение официально признаваемой системы ценностей поначалу не возымело непосредственных последствий для прежних иерархических властных структур в повседневной жизни ФРГ, что вызывало отчаяние и социальную фрустрацию многих жертв нацистского режима. Наиболее ярким примером служит Жан Амери, который использовал слово «предубеждение» в положительном смысле, протестуя против замалчивания прошлого. Можно отдавать должное функциональной адаптации, расчетливости и прагматизму, но не следует игнорировать то обстоятельство, что в послевоенные годы под завесой молчания продолжала твориться несправедливость, усугублявшая душевные раны.
Если ментальная и моральная трансформация послевоенного западногерманского общества происходила неприметно и медленно, то второе поколение западных немцев совершило эту трансформацию резко и публично. Конфликт поколений обнаружил, с одной стороны, пределы прагматической стратегии умолчания, а с другой – достоинства и слабости морального расчета с прошлым. Умолчание являлось формой добровольного самоограничения, которое, возможно, пошло на пользу обществу, но не родителям и их детям. Терапевтическое воздействие на общество в целом обернулось нарушением межпоколенческого диалога, нанесшим тяжкий вред конкретным людям и внутрисемейным отношениям. Длительная социализация в определенных общественных условиях, привитые культурные ценности отразились на первом поколении таким образом, что оно также реагировало на встающие перед ним проблемы их замалчиванием. Следующее поколение выросло в иной культуре, где разговор ставился выше молчания. Вопрошание и разоблачение сделались главными проектами «поколения 68-го года», которое понаторело в соответствующей риторике. В долгосрочной перспективе трагизм этой исторической ситуации состоял в том, что межпоколенческий конфликт не способствовал общению, он лишь усугубил замалчивание. Дальнейшая интеграция общества сопровождалась распадом семей. Вместо вопросов звучали громкие обвинения, диалог распался на упреки и самооправдания. Диалог оказался невозможен уже потому, что в столкновении поколений обращение к прошлому сделалось политическим оружием[46].
Размышления Германа Люббе о «коммуникативном умолчании» можно дополнить его беседой с одним журналистом в 2007 году, в которой речь зашла о «незабываемом». О вступлении в партию в 1944 году он не помнил, зато в памяти сохранился эпизод, пережитый двенадцатилетним мальчиком: «На следующий день после “хрустальной ночи” 1938 года я, возвращаясь домой со школьной подружкой, проходил мимо аурихской спортивной плащадки. Там аурихские штурмовики издевались над евреями, среди которых находились и наши соседи. Мы остановились посмотреть. Подошел отец моей школьной подружки, бывший регирунгсрат и сторонник центристской партии; он сказал две незабываемые фразы: “на такое не смотрят” и “этого нам не забудут”. Позже я понял: когда война будет проиграна, так и случится»[47].
Люббе рассказывает о двух незабываемых вещах. Во-первых, о том, что сцена, увиденная мальчиком, остановившимся поглазеть, ужаснула его и врезалась в память; а во-вторых, о высказанном предположении, что другие еще припомнят немцам подобные сцены. Эмоциональное впечатление от увиденного прочно запечатлевается живой индивидуальной памятью; вместе с тем сцена жестокого насилия обусловила переплетение памяти и забвения, определив долговременную подспудную взаимосвязь между конкретным человеком и социальной группой. Актуализируется ли позднее эта взаимосвязь, восходящая к сцене асимметричного насилия, зависит, как потом осознал Люббе, от того, кто окажется у власти: «когда война будет проиграна», немцы лишатся суверенного контроля над своей национальной памятью. Преступники уже не смогут игнорировать то, что хорошо запомнилось жертвам.
Конкретный политический режим определяет содержание официальной коммеморации и официального забвения. Однако здесь присутствует еще один фактор, который не учитывается Германом Люббе. Это власть прежде безвластных, которая возникает в рамках новой политики, защищающей права человека, когда пострадавшие от бесправия и преступлений обретают внимание и сочувствие к своим историям, циркулирующим на глобальной сцене. Такой этический поворот и составляет новизну мемориальной культуры, позволяющей преодолеть упорную забывчивость преступников и превратить конкурентную борьбу групповых коммемораций в диалогические формы совместной партиципации и ответственности. Память не обрывается на национальной границе, коллективные коммеморации переплетаются на транснациональном и глобальном уровнях.
Поэтому фраза «Этого нам не забудут» адресуется и следующим поколениям. Важно, чтобы они знали, какие беды их родители, деды и прадеды принесли другим. Воспоминание одних не должно заглушать, уничтожать или ставить под сомнение воспоминание других. Следует надеяться, что для третьего или четвертого поколения постепенно исчезнут моральные и эмпатические барьеры, препятствующие взаимодействию между национальной и европейской памятью. Не менее важно расширить эмоциональный спектр национальной памяти, усилить внимание к позитивным аспектам истории. Выходом из узкой перспективы памяти жертв и памяти преступников служит плюрализация исторических перспектив. Благодаря миграции, объединению Европы и глобализации возникают новые важные взаимосвязи внутри мирового сообщества.
Финальная черта и разделительная линия
По мнению Люббе, главной задачей первой фазы формирования немецкой мемориальной истории являлась социальная и политическая интеграция. Интеграция ФРГ с Западной Европой и Западом в целом, достигнутая Аденауэром с помощью компенсационных выплат и вступления в НАТО, удалась западногерманскому обществу благодаря «коммуникативному умолчанию». Адаптация была для этой фазы важнее, нежели мораль и внутреннее преображение. Прошлое просто оставили в покое, надеясь когда-либо вовсе избавиться от него. Преобладала общая уверенность, что это лишь вопрос времени. Молодое протестное «поколение 68-го года» резко перечеркнуло подобные надежды. Оно стало задавать вопросы и обвинять, чем нарушило молчание, одновременно усугубив его; разоблачая нацистское прошлое в собственных семьях и государственных институциях, молодое поколение западных немцев дискредитировало свое государство, разоблачая его как фашистское, а себя идеалистически идентифицировало с коммунистическими режимами, которые воспринимались в качестве моральных образцов.
Поначалу латентность молчания упрочила социальную интеграцию западногерманского общества, однако к концу 1960-х годов достигнутое единство распалось по поколенческой линии разлома. Военное поколение избавилось от своего прошлого, подведя под ним финальную черту, а второе поколение маркировало это прошлое моральной разделительной линией. Прагматическая финальная черта означала избавление от прошлого с помощью умолчания; соответствующая психологическая установка гласила: «Больше ни слова об этом!» Напротив, моральная разделительная линия означала дистанцирование от прошлого; в этом случае установка гласила: «Мы – другие, а потому обязаны говорить о прошлом!» Противоположные формулы отношения к прошлому привели к конфронтации поколений. Если поколение родителей, представляющее «молчаливое большинство», поддерживая официальное политическое осуждение нацистского режима, не могло в силу причастности к нему полностью дистанцироваться от него, то второе поколение публично и громко заявило о своем разрыве с прошлым, но одновременно отвернулось от новой демократии. Оно занялось «преодолением прошлого», то есть проблемой, которую оставили нерешенной родители и которая стала для молодежи «темой ее поколения»[48]. Обвинение предъявлялось родителям не только в связи с биографическими эпизодами нацистского прошлого. Теперь их обвиняли и в «коммуникативном умолчании», ибо молчание считалось отныне «второй виной» (Ральф Джордано): «Кто молчит – виновен!»[49] Так возник дискурс о виновности в форме огульного обвинения, морально направленного против поколения родителей, а политически – против новой федеративной республики. Позднее защитная реакция протестного поколения была истолкована как своего рода отыгрывание (reenactment) исторической ситуации родителей: в соответствии с собственными идеологическими представлениями молодежь жила в фашистском государстве, но в отличие от родителей она посвятила 1960-е и 1970-е годы активной борьбе. Своим родителям дети подавали пример, как те должны были вести себя в годы нацизма. Петер Слотердейк иронически написал о собственном поколении: «С 1967 года до кризиса, связанного с судебным процессом над террористической группой Андреаса Баадера и Ульрике Майнхоф в 1977 году, мы играли в народный фронт, отважно сражаясь против прихода Гитлера к власти. По крайней мере, таков был сценарий, пусть даже запоздавший на полвека»[50].
С тех пор неоднократно обсуждалась эта диалектика протеста, позволявшая сквозь различия разглядеть определенное сходство между поколениями[51]. Однако не следует повторять ошибку, замораживая немецкую поколенческую ситуацию по состоянию на 1960-е и 1970-е годы и обобщая ее в виде «внеисторического феномена». Актуальная проблема поколенческих исследований состоит в «эссенциализации» поколенческих идентичностей и межпоколенческих конфликтов за счет того, что многие факторы считаются неизменными, а их эволюция во времени игнорируется. Чтобы изучить эту эволюцию взаимоотношений между поколениями, целесообразно обратиться к жанру семейного романа. Начиная с 1970-х годов характерное для Германии взаимоотношение между поколениями стало популярной темой немецкой литературы. Чем позже выходил семейный роман, тем большую роль играл в нем автобиографический, событийный фактор, тем важнее оказывались в романе рефлексия и коммуникации. Место обвинений, расчета с прошлым, идеологического отторжения национал-социализма в немецком семейном романе 1980-х годов заняла попытка с помощью семейных документов, архивных поисков и историко-научных исследований глубже проникнуть в историю собственной семьи, чтобы осознать свое место в этой истории. Таким образом становилось все очевиднее, что нарушение молчания в 1960-е годы отнюдь не привело к полной откровенности; дальнейшая жизнь потребовала новых усилий, что активизировало и иные защитные механизмы. Этот процесс развивался от политического разрыва между поколениями к стремлению второго и третьего поколения рассматривать нацистский период как часть семейной истории.
Если многие авторы из «поколения 68-го года» создавали в литературной форме несостоявшийся диалог со своими родителями, то книги писателей третьего поколения открывают более широкий взгляд на историческую взаимосвязь трех и четырех поколений одной семьи. Этот более широкий взгляд обусловлен не стремлением дистанцироваться от вины родителей, а новым интересом к своим предкам, к своему происхождению, к собственной предыстории.
Экстернализация и интернализация
Пользуясь терминами М. Райнера Лепсиуса, этот процесс можно охарактеризовать как движение от «экстернализации» нацистского прошлого за счет его отторжения к «интернализации», то есть освоению этого прошлого «поколением 68-го года»[52]. Это подтверждается не только литературными примерами, но и изменением политического и культурного климата с 1960-х до 1980-х годов. Моральная разделительная линия, проведенная «поколением 68-го года» между собой и поколением родителей, приобрела со временем новый и более общий характер. Поначалу эта разделительная линия служила инструментом в межпоколенческом конфликте и политической борьбе. Моральное превосходство использовалось не только для эмоционального отгораживания от поколения родителей, оно было оружием в борьбе против собственного государства, которое из-за нацистской преемственности элит воспринималось молодым поколением не как правовое государство, а как продолжение неизменного фашистского режима.
Политизированное нарушение договора о молчании «поколением 68-го года» сопровождалось встречным усугублением молчания, ибо замкнутый на себе внутрисемейный конфликт привел к тому, что в политической коммуникации по сути не поднимался вопрос о еврейских жертвах. Как показал Кристиан Шнайдер, произошло нечто вроде символического присвоения и узурпации еврейской темы для собственных целей при отсутствии эмпатии по отношению к судьбам евреев на фоне широкой осведомленности об исторической реальности, именуемой «Холокост». Перемены произошли спустя двадцать лет, когда моральная разделительная линия обусловила формирование новой «мемориальной культуры». В 1960-е и 1970-е годы это понятие было еще совершенно неизвестно[53]. «Поколение 68-го года» коренным образом трансформировало свой поколенческий проект. Оно уже не выходило с портретами Хо Ши Мина, призывая к вооруженной борьбе в защиту жертв империализма, который отождествлялся с фашизмом, оно перестало превозносить «культурную революцию» Мао Цзэдуна. Некогда двадцатилетним юношам и девушкам теперь стало больше сорока, они начали всерьез интересоваться реальными жертвами нацистской расовой политики, жившими некогда по соседству с ними. Речь шла уже не об «уничтоженных евреях» как факторе в формировании ролевой поведенческой модели поколения[54], а о конкретных людях, с реальными именами, судьбами и нередко точными адресами. По инициативе новых студентов на лекциях рассказывалось об изгнании еврейских студентов и профессоров из университетов. Далее подключились другие институции. Молодые врачи устраивали в клиниках выставки об истории своих медицинских учреждений в период национал-социализма; гражданские инициативы выявляли имена депортированных и уничтоженных евреев; они устанавливали контакт – и это было внове – с родственниками погибших, приглашали их в города прежнего проживания. Политическая агитация и гражданские инициативы обнаруживали ту моральную разделительную линию, посредством которой «поколение 68-го года» реагировало на финальную черту, проведенную поколением своих родителей.
Этот внутренний процесс, хорошо описываемый понятиями «экстернализация» и «интернализация», также следует учитывать в дискуссии о недовольстве новой мемориальной культурой, поскольку данная дискуссия вновь актуализировала вопрос о роли шестидесятников в немецкой мемориальной истории. Я имею в виду полемику, инициированную психоаналитиком Кристианом Шнайдером и социологом Ульрике Юрайт[55]. Тот эмоциональный настрой, за который Шнайдер и Юрайт укоряют шестидесятников, соответствует эмоциональной, моральной и политической стратегии экстернализации; посредством экстернализации это поколение некогда радикально отмежевалось от своих родителей. Шнайдер и Юрайт пишут: «Их эксклюзия цементирует собственное самосознание в качестве следующего поколения, которое, отождествляя себя с жертвами, решительно отвергло унаследованную историю, отрицая тем самым основной элемент своей связи с прошлым»[56]. Интернализация характеризует более позднее отношение к конкретным еврейским жертвам, которое возникло из понимания ответственности за унаследованную вину. Однако Шнайдер и Юрайт не усматривают здесь ни эволюции, ни морального поворота. Они интерпретируют новое отношение шестидесятников к еврейским жертвам как результат самообмана, с помощью которого это поколение пытается «выпутаться» из немецкой истории. Говоря о «заимствованной идентичности» и «внутреннем отождествлении с жертвами», Шнайдер и Юрайт обличают ложную самоидентификацию немцев-неевреев с еврейскими жертвами, в результате чего полностью ликвидируется различие между немцами и евреями.
Возможно, подобные случаи аномальных идентичностей имеют место; они заслуживают серьезного внимания и отправки в исследовательский архив психологических деформаций указанного поколения. Иное дело, когда данная симптоматика огульно объявляется ключом к пониманию идентичности всего поколения и происходит внеисторическая фиксация этой характеристики на полувековой период. Лепсиус трактует интернализацию не как ложную самоидентификацию, а как принятие истории вместе с исторической виной, которая, превращаясь в различные формы моральной ответственности, не ограничивается неопределенным сочувствием, а реализуется в конкретных мемориальных практиках и проектах. Новые поколения немцев, которые сегодня проводят в стране, совершавшей в период национал-социализма преступления против человечности, такие акции, как «Камни преткновения», и устанавливают личные контакты с семьями жертв нацистских преступлений, более чем далеки от намерений воображать самих себя жертвами или отождествлять себя с ними. Проект «поколения 68-го года» уже имеет собственную историю, внутри которой имело место постепенное изменение позиций. Эта история началась в 1960-е годы с протеста и обвинений, а в 1980-е продолжилась новыми мемориальными практиками, отправляемыми в иных обстоятельствах. Только в 1980-е годы возникли предпосылки для того, что именуется ныне «немецкой мемориальной культурой»; само это понятие входит в употребление лишь в 1990-е годы. Поэтому нынешняя мемориальная культура основывается не на ложной идентичности и не на самоотождествлении немцев с еврейскими жертвами, как уверяют Шнайдер и Юрайт, а на позднейшем формировании отношений эмпатии к этим жертвам[57].
Герман Люббе напоминает о телевизионном событии, которое пусть не сразу, как это было с фильмом «Наши матери, наши отцы», зато на долгое время ознаменовал собой важную веху в развитии немецкой мемориальной культуры. Речь идет об американском телесериале «Холокост», который показывался в Германии в январе 1978 года. «Холокост» действительно прорвал молчание, причем произошло это неожиданно и для носителя массовой культуры. Событие, вторгшееся в послевоенное западногерманское общество извне, показало прямо в домах жителей ФРГ историю уничтожения евреев на примере вымышленного семейства, вызвав у миллионов немцев эмоциональную реакцию сочувствия, которое объединило несколько поколений. Впервые все немецкое общество прониклось сочувствием к еврейским жертвам; эмоциональное воздействие фильма, рассказавшего об отдельных человеческих судьбах, смогло навести мосты над пропастью политизированного немецкого прошлого. Как верно заметил Люббе еще в 1983 году, этот американский телесериал дал возможность сопереживания и для поколения очевидцев трагических исторических событий, и для последующих поколений. Он стал событием для всего общества, неожиданно объединившим как старшее поколение, которое упорно хранило молчание, так и молодое поколение, сбитое с толку радикальной политизацией. Телесериал «Холокост» произвел на немцев не менее сильное воздействие, чем судебный процесс над Эйхманом на евреев в Израиле. Эмоциональное сопереживание вымышленным персонажам, представляющим судьбы безымянных евреев, послужило основой того, что позднее получило название «мемориальной культуры».
Фильм «Наши матери, наши отцы» опять нарушил молчание; это событие оказалось не новым, поскольку оно воспроизвело базовый посыл немецкой мемориальной истории. Герман Люббе описал умолчание с точки зрения исторического очевидца, не отождествлявшего умолчание с вытеснением из памяти событий прошлого. Его аргументация основывалась не на моральной, а на прагматической позиции и ориентировалась прежде всего на будущее. «Все происходило, – пишет он, – по эту сторону определенной границы; в политическом отношении было важно не столько, откуда ты пришел, сколько – куда ты идешь»[58].
Люббе не придавал значения исторической ретроспективе, признанию собственных заблуждений и политическому раскаянию, что отдаляет его от нынешних основ немецкой мемориальной культуры. Зато для него была и остается крайне важной совместная инвестиция всех социальных групп в ценности нового правового государства. «Превращение нацистского партийца в гражданина ФРГ» произошло, по его мнению, не за счет внутреннего морального преображения, а лишь благодаря успешному приспособлению к новым условиям; Люббе объясняет подобную трансформацию не «перековкой», а «адаптацией к лучшему, продиктованной жизненным опытом»[59].
Крещендо памяти о Холокосте
В 1983 году свое выступление Люббе начал с парадоксального наблюдения, ставшего теперь общим местом. Напомним его: «Чем больше времени отделяет нас от краха национал-социализма, тем интенсивнее занимаемся мы этой темой. С увеличением временной дистанции от двенадцатилетнего периода “третьего рейха” память о нем в бдительном сознании современного общества не слабеет. Напротив, культурная и политическая актуальность воспоминаний о нем возрастает. В историческом горизонте немцев национал-социализм приобретает тем большую эмоциональную значимость и злободневность, чем сильнее погружается он вдаль этого исторического горизонта»[60].
Сегодня можно лишь подтвердить то, что констатировал Люббе тридцать лет назад. Крещендо памяти о Холокосте нарастает с примерно двадцатидвухлетней периодичностью. Понадобилось два десятилетия, чтобы Холокост вышел из тени событий Второй мировой войны и чтобы о нем заговорили после судебных процессов в Иерусалиме и Франкфурте-на-Майне; потребовалось еще два десятилетия, чтобы это преступление против человечности заняло новое место в интеллектуальных дебатах и в актах коммеморации; еще двадцать лет ушло на то, чтобы Холокост был увековечен в музеях и мемориалах по всему миру.
Крещендо памяти о Холокосте
После 1989 года с открытием архивов в Центральной Европе стали доступны документы о коллаборационизме. В 1990-е годы память о Холокосте была закреплена множеством памятных мероприятий, выставок, музеев, памятников и политической символикой. Разросшееся коммеморативное сообщество, перешагнув национальные границы, достигло глобальных масштабов. Одновременно это сообщество обрело характер модели, на которую ориентируют свои притязания другие группы жертв; по образцу данной модели они оформляют собственную память об исторической травме.
Люббе написал свой текст до возникновения того феномена, который именуется ныне немецкой мемориальной культурой. «Нежелание признавать страдания жертв Холокоста, – отметил социальный психолог Харальд Вельцер, – стало крупнейшим мемориально-политическим скандалом послевоенной истории»[61]. Разумеется, такая оценка делается с нынешних позиций. Немецкая мемориальная культура формировалась постепенно на протяжении четырех десятилетий после окончания Второй мировой войны. Этому предшествовал затяжной период латентности, включающий в себя коммуникативное умолчание и последующее нарушение коммуникативного молчания протестным поколением. Для Люббе латентность молчания была не мемориально-политическим скандалом, а «социально-психологическим средством превращения послевоенного населения страны в гражданское общество Федеративной Республики Германии»[62]. Благодаря умолчанию решались одни проблемы (внутренние перемены, адаптация к новым условиям, общественная интеграция), но одновременно возникли или обострились другие проблемы. То, что сыграло целительную роль для старшего поколения, обернулось тяжким бременем для следующих поколений. Они создали новую мемориальную культуру, которая имеет эмоциональное, моральное и культурное измерение. Новая мемориальная культура стала поколенческим проектом шестидесятников; однако произошло это не в ту пору, когда они были двадцатилетними протестантами, еще не присутствовавшими на судебном процессе над охранниками Аушвица и не участвовавшими в парламентских дебатах о сроках давности нацистских преступлений, а тогда, когда в сорокалетнем возрасте они начали занимать ведущее положение в общественной жизни, когда в 1980-е и 1990-е годы они освободились от своих прежних идеологических взглядов.
Деидеологизация предшествующих историко-политических дебатов сыграла решающую роль в становлении новой мемориальной культуры. Место правых и левых идеологий заняли права человека в качестве нормативной основы для политических решений, моральных оценок и исторической чувствительности. Этот ментальный поворот начался в 1980-е годы во многих местах, что постепенно привело к кумулятивному эффекту; данный поворот ознаменовался завершением вьетнамской войны, имевшей важное значение для США; крахом латиноамериканских диктатур и вытекающими отсюда процессами политического транзита (что произошло и в ЮАР); окончанием биполярного мира, эпохи холодной войны и падением «железного занавеса» в Европе. Данный поворот обусловил значимую смену перспективы в Западной Европе: произошел сдвиг от героев и творцов истории к безымянным жертвам, чьи судьбы были впервые рассказаны и услышаны во всем многообразии их голосов. Главным ориентиром стали теперь права человека; с этим связано признание страданий гражданских жертв государственного насилия и расизма, сочувствие к этим жертвам. Поворот ознаменовался также отказом от снисходительности к преступникам и вниманием к страданиям (не только еврейских) жертв. Этим шагом завершилась замкнутость немецкой памяти на самой себе, ибо за последующие десятилетия немцы присоединились к транснациональному сообществу памяти о Холокосте; немцев объединяет с этим сообществом новый принцип «сохранения прошлого», характеризующийся направленностью памяти на неопределенное будущее.
3. Проблемы немецкой мемориальной культуры
Чемпион мира по памяти?
Сложилась парадоксальная ситуация. На протяжении многих лет весь остальной мир хвалит Германию за ее достижение, то есть за развитие немецкой мемориальной культуры. По мнению английского историка Тимоти Гастона Эша, Германия установила своего рода стандарты мемориальной культуры наподобие DIN, – немецких промышленных стандартов; в России говорят о «немецкой модели» мемориальной культуры, а американскому политологу Джону Торпи, автору фундаментальных исследований о трансформации политических систем и о деятельности «комиссий правды», даже принадлежит сентенция: «We are all Germans now!»[63] Подразумевается ментальная и мировоззренческая эволюция, которая привела к тому, что различные страны проявляют все большую готовность признать совершенные ими преступления, а не отрицать или замалчивать – как это бывало раньше – все, что могло бросить тень на благополучие национального имиджа. Не следует недооценивать выбор значительного и все более растущего количества европейских и иных интеллектуалов и деятелей культуры, которые переезжают на жительство из Иерусалима, Парижа или Нью-Йорка в Берлин, ибо находят здесь повсеместные следы собственной травматизированной семейной истории в виде памятников, мемориалов, публичных дискуссий и коммемораций.
Следует ли считать Германию чемпионом мира по памяти? Если немцы и заслуживают этот абсурдный титул, то лишь потому, что прежде они стали чемпионами мира по убийствам. Только с немецкой одержимостью, бюрократической скрупулезностью можно уничтожить посредством голода, непосильного труда, истязаний, расстрелов и газовых камер миллионы мужчин и женщин, детей и стариков по той лишь причине, что эти люди принадлежат другой «расе». Так не служит ли немецкая мемориальная культура сокрытием продолжающейся мании величия?
Внешние и внутренние оценки существенно расходятся. То, что столь высоко ценится в немцах иностранцами, в самой Германии подвергается острой критике. Представители правой части политического спектра всегда испытывали глухое недовольство по отношению к немецкой мемориальной культуре. Но теперь таким же недовольством характеризуются публичные выступления тех исследователей или общественных деятелей, которые не ставят под сомнение базовые демократические ценности. За последние три года появился ряд публикаций, авторы которых так или иначе заявили о своем недовольстве немецкой мемориальной культурой. Некоторые из подобных работ далее будут рассмотрены более подробно. К их числу относится книга Ульрике Юрайт и Кристиана Шнайдера «Жертва по ощущению», выступающая с критикой как «немецкой мемориальной культуры, базирующейся на самоидентификации с жертвами», так и лежащей в ее основе теории культурной памяти[64]. Спустя два года Юрайт и Шнайдер повторили свои тезисы в сборнике, в котором участвовали и другие авторы[65]. Харальд Вельцер и Дана Гизеке в книге «Все, что в человеческих силах» выступили с предложением решительно расчистить и обновить немецкую мемориальную культуру[66]. Следует также упомянуть тематический номер журнала «Vorgänge» под названием «Зачем помнить?» и множество отельных статей о мемориальной культуре[67].
Одни проявления недовольства немецкой мемориальной культурой сопровождаются основательной теоретической разработкой проблемы, другие базируются на интуитивном подходе и остаются на дорефлексивном уровне. Порой авторы оспаривают нечто, хотя не вполне ясно, что именно. Интуиция может служить импульсом для рефлексии, которая пытается определить проблему, разобраться в ней и найти ее решение. Чтобы перейти от недовольства, огульных претензий и обвинений к обсуждению насущной проблемы, необходимо точнее сформулировать темы, о которых идет речь. При этом во избежание бесплодной полемики следует задать определенные рамочные условия для конструктивной дискуссии.
Интерпретативная власть и «жертва по ощущению». Мемориальная культура как конфликт поколений
Главная роль в недовольстве, которое высказывается Ульрике Юрайт и Кристианом Шнейдером, отводится «поколению 1968 года», ибо они считают именно его движущей силой немецкой мемориальной культуры. По мнению обоих авторов, это поколение несет ответственность за развитие мемориальной культуры, пошедшей в неверном направлении, которое и рассматривается ими с социологической и психоаналитической точки зрения. Они критикуют ложное отношение к жертвам, базирующееся на самообмане, иллюзорные надежды на освобождение от чувства вины, банкротство ритуальных коммемораций. За этой критикой кроется стремление избавиться от надоевшего менторства со стороны шестидесятников. Главный аргумент критики – злоупотребление «интерпретативной властью». То есть речь идет не столько о споре между различными научными направлениями, сколько о политизированном конфликте поколений, который можно считать отголоском конфликта между «поколением 68-го года» и его родителями. Дескать, шестидесятники использовали память о Холокосте для захвата дискурсивных властных позиций в Германии, из чего следует, что немецкая мемориальная культура является результатом их диктата (или даже диктатуры). Даже то, что выглядит демократическим волеизъявлением, – скажем, парламентское голосование о создании центрального еврейского мемориала в Берлине, – оказывается на деле политическими интригами поколения, которое пользуется интерпретативной монополией, чтобы надолго упрочить собственные «идеологические взгляды, обращенные в прошлое» и «законсервировать собственную модель исторической памяти»[68].
Подобно тому, как в 1960-е годы супруги Мичерлих взывали к совести военного поколения, упрекая его за «неспособность скорбеть», сорок лет спустя Юрайт и Шнайдер обвиняют шестидесятников в фальшивой памяти и скорби. Эта скорбь, по их мнению, была изначально неискренней, ибо она основывалась на симуляции чувства, присвоенной идентичности, и ложном уповании на избавление от вины. Центральным моментом критики в адрес немецкой памяти о Холокосте является то, что Юрайт и Шнайдер считают результатом самовнушения, в силу которого «поколение 68-го года» отождествило себя с жертвами. Самоотождествление с еврейскими жертвами позволило этому поколению разойтись с собственными родителями, вырваться из окружения, связанного с историческим прошлым, в морально безупречный мир. Средством столь чудесного спасения через смену идентичности стала мемориальная культура, дававшая шестидесятникам иллюзорную надежду на избавление от вины. Трактовка, предложенная Ульрике Юрайт и Кристианом Шнайдером, вызвала довольно широкое одобрение, а словосочетания «мнимое самоотождествление с жертвами» и «искусственная скорбь» стали расхожими аргументами[69].
Приведу пример, чтобы конкретизировать затронутую проблему. В беседе с Франком Ширрмахером, редактором газеты «Франкфуртер Алльгемайне», о телефильме «Наши матери, наши отцы» продюсер Нико Хофман вспомнил давний разговор со своей матерью: «Когда в 1979 году немецкое телевидение показало сериал “Холокост”, она вполне серьезно упрекнула меня за обедом: “Ты понимаешь еврейский народ лучше, чем меня”. Я возразил: “Не стану же я оправдывать твои дела в Союзе немецких девушек. Речь идет о Холокосте. Поэтому я отождествляю себя не с немцами, а с немецкими евреями”»[70].
Эмоциональное воздействие телесериала «Холокост» уже упоминалось в предыдущей главе. Герман Люббе считал, что этот сериал нарушит молчание старшего и младшего поколения. То, чего не удалось достичь ни историческим книгам, ни рассказам педагогов об Аушвице, сумел сделать масскультурный телепроект. Он снял эмоциональную блокаду у значительной части немецкого населения и создал условия для сочувствия еврейским жертвам. Этот телесериал, отметил Герман Люббе спустя четыре года после его премьеры в Германии, восстановил свободную от псевдотеоретизирования моральную и политическую солидарность общества по отношению к самым ужасным преступлениям национал-социализма. Он «заново укрепил моральную и политическую компетентность немецкого общества в его оценке национал-социализма, чем оказал интегрирующее воздействие»[71].
Существует множество свидетельств того, что показ и рецепция американского телесериала «Холокост» имели поворотное значение для немецкой мемориальной истории, ибо немцы старшего и младшего поколения впервые эмоционально открылись для восприятия Холокоста. Это не подтверждается разговором Нико Хофмана с матерью, которая, видимо, не совершила подобный поворот по отношению к Холокосту. Вероятно, такие примеры не редкость, ибо телесериал «Холокост» не только объединил, но и поляризовал поколения. (Мне довелось беседовать с некоторыми молодыми людьми, которым родители категорически запретили смотреть американский телесериал.) Взаимонепонимание между матерью, сохранившей приверженность ценностям национал-социализма, и сыном, который принял идентификационную возможность, предложенную американским телефильмом, выглядит непосредственным подтверждением тезиса Ульрики Юрайт. Но невольно задаешься вопросом, а что, собственно, в данной ситуации неправильно? Сын, создавая собственный телефильм, идентифицирует себя с немецкими евреями и дистанцируется от немцев. Но выражение «идентифицирует себя» вовсе не означает, будто он считает себя такой же жертвой, как евреи. Эмпатия подразумевает сострадание, позволяет установить эмоциональную связь с чужим человеком, судьба которого вызывает сочувствие, хотя при этом не утрачивается сознание четкого различия между «Я» и «Другим». Идентификация с жертвами означает признание общих ценностей, но она не освобождает от собственной идентичности, от принадлежности к своей семье, нации и истории. Идентичности не бывают подлинными или ложными, они пластичны и изменяются под влиянием определенных убеждений и действий. Эмпатическая самоидентификация немцев с жертвами является не скандальным заблуждением немецкой мемориальной культуры, как утверждает Юрайт, а ее предпосылкой и основанием.
Нельзя отрицать, что начиная с 1970-х годов среди шестидесятников наблюдались случаи гипертрофированного филосемитизма и перехода в иудаизм. Но совершенно неверно обвинять все поколение в ложной самоидентификации с жертвами, как это делает Юрайт, ссылаясь на пример Биньямина Вилкомирского (Бруно Грожана), швейцарца, написавшего вымышленную автобиографию, в которой он выдавал себя за жертву Холокоста. Автора «Фрагментов» разоблачили в 1998 году, что имело и юридические последствия. Эмпатия Вилкомирского по отношению к еврейским жертвам дошла до того, что в своем самоотождествлении с ними он действительно утратил различие между собой и вымышленным персонажем. С присущей ей амбивалентностью Юрайт пишет: «История Бруно Грожана представляет собой единичный случай и не подлежит обсуждению. Но сквозь трагику индивидуальной судьбы просвечивает базовая структура коллективной памяти, и в этом смысле “Фрагменты” Вилкомирского являются примером не только частной, но и социально-типической перекодировки. Самоотождествление с жертвами стало мемориально-политической нормой»[72]. Если случаи, похожие на казус Вилкомирского, и имели место среди немецкого послевоенного поколения, то они давно проанализированы как проблема самообмана. Особенно четко высказался по данному поводу еще Райнхард Козеллек: «Мы, немцы как политически ответственная нация, обязаны помнить о совершенных преступлениях и, следовательно, о преступниках. …Поэтому мы не можем спрятаться за жертвами, в частности за евреями, будто нам полагается мемориал Холокоста, как любой другой стране мира. Мы, немцы, не смеем ни надеяться, ни претендовать на это. От нас требуется встроить идею причастности к совершенным преступлениям в наше сознание»[73].
Здесь имеет место недоразумение, которое основывается на весьма расплывчатой формулировке. Когда Юрайт говорит о «памяти, идентифицирующей себя с жертвой», то как бы автоматически подразумевается, что речь идет о еврейских жертвах. Но это далеко не всегда так, ибо именно немцы долгое время хранили память о жертвах, имея в виду самих себя, что не оставляло места для отождествления с «жертвами по ощущению» (gefühlte Opfer). Юрайт не поясняет, о каких жертвах она пишет, поэтому ее рассуждения о конкуренции жертв выглядят весьма неопределенными[74]. Юрайт не делает различия между «памятью, идентифицирующей себя с жертвой» (это ее термин) и «памятью, обращенной к жертве» (термин, предложенный Вернером Коницером)[75]. Между обоими понятиями, которые на первый взгляд кажутся взаимозаменяемыми, лежит пропасть. Если, по справедливому замечанию Козеллека, немцы не вправе претендовать на возможность идентифицировать себя с пострадавшими евреями, чтобы почувствовать себя жертвами вместе с ними, то они могут и имеют право сочувствовать жертвам. Если в первом случае самоотождествление с жертвами стирает различие между идентичностями, то эмпатия предполагает различие между «Я» и «Другим». «Сочувствовать кому-то» и «чувствовать себя кем-то» – это два абсолютно разных состояния.
Уточнение, предложенное Коницером, помогает описать различные рамки транспоколенческой памяти, о которых, собственно, и идет разговор. Понятием «память, идентифицирующая себя с жертвой» описывается второе поколение переживших Холокост; эти представители второго поколения воспринимают собственные биографии как транспоколенческое продолжение травмы своих родителей. В Германии, согласно аргументации Коницера, обращение памяти к еврейским жертвам состоялось лишь в 1979 году, благодаря показу американского телесериала «Холокост». По единодушному мнению исследователей, он заложил основы новых, транспоколенческих рамок памяти. Как пишет Коницер, благодаря памяти, обращенной к жертвам, немцы приобщились к европейской и мировой мемориальной культуре. Вслед за Козеллеком здесь можно задаться вопросом, обладают ли теперь немцы такой же мемориальной культурой, как другие страны. Ведь в стране преступников национальная память, несомненно, бывает иной, нежели в странах, которые принадлежали, скажем, к числу коллаборационистов, однако обладали также мощным движением Сопротивления. Поэтому в Германии до сих пор нет, например, «Улицы депортированных», хотя уже появилось множество «камней преткновения», установленных по инициативе активистов гражданского общества. Мир без сочувствия, равнодушный к страданиям невинных гражданских жертв, говорит Коницер, был бы гораздо более неприютным, чем нынешний мир, обладающий мемориальной культурой[76].
Нормативное отношение немецкой мемориальной культуры к Холокосту характеризуется не самоидентификацией, а эмпатией, которая вполне допускает сознание собственной непринадлежности к нации жертв. Немецкая память о Холокосте обращена к жертвам, но это не предполагает самоотождествления с жертвами, ибо ответственность за совершенные преступления играет в ней значительную и неустранимую роль. В этом смысле можно говорить о «негативной памяти». Вина, которую уже нельзя вменить последующим поколениям, превращается в историческую ответственность, служащую предостережением для будущего. Цитата, заимствованная Ульрике Юрайт из решения бундестага о берлинском мемориале, наглядно иллюстрирует основные моменты немецкой мемориальной культуры. В решении бундестага говорится об этической памяти, которая эмпатически обращена к жертвам и одновременно сохраняет историческое самоотождествление с «нацией преступников»: «Этим мемориалом мы хотим почтить память убитых и напомнить о немыслимых событиях немецкой истории, а также призвать будущие поколения не допустить новых посягательств на права человека, неизменно защищать демократическое правовое государство, отстаивать равенство людей перед законом, противоборствовать любым проявлениям диктатуры и насилия»[77].
«Помнить, чтобы не повторилось!» – такова краткая формула этического императива, который адресован Германии, но не ограничивается ею. Этот императив актуален для многих стран мира, где в рамках «политики покаяния» (politics of regret) бывшие преступники наводят мосты памяти между собой и своими бывшими жертвами. Наведение подобных мостов отнюдь не предполагает исторического забвения или самоидентификации преступников с жертвами, оно закладывает основы такой идентичности, которая включает память о преступлениях в коллективное самосознание посредством этического акта «анамнетической солидарности» (Йоганн Баптист Мец).
Недовольство немецкой мемориальной культурой, высказываемое Ульрике Юрайт, направлено не только против интерпретативной власти «поколения-68» или против когнитивной фигуры «жертвы по ощущению», но гораздо шире – против концепции транспоколенческой памяти, которая на протяжении десятилетий реализуется в различных странах мира и активно обсуждается международным сообществом специалистов по мемориальным исследованиям. Для историка Ульрике Юрайт, как и для Козеллека, не существует памяти о событиях, не пережитых индивидуумом лично. Она не признает коллективную идентичность и формы групповой принадлежности, которые возникают как усвоение истории с помощью массмедиа и иных носителей культурного наследия. Поэтому Юрайт и считает самообманом идентификационный аспект немецкой памяти о Холокосте: «Мы лишь делаем вид, будто речь идет о событиях и страданиях, которые мы пережили и испытали сами, чтобы симулировать личную причастность, в которую мы затем эмоционально погружаемся»[78]. Подобные взгляды неизбежно вызывают недовольство мемориальной культурой.
Холокост как негативный учредительный миф
С 1990-х годов память о Холокосте вернулась в немецкое общество, где она закрепилась с помощью различных мемориалов, специального памятного дня и множества памятников как негативный учредительный миф объединенной Германии. Акты символической политики, школьная педагогика, СМИ социализировали уже третье и даже четвертое поколение граждан страны, интегрировав их в немецкую мемориальную культуру; память о Холокосте стала для них естественной и неотъемлемой частью их культурной среды. Одновременно с разных сторон послышались голоса протеста и критика в адрес новой мемориальной культуры. Вслед за успешной институционализацией негативного учредительного мифа встал вопрос о способности мемориальной культуры развиваться, о ее новом содержании, переосмыслении и плюрализации в переломные и кризисные времена. Как увязывается идентичность, ориентированная на прошлое, с насущными задачами и будущими вызовами?
«Позитивное» осмысление «негативной» памяти о Холокосте в рамках новой мемориальной культуры завершило в 1990-е годы длительную полемику между левыми интеллектуалами, которые форсировали работу памяти вопреки общественно-политическому мейнстриму, и правыми интеллектуалами, которые выступали за то, чтобы прошлое было преодолено, забыто и оставлено позади. К левой фракции принадлежала не только молодежь «поколения-68», в нее входили и авторитетные представители старшего поколения, такие как философ Юрген Хабермас, писатель Гюнтер Грасс, педагог Хартмут фон Хентиг или политик Ганс-Йохен Фогель. Победа этой фракции обернулась ситуацией, которая описывается словами: «Победа – это поражение!» Протестное движение неожиданно приобрело характер государственной доктрины.
Истоком немецкой мемориальной культуры служила протестная и критическая позиция. Важную роль в формировании мемориальной культуры сыграли два берлинских проекта, родившиеся непосредственно перед объединением Германии из локальных гражданских инициатив и лишь позднее привлекшие к себе широкое общественное внимание. Это проект по сохранению следов истории «Топография террора», начавшийся с самодеятельных раскопок на месте, расчищенном от развалин бывшего здания гестапо, и заявка на сооружение центрального мемориала в память об уничтоженных европейских евреях. Оба проекта воспринимались как критика и протест против официальной инклюзивной символической политики по отношению к жертвам, которая проводилась Гельмутом Колем после объединения Германии. Стирая фундаментальные различия между жертвами, такая инклюзивная символическая политика обходила вопрос об исторической ответственности. Сделав в 1992 году мемориал «Нойе Вахе» символом своей исторической политики, Гельмут Коль несколько изменил собственную позицию в результате договоренности с главой еврейской общины Игнацем Бубицем, который дал ясно понять: «Получай свой мемориал, но тогда и у меня будет мой!»[79] В середине 1990-х годов после долгого сопротивления Коль сам стал защитником мемориала в память о жертвах Холокоста. Обозначился новый курс немецкой мемориальной культуры: она обрела политическое признание и официальный государственный статус. С этих пор мемориальная культура получила многообразное и необратимое закрепление в институтах нашей политической системы. Забота об исторических памятниках была включена в объединительный договор как обязанность и ответственность государства; в июне 1999 года бундестаг значительным большинством голосов принял решение о сооружении мемориала в память об уничтоженных европейских евреях – ныне уже нельзя представить себе центр Берлина без этого мемориала.
Дилемма победы, которая становится поражением, восходит к усвоенному интеллектуалами стилю мышления, сформированному критической теорией. В нем действует принцип: позиция интеллектуала должна быть субверсивной. Интеллектуал – соль земли и заноза в теле власти. Аффирмативная аргументация – это переход на сторону врага. Власть имущие – всегда другие, они в принципе не заслуживают доверия. Историк Харальд Шмидт, который изучал генезис немецкой мемориальной культуры, подтверждает общую смену ценностей: «Вместо прежнего забвения, вытеснения, замалчивания и отрицания теперь всюду царит память»[80]. Изменение политической культуры было воспринято левыми интеллектуалами со скепсисом и недоверием. Новое недовольство мемориальной культурой стало ответом на ее успешную институционализацию, а следовательно, на аффирмативный характер мемориальной культуры, из которой уходило все, что вызывало беспокойство и тревогу. «Если беспокойство и тревога переходят в долгожданное успокоение и примирение, то не прикрывается ли свершившееся чудовищное злодеяние всеприсутствием памяти?» – спрашивает Харальд Шмидт. В таком случае мемориальная культура «оказывается скорее частью самой проблемы, нежели ее решением»[81].
В контексте субверсивной традиции левых интеллектуалов вполне понятно их недовольство успешным развитием мемориальной культуры. Однако сегодня противопоставления «правый – левый», «прогрессивный – консервативный», «субверсивный – аффирмативный» выглядят не столь однозначно, как это было во времена холодной войны. Они больше не носят характер вынужденной альтернативы, поэтому возникает новый вопрос, как спасти критический потенциал интеллектуалов в общественной ситуации, когда они все больше берут на себя ответственность за формирование политической культуры. Успешная институционализация памяти о Холокосте в ФРГ принесла с собой проблему «расколовшейся и отколовшейся памяти» (Харальд Шмидт). То, что раньше было периферийным, заняло ныне центральное положение, поэтому получившая транснациональное закрепление гегемониальная память о Холокосте затмевает или отодвигает в сторону память о других событиях, например таких, как немецкое Сопротивление, истории немцев, помогавших евреям, вынужденное бегство немецкого населения или принудительные депортации. Плюрализация памяти непосредственно связана с будущим мемориальной культуры. Эта проблема заключает в себя вопрос об интеграции и значимости новых тем (скажем, память о ГДР или память мигрантов), как составных компонентов общественного самосознания. Чтобы сохранить критический потенциал мемориальной культуры, пришлось научиться мыслить парадоксами. Одна из таких парадоксальных формул гласит: «Победа – это поражение». Другая: «Память – это забвение», если памятные ритуалы исполнены пиетета, но ни к чему не обязывают и не влекут за собой никаких последствий. В комплекс мемориальной культуры вкрался внутренне дифференцирующий момент недовольства, который бросает аффирмативной государственной культуре памяти вызов с позиций критической контркультуры, чья задача состоит в том, чтобы в мемориальной культуре не затухали критические импульсы, порождаемые гражданским обществом.
Далее будут представлены еще несколько ключевых понятий, связанных с дебатами о недовольстве мемориальной культурой, и будет рассмотрен вопрос, «не являются ли немцы нацией, которую постоянно сбивает с толку зависимость от прошлого»[82]. В нынешней дискуссии, вызванной недовольством мемориальной культурой, мне видятся знаменательные проявления живого интереса, эмоциональной ангажированности и активного участия. Эта дискуссия служит важным средством уяснения и осознания назревших проблем мемориальной культуры, являющейся существенной составной частью политической культуры демократического общества, которое – как и сама мемориальная культура – представляет собой динамичный процесс, направленный в будущее.
Исчерпанная память?[83]
Победа немецкой мемориальной культуры обернулась ее поражением. Недовольство этим обстоятельством высказывается в различных формах. Например, так: знание о Холокосте, благодаря постоянному присутствию этой темы в СМИ, широко распространено в обществе, поэтому нет необходимости пропагандировать мемориальную культуру и можно отказаться от ее назойливого инсценирования. Нет смысла постоянно повторять общеизвестное. Напротив, бесконечные повторы приводят к отрицательной реакции. Именно такая позиция отражена в книге Харальда Вельцера и Даны Гизеке «Все, что в человеческих силах. К обновлению немецкой мемориальной культуры»[84]. По мнению авторов, излишне напоминать о том, что уже известно и хорошо усвоено. Императив коммеморации и запрет забвения утрачивают силу для следующих поколений, ибо знание о прошлом прочно укоренилось в их окружении. Авторы считают ненужным устанавливать все новые и новые мемориальные доски, ибо «познавательная ценность каждой подобной акции стала приближаться к нулю»[85]. Они предлагают закрыть тему прошлого: мемориальную культуру пора расчистить от излишеств, чтобы перейти к решению новых задач, связанных с построением будущего. «Сегодня уже нет смысла настоятельно требовать, чтобы все помнили о Холокосте и чтили память его жертв, ибо общество – за исключением немногочисленных неонацистов – не имеет на сей счет ни сомнений, ни возражений». Что же касается молодежи, то она «толком не понимает, против чего собственно направлены такие усилия, если все кругом знают о жертвах и готовы чтить их память»[86].
Вельцер стирает важное различие между когнитивным знанием и знанием, которое связано с идентичностью. Скажем, второй закон термодинамики является элементом когнитивного знания, который вошел в науку и, возможно, усвоен системой общего образования. Напротив, Холокост служит частью исторического знания, которая также является предметом научного изучения, однако подобное знание связано еще и с идентичностью, поскольку это историческое событие имеет прямое отношение к становлению нашего государства, к нашим семейным историям и нашей этической ориентации. Культурная память и есть та форма, которую принимает данная идентификационная соотнесенность, если история воспринимается как наша собственная, становясь основой общественного самосознания и конституируя наше политическое «Мы». Предложение Вельцера считать тему прошлого закрытой и списать ее в архив расторгает указанную связь истории с идентичностью. Однако Вельцер прав, говоря, что если сохранение памяти сводится исключительно к настоятельному требованию не забывать о прошлом, то возникает тавтология, память содержательно выхолащивается и замыкается на самой себе. Речь идет не о сохранении памяти как таковом, а о том, чтобы память актуализировалась и обогащалась новым содержанием.
Другая версия причин недовольства, высказываемого Вельцером, гласит: «Мы извлекли уроки из прошлого. Поэтому мы живем ныне в правовом государстве со стабильной демократией. Немцам пора, наконец, исходить из позитивных ценностей, а не придерживаться самоопределения на негативных основаниях. Короче говоря, мы – демократы в силу свободного решения быть демократами, а не потому, что наши предки уничтожали евреев и мы должны постоянно помнить об этом». По мнению Вельцера, подобная фиксация на негативном учредительном мифе была навязчивой идеей «поколения-68» с его сакрализацией Холокоста и возведением виновности в ранг основы немецкой идентичности. Чрезмерное морализирование и представление о себе, основанное на чувстве вины, продолжает Вельцер, возможно, были на определенное время исторически оправданы, когда речь шла о конфликте с поколением родителей, но для последующих поколений такое умонастроение становилось все более неприемлемым. Напротив, оно могло иметь контрпродуктивные последствия, поскольку вело к деформации представления будущих поколений немцев о самих себе. Поэтому Вельцер хотел бы, чтобы негативные основания свободы и демократии заменились позитивными.
Такое же мнение высказал Ханс-Ульрих Велер в интервью, опубликованном 8 мая 2005 года[87], в котором он высказался об отношении немцев к национал-социалистическому прошлому. Он с гордостью отмечает, что это прошлое преодолено и что «история демократии и прав человека, как она складывалась в Западной Германии после 1949 года и с 1990 года во всей стране, ознаменовалась успехом». «Постнациональная конституция и социальное государство» помогли немцам справиться с национализмом. «Постнациональная идентичность хорошо проявила себя и после 1989 года. Граждане ФРГ в своем большинстве продемонстрировали иммунитет по отношению к патриотическим призывам». Велер четко пояснил в своем интервью, что постнациональная идентичность как нельзя лучше согласуется с так называемым «конституционным патриотизмом».
«Вопрос: А есть ли здесь место для национального самосознания, как его понимает Йошка Фишер?
Велер: …который считает Аушвиц учредительным мифом? Нет, ему нет места. Жизнеспособное сообщество нельзя основывать на преступлениях против человечества.
Вопрос: Почему нет? Если Фишер говорит “никогда больше”, то это означает “навсегда” для гуманности и свободы.
Велер: Эти позитивные ценности давно являются содержанием нашей конституции. Тут не нужен Холокост, даже если часть шестидесятников маниакально настаивает на этом. Холокост бесспорно занимает центральное место в истории XX века, но преступления еще не выводят его в ранг краеугольного камня идентичности»[88].
Коллективная идентичность может базироваться только на положительном опыте, но никак не на отрицательном. Таково мнение многих из тех, кто испытывает недовольство по отношению к мемориальной культуре. В этом смысле Вельцер предостерегает от «исторического возвеличивания ex negativo». «Следует ли помнить обо всех этих злодеяниях? Почему? Как долго? И с какими последствиями?»[89] Вельцер полагает, что «цивилизационное будущее не должно строиться вокруг негативного прошлого. В конце концов, история человечества состоит не только из ужасов, в ней есть моменты счастья, успеха, цивилизационного прогресса»[90].
Джон Торпи также предостерегал от проблематичных последствий гипертрофированной мемориальной культуры: «Устраняя вред, нанесенный прошлым, недопустимо, чтобы историческая политика заслоняла или заменяла нам мечту о прогрессе и будущем»[91]. Вельцер также констатирует, что под тяжестью исторических катастроф произошло смещение приоритетов в наших оценках прошлого, настоящего и будущего. Возникли перекосы, в результате которых горизонт будущего сужается, зато в такой же мере увеличивается обращенность к прошлому[92]. Недовольство этим весьма точно сформулировал Конрад Ярауш, подводя итоги развития европейской мемориальной культуры за шестьдесят пять лет. Он увидел в Европе значительный перевес негативной памяти и дефицит положительных ценностей. «Впечатляющий свод прав человека, вошедший в преамбулу Европейской конституции, обретает свою значимость скорее как результат воздействия преступлений, которые надлежит предотвратить в будущем, нежели как позитивное установление общих ценностей, способное объединить современное общество. Такой путь вызывает сожаление, ибо сама мысль о строительстве единой Европы родилась под знаком негативного опыта. Европа оказывается страховым полисом от повторения старых проблем, а не позитивной целью, способной стать ориентиром для наших представлений о будущем»[93].
В аргументации Ярауша обращает на себя внимание кардинальное противопоставление прошлого будущему, которые мыслятся как несовместимые друг с другом противоположности. Но так ли несомненна ныне эта оппозиция прошлого и будущего? Новая мемориальная культура сама является свидетельством того, что произошли не только смещения в соотношении времен, но и изменения в противопоставлении позитива и негатива. В противопоставлении, которое проводит Ярауш между «негативными уроками» и «позитивными ценностями», есть уязвимое место, ибо в нем не учитывается, что прогрессивные европейские ценности рождались именно из опыта европейской истории преступлений. То же самое относится к оппозициям в рассуждениях Вельцера: «Парадоксальные усилия немецкой мемориальной культуры, направленные на то, чтобы из негативного события сформировать положительную идентичность и внести ее в политически ответственное сознание, обречены на неудачу; идентичность нуждается в психологически позитивных основаниях, в устойчивом знании, что необходимо вершить добро и как вершить добро, а также как предотвращать зло»[94].
При отождествлении сохранения памяти с фиксированностью на прошлом недооценивается трансформирующий потенциал памяти, который ныне все яснее проявляется в государствах и обществах, переживающих процесс так называемого «транзита». Речь при этом идет о новом виде памяти, которая не ограничивается темами собственного героизма или собственных страданий, как это бывало раньше и все еще бывает теперь. Мемориальная культура включает в себя собственную причастность к вине за совершенные преступления и сочувствие к чужому страданию, поэтому негативное бремя истории может быть преобразовано в прогрессивные ценности. Именно так из цивилизационного разлома возникла основа, состоящая в утверждении ответственности гражданского общества, чего в подобном виде не было раньше. Ценность человеческого достоинства зародилась из предельного унижения человеческого достоинства, поэтому позитивное значение этой ценности остается связанным с его негативным генезисом[95]. В том же смысле высказывались Юрген Хабермас и Жак Деррида, которые подчеркивали, что в Европе из деструктивной и травматической истории родились позитивные ценности и перспективы на будущее[96]. Именно эти перспективы для Европы, которые так легко забываются во времена финансовых кризисов, необходимой экономии ресурсов и растущей фрустрации, были вновь подтверждены в октябре 2012 года присуждением Европейскому союзу Нобелевской премии мира: «Европейский союз переживает в настоящее время серьезные экономические трудности и социальные волнения. Норвежский Нобелевский комитет хотел бы обратить внимание на то, что считает важнейшим достижением ЕС: успешная борьба за мир, за демократию и права человека; стабилизирующая роль ЕС при превращении Европы из континента войн в континент мира»[97].
Это превращение Европы обусловлено не только забвением и экономическим сотрудничеством, оно теснейшим образом связано с мемориальной культурой, о чем далее будет говориться подробно. В отличие от американской мечты, которая аннулирует семейные истории, национальное происхождение и биографическое прошлое, в европейской мечте прошлое и будущее тесно переплетены. Американская мечта – это обещание индивидуального успеха, оно адресовано всем и каждому, хотя исполняется лишь для немногих. Европейская мечта подразумевает целые нации. Она показывает, что враждовавшие соседи могут жить в мире. Процесс преобразования давно принял характер позитивной истории, причем не просто воображаемой в мечте, а реальной, такой, которой европейцы уже вправе гордиться. Европейская мечта преобразовала Европу, но это преобразование, как мы убедились, является долгим процессом, к тому же весьма далеким от стабильности. В этом смысле Нобелевская премия мира служит напоминанием для стран – членов ЕС. Оно гласит: при всех фрустрациях финансового кризиса, который, разгоревшись подобно лесному пожару, изо дня в день порождает рознь и агрессию между политическими партнерами, не забывайте собственной истории и своего будущего предназначения! Если история действительно к чему-то обязывает, то вы должны – и в этом заключается суть кризисного испытания Европы на прочность – извлечь из нее позитивные импульсы солидарности, чтобы подтвердить и усилить свою сплоченность.
Ритуализация
Центральное место в критике немецкой памяти о Холокосте занимает не только отказ от концепции национальной идентичности, но и тесно связанный с ним отказ от любых форм политической символики и ритуалов. Недовольство вызывается «выхолощенными стереотипами коммеморации, постоянным пережевыванием одних и тех же тем, пафосностью и сентиментальностью, которые затуманивают историю, чрезмерным морализаторством и смысловой перегрузкой. Назойливость и нудность свойственны мемориальной культуре, которая практически лишилась всяческого позитивного содержания»[98].
Насколько резкой стала (почти дежурная) критика мемориальной культуры, настолько же расплывчатым и открытым остается зачастую вопрос о том, в чем же должно заключаться «позитивное содержание» мемориальной культуры. Когда указывается на императивный характер памяти о Холокосте, на шаблонность ритуалов, производимых в памятные дни, возникает рефлекторная реакция, которая выражается в форме хлестких полемических высказываний: «навязчивая идея», «эпидемия мемориализации», «диктат» и «многомиллионная мемориальная индустрия». Объектом критики служат прежде всего три компонента мемориальной культуры: эмоциональность (пафос ответственности), инсценирование (шаблонность ритуалов) и институционализация (воспроизводство устойчивых форм). Эти три компонента и определяют качество обязательной коммеморации, практикуемой в различных странах по случаю национальных праздников и памятных дней. Сложное отношение к памятным дням в Германии обусловлено ее историей. Оно провоцирует протест, объединяющий странным образом две совершенно разные корпорации: критиков немецкой идентичности («фобия нормальности») с критиками негативной немецкой идентичности («фобия особенности»). Отвергающие идентичность (левые) не хотят быть похожими на других; отвергающие память о Холокосте (правые) являются сторонниками позитивной национальной идентичности.
Диалектическим противовесом подобной критики ритуалов и церемониалов, которая имеет в Германии многовековые протестантские традиции, служит культ аутентичности и спонтанности. Оба положительно коннотируемых понятия обладают тем преимуществом, что они не нуждаются в обоснованиях и естественным образом связываются с такими абсолютными ценностями, как подлинность и правдивость. Эти ценности обуславливают антиритуальный аффект, подробно описанный британским этнологом Мэри Дуглас в ее книге «Ритуал, табу и телесная символика»[99]. Наряду со словом «традиция» слово «ритуал» систематически обесценивалось в ходе модернизации, в то время как ценность «аутентичности» повышалась. Критика ритуальных форм коммеморации до сих пор продолжает традицию «ритуализованной критики ритуала». Еще до того, как президент ФРГ Роман Херцог провозгласил в 1996 году императив необходимость помнить, по крайней мере Западная Германия (в отличие от Израиля или стран с давними демократическими традициями, вроде США или Франции) располагала небольшим опытом использования культурных форм коллективного самоинсценирования, которые пришлось создавать заново в связи с новыми задачами[100]. Они осложнялись особым содержанием коммеморации – памятью о собственной вине и ответственности. Этическое требование включить негативную память в национальное самосознание и национальный образ является абсолютной исторической новацией. В условиях постсекулярного общества, лишенного укорененных ритуалов, мы действительно имеем дело с весьма сложной задачей.
Недовольство ритуальностью, неприятие стандартных жестов и шаблонной риторики касается прежде всего уровня официальной государственной символической политики, к которой у немцев сложилось непростое отношение. Но такая резкая критическая реакция порождает впечатление, будто память о Холокосте существует только на этом официальном уровне. Однако дело обстоит совершенно иначе, ибо наряду с официальным уровнем есть обширный спектр иных форм коммеморации, который опирается на инициативы гражданского общества, на научные исследования, художественные проекты, мемуары и кинофильмы, а также на личные обращения к данной теме. Ритуалы символической политики представляют собой лишь вершину пирамиды, неспособной существовать без своего основания. Официальная вершина мемориальной пирамиды нуждается в общественной легитимации, то есть в фундаменте, складывающемся из многообразной активности всего общества. Если легитимация отсутствует и общество не проявляет к данной теме никакого интереса, то приходится говорить о выхолащивании политических ритуалов. Особая функция вершинного уровня состоит в том, что он задает определенные рамки для других уровней; эти рамки заданы не для отдельных индивидуумов, а для коллектива граждан данного государства, составляющих «воображаемое сообщество» (Бенедикт Андерсон), которое таким образом перформативно удостоверяется в своем наличии и конкретизирует посредством национальной мемориальной культуры собственную идентичность. Политическими ритуалами исполняются репрезентативные функции, которые не могут быть реализованы иначе и которые по существу базируются на политическом представительстве. К функциям политических ритуалов относятся символическая интеграция, формирование консолидированного сообщества, субститутивное принятие исторической ответственности, делегирование полномочий небольшой группе политиков, а также установление согласия без консенсуса[101]. Решение об участии или неучастии в данном политическом ритуале остается в демократическом обществе за каждым индивидуумом.
Логика официальной символической политики содержит еще одну проблему, которая может послужить поводом для недовольства. Наряду с проблемами ритуализации, негативной памяти и делегирования полномочий я назвала бы ее проблемой отчуждения. Поясню это на примере. Для начала вновь приведу высказывание Харальда Вельцера: «По случаю открытия нового музея в мемориале Берген-Бельзен 28 октября 2007 года были произнесены шестнадцать приветственных речей, и все они по смыслу оказались совершенно одинаковыми»[102]. С таким же сарказмом отозвался Фолькхард Книгге об «исторически бессодержательном благочестии» немецкой мемориальной культуры. В качестве директора мемориала Бухенвальд ему изо дня в день приходилось становиться свидетелем того, как политики исправно выполняли свои обязанности, произнося речи, вполне ожидаемые, соответствующие данным обстоятельствам. Сообразно занимаемой должности Книгге имел дело как с вершиной мемориальной пирамиды, так и с ее основанием в лице людей, переживших концлагерь, или их родственников, а потому его взгляд на мемориальную культуру оказался раздвоенным. Торжественные речи политиков резко контрастировали со словами, которые он слышал от бывших узников концлагеря, а таких людей побывало в мемориале немало. Возникал разрыв между языком тех, кто удостоверяет свои слова пережитыми страданиями, тяжелыми личными воспоминаниями, и языком тех, за чьими словами всего этого не стоит. Разумеется, нельзя упрекать политиков, которые говорят так, а не иначе. Да и что еще они способны сказать? Тут ведь тоже: победа – это поражение. «Память» делегируется обществом на вершину пирамиды, где она застывает, обретая долговечную форму, но одновременно отчуждается от людей, переживших все на собственном личном опыте, от индивидуальных историй и голосов, превращаясь в абстракцию. По пути наверх, по ступеням пирамиды, память «развоплощается», от нее остается «жестко закодированная и строго охраняемая система – знаковая, вербальная и когнитивная»[103]. Ритуализация является таким образом результатом неизбежного переноса, отчуждения, переадресации, которые происходят при переводе живых воспоминаний в политическую и культурную память. Одновременно в этом процессе совершается «охлаждение» некогда «горячей» памяти.
Холодная память – это, по словам Аннеты Вивиорки, бесспорная память, не требующая дополнительных затрат. Я услышала это от нее, автора важной книги об эре очевидцев[104], когда мы с ней говорили о политических мемориальных ритуалах. Такая память уже не живет, она мертва, пустыми ритуальными заклинаниями вызывается к жизни лишь ее призрак. В качестве примера она привела события во Франции. Президент Франсуа Олланд открыл 21 сентября 2012 года мемориал в Дранси, городке в 10 километрах к северо-востоку от Парижа; там находился сборный пункт, откуда депортировалось большинство французов. Олланд признал ответственность французов за эти депортации, сказав: «Правда состоит в том, что это преступление совершалось во Франции самой Францией». Однако, как считает Вивиорка (а она сама присутствовала на церемонии), его слова никого не тронули. Совсем иначе обстояло дело 21 июня 1995 года, когда Жак Ширак выступил на ежегодной траурной церемонии в память о Холокосте с речью, в которой французский президент впервые признал ответственность нации за коллаборационизм. Тогда значимость события взволновала страну, все говорили и спорили о нем. Церемонию, состоявшуюся спустя семнадцать лет, Вивиорка восприняла уже как пустое повторение. Она сделала и еще одно критическое замечание: «Хореография» траурного мероприятия была продиктована политиками, которые – расставленные по рангам и должностям – заняли все передние ряды, а люди, пережившие Холокост, оказались буквально оттесненными назад. У них словно украли память, произошло ее отчуждение. В дело вмешалось государство, присвоившее себе их память.
Отсюда вытекает требование подходить с большей чуткостью к инсценированию политических мемориальных ритуалов. Но можно сделать и иной вывод: не следует возлагать слишком большие надежды на политические ритуалы. Их перформативный смысл состоит прежде всего в произнесении того, что полагается сказать. Самокритичная, проблемная проработка истории осуществляется в других контекстах. Лишь в редких случаях и при особых обстоятельствах ритуал становится харизматическим событием, способным взволновать людей. Того, кто с подобными ожиданиями относится к политическим ритуалам, наверняка ждет разочарование, в связи с чем и начинаются разговоры о «холодной» памяти.
Политкорректность
Теперь мы совершим спуск по ступеням пирамиды от вершины с ее перформативной официальной риторикой к широкому основанию общественной коммуникации. Между ритуализацией и политкорректностью существуют как сходства, так и различия. В обоих случаях присутствует сильное нормирование языка. Если от политиков, занимающих видное положение, ожидается правильный выбор слов, то ситуация – когда нам самим навязываются некие речевые стандарты, а отступление от нормы грозит порицанием или наказанием – воспринимается как недопустимая. Требование политкорректности вызывает недовольство тогда, когда в результате политического или социального давления в обществе заметно сужается многообразие мнений и способов их выражения. Нормирование языка ограничивает свободу мысли и свободу высказываний. Если ритуализация затрагивает лишь один аспект политического перформанса, а именно определенную патетичность риторики, то политкорректность регулирует все речевые акты в сфере публичной коммуникации. Разговоры в кругу семьи, на школьном дворе или за стойкой пивного бара, происходящие вне сферы публичной коммуникации, императивами политкорректности не регулируются.
Политкорректность можно определить как форму общественного самоконтроля, осуществляемого на основе морализирования[105]. Политкорректность больше похожа на табу, нежели на политическую цензуру; речь идет скорее о социальном, нежели о политическом контроле. «Мысль свободна, это так. Однако публичное высказывание собственного мнения отнюдь не свободно от ограничений. Помимо поступков или бездействия высказывание мнений также подлежит социальному контролю, что особенно касается суждений морального характера; без социального контроля господствующее общественное мнение вообще не могло бы сформироваться, как и господствующая общественная мораль»[106]. У табу есть различные функции и источники. Они охраняют само собой разумеющееся, равно как и сакральное. Табу не вредны сами по себе, ибо в них закреплены базисные элементы морального общественного сознания, которые не должны каждодневно обосновываться заново, становясь предметом торга и договоренностей. Молчаливое признание моральных аксиом обеспечивает защиту этих ценностей и одновременно служит предпосылкой общественного дискурса на основе подобных очевидностей. Поэтому мы говорим о политкорректности лишь в том случае, когда нормативный социальный контроль публично высказанного мнения все меньше соответствует общему моральному чувству. Как следствие: «Common sense перестает узнавать себя во множестве предъявляемых ему моральных требований»[107].
Общее мнение не является устойчивым образованием, оно способно обучаться и адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Вполне естественно, что со временем в общественном сознании происходят сдвиги религиозных, исторических или моральных стандартов. То, что считалось нормальным, общепринятым или хотя бы терпимым в один период, может показаться уже следующему поколению возмутительным и скандальным. «Изменения исторической чувствительности, результаты эмпирических исследований свидетельствуют о драматических колебаниях господствующего общественного мнения»[108]. Цитата заимствована из статьи о политкорректности, написанной Германом Люббе, который испытал подобные колебания на себе. Долгое время вопреки общественному мнению он отстаивал тезис о позитивной роли коммуникативного умолчания, который ныне пользуется всеобщим одобрением. Историческая чувствительность неодинакова для разных поколений. Так, название книги Андреаса Хильгрубера «Два финала: крушение рейха и конец европейского еврейства» (1982) воспринималось поколением, к которому принадлежит Люббе, вполне нейтрально. Для следующего поколения оно уже выглядело провокацией: ведь если Третий рейх был «сокрушен» в результате его собственной агрессии, то европейское еврейство «скончалось» отнюдь не «в своей постели»; евреев насильственно депортировали и уничтожали.
В этой связи нас особенно интересуют повседневные соприкосновения с национал-социалистическим режимом, которые регулярно дают в нашей стране повод для эмоциональной реакции, возмущения и скандала. Это объясняется специфической неуверенностью, которая обусловлена страхом упреков в приверженности нацистским идеям. Испытывающие подобные опасения не доверяют стабилизирующему воздействию моральной разделительной черты, которая закрепила в обществе фундаментальное различие между ФРГ и нацистским государством. Они боятся, что такая разделительная черта сотрется, а потому с особой подозрительностью (иногда почти истеричной) следят за признаками девиантного поведения.
Нормативные речевые регуляторы, утверждает Ульрике Юрайт, выражая недовольство по отношению к используемым механизмам политкорректности, «исключают из памяти все, что не вписывается в историю, когда ее упорядочивают задним числом». Отвергая ритуальную и нормативную приглаженность, Юрайт задается вопросом об «эмоциональном остатке», который не удается «упорядочить, объективировать и классифицировать». Она хотела бы видеть «больший инновационный потенциал, способный ставить неудобные вопросы перед лицом многообразия и неоднозначности исторического опыта», а потому высказывается против обращенной назад морализирующей памяти, высказываясь за «смотрящую вперед память, которая приносит беспокойство»[109].
Кто же станет возражать против «инновационного потенциала», «неоднозначности», способности «вызывать беспокойство» и отстаивать «жесткий корсет», который, по мнению Юрайт, парализует немецкое общество, препятствуя свободной мысли и свободному слову? Но, к сожалению, «неприятные вопросы», которые мы готовы поддержать, остаются несформулированными; вообще, риторика недовольства охотно пользуется суггестивной неопределенностью своих утверждений. Такая полная намеков неопределенность выражает эмоциональную позицию, которая ищет непосредственную поддержку, откликаясь на разные, порой противоположные запросы.
Чтобы отойти от риторики намеков и неопределенности, позволю себе привести конкретные примеры нарушения норм; читатель сам сможет провести границу между допустимым и недопустимым. Первый пример вновь связан с Германом Люббе, который не только написал эссе о политкорректности, но и привлек к себе пристальное внимание ее блюстителей. Он пишет: «Как-то раз я сам был обескуражен тем, что один известный коллега (его фамилия в данном случае не играет существенной роли) назвал меня философским пережитком тех идей, которые вдохновляли Адольфа Эйхмана при исполнении его должностных обязанностей. Речь шла о том, что, публично критикуя недостатки системы школьного образования, отравляющие жизнь и работу учителей и добросовестных учеников, я ратовал за такие способствующие хорошей учебе качества, как организованность, пунктуальность и аккуратность. Мне же было сказано, будто я пропагандирую мораль концлагеря, и многие известные политики высказались в том же духе»[110].
Для контраста рассмотрим недавний случай. 1 мая 2013 года австрийский писатель Михаэль Кельмайер был приглашен на популярную воскресную программу «Размышления о Германии» радиостанции «Дойчландфунк», где деятели культуры высказывают свое отношение к нашей стране. Кельмайер воспользовался поводом заявить, что лично он уважает те самые прусские добродетели, за которые порицали Германа Люббе. По словам Кельмайера, он не имеет ничего против организованности и пунктуальности; напротив, жизнь научила его высоко ценить эти формы самодисциплины в себе и других. Наскольк о мне известно, его признание не вызвало возмущенных откликов, что, видимо, свидетельствует об изменении исторической чувствительности и об определенных сдвигах в общественной морали.
Приведу второй пример. В октябре 2007 года бывшая телеведущая и писательница Ева Херман была приглашена на ток-шоу Йоханнеса Вернера, чтобы представить свою книгу, посвященную новому взгляду на роль женщины. Желание автора повысить значение женщины-матери по сравнению с ролью успешной деловой женщины вызвало подозрение в консерватизме и близости к нацистским идеологемам. Защищая свою книгу от нападок, писательница допустила оплошность, употребив выражение «уравниловка» (Gleichschaltung) по отношению к современным немецким СМИ. Эскалация конфликта вышла на новый виток, когда Ева Херман сказала: «Все, больше никаких комментариев. В конце концов, автобаны тоже были построены, и мы ездим по ним до сих пор». Скандальное слово «автобан» нарушило, видимо, предел допустимого, поэтому ведущий, явно нервничая, поспешил досрочно распрощаться с писательницей. Беспомощность этого жеста была очевидной. Ведущий, безусловно, оказывал моральное давление, но и сам испытывал немалое давление со стороны более 2 миллионов телезрителей. Демонстрация политкорректности оказалась в данном случае не столько суверенным моральным выбором, сколько актом конформизма и «опережающего послушания» с целью сокрытия собственной неуверенности и неспособности сориентироваться в ситуации.
Тривиальность и наглядность данного эпизода делают его убедительным образчиком политкорректности. Хенрик М. Бродер писал: «Это антифашизм, который давно отделился от своего объекта и более всего процветает там, где никакого фашизма нет, а именно в виртуальном пространстве благополучного Сопротивления»[111]. В том же году Ева Херман заказала составить сборник материалов под названием «Дело Евы Херман. Охота на ведьм в СМИ»[112]. Опубликованный сборник сделал писательницу мученическим символом для всех, кто убежден, что в нашей стране отсутствует свобода слова[113].
Совсем иная реакция последовала от Харальда Шмидта, который в ноябре 2007 года представил на своем сатирическом телешоу некий прибор, якобы способный объективно контролировать немецкую речь на наличие нацистских понятий. На так называемом «нациметре» вспыхивала сигнальная лампочка, регистрируя нацистское понятие, например, во фразе: «Сегодня меня зафиксировала видеокамера на автобане». Хитрость заключалась в том, что прибор не реагировал на слова с негативными коннотациями. Зато зрители в аудитории рефлекторно начинали смеяться, услышав такие слова, как «душевая кабина» или «газовая духовка». На шоу среди прочего рекламировался гель для душа «Антифа», якобы гарантирующий очищение от любой нацистской нечисти. Провокативный заряд телешоу, которое демонстрировало зыбкость языковых норм и сатирически изображало действие механизмов политкорректности, вскоре сам стал предметом критики и возмущения. Очевидно, немцам-неевреям непозволительно шутить над нацизмом и Холокостом. «Нациметр» немедленно удалили из телешоу, ибо шутку сочли бестактной и нарушающей табу, однако записи сохранились в Интернете, и его можно увидеть на YouTube. Этот глобально доступный архив памяти, где хранится и то, что запрещено или отбраковано, неподвластен нормированию посредством политкорректности.
Но наложение «политкорректного запрета на политкорректность» (Герман Люббе) – не выход из сложившегося положения. Каждый должен руководствоваться в конкретной ситуации собственным суждением. Если шутку насчет автобанов я бы сочла довольно безобидной, то мой третий пример кажется мне не только проблематичным, но и отвратительным своей агрессивностью. В 2007 году Эгон Флайг опубликовал в журнале «Merkur» статью, само название которой выглядело как нападение на нормы политкорректности: «Сингулярность события. Размышления по поводу оглупления посредством морали». Высказывая свое отношение к «сингулярности» (уникальности) Холокоста, автор пишет: «Кто решится оспаривать “сингулярность” варшавского гетто? Ведь любая хворь моего деда была такой же. Даже сопля в моем носовом платке сингулярна, ибо история вселенной никогда не воспроизведет точный химический и молекулярный состав этой неаппетитной субстанции»[114].
Приведенные фразы задумывались как удар по блюстителям политкорректности, но достаточно ли этого, чтобы мы почувствовали в них «инновационный потенциал», способность «вызывать беспокойство» и «неудобные вопросы»? Да, в них, несомненно, присутствует «эмоциональный излишек», нацеленный на преодоление табу. Но убедительный аргумент можно выразить другими словами, тогда он встретил бы понимание и поддержку.
Герман Люббе объясняет неуверенность по отношению к нацистскому прошлому состоявшимся «спором историков», о котором он говорит: «Хорошо бы, чтобы его вообще не было». Разгоревшийся в 1986 году «спор историков» о сингулярности Холокоста, его репрезентации и мемориально-культурном статусе обернулся жестким нормированием публичной риторики, которое обусловило устойчивую «боязнь вызвать недовольство со стороны блюстителей политкорректности в области исторической политики»[115]. С тех пор «немцы опасаются допустить оплошность словом или даже молчанием по отношению к национал-социализму», но одновременно испытывают желание (как свидетельствует эпизод с Эгоном Флайгом) нарушить существующие табу. При этом границы этих табу довольно расплывчаты. Так, Гудрун Брокхауз указывает, что хотя Харальду Шмидту пришлось срочно убрать «нациметр» из своего сатирического телешоу, однако ему по-прежнему позволительны «низкопробные и расистские шутки в адрес поляков»[116].
В случае с политкорректностью речь идет об имплицитных ценностях общества, поэтому то, что представляется неправильным или правильным, не обосновывается аргументативно, а просто исключается из речевой коммуникации под воздействием табуирования. Нарушение табу вызывает общее возмущение, скандал, что приводит к кампаниям личной диффамации. Поэтому вопросы политкорректности редко решаются аргументативно. По справедливому замечанию Люббе, все решается «стратегическим использованием морали в качестве средства политической дисквалификации». «Мораль, – продолжает он, – это опасное оружие, о чем свидетельствует ранний якобинский период в истории тоталитарных режимов. Именно поэтому сохранение свободного жизнеустройства не допускает скорых расправ, следующих непосредственно за моральным приговором. Однако скандалы, связанные с политкорректностью, часто приводят к публичным нападкам на моральную репутацию неугодного человека»[117]. Блюстители политкорректности делают ставку не на обмен рациональными аргументами, а пускают в ход моральную дискредитацию человека, осмеливавшегося высказать «неправильное» мнение. Санкцией против нарушителей норм политкорректности является немедленное общественное порицание, которое распространяется средствами массовой информации. Наглядным примером подобного медийного скандала стала реакция на выступление Мартина Вальзера в октябре 1998 года во франкфуртской Паульскирхе с речью, посвященной немецкой памяти о Холокосте. Тогда он, «дрожа от собственной смелости», решил дать отпор блюстителям морали. Дебаты, в которых известные личности сталкиваются с упреками в некорректных высказываниях или суждениях относительно нацистского прошлого, пользуются из-за своей скандальности повышенным вниманием со стороны СМИ. «Подвергшиеся нападкам за оправдание или преуменьшение (злодеяний нацизма) невольно защищаются так, что подтверждают правоту нападавших, а выдвинутые защитные аргументы оказываются слабее их реального качества»[118]. Не все табу долговременны, одни из них имеют более краткий срок существования, чем другие. Если критика Мартина Вальзера в адрес СМИ относительно их способа говорить о Холокосте обрела к настоящему времени поддержку многочисленных сторонников писателя, то восстановить его личную репутацию после упреков в антисемитизме оказалось гораздо сложнее. Это мог бы подтвердить на собственном примере коллега Вальзера – Гюнтер Грасс, опубликовавший в апреле 2012 года стихотворение «О чем необходимо сказать», где он выразил свою озабоченность готовностью Израиля нанести превентивный удар по Ирану. На критику израильской политики наложено табу, нарушение которого карается обвинениями в антисемитизме; тот же год ознаменовался аналогичными обвинениями, адресованными Юдит Бертлер и Якобу Аугштайну. Здесь я могу присоединиться к мнению теолога Рольфа Шнайдера: «Настало время попросту отказаться от использования слова “антисемитизм”. Не только потому, что оно вводит в заблуждение по смыслу, но прежде всего потому, что обвиняемый поневоле чувствует себя еретиком, а обвинитель кажется кем-то вроде средневекового инквизитора»[119].
В отличие от политических ритуалов, которые публично демонстрируют и символически репрезентируют консенсус и согласие, хотя и не подкрепленные голосованием, в самом обществе считается нормой разнообразие взглядов, убеждений и ценностей. Поэтому в Германии существуют принципиально различные моральные оценки нацистского периода немецкой истории. Анализируя коммуникативное умалчивание в послевоенные годы, Люббе по существу описал добровольное принятие послевоенным поколением правил новой политкорректности, «не допускающей публичных возражений». Действовала простая договоренность: бывшие нацисты соглашались подчиниться новому ценностному консенсусу, а взамен им не приходилось опасаться упреков за их нацистское прошлое. Многие представители возникшего молчаливого большинства сохранили положительное отношение к национал-социализму и не собирались действительно отказываться от его идеалов и ценностей. Об этом свидетельствует приведенный выше разговор режиссера Нико Хофмана с матерью. Как многие молодые люди своего поколения, он не собирался идентифицировать себя с идеалами юности своей матери, но именно это делают группировки старых нацистов и неонацистов, которые продолжают придерживаться прежних взглядов, сознательно дистанцируясь от фундаментального демократического консенсуса, принятого немецким обществом. Такие группировки подвергаются юридическому преследованию лишь в тех случаях, когда их действия направлены на разрушение ценностей и институтов демократического общества. Ни правый, ни левый фланг не имеет признания в демократическом государстве, однако пользуется правовой защитой.
Другим мотивом политкорректности служит табуирование сакрального. Благодаря закреплению в качестве политического учредительного события Холокост приобрел за последние десятилетия характер гражданской религии. Нормативность этого обстоятельства ограничивает свободу мыслей и поступков. В отличие от США, где христианство является государственной религией и где во всех школах страны ученики ежедневно произносят общую клятву («One nation under God, with liberty and justice for all»), в послевоенной Германии не сложился обязательный гражданско-религиозный нарратив. «Однако память о Шоа и обусловленные ею обязательства имеют, видимо, фундаментальное значение для национального самосознания Германии», – пишет Рольф Шидер[120]. Этот гражданско-религиозный консенсус стал также частью нашей правовой системы, которая наказывает за отрицание Холокоста. Обращение со святыней регулируется конкретными правилами, однако в этой сфере возможны некоторые неопределенности и трансгрессии. Подобно тому, как ошибки при исполнении ритуала разрушают его символическую силу, в памяти о Холокосте также приходится следовать неким установлениям, что влечет за собой не только общую неуверенность в стилистике, риторике и поведении; это наносит вред мемориальной культуре, сковывает воображение, ограничивает и регламентирует представление следующих поколений об исторических событиях[121]. Данное обстоятельство, по мнению Шидера, диктует необходимость соответствующих изменений.
«Шоа – если воспользоваться терминологией Лумана – столь перегружено трансцендентным, что нам сложно относиться к нему как к историческому событию нашего, посюстороннего мира и воспринимать его без некой сакральной ауры. В церкви для операций религиозно-критического свойства существует теология. Теологам предоставлена привилегия исторической критики. Догмы последовательно соотносятся с их историческим контекстом, религиозные тексты подвергаются деконструкции с помощью всех наличных методов литературной критики. Гражданская религия не может оставаться паровым котлом, работающим в бесконтрольном режиме. Мне представляется, что влиятельные общественные деятели, интеллектуалы должны взять на себя роль гражданских теологов, чтобы создать новые рамки для трудных и неприятных дискуссий»[122].
Табу не скандальны сами по себе, они могут служить важным ресурсом для стабилизации ценностей, которыми руководствуется общество и общественное мнение. Волны возмущения, связанные с политкорректностью, свидетельствуют о необходимости постоянно уточнять и контролировать границы, действующие на данный момент в этой сфере, а также осуществлять мониторинг изменения границ, чтобы обеспечивать консолидацию нормативной основы. Недовольство, которое выражается в аналитике и критике, является важной предпосылкой для постоянного самонаблюдения, для авторефлексии и морального саморегулирования, которые должны осуществляться обществом. А вот недовольство, которое не способно или не желает ясно выразить себя, которое избегает четкой аргументации, вряд ли перерастет в критическую дискуссию, стремящуюся прояснить суть дела, произвести сдвиги и изменения. В популистской среде невнятное недовольство легко мобилизует ресентимент молчаливого большинства, направленного против «диктата» якобы задающего тон большинства. Не случайно в последнее время наблюдается инфляция понятия «интерпретативная власть», с помощью которого можно возбудить недовольство на любом политическом фланге. Невнятное недовольство в виде популистского ресентимента подогревает протестные, антиобщественные настроения, способствует эрозии социального ценностного консенсуса.
Морализация и историзация
Сложилось единодушное мнение, будто морализирование применительно к периоду национал-социализма чревато особыми проблемами. К числу таких проблем относят черно-белую картину истории, не допускающую полутонов. Огульное осуждение периода национал-социализма и особенно демонизация нацистских преступников препятствует серьезному научному анализу, ибо это создает безопасную зону отчуждения от исторических событий, а последующим поколениям внушается мысль: те люди были совсем другими, у нас нет с ними ничего общего! Воспитание самостоятельной и ответственной личности, как справедливо замечает Харальд Вельцер, не может строиться на запугивании историей. Задача педагога состоит не в повторении стереотипов, осуждающих нацистское прошлое, а, наоборот, в том, чтобы во все новых попытках выявить связь между прошлым и настоящим. Эта связь может носить биографический характер, и ее возможно установить с помощью семейной памяти; связующую роль способно сыграть место исторических событий, где ты живешь и чье прошлое ты изучаешь. Выходцы из мигрантских семей могут установить связь с нашим прошлым через параллели из собственной истории. «Какое отношение это имеет ко мне сегодня?» – вот ключевой вопрос для исторического воспитания следующих поколений.
По верному наблюдению Вельцера и Гизеке, многое из истории национал-социализма еще не нашло должного освещения. Например, систематически не изучались судьбы людей, помогавших тем, кто подвергался репрессиям со стороны нацистского режима. Такие люди составляли весьма незначительное меньшинство, поэтому тем более важно, чтобы они не оказались забытыми. Ведь их не заботила память о себе; отсюда возникает необходимость целенаправленного поиска материалов о них в архивах. Эти люди служат образцом того, что даже в условиях «общества, осуществляющего геноцид» сохраняется возможность личного выбора и остается пространство для индивидуальных действий.
Внутри разных типов недовольства мемориальной культурой существует довольно широкий консенсус, направленный против любых форм морализаторства. Часто можно услышать, что морально-исторический пафос, который «был оправдан борьбой за сохранение памяти», ныне «устарел»[123]. «По возможности без морали» – озаглавлено интервью Харальда Вельцера, где он объясняет свое представление о будущем мемориальной культуры[124]. Если воспользоваться современным молодежным жаргоном, мораль может быть названа «жестью» и «отстоем»; во всяком случае, апелляция к ней представляется контрпродуктивной. Постоянно подчеркивается, что особенно молодежь проявляет аллергическую реакцию по отношению к моральным аспектам педагогики Холокоста: «Молодые люди хотят думать самостоятельно, а не выслушивать наставления о том, что им надлежит думать»[125]. Морализаторством, давно подлежащем сдаче в архив, занимаются, по мнению оппонентов, представители шестидесятников, которые якобы всеми силами стремятся на долгие времена навязать обществу собственные взгляды в качестве обязательных для молодежи, поскольку той, дескать, не хватает нравственных ориентиров и способности к сочувствию[126].
Парадоксальным образом такие высказывания сами соседствуют с крайним морализаторством. Например, Вельцер рекомендует молодежи читать воспоминания людей, которых нацисты подвергали репрессиям, но при этом придерживается невысокого мнения о свидетельствах тех, кто избежал репрессий: «Искажающие реальность, якобы аутентичные “свидетельства очевидцев” принесли много вреда. Я не считаю большой потерей, что эти голоса постепенно замолкают»[127]. Четким моральным различием между правильными и неправильными воспоминаниями Вельцер опережает вопросы и самостоятельное суждение молодого любознательного читателя. Полемизируя против морализаторства, не следует забывать, что мы сами не можем обойтись без морали. Неявное морализаторство имеет место там, где речь заходит о ложных чувствах, о приемах сокрытия правды, о неаутентичности воспоминаний. Разоблачители подобной неискренности или заблуждений слишком хорошо знают, где правда и где неправда, не заботясь об обосновании своих утверждений. Вместо обвинений в морализаторстве есть смысл сначала разобраться с основами собственной морали и попытаться явным образом сформулировать их.
Многие из моральных постулатов и очевидностей, на которые мы до недавнего времени полагались в надежном контексте больших идеологий, теперь утрачены. Моральный фундамент коммунизма разрушился в 1989 – 1991 годах вместе с крушением Берлинской стены и распадом Советского Союза. Моральный фундамент капитализма выстоял несколько дольше, однако затем и он пережил тяжелый кризис, начавшийся банкротством крупных банков и едва не приведший к коллапсу экономики целых государств. Глобализация, которая поначалу выглядела стабильным продолжением западной истории прогресса и модернизации, приобрела новые угрожающие черты после атаки исламистов на Всемирный торговый центр, что имело глобальные последствия и для мемориальной культуры.
Система моральных ценностей, сменившая политические идеологии, имеет универсалистскую природу. В ее основе лежат права человека, получившие с 1980-х годов признание в качестве фундамента западной культуры, существующего вне политических и национальных границ. С признанием такой ценности, как права человека, изменилось само политическое мировоззрение, средоточием которого все меньше служат воины-герои и во все большей мере – гражданские жертвы. В центре политического мировоззрения находятся теперь не идеологические утопии, уповающие на «нового человека», а сама уязвимость человеческой плоти, ставшей мишенью политического, расистского или сексистского насилия. Ален Бадью свел политический проект первой половины XX века к простой формуле: «С определенного момента этим веком завладела навязчивая идея изменить человека, создать нового человека». Сам проект был настолько радикален, что «при его осуществлении уникальность отдельной человеческой жизни просто не принималась в расчет – эта жизнь была лишь расходным материалом». Этот революционный, нацеленный в будущее проект мнил себя «грандиозным, эпическим, насильственным»[128]. Подписание Декларации прав человека в 1948 году в Париже стало прямым ответом на европейский опыт пережитого насилия. Декларация сформулировала моральные требования к мировому сообществу, но не предусматривала механизма для их реализации. «Если бы Декларация содержала подобный механизм, она бы никогда не была подписана»[129]. Поэтому понадобились десятилетия, чтобы идея прав человека получила опору в виде новых форм политической практики. Государства прежде не выступали адвокатами, способными защитить права человека, поэтому в 1960-е и 1970-е годы возникли влиятельные неправительственные организации, взявшие на себя данную роль. Другой пример – матери и бабушки, проводившие демонстрации в Буэнос-Айресе в защиту убитых и пропавших сыновей и внуков, которых диктаторский режим бросал в застенки, которые были убиты или пропали без вести; такие демонстрации протеста вылились в новые формы политического действия. Парадигма прав человека вывела из забвения и другие жертвы истории, чьи судьбы и страдания обрели общественное признание. Парадигматическим примером смены исторической перспективы, когда общественное внимание переключается с героев на жертвы политического насилия, стали свидетельства людей, переживших Холокост; эти свидетельства получили всемирное признание, их начали систематически собирать и записывать.
Бадью, продолжая восхвалять насилие «героического коммунизма», с отвращением взирает на нашу современность, где доминируют ценности семейного счастья и прав человека; он осуждает эту современность как изнеженную (женственную), политически истощенную и нежизнеспособную. В противоположность ему мораль тех, кто видит себя живущими в постидеологическую эру, основывается на ценности индивидуальной человеческой жизни независимо от национальной, культурной или религиозной принадлежности человека. Новая мемориальная культура заключила союз с политикой, защищающей права человека, которые стали ценностным фундаментом и ориентиром для будущего.
Морализация всегда изначально встроена в рамки нашей памяти. Но мы знаем, что рамки памяти изменчивы, как изменчивы и ценностные установки. В конечном счете морализация означает ответы на вопросы: о чем мы разговариваем и о чем предпочитаем молчать? Что не вписывается в общую картину и потому отбрасывается? На такие вопросы можно ответить на примере телесериала «Наши матери, наши отцы». По замыслу фильма родителей следовало показать реалистично, со всеми положительными и отрицательными чертами. Но в их образ не вписывался антисемитизм, поэтому фильм произвел переадресацию, наделив антисемитизмом польских партизан. Подобный ход, вызвавший резкий протест с польской стороны, демонстрирует, куда может завести снисходительность к самим себе: проблемный сор прошлого выметается за пределы страны, за границу, реанимируя старый образ врага. Антисемитизм проявляется еще в одном крошечном эпизоде телесериала. Второстепенный и довольно отталкивающий персонаж, немецкая домохозяйка, должна внушить зрителю мысль: наши матери и отцы были совсем не такими, как эта женщина! В наших семьях – как показано немецким зрителям – дети и до 1941 года дружили с еврейскими детьми. Донос на медсестру-еврейку не убавляет симпатий к Шарлотте, ибо представляется неожиданным, немотивированным поступком, за которым к тому же следует моральная корректировка, – Шарлотту постоянно мучают укоры совести. Внутренний мир персонажей, включая их восторженное отношение к национал-социализму, фильм не раскрывает. Причина проста: нынешний зритель не знал бы, что делать с подобным развитием характера; ведь на этом не построишь захватывающий сюжет. Если событие болезненно затрагивает наши моральные ориентиры, лучше заменить его острым батальным эпизодом, а антисемитизм можно переадресовать польским партизанам.
Морализацию не следует мыслить как нудную проповедь, строгий указующий перст, ибо упрощение прошлого, подгонка исторических событий под нынешние мерки является лишь одной из форм морализации. В качестве нормативной селекции исторического опыта морализация чурается инаковости, многообразия, неоднозначности. Наши взгляды на национал-социализм со временем действительно изменились. Ульрике Юрайт продемонстрировала на примере Гюнтера Грасса, как сдвигались рамки памяти в послевоенной Германии. В 1960-е годы Грасс (хотя и не публично) рассказывал друзьям о своем членстве в СС, но затем на протяжении четырех десятилетий тщательно избегал этой темы, как в приватном, так и в публичном общении. Как в случае с международным скандалом вокруг вымышленных детских воспоминаний Биньямина Вилкомирского, здесь наличествует прямая связь между тем, о чем в данный момент можно говорить, и тем, что хочет или не желает слышать общество. По мере растущего сочувствия к страданиям жертв усиливалась и демонизация преступников. Чем яснее и подробнее становилось знание о поголовном истреблении европейских евреев и чем более расширялся моральный дискурс жертв, сопровождающий это знание и благодаря морально-метафизическому языку превращающий само историческое событие в негативное откровение абсолютного зла, тем труднее оказывалось современникам этого исторического события вписывать личные биографии в сформировавшиеся рамки памяти. Молчание, которое в первое послевоенное десятилетие еще было «коммуникативным умолчанием», усугубилось вследствие самоцензурирования, табуирования личной биографии под воздействием новых нормативных рамок памяти. Приведенный пример вновь подтверждает, что морализация истории возрастает по мере удаления от нас самого исторического события. Как отмечает Ульрике Юрайт, пока были живы очевидцы, общество преступников хорошо знало, «что немцы действительно приняли национал-социализм, активно поддерживали его, сражались за него, руководствуясь своими убеждениями, и при необходимости были готовы убивать»[130]. Моральные рамки памяти о Холокосте обернулись тем, что об этой правде никто не хотел рассказывать и никто не хотел слышать о ней; это продолжается до сих пор, наглядным свидетельством чему служит телесериал «Наши матери, наши отцы». Моральная солидарность с правотой подвергавшихся уничтожению евреев и моральное осуждение немцев, избежавших преследования, также повлекли за собой упрощенный и избирательный подход к исторической реальности. Подобное моральное упрощение играло роль самоцензуры, которая не только обусловила погружение «коммуникативной памяти» послевоенного периода в молчание, замкнувшее уста и Гюнтеру Грассу; это моральное упрощение повлияло позднее на то, что уже третье поколение немцев стало превращать собственную семейную историю, обремененную прошлым, в примеры героизма, которые можно с гордостью предъявлять окружающим (Харальд Вельцер: «Дедушка не был нацистом»).
Дальнейшим свидетельством моральной адаптации истории национал-социализма к нашим рамкам памяти служит принцип damnatio memoriae, который подтверждает ныне свою актуальность. За последние годы в немецких городах началось движение по устранению из публичного пространства любых напоминаний о времени, которое резко противоречит нынешней системе ценностей; это происходит за счет переименования улиц, площадей или учебных заведений. Однако результат подобного очистительного движения представляется весьма проблематичным: после устранения всех следов прошлого следующие поколения будут иметь все меньше наглядных свидетельств фактической реальности определенной исторической эпохи. Вместо того чтобы устранять исторические следы другой реальности и личной причастности конкретных людей к совершению преступлений, целесообразно сохранять эти следы в нынешнем общественном сознании с помощью информационных табличек к указателям названий улиц, площадей или учебных заведений. «Объяснять, а не уничтожать!» Так я назвала бы это критическое дистанцирование памяти, которая не просто разом устраняет все, что кажется ныне морально предосудительным, а позволяет терпимо относиться к материальным следам пока еще зримой истории, которые противоречат сегодняшним нормативным ценностным рамкам. В статье о сносе памятников и переименовании улиц в Восточной Европе Рудольф Яворский указывает на «принципиальную проблему отношения к реликтам неудобного – в данном случае коммунистического – прошлого. Неужели tabula rasa действительно единственно мыслимый и на долгие времена единственно желательный способ освободиться от прошлого? Иными словами, неужели насильственное уничтожение неугодных “мест памяти” неизменно является наиболее пригодным средством, чтобы разобраться с ушедшей и преодоленной исторической эпохой, или же подобные действия служат лишь символическим эрзацем, который на самом деле свидетельствует о том, что такая рефлексия считается излишней? Это вполне правомерные вопросы, которые встают, разумеется, не только в посткоммунистических странах на востоке и на юге Европы»[131].
Если рамки памяти стремятся сузиться до нормированного и приемлемого фрагмента, то историческая наука, которая не ограничена связью с идентичностью, обладает достаточно широкими рамками, чтобы найти место для иного. С исторической точки зрения прошлое – это не просто зеркало заднего вида, в котором настоящее узнает себя, а еще и источник для познания иного, которое не может быть ни полностью преодолено, ни окончательно осуждено. Прошлое служит не только для того, чтобы удостоверять идентичность посредством присвоения или отторжения, оно дает возможность увидеть иное и понять его. По верному замечанию Арно Борста, «историческое сознание есть не что иное, как признание инаковости другого времени и другой эпохи»[132]. Такое признание исторической инаковости принципиально отличается от морального осуждения прошлого как демонически чужеродного. Подобная историзация может привести к расширению рамок памяти, что позволяет рассматривать прошлое не с одной, а с нескольких точек зрения и предполагает терпимость к различным взглядам. Тем самым моральная основа мемориальной культуры становится более многослойной и комплексной.
«Так или иначе, – пишет Герман Люббе, – национал-социализм завершится своей полной историзацией»[133]. Что именно это означает? Слово «историзация» часто встречается в дискурсе о недовольстве мемориальной культурой. Впервые оно прозвучало как полемическое понятие в «споре историков», где речь шла о переосмыслении границы между немецкой историей и немецкой памятью о Холокосте. Чтобы понять, что подразумевает «историзация» сегодня, необходимо вернуться к отправному моменту.
8 июня 1986 года газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» опубликовала эссе известного исследователя фашизма Эрнста Нольте под названием «Прошлое, которое не проходит». Эссе вызвало горячие дебаты среди историков и интеллектуалов. Нольте констатировал, что спустя четыре десятилетия Холокост как историческое событие не померк в памяти и упорно сопротивляется историзации. Усмотрев в этом будоражащую аномалию, Нольте предложил свое толкование Холокоста, помещавшее это событие в нарратив об эскалации, разворачивающейся в процессе стимулов и ответных реакций, в череде сталинских и фашистских преступлений. Еврейские и немецкие коллеги Нольте, ужаснувшись, ответили на эту инициативу, направленную на историзацию нацизма, выступлениями в защиту сакрализации Холокоста. По их убеждению, Холокост резко выделяется из общего хода истории, представляя собой нечто большее, чем просто исторический факт, ибо является ключевым событием истории человечества. Метафизический характер Холокоста не позволяет ему уйти в прошлое; знаменуя собой «цивилизационный разлом», он должен навсегда остаться в памяти. Поэтому это «прошлое, которое не проходит» (кстати, данная формула служит точной характеристикой травматического синдрома) призвано стать фундаментом новой мемориальной культуры и быть переосмыслено как «прошлое, которое не подлежит забвению».
По словам Люббе, было бы лучше, чтобы «спор историков» вообще не состоялся, поскольку он видит в нем лишь проявление власти блюстителей политкорректности, порождающее все новые опасения и неуверенность по отношению к истории. Напротив, Юрген Хабермас, поддержав точку зрения еврейской общины, выступил за то, чтобы нацистское прошлое прочно утвердилось в немецком сознании как моральный ориентир. В лице обоих авторов мы имеем идеально-типическое изложение концепций историзации и морализации.
Понятие историзации может иметь весьма различные значения. Для обсуждения этой проблемы было бы полезно, чтобы сторонники историзации всякий раз уточняли, о чем именно идет речь. Историзация может, во-первых, означать, что историкам должна быть предоставлена возможность свободного суждения о своем предмете без ограничений, которые накладываются законодательно или иными средствами социальной регламентации, будь то некие табу или ссылки на политкорректность. Начиная с 1990-х годов в некоторых странах происходили попытки законодательно поставить под политический контроль описание и толкование ряда важнейших исторических событий XX века[134]. Подобные мемориальные законы базировались на немецком законе, который ставит под запрет отрицание Холокоста. Во Франции это было дополнено запретом на отрицание преступлений против человечности, запретом на отрицание армянского геноцида и запретом на позитивное изображение истории колониализма. Подобная морализаторская экспансия со стороны государства вызвала протест французских историков, которые сумели довольно успешно отстоять свои позиции. Иначе обстоит дело в России, где историков законодательно принуждают к исключительно аффирмативному и патриотическому описанию событий прошлого[135].
Политическое вмешательство в исторические исследования напоминает о порядках, характерных для тоталитарных государств или национальной историографии XIX века, которая добровольно ставила себя на патриотическую службу формирующейся нации. Подобные формы попечительства по отношению к науке несовместимы с принципом разделения властей в современном правовом государстве, ибо свобода и совесть ученого базируется на том, что поиск исторической истины осуществляется в открытом процессе, который подчиняется исключительно правилам академической корпорации и механизмам самокорректировки, встроенным в научный дискурс.
В демократическом правовом государстве действует принцип разделения властей, защищающий науку от вмешательств в виде официальных указаний, цензуры и других ограничений вроде языковых регуляторов или запрета на сравнения и аналогии. Но это не исключает того, что наука сама является частью некой культурной традиции и фактором жизни политического сообщества, базирующегося на определенных ценностях, которые могут перманентно служить предметом новых согласований и пересмотров. Культура представляет собой общие скрепляющие рамки, которые охватывают и науку, не влияя напрямую на автономию научных исследований. Принципиальные вопросы о том, какое историческое знание имеет для общества особую релевантность, как распределять финансовые ресурсы между различными направлениями исследований, требуют решений, которые не обусловлены самой лишь наукой, а связаны с моральным устройством политического сообщества и культурным самосознанием ученых.
Во-вторых, историзация имеет отношение к демографическим процессам. Оно состоит в том, что некогда горячее историческое событие автоматически охлаждается за счет постепенного вымирания очевидцев этого события, носителей живой памяти о нем. В данном случае само время обрывает витальную связь с прошлым. Этим необратимо ослабляется власть прошлого над настоящим и будущим.
Харальд Вельцер придерживается такой трактовки историзации, связанной со временем. Именно очевидцы, по его мнению, морализируют историю и продлевают ее эмоциональное воздействие на современность. «С уходом очевидцев история вновь обретает свободу, необходимую для живого взгляда на нее, для ее использования. Она становится жизнеспособной для будущего. История национал-социализма и Холокоста охладевает. Она была горячей, пока живая поколенческая связь простиралась до тех времен, когда еще жили деды, которые были солдатами вермахта, эсэсовцами, членами партии или же находились в оппозиции, подвергались преследованиям и становились жертвами преступлений»[136].
У четвертого и пятого поколений уже нет таких дедушек, что позволяет видеть историзацию чисто биологическим процессом. О долгосрочных последствиях транспоколенческой травматизации и об обновлении притягательной силы прошлого посредством медиальной репрезентации речь не идет. Вельцер полагает, будто можно просто предписать следующему поколению задачу демистифицировать национал-социализм. Мол, Гитлер – комический персонаж, его пора забыть[137]. Такая демистификация, по мнению Вельцера, происходит «как результат сдвига поколенческого внимания от той точки кристаллизации, которая ассоциировалась с национал-социализмом, “фюрером” и Холокостом»[138]. Упование на автоматическую историзацию по мере временного «сдвига», удаления от событий прошлого находится в явном противоречии со многими высказываниями представителей молодого поколения. Гитлер, читаем мы у Кристиана Шуле, «срабатывает всегда. …Гитлер – это поп-культурный бренд, и в этом смысле он – товар, пользующийся спросом в обществе потребления»[139].
Иными словами, в вельцеровской концепции историзации время само становится агентом изменений, приводящих к забвению событий прошлого. Темпоральный режим модернизации функционирует безотказно: он, как по заказу, доставляет будущее и автоматически избавляет от прошлого. При этом будущее и прошлое взаимно исключают друг друга: так, в эпоху модернизации до 1980-х годов существовала убежденность, что для того, чтобы настало будущее, необходимо расстаться с прошлым. Вельцер подтверждает эту вынужденную альтернативу. По его мнению, отказ от проекта мемориальной культуры решил бы для нас все проблемы: «Нормативная привилегированность прошлого по сравнению с настоящим и будущим в изучении памяти и мемориальных исследованиях стали бы такой же историей, как и приоритет коммеморации по сравнению с забвением»[140]. Те, кто выражают недовольство мемориальной культурой, ратуют за радикальное изменение перспективы: мы слишком долго занимались прошлым и не уделяли внимания будущему. Этому пора положить конец. По мнению Джона Торпи, фокусировка внимания на катастрофических эпизодах истории, сопровождающаяся лавиной таких концептов, как «память», «историческое сознание» или «проработка прошлого», сильно повредили образу евро-атлантического сообщества[141]. Одержимость прошлым вытеснила на задний план проекты будущего и утопические идеи[142]. Рожденный Западом импульс, обеспечивавший общественный прогресс, иссяк[143]. Историзация как побуждение к забвению – похоже, такую историзацию проще продекларировать, чем совершить. Ведь «интерпретативной властью» отдельных интеллектуалов вряд ли определяется, когда и как историческое событие теряет для общества свое травмирующее воздействие, эмоциональную притягательность и нормативную связующую силу[144].
В-третьих, историзация может подразумевать производство культурной матрицы следующих поколений, для которых теряет значение нормативная связь с определенным историческим событием. Примером служит утраченное значение «Дня немецкого единства» (17 июня 1953 года) после того, как политическое единство нации было восстановлено. Со сменой политической системы все памятные даты автоматически теряют свой нормативный характер, их статус понижается до «прочих» исторических событий. Такое понимание историзации свойственно историкам, которые никогда не могли согласиться с тем, что вне поля их компетенции выросло диковинное растение под названием «мемориальная культура». Райнхард Козеллек придавал воспоминаниям очевидцев исторических событий лишь преходящее значение. Только когда голоса очевидцев умолкают, прошлое освобождается от нынешних стратегий его преодоления и тогда «очищенное прошлое» способно сделаться предметом объективного научного исследования. Подобная эволюция от нечистого к очищенному прошлому подчинена логике, суть которой некогда удачно сформулировал Якоб Бурхардт: «Что некогда было восторгом и страданием, должно стать познанием»[145]. Вспомнив о Фрейде, эту сентенцию можно перефразировать: «На место памяти приходит историческая наука». Но и от этой историко-философской веры в непрерывный «духовный прогресс», которую питали многие авторы XIX и XX веков, мы ныне явно отдалились, преодолев жесткую оппозицию между иррациональной и эмоциональной памятью, с одной стороны, и рефлексивной и критической историографией, с другой стороны. Наряду с памятью и исторической наукой на пересечении обеих сфер давно появилось нечто третье, а именно мемориальный дискурс, который критически наблюдает за движениями памяти, сопровождая их. В этом смысле восторг и страдание сами стали предметом рефлексии и познания.
Как мы постоянно слышим, в постсуверенных обществах якобы нет места для коллективной идентичности, морализации и абсолютных символов веры. Однако во всех культурах остается определенное соотношение между устойчивыми ценностями и нормами, которые постоянно меняются. Зонами нормативной ценностной устойчивости служат религия и искусство. «Классикой является то, что выдержало испытание историзацией», – сказал однажды специалист по греческой Античности Карл Райнхардт[146]. Он, как и Ницше, занимался античной филологией, которую также называют классической. Это свидетельствует о том, что даже во времена модернизации и историзации сохраняются исторические эпохи, которые не просто проходят, а остаются на нашем горизонте в качестве культурных вех, – благодаря своим трансисторическим качествам, обусловившим повышенное внимание к себе, специализацию научного знания и значительный объем исследований. Холокост также способен выдержать испытание историзацией. Ибо независимо от уровня знаний и их конъюнктуры в исторической науке общество политически институционализировало и широко поддерживает императив, согласно которому отношение к Холокосту должно быть иным, нежели к любым другим событиям прошлого, а потому сохраняет память о Холокосте в конструкции собственной культурной идентичности. Что бы ни говорилось о Холокосте, нельзя отрицать кристаллизацию этого события в качестве исторического и уже транснационального мемориального символа. Вслед за «спором историков», в 2000 году, состоялась международная Стокгольмская конференция, посвященная Холокосту; она подтвердила обязательство реализовать общеевропейский политический проект сохранения памяти об уничтожении европейского еврейства. Поэтому попросту невозможно представить себе, чтобы немцы именно теперь отказались от мемориальной культуры.
Мемориальная культура и историзация, прошлое и будущее вовсе не исключают друг друга, а являются легитимными и взаимодополняющими формами отношения к прошлому. Представление о том, что какое-то событие прошлого не проходит, а «возвращается» в настоящее, приобретает вид коммеморативного императива для будущего, однако такое представление чуждо сторонникам теории модернизации с их культурной ориентацией исключительно на будущее и новизну. Поэтому они не признают связь с прошлым посредством традиций, коллективной принадлежности или исторической ответственности, которые ограничивают свободу индивидуума[147]. Историческая цезура Холокоста, вошедшая в сознание человечества не сразу после Второй мировой войны, а лишь с большим, полувековым запозданием, имеет еще одно значение. Мы заглянули в историю страданий таких чудовищных масштабов, что она касается не только историков, но устанавливает отношения отождествления с жертвами, преступниками и всеми так или иначе причастными к этой истории. Данная историческая связь вышла на уровень транснациональной памяти, которая распахнула и другие врата в прошлое, благодаря чему прозвучали и были услышаны и иные истории преступлений, замалчивавшихся прежде. Это небывалое обращение к забытым, вытесненным из памяти или проигнорированным историческим преступлениям привело в настоящее время к радикальным и устойчивым изменениям в самосознании и социальном устройстве многих поставтократических и постколониальных обществ.
Практические аспекты немецкой мемориальной культуры
Я мыслил как ребенок: прошлое мне не нужно. Мне не приходило в голову, что прошлое может нуждаться во мне.
Джонатан Сафран Фоэр [148]«Многое в исторической и мемориальной культуре выдохлось, окаменело, утратило собственное содержание – причем именно из-за своей фиксации на прошлом. …До сих пор считается, что сам факт преступления, совершенного нацистами в том или ином месте, заслуживает мемориальной таблички. Но это происходило повсюду в Германии и оккупированной Европе, поэтому познавательная ценность каждого отдельного случая, уменьшаясь, стремится к нулю. Развешивание по стране все новых мемориальных табличек, напоминающих даже спустя десятилетия о преступлениях национал-социализма, парадоксальным образом возвеличивает его ex negativo»[149].
Харальд Вельцер усматривал в локальной практике маркировки тех или иных мест опасную «диктатуру прошлого», отрицательно сказывающуюся на будущем. Локальные мемориалы, которые по инициативе активистов гражданского общества возникали и будут возникать впредь, являются важнейшей и одновременно наиболее неприметной сферой практической реализации немецкой мемориальной культуры. В нынешнем дискурсе, связанном с недовольством мемориальной культурой, эту сферу обычно отождествляют с вершиной пирамиды, то есть с официальным уровнем государственной исторической политики. Вновь и вновь подвергаются критике литургически-ритуальные формулы, которые, бесконечно повторяясь в памятные дни и на торжественных мероприятиях в центральных мемориалах, все более утрачивают изначальный смысл и потому кажутся в принципе фальшивыми. Но когда вся мемориальная культура сводится к официальному уровню, складывается впечатление, будто в мемориальной культуре мы имеем дело исключительно с «театрализованной коммеморацией», которую государство инсценирует для своих граждан. Формируется предвзятое, одностороннее представление о практиках, объединяемых понятием «мемориальная культура». Чтобы избежать этого, следует подробно рассмотреть «места памяти», создаваемые по инициативе «снизу». К сожалению, объем данной главы пришлось сократить, но все же она в известной мере характеризует масштабы затрагиваемого явления. Непросто посредством нескольких примеров продемонстрировать огромный вклад личных инициатив в развитие мемориальной культуры, которая является не только объектом государственной политики, но и проектом гражданского общества. Большинство участников дискурса о мемориальной культуре оставляет без внимания инициативы активистов гражданского общества, которые реализуются в городах и регионах Германии на общественных началах, собственными силами, без большого шума в СМИ. Здесь один город зачастую не знает, что делается по соседству, поскольку событие не освещается федеральными СМИ. Создается ложное впечатление, будто мемориальная культура существует в виде ритуалов исторически выдохшегося пиетета и представляет собой навязанную сверху программу, далекую от интересов и потребностей самого населения, а главное – лишенную непосредственного и ангажированного участия местного сообщества.
Тот, кто интересуется этими негромкими местными инициативами активистов гражданского общества, может с помощью Интернета найти информацию о немецких «местах памяти» и мемориалах у себя по соседству. Многое из того, что осуществляется по решению «сверху», нередко имеет долгую предысторию в виде спорных проектов местных активистов, хотя обычно об этом не говорится. В Германии наряду с центральным берлинским мемориалом жертвам Холокста существует разнообразный и расширяющийся спектр локальных мемориалов, подтверждающий высказывание историка Марианны Авербух: «Вся страна – мемориал». Понятие мемориальной культуры охватывает нечто гораздо большее, нежели государственные мемориалы и выступления государственных функционеров или публичных политиков; она опирается на живую активность гражданского общества, осуществляющуюся в виде бесчисленных исторических проектов, куда вовлечена и молодежь, которая таким образом соприкасается с немецкой историей в своем непосредственном окружении. Импульс для локальных инициатив рождается в конкретных населенных пунктах, жители которых слой за слоем открывают для себя свою историю.
Вельцер считает маркировку исторических мест такой же бессодержательной, как шаблонные риторические фразы. Они кажутся ему столь же ненужными и лишними, как голоса очевидцев исторических событий. Мысль о том, что познавательная ценность каждого отдельного случая стремится к нулю, можно перевернуть: познавательная ценность правды о Холокосте как абстрактной формулы стремится к нулю, зато локальные истории, которые обнаруживаются благодаря вскрытию исторических пластов, становятся для окрестных жителей конкретными, наглядными и привязанными к определенной топографике. Восстанавливая историческое событие, местные активисты рассказывают о нем другим, причем делают это как наследники преступного прошлого, с которым они эмпатически ощущают личную связь, – однако благодаря критической, просветительской деятельности они освобождаются от того соучастия в совершенных в прошлом преступлениях, которое продлевается безразличием или забвением.
4. Память о двух немецких диктатурах
Память о ГДР – особый немецкий путь?
В прошлом каждой нации есть события, которые не просто некогда произошли, но и ныне вызывают к себе исторический интерес. В силу высокой негативной значимости для национальной идентичности, для представлений нации о самой себе такие события остаются для многих поколений предметом общественного обсуждения, претендуя на заметное место в национальной истории. Непреходящая значимость определенных исторических эпох для немецкого коммуникативного и коммеморативного репертуара обусловлена их экстремальным насильственным характером: неправовое немецкое государство терроризировало собственное население, социальные меньшинства и население чужих стран. В данном случае непреходящая память о событиях прошлого свидетельствует, что оно продолжает предъявлять свои требования к настоящему, сопротивляясь переоценке и проработке прошлого. Справиться с наследием преступного режима, установить подлинную и стабильную демократию можно лишь тогда, когда преступники будут названы, страдания жертв получат признание и из исторического опыта удастся извлечь соответствующие уроки.
Из двадцати семи стран – членов ЕС семнадцать стран имеют опыт диктаторских режимов; Германия пережила сразу две диктатуры. Этим объясняется то обстоятельство, что память о диктатуре СЕПГ, сформировавшаяся после воссоединения Германии в 1990 году, выпадает из общеевропейских рамок. После крушения советской системы многие из бывших стран Восточного блока столкнулись с необходимостью включить опыт диктаторского режима в новую картину истории. Ряд стран бывшего Восточного блока согласованно избрали жертвенный нарратив для проработки общего прошлого. Нация видит себя пассивной и травмированной жертвой репрессивного оккупационного режима; подобная версия кардинально меняет прежнюю доктрину официальной пропаганды о дружбе братских народов. История страданий целого народа нашла свое отражение в нынешних экспозициях исторических музеев Будапешта, Риги, Таллина или Вильнюса, формируя картину прошлого для следующих поколений.
Германия выделяется на фоне этого восточноевропейского мейнстрима. Наша страна принципиально отличается тем, как в ней происходило осмысление холодной войны и коммунистического режима. В отличие от других стран ГДР пережила в 1989 году двойную смену идентичности: она вышла из советского блока и вошла в состав воссоединенной Германии. Внутри общегерманской памяти новой ФРГ сорокалетняя история ГДР воспринимается под знаком «второй диктатуры». Тем самым Германия как бы считает себя дважды виновной, ибо не сумела противостоять двум большим идеологическим искушениям XX века – фашизму и коммунизму. Согласно нынешнему представлению нации о себе немцы оказались особенно подверженными влиянию экстремистских идеологий, а потому сами несут ответственность за связанные с этим насилие и репрессии. Если в других восточноевропейских странах наблюдается коллективная самоидентификация с жертвами диктаторского режима, то немецкий нарратив о ГДР как о «преступном государстве» характеризуется «самоидентификацией с преступниками» в смысле принятия на себя исторической ответственности за коллаборационизм и репрессии.
Обе указанные позиции в историческом осмыслении тоталитарного прошлого можно – вслед за М. Райнером Лепсиусом – назвать соответственно «интернализацией» и «экстернализацией»[150]. Тот, кто отождествляет себя исключительно с жертвами насилия, категорически отвергает собственную ответственность за совершенные преступления, то есть «экстернализирует» вину и ответственность; в другом случае зло «интернализируется», поскольку собственная причастность к вине и ответственности за преступления признается. В свое время Лепсиус предложил оба понятия, чтобы различить две формы осмысления нацистского режима в разделенных немецких государствах. ГДР однозначно видела себя на стороне жертв нацизма или на стороне борцов Сопротивления, то есть «экстернализировала» эту фазу немецкой истории; напротив, ФРГ, считая себя преемницей прежнего немецкого государства, включала в конструкцию собственной идентичности вину и ответственность за преступления против человечности, совершенные нацистской диктатурой, то есть здесь произошла «интернализация» вины и ответственности, что влекло за собой соответствующие политические последствия.
Подобно тому, как после 1949 года ФРГ интернализировала историю национал-социализма, после 1989 года воссоединенная Германия интернализировала историю ГДР. Немецкое восприятие истории ГДР как «второй диктатуры» соответствует базовой психоистерической парадигме. Новое воспринимается в свете того, что уже было пережито ранее; новое оценивается – сознательно или бессознательно – с оглядкой на уже сложившиеся схемы интерпретации. «Вторая диктатура» трактуется в Германии с оглядкой на первую, но одновременно она воспринимается в качестве проблематичного конкурента «первой диктатуры». Говоря о ГДР, мы зачастую явным или неявным образом исходим из оценочных постулатов относительно национал-социализма. Хотя эти исторические эпохи различаются достаточно четко, однако в историческом сознании постоянно происходит их совмещение, когда одно событие кажется тенью, схематичным повторением, а главное – конкурентом другого.
Дискуссия об обеих немецких диктатурах
Различие между обеими немецкими диктатурами вполне очевидно из-за того смертоносного насилия, которое было нацелено нацистским государством как внутрь себя, так и вовне, против соседних стран и «расовых» меньшинств, прежде всего – против европейских евреев. Несомненно и структурное различие. От национал-социалистической диктатуры, которую избрали себе немцы, они не смогли освободиться сами. Новое начало стало для них возможно лишь благодаря союзникам по антифашистской коалиции, как на востоке, так и на западе. Напротив, в ГДР народ сам освободился от навязанной ему диктатуры, которую он себе не выбирал.
Однако за последние двадцать лет неоднократно появлялись свидетельства того, что в сознании немцев имеет место коллизия между национал-социалистической диктатурой и диктатурой СЕПГ. Одним из таких примеров стала дискуссия вокруг спецлагерей для военнопленных и политзаключенных, которые были созданы после войны советскими спецслужбами и действовали до 1950 года на территории бывших концентрационных лагерей Бухенвальд и Заксенхаузен. Гетерогенность воспоминаний, связанных с двумя разными историческими фазами, превратила каждую из этих топографических точек в исторически сложное, противоречивое и спорное «место памяти»[151]. «Двойная боль» – так была озаглавлена статья о скандале, причиной которого послужило выступление бранденбургского министра внутренних дел Йорга Шенбома в Бухенвальде по случаю годовщины освобождения Аушвица; Шенбом вспомнил о политических заключенных, которые находились в Бухенвальде и после войны[152].
При всей однозначности различий между обеими немецкими диктатурами, переходя на уровень исторической памяти, весьма сложно осуществить их упорядочивание и сообразную репрезентацию. Это проявилось очередной раз на примере историко-политической дискуссии, имевшей место накануне двадцатилетия падения Берлинской стены. В конце 2008 года правительство ФРГ в лице министра культуры Бернда Науманна опубликовало проект «Перспективной концепции сохранения мемориальных комплексов». Критики усмотрели в этом проекте не столько развитие концепции сохранения мемориалов, которая реализовывалась прежним коалиционным правительством социал-демократов и «Зеленых», сколько заметный перекос в сторону «второй диктатуры». Дискуссия «о тоталитарных системах в Германии» была подвергнута критике Соломоном Корном, который указал на попытки «отождествить преступления режима СЕПГ с преступлениями национал-социалистов»[153]. В документе «Критическая память. Позиция “Зеленых”» Катрин Герлинг-Экардт, депутат бундестага от этой партии, высказала мнение, что перенос акцентов с национал-социалистической диктатуры на коммунистическую крайне проблематичен, как и нивелировка, которая содержится в самой формулировке – «обе немецкие диктатуры»[154]. Она выразила протест против смены парадигм в мемориальной культуре, когда усиленная проработка истории ГДР приводит к ослаблению памяти о национал-социализме. (Такое впечатление было вызвано, в частности, тем, что в проекте концепции, опубликованной Нойманном, семь с половиной страниц посвящены истории ГДР и лишь две страницы – национал-социализму.) По мнению Герлинг-Экардт, акценты расставлены неверно; она, в свою очередь, сформулировала десять тезисов о критическом историческом сознании, которые позволяют провести четкую границу исторической памятью о том и другом периоде.
Историк Бернд Фаульбах сумел найти решение для дискуссии об обеих немецких диктатурах, которая подытожила работу двух парламентских комиссий, созванных в 1990-е годы по поручению бундестага для проработки исторического наследия диктатуры СЕПГ. В этих комиссиях также шли споры, столкновения мнений о том, как воссоединенная Германия должна определить историческое место обеих немецких диктатур и какую дать им историческую оценку. Как охарактеризовать их общность и различия? Ведь табуировалось само их сравнение, – из-за опасений, что память о второй диктатуре, наслаиваясь на память о первой диктатуре, сделает первую диктатуру всего лишь достоянием истории. Фауленбах предложил дипломатичную формулу, позволяющую найти место для обеих диктатур в национальной истории и национальной идентичности, чтобы на этой основе продолжить работу парламентских комиссий. Формула состоит из двух частей:
Память о сталинизме не должна релятивироваться памятью о Холокосте.
Память о Холокосте не должна тривиализироваться памятью о сталинизме[155].
Сохранение прошлого и преодоление прошлого
В спорах о значении и оценке национал-социалистической диктатуры и диктатуры СЕПГ не следует забывать как о некоторых сходствах, так и о существенных различиях между ними. Относительно сходств сложился «антитоталитарный консенсус», который включает в себя представления о механизмах принуждения, действовавших в неправовом государстве, с одной стороны, и о готовности населения отказаться от индивидуализма, принять идеи коллективизма и подчиниться авторитарным структурам – с другой[156]. Гораздо весомее различия. Для ГДР нет аналога Холокосту, который составлял основу нацистской диктатуры и одновременно выходил далеко за ее рамки. Планирование и осуществление этого исторически беспрецедентного геноцида ставит совершенно новые проблемы перед памятью о Холокосте. У памяти о ГДР нет такого «уникального отличительного признака». Она скорее стала частью общеевропейской памяти стран бывшего Восточного блока при всех имеющихся национальных различиях. Следует также учесть, что уцелевшие жертвы Холокоста и их родственники находятся преимущественно за пределами Германии и рассеяны по всему миру. Это придает памяти о Холокосте глобальный масштаб. Напротив, жертвы режима СЕПГ остались преимущественно на родине. Память о нем носит характер внутренней национальной проблемы: здесь немцы судят немцев и стоит задача общественной интеграции бывших жертв и преступников. После 1945 года немцы, почувствовав на себе всю тяжесть последствий развязанной ими войны на уничтожение, поначалу в основном считали жертвами самих себя и лишь спустя десятилетия стали испытывать сострадание к жертвам нацистского режима. После 1989 года бывшие граждане ГДР почувствовали себя «бенефициарами» режима СЕПГ (отсюда и их ностальгия), так и его жертвами; глубокая эмпатия западных немцев к жертвам этого режима отсутствует до сих пор.
Для прояснения вопроса о том, происходит или не происходит нивелировка обеих диктатур, следует учесть, что в объединенной Германии сложились две различные формы коммеморации об обеих немецких диктатурах. Я называю их «сохранение памяти» и «преодоление памяти». Форма коммеморации о национал-социализме и Холокосте представляет собой сохранение памяти. Она служит непосредственным ответом на беспрецедентное преступление против человечности и основывается на ключевых положениях, которые точно описываются цитатой из «Десяти тезисов» Катрин Геринг-Эккардт: «Проработка Шоа не имеет окончания и не может быть завершена. Преступления национал-социализма определяют немецкую идентичность, предполагая ответственность, от которой невозможно “избавиться”. Эти преступления всегда будут вторгаться в современную немецкую действительность. У них нет срока давности в том смысле, что Германии и дальше придется нести ответственность, передавая “эстафету памяти” следующим поколениям»[157].
В противоположность этому мемориальная культура, сложившаяся по отношению к ГДР, реализует принцип преодоления памяти. Такая мемориальная политика также опирается на исторически новые основы, которые возникли в 1980-е годы и используются ныне всюду, где вместо бывших преступных режимов устанавливается демократия. Подобные страны переживают глубокую трансформацию своей конституции, своих политических институтов, своих ценностей и – не в последнюю очередь – своих представлений об истории. Этот «транзит» сопровождается учреждением комиссий правды и примирения; в связи с их деятельностью историки изучают события, которые подвергались замалчиванию, и привлекают внимание общества к тем историческим событиям, которые оно предпочло бы забыть. Работа исследователей базируется на убеждении, что лишь освещение совершенных преступлений, признание жертв может заложить правовой фундамент и создать предпосылки для социальной интеграции. Речь при этом идет не о долгосрочной, принципиально незавершаемой мемориализации некоего «нормативного» прошлого, призванного стать составной частью политической и культурной идентичности, а о преодолении истории насилия ради открытости для общего будущего.
С учетом различия между сохранением прошлого и его преодолением кажется уместным упорядочить использование некоторых понятий, циркулирующих в мемориальном дискурсе. Религиозное понятие «избавление» (Erlösung[158]), вошедшее в политический обиход благодаря речи федерального президента Рихарда фон Вайцзеккера – и тут Ульрике Юрайт совершенно права, – не должно иметь места в мемориальном дискурсе, поскольку оно отсылает к божественной инстанции, что не соответствует секулярному характеру этого дискурса. В контексте памяти о Холокосте следует заменить слово «избавление» выражением «совместная (или эмпатическая) память», сознавая, что память тех, кто являются потомками преступников, и тех, кто являются потомками жертв, имеет совершенно разный характер. В контексте памяти о ГДР предпочтительно заменить слово «примирение» словом «доверие». Данные предложения подразумевают не только исключение из политического лексикона понятий религиозно-христианского обихода, но и приглушение чрезмерных ожиданий, которые обусловлены ритуальным употреблением лексики высокого стиля.
«Коммуникативное умолчание» (термин Люббе) являло собой полную противоположность «транзиту», который характеризуется открытием архивов и самоотождествлением с преступниками. Назначенная бундестагом парламентская комиссия для изучения режима СЕПГ являлась своего рода «комиссией правды и примирения»; в мире насчитывается сегодня более тридцати таких комиссий. Они ставят перед собой цель привлечь преступников к ответственности, признать пострадавшими жертв совершенных преступлений и вернуть им право слова. Переход от диктатуры к демократии оборачивается не совместным забвением, а прохождением через угольное ушко совместной памяти о вине за совершенные преступления и о причиненных страданиях, что одновременно открывает перспективу общего будущего. На этой основе происходит интеграция общества, прокладывающая путь к совместному будущему.
Существуют различные мнения о «транзите», который никогда не может реализоваться полностью, а лишь с большим или меньшим успехом. Положительную оценку критической проработке истории ГДР дает Эккард Йессе, который указывает, что эта проработка выделяется на фоне других европейских стран: «Другим восточноевропейским демократиям не удалось создать такие парламентские комиссии. Дело со столь критикуемым преодолением прошлого обстоит в Германии не так плохо, как о том порой говорят. Имеющиеся материалы убедительно свидетельствуют: здесь “Запад” вовсе не сводит счеты с “Востоком”. Те, кто утверждают нечто подобное, занимаются измышлениями»[159].
Впрочем, мнение бывшей Партии демократического социализма (ныне «Левые») звучит совсем иначе: «Большинство членов комиссии бундестага сохраняет приверженность анахроничному, воинствующему антикоммунизму; их предубеждения, шаблоны, антилиберализм не способствуют вынесению справедливых исторических оценок и взаимопониманию. Огульные осуждения “ГДР как преступного государства”, абсолютизация роли диктатуры и политических преступлений в истории ГДР, распространение заведомо ложных и недопустимых сравнений ГДР с национал-социализмом воздвигают новую Стену и фальсифицируют историю. Криминализуя бывшее восточногерманское государство, парламентская комиссия поддержала непрекращающиеся политические преследования, а также принятие законов, действующих с обратной силой, и продление срока давности. Комиссия дала новый повод для дискриминации и ущемления прав значительных социальных групп. Вместе с тем вновь упускается возможность для того, чтобы жертвы политических репрессий в ФРГ были наконец реабилитированы, а нанесенный им ущерб был возмещен»[160].
Парламентскую комиссию винят в недопустимых сравнениях ГДР с национал-социализмом, но одновременно преодоление восточногерманского прошлого политически увязывается со временами национал-социализма. Характерна рефлекторная реакция на уголовное преследование бывших функционеров СЕПГ, которая приобретает вид упреков в недостаточной проработке национал-социалистического прошлого. В таком контексте вполне логично, что на выборах федерального президента в марте 2012 года «левые» выставили своим кандидатом Беату Кларсфельд против кандидатуры Йоахима Гаука.
Память о жертвах ГДР
Формирование памяти о ГДР происходит крайне противоречиво, и, хотя прошло уже более двух десятилетий, оно все еще переживает свое начало. Есть резкое отличие от 1989 года, события которого признаны первой успешной демократической революцией в истории Германии и охотно сравниваются с буржуазной революцией 1848 года. Этот год стал важной исторической датой для немцев, которые не захотели или не сумели самостоятельно освободиться от национал-социализма. Наряду с негативными воспоминаниями о травме 1945 года теперь появилось позитивное воспоминание об историческом триумфе 1989 года.
При всем единодушно эйфорическом отношении к этому поворотному событию европейской истории остаются неясными место и оценка сорокалетней истории ГДР внутри общегерманской памяти. Ее формирование началось медленно и продолжается до сих пор. Фундамент этой памяти закладывается мемориалами, которые документируют топографию государственного террора в бывшей ГДР. Сразу после создания ГДР было учреждено министерство государственной безопасности. МГБ стало неотъемлемой частью режима, который укреплял свою власть с помощью террора, держа собственное население под постоянным подозрением, криминализируя его, осуществляя неусыпную слежку за людьми, которых подвергали пыткам и бросали в тюрьмы без суда и следствия. Абсолютное недоверие государства к своим гражданам было непосредственно обусловлено дефицитом легитимности той власти, верхушка которой может сохранять ее лишь путем насилия, слежки и доносительства.
Бывшая берлинская тюрьма МГБ в Хоэншенхаузене или магдебургский мемориал Морицплац стали «местами памяти» и одновременно архивами, где хранятся документы и обличающие режим материалы. Большой заслугой гражданского комитета по контролю за прекращением деятельности «Штази» является воспрепятствование уничтожению этих документов. Ведь именно такое уничтожение происходит в переломные моменты истории при переходе от одной политической системы к другой; переживая свое крушение, насильственный режим стремится прежде всего ликвидировать следы собственных преступлений, чтобы не допустить их расследования. В качестве примера можно привести ЮАР, где режим апартеида уничтожил тонны архивных дел, поэтому понадобились устные свидетельства жертв пережитого насилия. Весной 2011 года, когда пало правительство, египетское министерство внутренних дел, где хранились материалы, изобличающие государство, устроило поджог, чтобы избавиться от компрометирующих документов (поджигателями были явно не протестующие демонстранты). В Магдебурге политический «транзит» ознаменовался обнародованием секретных материалов «Штази». Уже в 1990 году 23 тысячи посетителей получили возможность на протяжении шести недель посещать выставку в здании на Морицплац, чтобы ознакомиться с документами о судьбах политических заключенных. Из подобных подлинно революционных актов возникли инициативы снизу, направленные на создание многих мемориальных центров; бывшие жертвы режима СЕПГ энергично работали над тем, чтобы места их страданий не канули в небытие.
В создании памятников и мемориалов, посвященных истории ГДР, наблюдались определенные асимметрии. Позитивные «места памяти» получили яркое и зримое воплощение, они активно используются для туристического маркетинга, а «места памяти», связанные с террором (за исключением центральной следственной тюрьмы МГБ в берлинском районе Хоэншенхаузен), остались в тени. До сих пор нет национальной концепции для «топографии террора» ГДР; самим жертвам приходится возвращать эти мемориальные места в национальную память. То, что образцово удалось сделать в Магдебурге благодаря созданию мемориала Морицплац (он возник по инициативе и при поддержке бывших политзаключенных сразу же после революционных событий и используется не только в качестве музея, но и служит просветительским учреждением, исследовательским центром и архивом), в других городах остается предметом затяжных споров с муниципальной администрацией. Лейпциг обрел несколько замечательных «мест памяти» (Николаевская колонна, сооруженная в честь революции 1989 года, и федеральный музей «Форум современной истории»), которые поначалу грозили затмить собой музей «Штази», созданный гражданским комитетом в историческом здании «У круглого угла». Ныне работа гражданского комитета поддерживается финансовыми средствами из федерального, земельного и городского бюджетов. Сохранение прежней эрфуртской тюрьмы МГБ, ее переустройство в мемориально-просветительский комплекс произошло также лишь благодаря настойчивости бывших политзаключенных. В новогодний день 2010 года некоторые из них добровольно заняли свои прежние тюремные камеры, чтобы добиться права участвовать в решении о судьбе мемориала[161]. Аутентичные места топографии террора могут померкнуть в общей картине истории ГДР, поэтому важно, чтобы в центре внимания оказались жертвы политических преследований, которые могут поведать о своих страданиях и добиться справедливого возмещения причиненного им морального и материального ущерба.
Мемориалы превращают коммуникативную память в долговременную культурную память, которая информирует нынешних и будущих граждан страны об их собственной истории. Мемориалы выполняют различные функции при переходе от одной политической системы к другой. Первая функция состоит в историческом расследовании совершенных преступлений, вторая – в признании жертв, третья – в формировании национальной мемориальной культуры. Всюду, где ныне осуществляется переход от диктатуры к демократии, транзит начинается с обнародования секретных архивных материалов, которые раскрывают механизм государственного террора, ведут к юридическому преследованию преступников и возмещению причиненного ими морального и материального ущерба. В самих категориях «преступник» и «жертва», обретающих особую значимость при крушении диктатуры, проявляется радикальная смена ценностей. Однако юридическое осуждение политических преступлений не может охватить все общество и касается лишь отдельных лиц, символически репрезентирующих преступный режим, поэтому для глубоких общественных перемен необходимы дополнительные меры. К их числу относится реализация права жертв на общественное признание, информационную и консультативную помощь. Перед мемориалами стоит важная задача собирать свидетельства очевидцев, чтобы создавать документальные архивы для этой социальной группы. Но одни лишь архивные документы не освещают исторический опыт в должной мере, они нуждаются в дополнениях. Поэтому столь значительную роль играют выставочные экспозиции, циклы публичных выступлений, общественные форумы, ибо с их помощью жертвы восточногерманского режима выходят из своей узкой приватной сферы, завязывают новые контакты и предоставляют общественности материал для ознакомления и обсуждения. Здесь необходимо подчеркнуть и роль СМИ, литературы и кинематографа, которые изображают внутренний мир людей, подвергавшихся политическим репрессиям, и тем самым существенно дополняют исследования историков. Все это способствует усвоению исторического опыта общественным сознанием, в результате чего диктатура ГДР перейдет из живой памяти очевидцев в состав национальной памяти.
Европеизация памяти о ГДР
История ГДР сохраняется в национальной памяти как история диктаторского режима, причем рассмотрение ее институтов позволяет преступникам оставаться анонимными, в то время как истории жертв приобретают приватный характер.
Да, некоторым категориям жертв удалось добиться общественного признания. Это относится прежде всего к погибшим, которые были убиты у Берлинской стены. Однако остается проблемой, как наглядно запечатлеть всеохватность и повседневность государственного террора, чтобы это стало содержанием исторической памяти. В Германии по отношению к его жертвам до сих пор преобладает равнодушие. А ведь именно они в той или иной форме оказывали сопротивление режиму, начав процесс, который через демонстрации протеста и освободительное движение привел к историческому успеху мирной революции. Историк Вольфганг Шулер опубликовал статью «Сначала преступление, потом неблагодарность» («Erst Unrecht, dann Undank»), в которой говорится: «К числу людей, оказывавших сопротивление, принадлежат все политзаключенные, даже если их осудили за деяния, которых они не совершали или которые в цивилизованных странах не подлежат уголовному наказанию». Тот факт, что в ГДР сущность государства «заключалась в репрессивности, делает осужденных борцами с режимом даже тогда, когда они и не помышляли о сопротивлении»[162].
Настало время, чтобы память о жертвах коммунистического режима, которая остается в Германии преимущественно фрагментированной и приватной, приобрела общеевропейскую значимость. Национальная память о жертвах режима СЕПГ должна быть интегрирована в общеевропейскую память. Этот опыт миллионов людей XX века, которые уже после Второй мировой войны на протяжении многих десятилетий подвергались преследованию и переживали глубокий травматический опыт, заслуживает своего места в европейской памяти наряду с памятью о Холокосте. Речь идет не об отождествлении обоих исторических событий и не об одинаковых формах коммеморации, о чем я уже говорила, подчеркивая различие между «сохранением памяти» и «преодолением памяти». Между государственным террором и геноцидом существует очевидная мемориально-политическая асимметрия. В отличие от геноцида травма сталинизма и коммунизма не стала содержанием транснациональной памяти, поскольку эта травма до сих пор сопряжена с внутренними конфликтами и конкуренцией различных нарративов. В одних случаях (восточноевропейские страны) она носит символический характер национальной жертвенной памяти; в других (например, Германия) на нее ложится тень национальной памяти о собственных преступлениях; в третьих (Россия) она остается содержанием неформальной семейной памяти. Общеевропейская память о транснациональном европейском опыте коммунизма могла бы открыть нам новые аспекты осмысления травматической истории XX века, сделав их предметом превентивной рефлексии. Антисемитизм и расизм – угроза для Европы, поэтому память о Холокосте служит иммунизирующей стратегией противодействия этой угрозе. Вместе с тем у нас отсутствует уверенность, что преодолена опасность левого терроризма. Память о коммунистическом терроре, очистившись от антикоммунистических стереотипов и от «образа врага», существовавшего в период холодной войны, должна базироваться на конкретных биографиях жертв пережитого насилия. Мемориальная культура, способная связать память о жертвах сталинизма с памятью о жертвах Холокоста, упрочит европейскую идею прав человека и защитит европейцев как от рецидивов восхваляемого насилия, так и от возврата к автократии.
5. Память в миграционном обществе
Социальная интеграция мигрантов влечет за собой непосредственные последствия для мемориальной культуры. Некоторые эксперты считают существование национальной мемориальной культуры помехой для социальной интеграции мигрантов и препятствием для становления космополитичного, мультикультурного миграционного общества. Они выступают в защиту постнациональной идентичности и даже говорят о «постсуверенном обществе», которое «больше не представляет собой однородного мемориального сообщества с общим языком и общей историей». Из-за чрезвычайного усложнения жизни и ее плюрализации такое общество «столкнулось сегодня с необходимостью поиска новых форм общественной интеграции, которые, гарантируя максимальные свободы, обеспечивают достаточную степень консолидации»[163]. Данная оценка ситуации приводит к мысли о том, что в условиях усиливающейся глобализации минималистский общественный договор выглядит более практичным, чем национальный нарратив, где иммигранты по необходимости должны найти себе то или иное место. Нормативное закрепление определенного представления о прошлом (как, например, памяти о Холокосте) видится в современных условиях устаревшим и дисфункциональным.
Будущее покажет, является ли немецкая мемориальная культура в эпоху глобализации, интенсивного культурного трансфера и миграции таким препятствием для социального прогресса, которое должно быть устранено немецким обществом. Но можно с уверенностью сказать, что немецкая мемориальная культура меняется в данных условиях. С точки зрения немецких политиков память о Холокосте никуда не уходит, и ей можно прогнозировать довольно надежные перспективы. В марте 2011 года премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Ханнелоре Крафт, совершая поездку в Израиль по программе «Будущее памяти», сказала журналистам: «Я принадлежу к поколению, которое росло после войны и больше не имеет ничего общего с национал-социализмом. Однако у нас остается обязательство поддерживать особые отношения с Израилем. Это будет делать и наше нынешнее молодое поколение, даже если его представителей зовут Серап и Мурат»[164].
Этим обещанием Ханнелоре Крафт затронула вопрос о включении молодого поколения мигрантов в немецкую мемориальную культуру, который стал предметом отдельной дискуссии. Такое включение можно понимать двояко. Как приобщить эту новую группу жителей Германии, выросшую и социализированную здесь, к памяти о Холокосте? И как изменить память о Холокосте, чтобы открыть новые возможности приобщения к этой памяти? Иными словами: как формируется память о Холокосте в связи с превращением Германии в миграционное общество? Прежде чем ответить на столь насущные вопросы, рассмотрим общие предпосылки, характеризующие взаимосвязь памяти и миграции.
Негативная память как право гражданина?
Долгое время в такой традиционно миграционной стране, как США, считалось, что забвение служит наилучшей основой для иммиграционной политики. Чтобы радикально перестроиться на вхождение в новое общество и новую культуру, иммигрантам следовало внутренне распрощаться и оставить позади тот мир, из которого они пришли. Разумеется, начинать с абсолютно чистого листа невозможно, однако цель состояла в том, чтобы исходная культурная принадлежность постепенно стиралась ради новой идентичности. Подобная установка рассматривала воспоминания, которые «привозились» с собой переселенцами, в качестве препятствия для успешной натурализации. Место разделяющих воспоминаний должна была занять ориентация на совместное будущее. Тот, кто был готов оставить собственную историю – а к этому были готовы многие из переселенцев, ранее подвергавшихся гонениям и страдавших от различных лишений, – получал хороший шанс начать свою жизнь заново. Американский литературовед Лесли Фидлер подчеркивал, что американцев, в отличие от европейцев, объединила не общая история, а общая мечта[165]. Переселенцы не могли просто отбросить воспоминания, как рюкзак с контрабандой, но политика ассимиляции и «плавильного котла» (melting pot) способствовала сглаживанию и устранению различий.
С 1980-х годов и в этой области начали происходить радикальные перемены. Новая значимость коллективных идентичностей выявляет те различия, которые прежде так старательно стирались. Теперь центральное место заняла культурная самобытность, с ней стали соотноситься личные воспоминания, служившие основой для отнесения себя к той или иной отдельно выделенной идентичности. Принятый в 1982 году канадский «Multiculturalism Act» предоставлял иммигрантам право сохранять свою культурную идентичность и культурное наследие[166]. Менялось и самосознание Канадского государства. Правительство, обратившись к «политике покаяния», учредило «комиссию правды», призванную расследовать преступления колониализма. Благодаря этому повороту история колониального угнетения и бесправия вернулась в сознание жителей страны. Модифицированная таким образом национальная история – и это решающий момент – должна была быть принятой и иммигрантами, которым также предлагалось стать в будущем ее носителями. Отныне переселенцы не просто вступали в открытое для них будущее новой страны, но, принимая ее гражданство, они брали на себя ответственность и за темные страницы ее прошлого. Иммиграция происходит в нынешней Канаде на фоне нового самокритичного осмысления национальной истории. «Гражданство страны, – говорилось на церемонии вручения паспортов новым канадским гражданам в Ванкувере, – это не “шведский стол”. Никто не вправе выбирать себе лишь то, что ему по вкусу, пренебрегая остальным. Разумеется, с канадским гражданством связано как хорошее, так и плохое. Давая клятву при принятии канадского гражданства, вы берете целиком наследие канадской истории и гражданских прав. Теперь вы также несете ответственность не только за добрые деяния, но и за все ошибки, допущенные нами, за все содеянное нами зло. …Такова часть целого. Возможно, вы сочтете это несправедливым, но никто и не говорит, что это справедливо. Такова часть гражданских прав»[167].
В сегодняшней Австралии также горячо обсуждается вопрос, должны ли гражданские права иммигрантов включать в себя негативные эпизоды колониальной истории. Если раньше переселенцы прибывали в страну без прошлого и с безграничным будущим, то теперь они сталкиваются и с дурным прошлым Австралии. Как написал один австрийский антрополог, иммиграция становится «процессом, индуцирующим вину» (a guilty-inducing process)[168].
Подобная эволюция национального самосознания является непосредственным следствием Холокоста и колониальной истории. В рамках новой парадигмы прав человека уже невозможно с помощью простого забвения избавиться от ужасов истории, от памяти о преступлениях против человечества. Эти события стали предметом нового общественного внимания, новых свидетельств очевидцев, новых дебатов, новых воспоминаний. Политика покаяния откликается на травмы тех коренных жителей, чьи истории раньше не могли быть услышаны. Теперь же сложилось понимание того, что травматическое прошлое коренного населения, игнорировавшееся колонизаторами, вовсе не прошло бесследно, а продолжает возвращаться в виде болевых синдромов. Воспоминания об исторической вине впервые открывают для национальной памяти возможность признать историю жертв, что сопровождается актами реституции и новыми мемориальными практиками, которые способствуют интеграции общества.
Этнический парадокс и плюрализация национальной памяти
Начиная с 1990-х годов воспоминания о нацистском прошлом сделались составной частью немецкой национальной памяти. Когда к 2000 году возник вопрос о статусе Германии как иммиграционной страны, только что сформировавшаяся негативная национальная память стала предметом критики. Вплоть до 1990-х годов считалось, что иностранные рабочие по истечении срока трудовых договоров вернутся в страну, откуда они приехали. Ситуация изменилась, когда в 1998 году правительственная коалиция социал-демократов и «Зеленых» подтвердила статус Германии как иммиграционной страны, реформировав иммиграционное законодательство. Тогда возникли новые вопросы к национальному самосознанию и национальной истории. Должна ли Германия в результате данных перемен перестроить национальный нарратив с учетом нового плюралистического образа? Идет ли речь о том, чтобы новые иммигранты признавали сопричастность к негативной стороне национальной памяти?
Подобные вопросы послужили предметом продолжительной дискуссии. Например, Ханно Леви, директор Еврейского музея в Хоэнэмсе, выступил против альтернативы, когда мигрантам либо навязывают память об исторической вине, либо их исключают из коммеморативного сообщества. По мнению Леви, память не должна подвергаться «пограничному контролю», который препятствует полноправному членству мигрантов в немецком обществе[169]. Историк Рауль Хилберг высказался о том, что Холокост является в Германии семейной историей. Понадобилось продолжительное время, чтобы это произошло и немцы «интернализировали» Холокост. Но теперь это привело к новой проблеме этнизации собственной истории. Дэн Дайнер также указал на проблематику этнического характера немецкой национальной истории: «Немцем считается тот, кто определяет свою национальную принадлежность через отказ от нацистского прошлого. Немецкому гражданину турецкого происхождения трудно приобрести полноправное членство в таком коллективе. Он не может примкнуть к этому общему “Мы”, ссылаясь на усвояемое чужое прошлое. Несмотря на введение jus solis, определяющим признаком идентичности остается таким образом jus sanguinis; это обстоятельство преодолевается посредством ритуалов коммеморации»[170].
Некоторые критики называют эту проблему «этническим парадоксом»: по их мнению, акцентирование исторической вины как национального признака весьма проблематично этнизируют немецкую нацию, поскольку историческая вина связывает сыновей и внуков с отцами и этим исключает из существенной связи с этой историей людей с иной семейной биографией[171].
«Этнический парадокс в немецкой мемориальной культуре несет с собой проблему для СМИ и для школьного образования. Это вновь продемонстрировано телесериалом “Наши матери, наши отцы”, который инсценировал немецкую историю в виде семейной саги. Создатели фильма хотели, чтобы в домах жителей Германии представители разных поколений заговорили о семейной истории… о забытом, вытесненном из памяти и невыразимом»[172]. Но из общего диалога автоматически исключались семьи иммигрантов. Поэтому критики справедливо указывают, что педагогика, ориентированная на осознание вины, оказывается весьма проблематичной по отношению к школьникам из мигрантских семей. Харальд Вельцер подчеркивает, что для этих школьников «национал-социализм и уничтожение евреев не играют никакой роли хотя бы из-за национального происхождения и собственной семейной истории. Эти ребята оказались в странной ситуации, когда они должны демонстрировать сознание вины, хотя не чувствуют ее за собой»[173].
Если было довольно трудно привить сознание вины представителям второго и третьего послевоенного поколения немцев, то представляется совершенно невозможным воспитать чувство причастности к негативной стороне немецкой истории у выходцев из других регионов мира. Напротив, по словам Вельцера, интеграционный потенциал общества зависит от денационализации и деэтнизации его истории.
Беспокойство по поводу этнического парадокса кажется мне преувеличенным в ситуации, когда третье и четвертое поколения жителей Германии уже не идентифицируют себя с немецкой историей посредством нарратива виновности. Место одержимости покаянием и «гордыни грешника» давно заняли знание о совершенных преступлениях, вписанное в исторический контекст, и сознание ответственности в рамках мемориальной культуры, базирующейся на правах человека и на внимании к жертвам. Мемориальная педагогика, уже не связанная с аффектом вины, может адресоваться как к немецкой молодежи, так и к молодежи из мигрантских семей. Мигранты способны найти собственный путь к памяти о Холокосте. Они могут, например, гордиться тем, что Турция предоставила убежище евреям, бежавшим из Германии; они могут и сами идентифицировать себя с евреями, которые подвергались гонениям и дискриминации.
Социологические исследования подтверждают, что школьники из мигрантских семей нередко собственными силами находят свой путь к памяти о Холокосте. Виола Георги, которая изучала молодежь из мигрантских семей, выявила широкий спектр мнений относительно немецкой истории, простирающийся от отторжения чужого прошлого до вхождения в этическое мемориальное сообщество, которое борется за то, чтобы чудовищная история не повторилась[174]. Особенно распространена третья позиция, а именно идентификация с еврейскими жертвами. Молодежь из мигрантских семей зачастую имеет собственный повседневный опыт столкновений с расизмом и дискриминацией, приводящий к идентификации с еврейскими жертвами. Память молодых мигрантов приобретает не только «жертвенную ориентацию», но и «жертвенную самоидентификацию». (Здесь становится ясным, насколько важную роль играет уточнение понятий, используемых в мемориальном дискурсе!) В рамках «жертвенной самоидентификации» памяти – позднее об этом будет сказано более подробно – может установиться связь между различными историческими травмами без стирания несхожести разных историй; но из-за ложных аналогий эта память может стать политическим оружием, вроде утверждения: «Турки – это новые евреи!» Данный пример свидетельствует, что национальные рамки памяти меняются под воздействием потребностей тех, кто подчиняется этим новым для себя рамкам памяти.
В свете новых условий и возможностей для мемориальной культуры представляется необходимым, чтобы ее взаимосвязь с национальным государством стала более открытой, плюралистичной и менее генеалогичной. Прежде всего, важна открытость мемориальных практик с учетом растущей культурной диверсифицированности населения Германии[175]. Применительно к трансформации мемориальной культуры речь идет не только о том, чтобы в одностороннем порядке сделать мигрантов объектом национальной педагогики, но и о том, чтобы шире тематизировать в социальной коммуникации их опыт, интегрируя его в общую память. Именно об этом говорилось на канадской церемонии принятия гражданства иммигрантами: «Хорошо, что большинство из вас недавно прибыло к нам. Это дает именно вам возможность помочь нашей стране найти выход из ее тяжелого прошлого. Вы к нему не причастны, следовательно, вы привнесете идеи, как нам улучшить совместную жизнь с коренным населением. Многие решения проблем нашего прошлого были предложены именно новыми гражданами, приехавшими к нам»[176].
Шок 4 ноября 2011 года
4 ноября 2011 года немецкое общество пережило тяжелый момент отрезвления. В тот день, который я считаю важной вехой немецкой мемориальной истории, суицидом двух правых радикалов завершилась одиннадцатилетняя серия убийств, в результате которой десять человек были хладнокровно расстреляны и многие были ранены взрывом двух бомб, начиненных гвоздями[177]. Расследование убийств, совершенных группировкой «Национал-социалистическое подполье» (НСП), показало немецкому обществу, считающему себя просвещенным и граждански зрелым, что в его среде на протяжении десятилетия происходили целенаправленные убийства, однако сигнал тревоги так и не прозвучал. Проволочки в расследовании, некомпетентность следственных органов резко противоречат тому образу, который создается еженедельным субботним теледетективом «Место преступления». Немцы обожают своих симпатичных полицейских, которые каждую неделю блестяще справляются со служебными обязанностями. Что бы ни случилось, но всякий раз через восемьдесят минут эфирного времени гарантирован четкий и верный результат. Пожалуй, следовало бы использовать в реальной жизни успешный опыт телевизионных комиссаров полиции!
Однако реальная жизнь состоит не из решений одной криминалистической загадки за другой, а из накапливающихся проблем, что тяжело сказывается на нашем представлении о самих себе как о цивилизованном обществе. Попутно заметим, что однажды, как теперь выяснилось, реальность и фикция даже соприкоснулись друг с другом на несколько мгновений. В 2001 году была показана очередная серия детектива «Место преступления» под названием «Бестии», действие которого на сей раз происходило в Кёльне: настоящее фото разыскиваемого Уве Мундлоза, праворадикального террориста из НСП, промелькнуло в кадрах телефильма: некая практикантка вклеила фотографию фиктивного сексуального преступника в несуществующее дело федеральной уголовной полиции.
Реальная серия убийств началась 9 сентября 2000 года на восточной окраине Нюрнберга, где восемью выстрелами был убит цветочный торговец Энвер Симсек[178]. Продолжению серии способствовало промедление со стороны следствия. Свою роль сыграли три фактора, которые взаимно усиливали друг друга: во-первых, халатность и недостаточная бдительность. Во-вторых, стремление следствия возложить на жертву ответственность за собственную судьбу. И, наконец, в-третьих, возможная связь спецслужб с убийцами и их пособниками. В результате полиция, руководствуясь расистскими предубеждениями, пыталась найти преступника в «чуждой» ей среде мигрантов, а немецкую общественность не слишком взволновала серия убийств, поскольку жертвами оказались «чужаки». Многие считали, что подобные мафиозные разборки происходят в «параллельном обществе», где иностранцы живут по собственным законам и должны сами расплачиваться за это. Такое мнение складывалось под воздействием СМИ. Данное толкование ситуации сопровождалось подспудным посланием немецкому обществу: нас все это не касается, нам лучше держаться в стороне от чужих проблем. Чтобы криминальное происшествие превратилось в общественное событие, оно должно сначала получить словесное оформление, принять вид нарратива, включающего в себя интерпретацию и оценку. Появившееся у журналистов выражение «шашлычные убийства» вызывало у немецкой публики лишь отчуждение. По словам дочери одного из убитых, это выражение «преуменьшало» насильственную смерть невинных людей. А большинству немцев оно говорило: это не проблема всего общества; она касается не меня, а других людей, которые живут иначе, оттого у них и возникают их проблемы. Выявление истинных мотивов совершенных преступлений произвело шоковый эффект, ибо оказалось, что немецкое общество в сущности пользовалось жаргоном убийц, которые обозначали свою акцию кодовым названием «Шашлычный шампур». Тем не менее выражение «шашлычные убийства» – с кавычками и без кавычек – еще несколько недель фигурировало в прессе[179].
Раскрытие этой серии преступлений в ноябре 2011 года впервые показало всему обществу, что террор в Германии вершится не только левыми, как это было в случае с «Фракцией Красной армии», или исламистскими группировками, но и правыми экстремистами. 13 ноября 2011 года федеральный министр внутренних дел Фридрих впервые заявил о «новой форме правоэкстремистского терроризма»[180]. В ходе нового расследования, к ужасу всех, обнаружилось, что ведомство по охране конституции стало частью самой проблемы, а не субъектом ее решения. Скандал вокруг НСП оказался испытанием на стрессовую устойчивость, которое демократические институты, похоже, не сумели выдержать, поэтому срочно понадобились реформы. Но одними отставками и созданием новых государственных структур проблему не решить, поскольку она затрагивает все общество в целом.
Человеконенавистничество по отношению к определенной социальной группе
Вопрос о взаимосвязи между мемориальной культурой и политическим образованием приобретает ныне все большую остроту. Что же связывает обе темы? Нельзя просто считать, «будто сохранение памяти само по себе делает успешной педагогическую работу по воспитанию в духе демократии и уважения прав человека». Фолькхард Книгге, высказавший это мнение, указал на важные проблемы для «будущей гражданской истории». Речь идет о «политических и структурных формах стабилизации или дестабилизации базовой солидарности с человеком как человеком; об общественных причинах, порождающих страх, о формах и способах его преодоления; о достоинстве человека, о его самоуважении и участии в общественных делах; о структурах и динамике социальной и культурной инклюзии; о доверии и насилии»[181].
Убийства, совершенные членами НСП, наглядно показывают, насколько тесно переплетаются мемориальная культура и политическое образование. Их связывает воспитание в духе уважения к правам человека и с учетом тех аспектов, на которые указал Фолькхард Книгге. Существует распространенное и упорное заблуждение, будто память, неотрывно прилепившись к прошлому, обращена назад и блокирует будущее. Но ведь к числу самых актуальных вопросов о будущем нашего общества принадлежат такие, как миграционная проблематика, ксенофобия и национальное историческое наследие[182]. Поэтому мемориальная культура, политическое образование и гражданское общество тесно взаимосвязаны.
Наша страна в особенно драматической форме продемонстрировала, насколько быстро может исчезнуть базовая солидарность между людьми, после чего общество раскалывается на «своих», с правами которых следует считаться, и «чужих», правами которых можно пренебречь. Сейчас в Германии появилась новая разновидность расизма, воспроизводящая старые образцы, которые сохранили латентную живучесть. НСП («Национал-социалистическое подполье»), как называла себя правоэкстремистская террористическая ячейка, открыто заявляла о своей приверженности нацистской идеологии, которая вторгается в наше общество своими «акциями без лишних слов». Ранее аббревиатура НСП ассоциировалась лишь с фирмой в Некарсульме, производящей велосипеды и автомобили. Но после серии убийств, совершенных правыми радикалами, эта аббревиатура стала тревожным сигналом: в общество вернулось то, что казалось преодоленным и потому забытым.
Террористическая ячейка, несомненно, связана с нацистским прошлым, но какое отношение эта связь имеет к нам? Педагог Астрид Мессершмидт убеждена в тесной взаимосвязи между историческим и политическим образованием, исходя из убежденности в долговременных последствиях колониальной истории или нацистской идеологии, оказывающих значительное воздействие на то или иное общество. По мнению Астрид Мессершмидт, расистские идеологии до сих пор латентно влияют на складывающийся в обществе «собственный образ» и «образ врага». С точки зрения социальной психологии или педагогики нет абсолютной гарантии, что мы живем в полностью «постнационал-социалистическом обществе» и что темное прошлое окончательно осталось позади. Мессершмидт говорит о «вовлекающих образовательных программах», которые дают учащимся представления об их включенности в исторический процесс[183]. Это подразумевает активизацию исторического сознания и самокритичную открытость по отношению к «вопросам о том, что не подлежит интеграции, а потому продолжает воздействовать на нас»[184].
Социальные психологи считают также, что предрассудки очень живучи. Поскольку они гибко реагируют на ситуацию, переориентируя свою враждебность на новые цели. Основной расистский шаблон диктует уничижительное отношение к «другому», что повышает самооценку и укрепляет собственный статус. Билефельдский политолог Вильгельм Хайтмайер предложил новый термин «человеконенавистничество по отношению к определенной социальной группе». Он подразумевает не только этнические различия, но и социальные явления вроде гомосексуализма, крайней бедности или ограниченных физических возможностей. В новых исторических обстоятельствах может появиться новая стигма, способная перейти с евреев на новые этнические и социальные меньшинства[185].
Между старым и нынешним расизмом наблюдаются некоторые параллели. Разделение мира на две категории людей влечет за собой значительные последствия. У преступников, готовых к насилию (как это было с убийцами из НСП), они ведут к отказу от установленных норм в межличностных отношениях, к преодолению определенных эмоциональных и культурных запретов, не действующих, если речь идет о «другом». Раскол в обществе, порождаемый подобным обесцениванием фигуры «другого», проявляется в эмпатической избирательности, которая не считает равноценными тех, кого лишают социального внимания, уважения и сочувствия.
Но есть и отчетливые различия между прошлым и настоящим. Человеконенавистничество по отношению к определенной социальной группе не сопровождается ныне автоматически повышением групповой самооценки. Немцам до сих пор трудно дается высокая групповая самооценка (иначе говоря, у них остаются проблемы с коллективной идентичностью). Во времена неясных перспектив и финансового кризиса мы скорее имеем дело с индивидуальным эгоизмом. Хайтмайер говорит о «жесткости» немцев, имея в виду стиль поведения, когда допускаются даже крайние средства для достижения собственных целей. Это приводит к выходу из сообщества солидарности. Появляется тип нецивилизованного и необразованного гражданина, который становится благодарным адресатом популистской риторики, а также тип агрессивного предпринимателя, руководствующегося исключительной личной выгодой.
Подобная тенденция к расколу общества и к десолидаризации наблюдается ныне не только внутри отдельной нации, но и на общеевропейском уровне. Здесь действуют такие же центробежные силы, которые отдаляют европейские страны друг от друга. Правый популизм, говорит Навид Кермани, «будучи антиевропейским, ксенофобским, антиэгалитарным и политическим движением, представляет собой по существу не что иное, как национализм XIX века и начала XX века»[186]. Мечту о европейском проекте и солидарную веру в его будущее заменяет «евроскептицизм», который во все большей мере выражается в национальном чванстве и ксенофобии.
Демократический ценностный консенсус и связанная с ним политическая и историческая чувствительность – это вещи, которые снова и снова ставятся под вопрос, а потому в большей или меньшей степени могут утратить свою силу. У нас есть сейчас тому множество примеров. Социологические исследования, посвященные закономерностями публичных дебатов об общественных ценностях, выявили трехступенчатый процесс, способный подорвать ценностный консенсус демократического общества[187]. Первой ступенью служит диагностика. На этой ступени формируются темы, детально описывающие тот ущерб, который наносится или будет нанесен обществу в обозримом будущем. Воздействие подобного негативного диагноза усиливается двумя способами повышения эмоционального накала. Во-первых, объявляется, что проблема скрывается от общества посредством замалчивания и цензуры, то есть проблема представляется как очевидная для любого простого человека, но не обсуждаемая открыто по причине лукавой политкорректности, навязанной теми, кто обладает дискурсивной властью. Во-вторых, рисуются катастрофические сценарии, сильно преувеличивающие реальную опасность и апеллирующие к вечным бессознательным тревогам населения и к его предрассудкам. Второй ступенью служит прогноз, который включает в себя понятные решения указанных проблем. На третьей ступени происходит мобилизация, разворачивающаяся в форме публичных призывов к населению и правительству реализовать предложенные решения проблем. Между этими тремя ступенями есть значительные различия. Если диагностика базируется на тщательной разработке и доводится до сведения публики известными лидерами общественного мнения через средства массовой информации, формирующими широкий и устойчивый мейнстрим (в качестве примера можно привести книгу Тило Саррацина «Германия самоупраздняется»), то на ступенях прогнозирования и мобилизации столь яркие акции не проводятся, ибо они чреваты конфликтом с конституцией и демократическим консенсусом. Свобода мнений – важнейшее благо демократии, и ее, к счастью, не так просто подвигнуть к самоликвидации. Проблему реализации оставляют правым террористам. Тройка террористов из «национал-социалистического подполья» записала свою программу, свои проекты и акции на DVD, которые рассылались в виде угроз мусульманским гражданам и известным общественным деятелям. На одном видео есть текст со следующей характеристикой: «Сеть боевиков-соратников руководствуются принципом: “Дела вместо слов!” Акции будут продолжены, пока не произойдут кардинальные перемены в политике, в прессе и со свободой мнений». Как видно, дискурсивный протест способен обернуться прямым террором.
Эмпатия между различием и сходством
4 ноября 2012 года, спустя год после раскрытия серии убийств, в тридцати немецких городах состоялись манифестации против расизма. Был создан общественный Союз против замалчивания, который занимается «проблемой структурного расизма» и требует от компетентных государственных органов решительно разобраться с тем, как осуществляется их работа. Речь идет не только о персональных ошибках, которые можно исправить отставками, а о проблеме, касающейся общества в целом. Какой же урок следует извлечь из случившегося в свете сознательной и самокритичной мемориальной политики?
Первый вывод: гражданское общество не является чем-то таким, что достигнуто раз и навсегда. Гражданское общество должно вновь и вновь, проходя испытания, подтверждать свою состоятельность, в том числе аргументативно. Основой гражданского общества, как подчеркивает Фолькхард Книгге, служит стабилизация базовой солидарности между его членами. Базовая солидарность ставится под вопрос как расистскими выходками, так и индивидуальным эгоизмом и общественной индифферентностью, усиливающимися во времена финансового кризиса. Десятилетие праворадикального террора стало для немецкого общества экзаменом, принесшим шокирующие результаты. Столь важные свидетельства солидарности с пострадавшими были слишком запоздалыми и редкими. Если последнюю жертву убийц – членов НСП, сотрудницу полиции Мишель Кизеветтер хоронили в апреле 2007 года с почестями и при большом стечении народа (на прощание пришло более тысячи человек), то другие убитые или раненые почти не удостоились общественного внимания. В декабре 2011 года в Касселе траурное шествие завершилось митингом, который устроили родственники пострадавших. Одна из участниц, оглянувшись на прохожих, которые деловито спешили за рождественскими покупками, с горечью сказала: «Жаль, что к нам пришло так мало немцев!»[188]
Серия убийств, продолжавшаяся годами, обнаружила главное уязвимое место нашего общества: замкнутость на себе и равнодушие по отношению к другим, к тем, кто заранее исключен из разряда равноправных и равноценных «своих». Речь идет о нехватке эмпатии, которая поверх всех культурных и социальных различий откликается на фундаментальную общность людей, нуждающуюся вновь и вновь в своем подтверждении посредством гражданских актов признания и уважения. Эмпатия проявляется в виде социального признания, эмоциональной отзывчивости и политической солидарности. У людей, лишенных признания и доверия, возникает неуверенность, разрушается самоуважение и чувство собственного достоинства, в них поселяется страх, и все это приводит к их самоизоляции.
Эмпатия – не сентиментальная чувствительность; она начинается с гражданского просвещения, информации, достоверного знания. Основу эмпатии составляет конкретика, когда за абстрактной и анонимной статистикой стоят живые люди с их именами, лицами и историями. Бросается в глаза, насколько подробно немецкие СМИ сообщали о преступниках и сообщниках убийц, но какой скудной оставалась информация о жертвах, которая зачастую ограничивалась круглой цифрой – «десяток» убитых. Чем больше известно о конкретном человеке, тем больше окружающие склонны не руководствоваться шаблонными классификациями, а относиться к другому как к похожему на нас. Федеральный президент Йоахим Гаук, принимая 18 февраля 2013 года в своей официальной резиденции родственников пострадавших, сказал: «Все вы пережили ситуацию, когда внезапно, в один день, жизнь изменяется коренным образом. Вы нуждались в утешении и поддержке. А вместо этого столкнулись с подозрениями, унижением и остались одни»[189].
Кинофильмы и книги могут оказать значительное влияние на развитие гражданской сознательности и на повышение эмпатии у наших граждан. Мне хотелось бы отметить арт-проект, инициированный тремя активистками из Касселя: фотографом Хеленой Шекле, социологом Луизой Келлерман и Антонией Хайн. Идея проекта связана с выходцем из Турции – Халитом Йозгабом, последней жертвой в серии убийств, совершенных террористами из НСП. Инсталляция «Закрыв глаза» была показана на кассельской выставке «Dokumenta 13»[190]. Непосредственной темой инсталляции стала не сама жертва, а попытка «сделать зримым повседневный латентный расизм, чтобы заговорить о нем, предоставив слово людям, о которых СМИ сообщают редко или не сообщают вовсе»[191]. В инсталляции монтировались фотографии городских площадей, улиц, дворов как потенциальных мест, где наблюдается бытовой расизм, сопровождавшиеся рассказами пострадавших; соответствующие интервью были собраны и обработаны в виде аудиоколлажа. По замыслу авторов инсталляции в ее центре оказались живые рассказы, ибо «рассказ является для рассказчика формой рефлексии на событие, которая дает слушателю возможность проявить сочувствие и солидарность». Инсталляция ставила перед собой цель не только поведать о людях, подвергшихся дискриминации, но и установить с ними контакт. Из свидетельств пострадавших становится ясно, что глубокое страдание причинило всей турецкой общине не только само физическое насилие, но и символическое превращение жертв в изгоев общества. Недаром было сказано: «Они всегда будут считать Халита Иозгаба турком, а не кассельцем. Мне же от всего сердца хотелось бы, чтобы говорили: убит касселец, а не турок»[192]. В нежелании найти сходство и в акцентировании отличий вновь проявляется «человеконенавистничество по отношению к определенной социальной группе».
Теперь перенесемся из Касселя в Стамбул. Там 19 января 2007 года жертвой убийства по мотивам расовой вражды стал турецко-армянский писатель Грант Динк. В день похорон к траурному шествию присоединились тысячи турок. Они несли плакаты с надписями: «Каждый из нас – Грант Динк!» и «Мы все – армяне!». Здесь люди повели себя совершенно иначе, нежели жители Касселя. Они апеллировали к той фундаментальной общности, которая объединяет друг с другом представителей различных культур и религий.
Спустя три недели после гибели Гранта Динка мне довелось участвовать в конференции, устроенной Фондом имени Белля на тему «От бремени прошлого – к социальному миру и демократии». Динк был одним из организаторов конференции, но уже не мог принят в ней участие. Его отсутствие воспринималось нами с волнением и болью. В своем тогдашнем выступлении я сказала: «Только представьте себе, что во время ноябрьского погрома 1938 года на улицы немецких городов вышли бы тысячи немцев с плакатами “Все мы – евреи!”. После таких манифестаций безумный план Гитлера по “окончательному решению еврейского вопроса” вряд ли мог бы осуществиться». Вместо этого по всей Германии воцарилось испуганное или смущенное, но, главное, равнодушное молчание. Сегодня подобный акт солидарности уже не требует большого гражданского мужества, но нуждается в эмпатии. Ибо не только «ислам является частью Германии»[193], но и люди иного этнического происхождения, иной религии являются частью немецкого общества. Следовательно, они имеют такие же права на защиту, заботу, внимание и полноту нашего человеческого сочувствия.
Мемориальную культуру и политическое образование связывает нечто большее, чем это представляется на первый взгляд. Многое из того, что сегодня происходит с нами, ясно отсылает от настоящего к прошлому: самохарактеристика террористов, назвавших себя «национал-социалистическим подпольем», или модели социальной эксклюзии, базирующиеся на вновь и вновь воскресающих предрассудках и проявлении равнодушия. Подобные эффекты дежавю заставляют нас обратиться к сопоставлению прошлого и настоящего. После 1945 года понадобилось четыре десятилетия, чтобы немцы, руководствуясь «анамнетической солидарностью», вспомнили о еврейских жертвах. Но путь к «эмпатическому обществу» (Джереми Рифкин) еще долог. На этом пути должны тесно взаимодействовать мемориальная культура и политическое образование, прошлое и будущее, ибо, как подчеркивал Пол Русесабаджина, свидетель геноцида в Руанде: «Мы не в состоянии изменить прошлое, но мы можем улучшить будущее»[194].
Транснациональные перспективы
Никому не хочется быть жертвой в настоящем, однако многие хотели бы быть жертвами в прошлом.
Цветан Тодоров [195]6. Конкуренция жертв
Недовольство мемориальной культурой является не только немецким, но и интернациональным феноменом. Еще в 1993 году американский историк Чарльз Майер заговорил о «мемориальной индустрии», выражая беспокойство по поводу избыточного обращения к исторической памяти в США. Майер имел в виду не столько научный мемориальный дискурс, сколько голоса, настроения, социальные инициативы и движения в американском обществе и американской политике. Поводом для критики послужило сооружение мемориального Музея Холокоста в вашингтонском Национальном парке. Музей Холокоста способствовал формированию общей идентичности всех американских евреев, разделенных различными культурными традициями, а кроме того, он добавил в национальную память всех американцев еще один общеобязательный компонент. Однако Майер выразил несогласие с такой консолидацией нации вокруг памяти о еврейских жертвах, ибо сооружение подобного центрального «места памяти» служит, по его мнению, «прикрывающим воспоминанием», способным затмить собой другие исторические события, в которых американцы находились не на стороне жертв, а на стороне преступников. Майер задал следующие «эвристические» вопросы: «Почему бы не создать Музей американской работорговли? Не правильнее ли использовать американскую землю и национальные финансовые ресурсы для того, чтобы наглядно увековечить память о своих преступлениях, о том, за что несет ответственность наша собственная страна? …Почему бы не создать музей, посвященный страданиям индейцев, погибших от чумы, в бойне на ручье Вундед-Ни или от алкоголизма, процветавшего в резервациях? …Почему мемориал напоминает о катастрофе Холокоста, но не напоминает о невольничьих рынках или об этнической чистке индейцев чероки, которую устроил Эндрью Джексон?»[196]
За оба последние десятилетия сложились две характеристики мемориальной политической практики:
Отчетливое преобладание негативных событий по сравнению с позитивными.
Отчетливое преобладание памяти о жертвах по сравнению с памятью о преступниках.
Односторонняя сосредоточенность на негативных моментах прошлого обычно сочетается с привилегированным положением жертв, когда их страдания воспринимаются как ценное достояние и важный символический капитал. Привлечение внимания к жертвам представляется Майеру не только стратегией выживания для социальных меньшинств и инструментом защиты их идентичности, сколько признаком уныния, застоя или коллективного самодовольства. Память, указывает Майер, служит своеобразным наркотиком, порождающим новые виды наркотической зависимости. Расширившиеся притязания на роль жертвы обостряют конкуренцию за признание жертвенного статуса ради соответствующих экономических благ и политического влияния. Кристиан Майер делает следующий вывод: вину за описанные тенденции несет «мемориальная индустрия», которая множит разновидности коллективной памяти и политики идентичности. Вместе с этим углубляются этнические различия, что непосредственно влечет за собой негативные политические последствия для сохранения национального консенсуса[197].
Высказанное Кристианом Майером недовольство мемориальной культурой относится прежде всего к тому, как используют память в рамках политики идентичности миноритарные и дискриминируемые группы, которые, усиливая сепаратистские тенденции, ставят под угрозу национальную консолидацию США. Но с точки зрения жертвы ситуация выглядит совершенно иначе. Те, кто отстаивает права миноритарных и дискриминируемых групп, «вынуждены самоорганизовываться, чтобы заставить услышать свой голос»[198]. Последние десятилетия убедительно свидетельствуют, что без внимания к себе и определенного политического лоббирования нельзя добиться диалога, нельзя расшатать и изменить устойчивые формации памяти и властных отношений.
Замечание Майера, что память оказывается сосредоточенной на страданиях, подтверждается множеством примеров. Действительно, страдания и катастрофы запечатлеваются в памяти наиболее глубоко. Насколько чувствительной и надежной оказывается память жертвы, настолько же нечувствительна и ненадежна память преступника, которая избегает воспоминаний. В зависимости от того, идет ли речь о жертве или преступнике, память характеризуется тенденцией к «наркотической зависимости» или же к абстиненции. Такую асимметрию точно подметил Фридрих Ницше:
Это сделал я, говорит моя память.
Я не мог этого сделать, говорит моя гордость и остается безжалостной.
В конце концов память уступает[199].
Эксклюзивный и инклюзивный экскурс о жертве
Историк Мартин Сабров утверждает, что произошла радикальная трансформация современной политической культуры, ибо за несколько десятилетий она сменила ориентированный на будущее идеал прогресса ориентированным на прошлое идеалом памяти. Подобная трансформация сопровождалась сменой и других общественных идеалов: «В центре современной исторической культуры находится уже не идеал героя, а идеал жертвы»[200]. Дискурсивный переход от героизации к виктимизации представляется Саброву не столько немецким, сколько в целом западным явлением. Подобно тому, как Чарльз Майер объясняет горячую конъюнктуру категории «жертва» дифференцированностью и плюрализацией коллективных идентичностей, так, по мнению Мартина Саброва, замена героя жертвой символизирует «расставание с нацией и народом как коллективным субъектом истории»[201].
Сабров рисует эту эволюцию от героя к жертве на примере немецкой истории XX века. Если герой действует автономно, то есть руководствуясь своей волей и собственными ценностями, то жертва отмечена печатью бессмысленного страдания. Решающими характеристиками служат субъектность, автономия и активность, с одной стороны, и объектный статус, гетерономия и пассивность – с другой.
Насколько наглядно и убедительно противопоставление мотивированного (обычно вооруженного) борца мирному объекту насилия, настолько же сложным оказывается само понятие жертвы, особенно если увязывать его с первой фазой истории XX века. Ведь тех, кто погиб в результате Первой и Второй мировой войн, именовали жертвами, причем эти жертвы считались героическими. Поэтому в связи с ними Сабров говорит о «трагической жертве-герое». Семантическое возвышение жертвы на войне и в борьбе делает из жертвы героя или мученика, который совершает самопожертвование (добровольная жертва – sacrificium). Подобная аффирмативная риторика, подразумевающая не только солдат, но и коллективную готовность всей нации к самопожертвованию, обнаружила свою несостоятельность после 1945 года, когда, по словам Саброва, «восторжествовала жертвенная перспектива» (точнее говоря, трансформировалась семантика жертвенности). Рамочная трансформация от «sacrifice» к «victim», в ходе которой понятие жертвы приобрело новое значение претерпевания пассивного, безвинного страдания, увязывается Мартином Сабровым с моментом Сталинградской битвы: «Сталинград служит обозначением для перехода от героического дискурса первой половины XX века к жертвенному дискурсу второй его половины». Гибель Третьего рейха, пережитая как катастрофа, развела по разные стороны жертвы, претерпевающие страдание, и героические жертвы, поэтому Боннская республика смогла конституировать себя как «сообщество жертв»[202].
Сабров называет эту семантическую перекодировку «самовиктимизацией» немцев, то есть такой установкой, когда собственные страдания занимают центральное место, чтобы отвлечь внимание от своей причастности к совершенным преступлениям. Категория пассивной жертвы оказалась чрезвычайно растяжимой; она охватывает всех, кто был вынужден спасаться бегством или пострадал от депортаций, бомбежек, изнасилований; к данной категории можно причислить даже Гитлера, как это делает кинофильм «Бункер», изображая его жертвой собственного безумия.
Историческая ретроспекция Мартина Саброва реконструирует непрерывную жертвенную историю немцев на протяжении XX века, которая тянется от Лангемарка до современной мемориальной культуры, базирующейся на «самоотождествлении с жертвами». Сабров считает, что «героизация и виктимизация взаимосвязаны гораздо теснее, чем это видится на первый взгляд»[203]. Данный пример вновь обнаруживает всю зыбкость понятия «жертва», которое колеблется между такими полюсами, как активность и пассивность, гордость и апатия, убежденность и отчаяние. Выявленная Сабровым диалектика немецкой самогероизации и самовиктимизации как двух сторон одной и той же жертвенной медали скрывает, однако, еще одну трансформацию в семантике жертвы, связанную с памятью о Холокосте. Эта историческая катастрофа вспоминается не только выжившими или родственниками и близкими погибших евреев в рамках самовиктимизации, базирующейся на самоотождествлении с жертвами, но и все более расширяющимся транснациональным не-еврейским сообществом, которое объединено общей памятью о жертвах и сочувствием к ним. Подобное игнорирование переориентации с немецкой самовиктимизации на общее сочувствие к еврейским и другим жертвам немецкой политики насилия означает недопустимое сужение взгляда на рассматриваемую тему. Здесь мы, несомненно, сталкиваемся с третьей, не менее важной категорией жертвы помимо героической и страдающей жертвы, а именно с жертвами собственных преступлений и жертвами, вызывающими сочувствие. Перед лицом крайней расплывчатости понятия жертвы совершенно необходимо в каждом конкретном случае уточнять его, а не оставлять свободно толкуемым означающим со всей его суггестивной неопределенностью и зыбкостью. Поэтому полемические термины вроде «мемориальной культуры, базирующейся на самоотождествлении с жертвами» нуждаются в обязательной конкретизации, чтобы понять, о чем вообще идет речь.
В рамках «политики покаяния» и признания исторических травм возникли – применительно к разнообразным контекстам – новые формы памяти о жертвах собственных преступлений. Но наряду с проявлениями сочувствия привилегированный статус жертвы в 1990-е годы породил и новые формы самовиктимизации и политики идентичности. Ирландия и Польша являются нациями с долгой традицией жертвенной истории; Австрия после 1945 года объявила себя «первой жертвой Гитлера». Государства, получившие независимость после крушения Восточного блока, основывали свою идентичность – за исключением ГДР – преимущественно на роли жертвы, сделав травматическую историю сталинских репрессий и советской оккупации коллективной опорой отношения к прошлому. Новые национальные музеи наглядно и с большим пиететом отображают эту жертвенную историю, представляя сопротивление насилию в качестве героических истоков зарождения нации. Названия музеев говорят сами за себя: Дом террора (Будапешт), Музей оккупации (Рига, Таллин), Музей жертв геноцида (Вильнюс; речь идет о литовцах). Героические и претерпевающие страдание жертвы сливаются в новой конструкции национальной идентичности. Травматическая история, еще активно присутствующая в живой памяти современников, запечатлевается музейными экспозициями, школьными учебниками и различными жанрами коммеморации в качестве национального нарратива, что находит большое одобрение у населения.
Национальный образ в качестве коллективной страдающей жертвы оборачивается новыми политическими проблемами. У нации, выстраивающей такой образ, происходит этнизация страдания, что влечет за собой опасное отторжение плюралистических тенденций. Джи-Хьюн Лим говорит в данной связи об «унаследованной жертвенности» (hereditary victimhood)[204]. Если следующие поколения коренного населения делают унаследованную историю страданий сердцевиной национальной идентичности, то и мигрантам, и различным этническим меньшинствам становится трудно добиться признания и полноправного участия в жизни общества. Другой проблемой оказывается односторонность национальной памяти или, иначе говоря, селективная амнезия: если нация видит себя в роли коллективной жертвы, она вряд ли готова включить в национальный нарратив эпизоды собственных преступлений, коллаборационизма с фашистскими оккупантами, участия в истреблении евреев. Напротив, роль пассивной жертвы служит удобной моральной позицией, ибо она защищает от ответственности за прошлые или недавние преступления. Национальная самовиктимизация оборачивается нежеланием или неспособностью осуществлять «политику покаяния», которая создает возможность сочувственного отношения к жертвам собственной государственной политики.
При этом жертвенные нарративы обычно отнюдь не фиктивны; они основаны на реальном историческом опыте и глубоких долговременных травмах. Однако жертвенные нарративы являются частью политической саморепрезентации, порождающей особые проблемы. В привычной логике национальной идентичности роль преступника и роль жертвы взаимно исключают друг друга. Жертвенные нарративы строятся таким образом, что история страдания становится ядром идентичности и единственным содержанием коллективной памяти. Все, что не находит себе места в таких рамках памяти, исключается из публичной коммуникации. Упрочение национальной жертвенной идентичности затрудняет сближение, коммуникативный обмен, примирение с совершившими преступление и препятствует признанию возможной чередующейся смены ролей во взаимоотношениях между жертвами и преступниками.
После 1945 года в Западной Германии сформировалась жертвенная идентичность, глубоко укоренившаяся в сознании людей. Послевоенная «самовиктимизация» характерна для немцев, которые, чувствуя себя жертвами, обманутыми нацизмом, пострадавшими от бомбардировок английской и американской авиации, от произвола советской оккупации, не сознавали собственную причастность к преступлениям[205]. Отличие этой ситуации от новой жертвенной идентичности, сложившейся в Центральной и Восточной Европе, состоит в том, что послевоенная немецкая самовиктимизация не нашла отражения в государственной символике»; живая память немецких семей, воспоминания очевидцев полнились рассказами о страданиях, но им не нашлось места в музеях и памятниках, отражающих позицию государства, которая доносится до общественности. Радикальный сдвиг «чувствительности по отношению к жертвам» произошел в 1970-е и 1980-е годы, когда внимание миллионов немцев, считавших себя жертвами Гитлера, переключилось на нацистскую политику геноцида, в результате которого «жертвами немцев стали миллионы людей»[206]. После объединения Германии окончательно закрепился официальный национальный нарратив вины за совершенные преступления, что отразилось в государственной программе ухода за мемориалами в бывших концлагерях и в создании центрального Мемориала Холокоста, зримо воплотившего его идею не только для самих немцев, но и для иностранцев, приезжающих в Берлин.
По сравнению с постсоветскими странами Восточной Европы в Германии возникла обратная проблема. Если там преобладает жертвенный нарратив, который пока исключает признание собственной вины за совершенные преступления, в Германии доминирует официальный нарратив вины, который вроде бы исключает возможность признать жертвами самих немцев. Когда в начале нового тысячелетия книги, фотоальбомы и кинофильмы оживили воспоминания немцев о беженцах, насильственных депортациях, бомбежках и изнасилованиях, тут же актуализировался нормативный дискурс, зазвучали недовольные голоса тех, кто назвал это возвращением общества к немецкой жертвенной идентичности 1950-х годов, в чем усматривалось отрицание вины за совершенные преступления. В таком контексте немецким семьям, где еще живут и от поколения к поколению передаются воспоминания о перенесенных страданиях, не приходилось рассчитывать на общественное признание этих страданий и на сочувствие, которое способствовало бы интеграции тяжелых воспоминаний в общую картину Второй мировой войны. Вместо этого подобные воспоминания вызывали отчуждения и недоверие, воспринимаясь как способ самовиктимизации и попадая под огульное подозрение в историческом ревизионизме.
Упорная политизация данной проблемы «Центром против изгнаний» привела к тому, что память о 2 миллионах погибших беженцев и депортированных, едва вернувшись в немецкое общественное сознание, вновь оказалась для многих запретной темой. Воинственная позиция Эрики Штайнбах, возглавившей инициативу по созданию «Центра против изгнаний», в Польше вызвала подозрение, что дело может дойти до ревизионистских притязаний, и это омрачило взаимоотношения партнеров по Европейскому союзу. В Германии же справедливое желание, чтобы все немецкое общество разделило память о бегстве и изгнании, обернулось надуманной дискуссией о конкуренции жертв. Причем в центре дискуссии оказалась не история жертв, а борьба за то место, которое им отводится в некой мемориальной иерархии.
Позиция инициаторов «Центра против изгнаний» подверглась критике со стороны Михи Брумлика, который отметил вопиющее игнорирование принципиальных различий. Уже в «Хартии беженцев», пишет Брумлик, исчезло «различие между жертвами среди немецкого населения и жертвами Холокоста, истребления цыган, уничтожения многих миллионов польских и советских граждан». Он высказался категорически против «создания национального мемориала, похожего на памятники погибшим евреям», ибо такой мемориал фактически ставит под вопрос уникальность Холокоста и его центральное место в немецкой мемориальной культуре[207]. Дискурс о конкуренции жертв, спровоцированный инициативой по созданию «Центра против изгнаний», скорее препятствует общественному признанию бедствий депортированных и беженцев, нежели увеличивает сочувствие к судьбам этих людей. Но почему решительно исключается возможность совместить в национальной памяти воспоминания как о жертвах, так и о преступниках, тем более что во Второй мировой войне массовое насилие, развязанное немцами, непосредственно взаимосвязано с пережитыми ими страданиями? По словам Брумлика, «немецкие жертвы Второй мировой войны также имеют право на достойное поминовение». Проблема такого поминовения заключается не в конкуренции жертв, а в том, что речь при этом идет не только «о гибельных последствиях национал-социализма для самих немцев», но и о преступлениях, совершенных их европейскими соседями. Односторонняя память жертв о преступлениях, совершенных по отношению к ним в соседних странах и стирающихся из памяти национальными жертвенными нарративами, порождает сильные внутриевропейские трения; эти трения можно преодолеть только общими формами транснациональной коммеморации, существующей на основе взаимного уважения и восстановленного доверия[208].
Если историческая наука находит место для чередующейся смены ролей преступника и жертвы, то в конструкции памяти часто происходит сужение перспективы за счет «естественной» и фундаментальной потребности субъекта в положительном представлении о самом себе. Подобную избирательность памяти и ее сужение применительно к идентичности Фридрих Ницше объяснял гордостью; он ввел понятие горизонта памяти: «Горизонт замкнут и закончен, и ничто не может напомнить, что по ту сторону горизонта существуют люди, страсти, учения, цели»[209]. Память устроена перспективно, она не открывает всесторонний доступ для новой информации. Речь идет не только об эмоциональном давлении, которое делает гордость или пассивную жертвенность контроллером для доступа к памяти, но и о нормативном давлении на рамки памяти. Поэтому так важно, чтобы избирательность коммеморативных процессов становилась предметом рефлексии и дискуссий, благодаря которым можно находить те или иные формы компромисса и взаимопонимания. Целью должна стать не замена рамок памяти по принципу «либо – либо», а их расширение по принципу «и-и». Растущий интерес к исторической конкретике, к разнообразию и неоднозначности исторического опыта имеет важное значение для сближения между памятью и историей.
Далее будут рассмотрены три модели, позволяющие преодолеть конкуренцию жертв: инклюзивное понятие жертвы; концепция «разнонаправленной памяти» (multidirectional memories), сформулированная Майклом Ротбергом; и предложенная мной модель диалогической памяти. Начнем с инклюзивного понятия жертвы, которое, расширяя представление о жертве, обходит вниманием проблему преступника. Рут Клюгер подвергла острой критике такое сочувствие к жертве, которое одновременно игнорирует преступника и пренебрегает восстановлением справедливости по отношению к жертве. Рут Крюгер называет это «псевдопреодолением прошлого». Примером реализации инклюзивного понятия жертвы, которое, в сущности, снимает вопрос о вине и ответственности, служит мемориал «Нойе Вахе» в центре Берлина; после объединения Германии Гельмут Коль сделал его в 1992 году главным национальным мемориалом, связав «Нойе Вахе» – что мало кому известно – с проектом времен Конрада Аденауэра, который очень хотел успеть за время своего канцлерства создать памятник жертвам Второй мировой войны. На дорожном указателе автобана неподалеку от Геттингена значится: «Памятник вернувшимся с войны». Если повернуть, следуя указателю, попадаешь в пригород Фридланда, где на зеленом холме высятся бетонные стелы; надпись сообщает, что монумент сооружен в 1967 году как «благодарственный символ». Другие надписи напоминают о 10 с половиной миллионах военнопленных, последний эшелон с которыми вернулся домой в 1956 году; о 15 миллионах немцев, насильственно депортированных из разных регионов; о примерно миллионе немцев, угнанных в Сибирь; о 2 миллионах жертв принудительного переселения и о 9 миллионах 340 тысячах немцев (солдат и гражданских лиц), погибших на войне. Еще одна табличка упоминает пятьдесят миллионов «убитых и погибших» на разных континентах, в морях и океанах. Концепция монумента подразумевает лишь пострадавших от самой войны, ибо создание мемориала в те годы еще не предусматривало «возможное участие еврейских организаций или объединений иностранных граждан, пострадавших от диктатуры национал-социализма»[210]. Здесь вновь наглядно проявляется «сужение памяти». Жертвенная перспектива вернувшихся с войны и всех тех, кому посвящен мемориал, еще исключала мысль о людях, ставших жертвами самих немцев. Когда после объединения Германии Гельмут Коль задумал превратить «Нойе Вахе» в главный национальный мемориал, было решено расширить его концепцию, чтобы охватить действительно все категории жертв. Если монумент во Фридланде множеством табличек, рубрик и цифр с бухгалтерской точностью учитывает различные категории немецких жертв, то берлинский мемориал ограничивается лапидарным и обобщенным посвящением: «Жертвам войны и диктатуры». Однако эта – по замыслу инклюзивная – формула была принята в качестве таковой отнюдь не всеми. Еврейским согражданам трудно связать собственную память о жертвах с христианской пиетой, фигурой скорбящей матери, авторство которой принадлежит Кэте Колльвиц – ведь газовые камеры и расстрельные команды не оставляли в живых скорбящих матерей. Предложенная символика мемориала многими не была воспринята. Возникла лакуна, заполнить которую был призван Мемориал Холокоста. Вопреки первоначальному замыслу мемориал «Нойе Вахе» не смог стать действительно инклюзивным, он лишь подхватил интенцию аденауэровского монумента во Фридланде.
Инклюзивное понятие жертвы стирает предложенное Вернером Коницером различие между «памятью, базирующейся на самоотождествлении с жертвами» и «памятью о жертвах своих преступлений». Йенс Кро усматривает в нынешнем стремлении парламента ЕС связать память о Холокосте с памятью о преступлениях сталинизма ту же ошибочную стратегию, направленную на реализацию инклюзивной концепции жертв, где нет места преступникам. Он говорит о «европейской самовиктимизации»: «В отличие от конца XX века память о виновности еще не служит общим знаменателем для мемориальных культур в Европе», ибо ныне «национальные мемориальные культуры переориентировались на жертвенность»[211].
Слово «самовиктимизация» имеет негативный оттенок, указывая на определенную саморепрезентацию, которая скрывает или маскирует собственную вину и причастность к преступлениям. Подобная терминология затрудняет или даже делает невозможным доступ к эмоциональным слоям памяти. Здесь мы вновь имеем дело с морализацией истории. Нарратив о страданиях, не вписывающийся в заданные рамки, подвергается критике или отвергается по соображениям целесообразности. Цензура по отношению к пострадавшим или их потомкам, которая осуществляется с позиций радикальной политкорректности, оказывается весьма проблематичной, ибо она нарушает права человека на собственные воспоминания и связанные с ними переживания, а следовательно, отказывает и в сочувствии к перенесенным страданиям. Подобные стереотипы остаются в плену избирательной логики, которая по-прежнему определяет мемориальный дискурс. Она предполагает, что память о собственных страданиях автоматически не позволяет понять страдания другого. На смену нормативным сужениям должно прийти расширение рамок мемориального пафоса, которое соответствует праву каждого человека на индивидуальные воспоминания при условии, что собственные страдания не заслоняют для него чувство справедливости и способность откликаться на страдания других людей.
Расколотая память Европы
В Европе до сих пор существуют несовместимые воспоминания, раскалывающие европейскую память. Эту тему мне хочется начать бытовым эпизодом, а именно разговором, который состоялся у меня с одним польским математиком за завтраком в мадридском студенческом общежитии. Польский коллега принимал участие в математической конференции, а я приехала на симпозиум, посвященный исторической памяти. «Память? Это про что? – поинтересовался собеседник. – Про психологию? Медицину?» Я объяснила, что сегодня мы говорим не только об индивидуальной, но и о коллективной памяти и что ныне уже сформировалась новая область научных исследований, которые изучают то, как социальные группы и целые нации вспоминают собственное прошлое. Математик возразил: он, дескать, с трудом представляет себе, о чем идет речь, к тому же его поколение, родившееся в 1970-е годы, историей не интересуется. Однако в ходе дальнейшей беседы он обнаружил немалую осведомленность об актуальной польской дискуссии насчет исторических событий от Катыни до Едбавны. Знал он также подробности недавнего скандала вокруг историка Томаша Гросса, написавшего о поляках, которые после войны раскапывали в поисках золота захоронения в Треблинке и других бывших лагерях смерти[212]. Рассказал он мне и о своем отце, который родился сразу после войны и, в отличие от сына, был одержим интересом к истории. Отец до сих пор считал для себя невозможным посещать Германию. По той же причине он является ярым противником Европейского союза, ибо видит в нем всего лишь новый вариант немецкого империализма.
Состоявшаяся беседа в очередной раз продемонстрировала мне, насколько сильно влияют события прошлого, произошедшие еще до рождения нашего современника, на его нынешние эмоциональные реакции и политические оценки. При этом разница в социализации и историческом опыте приводит к различию взглядов у представителей разных поколений: отцу, воплощающему собой коллективную жертвенную память польской нации, все еще мерещится в европейских партнерах облик прежнего врага; сын, освободившийся от этого исторического бремени, продолжает с интересом следить за спорами вокруг интеграции исторической вины за совершенные преступления в национальную память. Решающим фактором является то, что в странах бывшего Восточного блока формируется иная историческая память, нежели в странах Западной Европы.
Все это напрямую связано с европейской историей, в частности с 8 и 9 мая 1945 года. После выступления федерального президента Рихарда фон Вайцзеккера, посвященного 8 мая 1945 года, немцы постепенно перестали отмечать эту дату как «день поражения» и во все большей мере признают ее «Днем освобождения». Тем самым Германия до известной степени присоединилась к западноевропейской памяти победителей, не утратив, однако, сознания своей вины и ответственности. Германия вошла в западноевропейскую мемориальную культуру, но одновременно четко обозначилась разделительная граница между западной и восточной частью Европы, поскольку 9 мая 1945 года восточноевропейские страны попали под советскую оккупацию, что продлило историю их страданий на четыре десятилетия. Этим оказались заблокированными все импульсы демократического развития и национального самоопределения; любое воспоминание о политических преследованиях и гибели людей в сталинских лагерях резко подавлялось.
Говоря упрощенно, европейскую память можно представить себе в виде эллипса с двумя центрами. Если в одном случае центральным событием является Холокост, то в другом эта роль выпала преступлениям сталинизма, массовому террору и ГУЛАГу. Что касается международного признания, то между обоими историческими событиями до сих пор остается вопиющая асимметрия, которая не снимается единой исторической памятью и продолжает раскалывать Европу. Начнем с первого центра эллипса – восхождения Холокоста на вершину национальной памяти и его превращения в «учредительный миф». Во времена холодной войны в немецкой памяти доминировали воспоминания о Второй мировой войне, о чем свидетельствует аденауэровский монумент на окраине Фридланда; понадобились десятилетия, чтобы это преступление против человечности заняло прочное место в сознании мирового сообщества. Состоявшийся в январе 2000 года форум, посвященный Холокосту, в котором приняли участие более сорока государств, завершился декларацией, участники которой заявили о намерении возвести память о Холокосте на международный уровень, выразив тем самым решимость бороться против геноцида, расизма и ксенофобии. Учрежденная стокгольмской конференцией «Целевая группа по международному сотрудничеству в области просвещения, исследований и увековечивания памяти о Холокосте» (ITF)[213] внесла значительный вклад в развитие европейской мемориальной культуры, по отношению к которой все страны-участницы взяли на себя определенные обязательства. Неправительственная организация ITF поставила своей целью:
сохранение памяти о Холокосте при переходе к новому тысячелетию и увековечивание ее, даже по ту сторону границы живой памяти свидетелей Холокоста;
сохранение памяти о Холокосте, которое преодолевает национальные границы и создает европейское сообщество с развитой мемориальной структурой институций, финансовых ресурсов и сетевых структур.
Мемориальное сообщество ITF объединяет ныне тридцать одно государство, среди которых помимо США, Израиля и Аргентины находятся исключительно европейские страны.
Зримым символом новой мемориальной политики стало учреждение нового памятного дня. 27 января, день освобождения советской армией концлагеря Освенцим, сначала, в 1996 году, был объявлен по инициативе федерального президента Германии Романа Херцога новым общегерманским днем памяти, а спустя четыре года эту инициативу подхватил шведский президент Гёран Перссон, который созвал в этот день в Стокгольме международный форум, посвященный Холокосту. Следствием этих событий стало учреждение во многих европейских странах Дня памяти Холокоста, ежегодно отмечаемого 27 января. Спустя пять лет после Стокгольмского форума Европейский парламент в Брюсселе, впервые почтив минутой молчания память об освобождении Освенцима, принял резолюцию, которая объявила 27 января во всех странах ЕС Европейским днем памяти о Холокосте[214].
С тех пор все чаще говорят о Холокосте как «учредительном мифе Европы»[215]. Интересный комментарий по данному поводу принадлежит историку Алону Конфино, выдвинувшему тезис о том, что роль Французской революции как учредительного мифа для западной культуры перешла теперь к Холокосту[216]. По мнению Конфино, Французская революция имела статус центрального исторического события, на котором строилась политическая культура Нового времени. Оно стало «символическим пособием», инструкцией по толкованию и использованию истории. Это «символическое пособие» служило разнообразным целям: «Им руководствовались различные политические и социальные движения, оно вдохновляло народные массы на национально-освободительную, революционную и антиколониальную борьбу в XIX и XX веках, как бы ни звались их вожди – Мадзини, Ленин, Роза Люксембург, Симон Боливар или Неру»[217]. Сравнивая память об основополагающих событиях западной истории, Конфино констатирует, что с 1980-х годов ореол вокруг Французской революции заметно померк, в то время как значение Холокоста постоянно возрастало. Объединяющим ключевым событием во все большей мере становится Холокост, именно это событие создает общие культурные рамки для исторических трактовок, этических ценностей, политических притязаний и новых базовых понятий. Тем самым Конфино подтверждает эволюцию ценностей от революционно-героической семантики к семантике страдающей жертвы, от «триумфа» к «травме» (Бернхард Гизен), от политических мифов к правам человека.
Говоря о Холокосте как об учредительном европейском мифе, часто забывают, что Холокост почитается в качестве объединяющего поминального символа лишь на западе Европы. В Восточной Европе доминирует иная память. По окончании холодной войны и после исчезновения мировой биполярности Европа пережила лавинообразный прилив воспоминаний, которые раньше подавлялись. Они радикально изменили историческую карту Европы, но характер перемен на востоке и западе значительно различался.
Политический распад Восточного блока выдвинул в центр национальной памяти воспоминания о коммунистической оккупации Восточной Европы и о преступлениях сталинизма, в то время как нацистская агрессия и коллаборационизм отошли на периферию. Тогда же в западноевропейских странах были открыты архивные аргументы о коллаборационизме и причастности к Холокосту. Важной историко-политической темой 1990-х годов стала международная дискуссия вокруг проблем реституции; речь шла о материальных компенсациях уцелевшим жертвам Холокоста и людям, которых угоняли на принудительные работы в Германию. Эта дискуссия переместилась в другие страны, поколебав положительные представления различных наций о самих себе. Череда компрометирующих документов и воспоминаний будоражила общественность, вызывая острые споры и ставя под сомнение однозначность и исключительность господствующих национальных нарративов. В свете новых знаний о вишистах во Франции или об антисемитизме в ГДР французы и восточные немцы уже не выглядели исключительно борцами Сопротивления и антифашистами; после скандала вокруг Курта Вальдхайма и событий в Едбавне Австрия и Польша уже не выглядели только странами-жертвами; даже нейтральная Швейцария обнаружила, что на ее банки и пограничников легла тень негативного прошлого. Тем самым на западе Европы впервые дала о себе знать память о собственной вине, связанной с Холокостом, что послужило причиной для созыва Стокгольмского форума и для учреждения ITF[218]. Государственное признание памяти о Холокосте и ее институционализация стали откликом на изменившуюся историческую чувствительность, связанную с расширением сознания европейской ответственности за Холокост.
Одновременно, как уже упоминалось, в странах Восточной Европы представление нации о самой себе фокусировалось на коллективной жертвенной памяти о временах советской оккупации и коммунистической диктатуры. Подобным культивированием статуса жертвы обусловлены новые политические проблемы: память о еврейских жертвах данного исторического периода исключалась из сознания или маргинализировалась; произошло заметное отмежевание восточноевропейских стран от их европейской идентичности, они утратили чуткость по отношению к другим жертвам и начали представлять собой угрозу собственным нацменьшинствам.
Если историки успешно работали над интегрированной историей насильственных режимов – достаточно вспомнить «Кровавые земли» Тимоти Снайдера и «Выжженную землю» Йорга Баберовски, две книги, которые раскрывают тесную взаимосвязь между сталинским террором, гитлеровским Холокостом и Голодомором, – то в европейской памяти эти события, надолго исчезнувшие за «железным занавесом», остаются отделенными друг от друга, продолжая давать поводы для ожесточенных споров. Януш Райтер, бывший польский посол в Германии, охарактеризовал эту ситуацию следующим образом: «Объединенная Европа остается в своей мемориальной культуре расколотым континентом. После расширения ЕС эта разделительная линия рассекла его надвое»[219].
Раскол европейской памяти можно проиллюстрировать двумя знаковыми фигурами европейской памяти о Холокосте и восточноевропейской памяти о сталинизме[220]. Симона Вайль, пережившая Холокост, убежденная сторонница европейской интеграции, возглавляет с 2000 года французский Фонд памяти о Холокосте. В своих публичных выступлениях она повторяет: «Холокост – наше общее наследие», считая его базовым императивом для всей западной цивилизации[221]. Второй знаковой фигурой является Сандра Калниете, пережившая ГУЛАГ и сыгравшая в 1990 году ключевую роль в латышском движении за независимость. Бывший министр иностранных дел, она боролась за интеграцию памяти о жертвах сталинского террора в мемориальную культуру Европы. Выступая на открытии Лейпцигской книжной ярмарки 24 марта 2004 года, Сандра Калниете говорила о жертвах сталинского террора, к числу которых принадлежала она сама и ее семья: «В Латвии нет семьи, которая не сумела бы поведать о пребывании в Сибири, о родственниках, которые бесследно сгинули в этом огромном морозном крае. Все истории очень похожи, разнятся только действующие лица. Годы депортации, места ссылок, страдания людей, полное отсутствие права и справедливости – все это было одинаковым»[222]. В заключение Сандра Калниете сказала, что память победителей не должна служить иммунитетом для преступников, совершившим эти злодеяния и находящимся в сфере юрисдикции нынешней России. Борьба против фашизма и победа над ним не может считаться чем-то, что навсегда оправдывает Советский Союз, освобождая его от ответственности за бесчисленное количество невинных людей, пострадавших во имя классовой идеологии.
На западе Европы жертвы еврейского геноцида и других преступлений против человечности обрели свое признание, однако это еще не произошло в Европе по отношению к жертвам сталинизма. Советский Союз, в отличие от послевоенной Германии, не пережил смену политического режима и не испытал внешнего давления, побуждавшего государство взять на себя историческую ответственность. Напротив, Советский Союз в качестве державы-победительницы сознавал – вместе с западными союзниками – свою моральную правоту. Все они боролись со злом в лице Гитлера и победили его, все они заложили основу нового европейского порядка. Несмотря на импульсы хрущевской «оттепели», направленные на преодоление преступлений сталинизма, эти мрачные страницы истории еще не вошли в официальную российскую историографию, а главное – не стали содержанием государственной мемориальной политики. Пока между потомками жертв и преступниками нет взаимопонимания относительно признания исторической вины, память о жертвах продолжит оставаться накаленной, препятствуя доступу к иным воспоминаниям (в соответствии с представлением об эксклюзивной логике памяти как игре с нулевой суммой). Вместо консенсуса мемориальных культур, включающего в общеевропейскую память воспоминания об обоих массовых преступлениях против человечности, это двойное бремя истории приобретает на политической арене не только характер конкуренции жертв, но и форму столкновения мемориальных культур.
Сандра Калниете внесла свой вклад в обострение конфликта. Она заявила, что «потерпевшие поражение также заслуживают своего места в истории континента»; по ее словам, «без этого исторического опыта миллионов людей европейская память останется односторонней, неполной и несправедливой»[223]. Кроме того, считает Калниете, «оба тоталитарных режима – нацизм и коммунизм – были одинаково преступны». Подобное заявление обернулось скандалом, что не способствовало обсуждению затронутой темы и, напротив, привело к ее новому замалчиванию. Мы касаемся здесь тех европейских нормативных рамок памяти, которые базируются на тезисе об уникальности Холокоста. Сравнение и отождествление обоих гигантских преступлений нарушают глубоко укоренившееся табу, что и подтвердилось скандалом, немедленно разразившимся после выступления Сандры Калниете. Это табу дает о себе знать во всех новейших дебатах, когда заходит речь об интеграции памяти жертв сталинизма в общеевропейскую мемориальную культуру. Проблема восходит к концепции тоталитаризма, появившейся в послевоенные годы. Она рассматривала фашизм и сталинизм как два варианта одного и того же феномена. Отличительные черты и уникальность Холокоста были выявлены лишь в результате дальнейших исторических исследований и оформились в «споре историков». Отождествление обоих гигантских преступлений XX века (о колониализме в этой связи речь не идет) считается с тех пор нарушением табу и рецидивом устаревших исторических воззрений, что вызывает почти столь же сильную моральную реакцию, как и отрицание Холокоста.
Поэтому все шаги ЕС, направленные на «осуждение преступлений тоталитарных коммунистических режимов» в Европе и признание жертв этих режимов, по-прежнему встречают недоверие и большое недовольство[224]. Эти и другие инициативы по преодолению раскола европейской памяти не приводят к успеху из-за упреков, что тем самым происходит отождествление преступлений фашизма и сталинского террора. Например, Йенс Кро отвергает не только инклюзивную конструкцию «Европы жертв», но и настойчиво предостерегает от попыток «примирить конкурирующие памяти в Европе» посредством сближения между «самоотождествлением с жертвами» и «теорией тоталитаризма». Хотя указанные инициативы декларируют уникальность Холокоста, однако «фактически сингулярность еврейского геноцида ставится под вопрос отказом от исторической дифференциации, когда в один ряд выстраиваются сталинский террор, голодомор, режим генерала Франко и Сребреница»[225]. Миха Брумлик решительно отвергает такое расширение памяти, которое объединяет жертвы гитлеризма с жертвами сталинизма. Брумлик настаивает на исторической дифференциации внутри теории тоталитаризма, подчеркивая не только уникальность Холокоста, но и существенные различия, например, между сталинизмом и политическим режимом ГДР. Брумлик протестует против «расплывчатого отождествления полицейско-социального государства, каким была ГДР, со сталинизмом» и напоминает слова Ханны Арендт о том, что «тоталитаризм закончился в России со смертью Сталина в не меньшей степени, чем это произошло в Германии со смертью Гитлера»[226].
Брумлик понимает желание создать в Европе общую культуру памяти об ужасах и преступлениях XX века, однако, по его мнению, путь к ней блокируется недостаточно четким механизмом дифференциации. Этот путь блокируется и принципиальным различием между интенцией исторических исследований, с одной стороны, и индивидуальными историями самих жертв – с другой. Если историка интересуют причинно-следственные связи, обобщения и оценки, то «для жертв несущественно… какой именно режим и по каким причинам лишал людей свободы, подвергал истязаниям и убивал их»[227].
Как же справиться с этой проблемой, чтобы создать общеевропейскую мемориальную культуру, избегая при этом нивелировки важных различий? Здесь мне хотелось бы обратиться к формуле Бернда Фауленбаха, которая была предложена применительно к немецкой мемориальной культуре, имеющей дело с «обеими диктатурами» и которая применима и к Европе в целом. Это соломоново решение позволяет избежать отож-дествления обоих массовых преступлений против человечности, не впадая в релятивизм. Повторю формулу Фауленбаха:
Память о преступлениях сталинизма не должна релятивизировать память о Холокосте.
Память о Холокосте не должна тривиализировать память о сталинизме.
С помощью определенного консенсуса при наличии разногласий и посредством иерархизации можно превратить непримиримую позицию «или – или» в компромисс «и-и», то есть найти модус интеграции для европейской памяти. Но пока еще сохраняется ситуация, когда на востоке Европы существует определенная отчужденность по отношению к памяти о Холокосте, а на западе схожая отчужденность ощущается по отношению к памяти о ГУЛАГе. Американский историк Чарльз Майер привел аналогию из области ядерной физики, чтобы проиллюстрировать различие между памятью о национал-социализме и памятью о коммунизме: подобно плутонию, «горячая» память о национал-социализме имеет длительный период полураспада, а у «холодной» памяти о коммунизме, как у трития, период полураспада гораздо короче[228]. Венгерский историк Ева Ковач так прокомментировала это сравнение: «Насколько могу судить, в посткоммунистических странах дело обстоит ровно наоборот: память о коммунизме остается горячей темой, а вот память о национал-социализме остыла»[229]. Этот тезис не опровергается созданием новых музеев Холокоста в странах Центральной и Восточной Европы. Но память о Холокосте оказывается как бы помещенной в гетто, пока связи с ней не будут отражены в национальных нарративах.
Однако совершенно непонятно, почему в европейской мемориальной культуре обе коммеморации должны противостоять друг другу, угрожая взаимным вытеснением. Как мы уже видели, память всегда испытывает дефицит пространства. Это является причиной конкурентной борьбы и опасений, что одна коммеморация может вытеснить другую. Но память о Холокосте уже институционализировалась столь многообразно, что обратный процесс вряд ли возможен. Отсюда непонятно, какие препятствия могут помешать интеграции обеих базовых коммемораций. Клаус Леггеви подчеркивает: «Лишь объединенная коммеморация о том и о другом прошлом, о государственных преступлениях национал-социализма и сталинизма, взрывает ограниченность национальных рамок. Антиавторитарная общественность должна стать подлинно европейской, если она хочет выйти из окопов холодной войны»[230]. Сохраняющаяся асимметрия обусловлена еще одним фактором, на который обращает внимание литовский литературовед Ирена Вейсайте: «Совершенно необходимо говорить и о ГУЛАГе, о совершавшихся там чудовищных преступлениях против человечности. Но западный мир к этому еще не готов. В сознании людей присутствует Освенцим как символ Холокоста. Но где символ ГУЛАГа? Его пока нет»[231].
«Если на западе произошла консолидация дискурса о Холокосте, то на востоке Холокост в качестве предмета конкурирующих и неустойчивых нарративов остается темой важной, но разделяющей общество»[232]. В Москве существует архив и международный научно-информационный центр общества «Мемориал», однако архив – это еще не символ и не репрезентант общеевропейской памяти[233]. В России память о сталинских преступлениях – несмотря на значительные усилия по десталинизации – еще не стала частью официальной и разделяемой всем обществом мемориальной культуры. Соответствующих памятников и мемориальных табличек в Москве не увидишь. Научно-информационный центр «Мемориал», который собирает и хранит исторические документы о преступлениях, свидетельства очевидцев, реликвии, хранящие память о пострадавших и уничтоженных, сам не имеет надежных перспектив в условиях автократической, репрессивной и националистической политики. Научно-исследовательский центр «Мемориал» может вернуться к неофициальному статусу хранителя «контрпамяти», с которого он некогда начинал.
В Брюсселе продолжают размышлять над тем, как «соединить память о Холокосте с памятью о сталинизме, чтобы современная европейская идентичность могла видеть оба явления в транснациональной европейской перспективе». Намерение Европейского парламента провозгласить 23 августа, день подписания пакта Гитлера – Сталина (Молотова – Риббентропа), памятным днем, посвященным обеим историям, пока не реализовано, поскольку подобное решение воспринимается как нивелирование и отождествление двух исторически различных коммемораций. В данных обстоятельствах, вероятно, предпочтительнее самостоятельная памятная дата, которая не послужит поводом для мгновенного упрека в провоцировании пресловутой конкуренции памятей. С расширением ЕС на восток европейцы обрели новые воспоминания, интегрировать которые в общую память оказалось непросто. «Дальняя родня» в европейском доме заставляет европейские страны встраивать собственную память в новые рамки[234].
Политика покаяния
В настоящее время появляется все больше убедительных свидетельств, опровергающих выведенный Фридрихом Ницше закон забвения постыдных событий. Наиболее ярким примером служит ритуал политического покаяния, который с конца 1990-х годов привлекает к себе внимание средств массовой информации. В рамках этого ритуала высокопоставленные политические деятели приносят публичные извинения за события недавнего времени или даже далекого прошлого, которые прежде упорно замалчивались официальной историей и государственными институтами. Подобные заявления высших должностных лиц, обращенные к мировой общественности, вызывают резкие сдвиги в памяти, что приводит к корректировке важных моментов соответствующего официального нарратива. Джеффри Олик говорит в этой связи о «политике покаяния» (regret); во французских текстах для этого используется понятие «repentance» (вместо привычного penitence). Подобный ритуал извинений является абсолютной исторической новацией. Прошлая вина возвращается в память, по поводу вины высказывается сожаление; тем самым совершается ценностный поворот к новому взгляду на собственную историю, определяющему будущее. Действенность этого ритуала в решающей мере зависит от средств массовой информации. Перформативный акт покаяния, просьба о прощении осуществляются на глобальной сцене; их адресатом служит мировое сообщество. Анонимные и виртуальные зрители становятся одновременно свидетелями исторического события. В отличие от католической исповеди, где перед кающимся находится лишь священник, связанный обетом молчания, здесь происходит коллективное признание вины перед лицом всего мира[235]. При этом история не только коммеморируется, сам акт коммеморации становится историей! Безусловным символом подобного коммеморативного акта служит коленопреклонение Вилли Брандта 7 января 1970 года перед памятником, посвященным еврейскому восстанию в Варшавском гетто. Правда, это еще не был акт просьбы о прощении, а лишь спонтанный, имеющий огромное значение жест в рамках новой восточной политики, которую проводил Брандт. Память об исторических событиях, присутствующая в перформативном акте ритуала покаяния, вполне аутентична и одновременно инсценирована; этим размывается категориальное различие между реальной и фикциональной репрезентацией действительности[236].
Хотя практика подобных ритуалов получает все большее распространение, однако перед многими наблюдателями она ставит различные вопросы, давая повод для критики. Может ли индивидуум говорить за целое общество, к тому же беря на себя ответственность за события, в которых не принимал личного участия? Нередко подвергается критике показной характер этого ритуала. Дескать, лицемерные заявления и чисто символические жесты делаются исключительно ради усиления собственной политической легитимации; или же с их помощью создается «прикрывающее воспоминание», то есть своего рода алиби; мол, все это скорее препятствует внутреннему моральному очищению, нежели способствует ему. Раздается требование отказаться от показного ритуала ради подлинного исторического просвещения. Конструирование подобного противопоставления непродуктивно, ибо ритуал сам является результатом исторического самоанализа и следствием нового взгляда на историческую перспективу. Критика ритуала покаяния обычно недооценивает тот эмоциональный вклад, который необходим, чтобы преодолеть собственную гордость, признавая перед всем миром свою вину. Поэтому такой жест должен считаться, говоря словами Чарльза Дарвина, «значимым признаком». Решающую роль здесь играет не вопрос субъективной искренности или политического расчета, а то, какие последствия повлек за собой ритуал покаяния или же отсутствие такового. Особенно показателен в данном отношении пример Австралии, где 13 февраля 2008 года в девять часов утра новоизбранный премьер-министр Кевин Радд, совершая свой первый официальный акт в качестве высшего должностного лица страны, публично выразил сожаление по поводу государственной колониальной политики, проводившейся с далеких времен до недавнего прошлого. В своем заявлении Радд с большим сочувствием высказался о страданиях, причиненных коренным жителям Австралии. Вся страна с немалыми надеждами следила за прямой телевизионной трансляцией этого выступления; позднее граждане Австралии повсюду вспоминали его как важное событие собственной биографии. Тем сильнее оказалось общественное разочарование, когда выяснилось, что заявление Радда не повлекло за собой никаких юридических или политических последствий. Исторический потенциал, заложенный в акте политического покаяния, растрачивается впустую и даже порождает общественную фрустрацию, если он не сопровождается политическими переменами, не устраняет острых проявлений социального неравенства.
Перформативный ритуал политического покаяния играет особую роль применительно к истории преступлений, связанных с колониализмом и работорговлей. В обоих случаях речь идет об «исторических травмах», об эксцессах насилия по отношению к этническим или социальным меньшинствам внутри собственного общества и о стремлении осуществить полную интеграцию этих меньшинств через признание пережитых ими страданий и примирение с ними. К ритуалу покаяния прибегают не только государственные органы, но и общественные институты, причем здесь результаты тоже далеко не всегда соответствуют завышенным ожиданиям. Так в случае с католической церковью ритуал покаяния исподволь превратился в самооправдание. Публичное покаяние обернулось «апологией» (оправданием).
Йозеф Рацингер, еще будучи кардиналом, играл важную роль при составлении текста молитвы «Mea Culpa», публично произнесенной Иоанном Павлом Вторым на площади Святого Петра в марте 2000 года; молитва перечисляла все преступления католической церкви: от Крестовых походов, инквизиции и сожжения ведьм до Холокоста. При этом, как критически отметили многие, пятно легло не на непогрешимую церковь, а на ее согрешивших служителей. Особенно бледным получился покаянный фрагмент о Холокосте: «Можно задаться вопросом, не способствовали ли национал-социалистическому преследованию евреев те антисемитские предрассудки, которые жили в умах и сердцах некоторых христиан»[237]. Спустя восемь лет Йозефу Рацингеру, который стал папой Бенедиктом, пришлось самому в Сиднее на Всемирном слете католической молодежи принести публичные извинения за священников-педофилов.
Существуют и иные примеры, когда ритуал покаяния служит самооправданию, а не принятию на себя исторической ответственности за совершенные преступления. Но голая риторика не способна стать «значимым признаком». Так в мае 2013 года сербский президент впервые принес извинения за убийство более 7 тысяч боснийских мусульман в июле 1995 года. В интервью боснийскому телеканалу он сказал: «Стоя на коленях, я прошу прощения за преступление, совершенное сербами в Сребренице». Эмоциональное заявление не убедило боснийцев. Ведь международный трибунал (ICC) квалифицировал это преступление как акт геноцида. Председатель объединения матерей Сребреницы возразила на прозвучавшее заявление: «Мы хотим услышать от сербского президента слово “геноцид”!»[238]
Действительно новым в ритуале политического покаяния (и об этом нельзя забывать при всей критике пустой риторики) является его связь с распространением идеи прав человека, ее углублением и актуализацией; эта идея во все большей мере завоевывает признание в западном мире параллельно с возвышением памяти о Холокосте. Эпоха постмодерна характеризуется глобализацией и новым универсализмом. В этом контексте реализация универсальных принципов прав человека оказывается востребованной все более широкой, глобальной аудиторией, которая состоит из виртуальных и непосредственных очевидцев разворачивающихся событий. Подобная связь фундаментальных политических ценностей с международной общественностью, поддерживаемая средствами массовой информации, становится политически взрывоопасной, ибо теперь не только национальные лидеры, но и любой неизвестный одиночка может оказаться в центре внимания. Постмодернистское кредо прав человека изменило значимость политических факторов, что привело к защите социальных групп, подвергавшихся ранее дискриминации, а также к признанию виновности лиц, несущих политическую ответственность за преступления по отношению к этим группам. Начиная с 1990-х годов формируется политика покаяния, учреждается международный трибунал, создаются комиссии правды и примирения, которые расследуют преступления режимов, нарушающих права человека, и предают гласности результаты своих расследований. Такая работа приводит к переписыванию национальной истории, где впервые получают признание жертвы этой истории, которым возвращается чувство собственного достоинства и которые обретают свое место в национальной памяти. Тем самым происходит своего рода квантовый скачок в практиках мемориальной культуры, ибо впервые национальная память интегрирует жертв собственной государственной политики.
Новая мемориальная культура необратимо изменила наш взгляд на историю колониализма. Мы имеем здесь дело не только с конкуренцией жертв, как считает Чарльз Майер, но и с вполне диалогической взаимосвязью между памятью жертв и памятью преступников. Примером этому служат комиссии правды и примирения, призванные справиться с переходным процессом после гражданской войны, чтобы создать новую основу для жизни общества. Государства, не пережившие радикальной трансформации политической системы, также стремятся актами политического покаяния продемонстрировать обществу свою готовность к внутренней эволюции ценностных установок. Игнорируя эти новые процессы, невозможно осознать эпохальность событий, необратимо изменивших наш мир. Такой же результат дает и огульная критика этих процессов. Политическое покаяние, несомненно, несет с собой новые проблемы, есть претензии и к внешней стороне ритуалов, однако все это не оправдывает огульной оценки политического покаяния как «патологического симптома западного мазохизма»[239]. За подобной циничной характеристикой стоит прозрачное желание защитить собственную гордыню от давно состоявшейся ценностной эволюции, чтобы воспрепятствовать переоценке колониального прошлого. Имеют место и попытки дискредитировать политику покаяния как якобы проявления морального империализма и немецкой гегемонии в Европе. Так или иначе, пишет Энн Ригни, политика покаяния широко утвердилась в качестве культурной парадигмы не только в Европе; с ее помощью – пусть еще медленно и непоследовательно – решаются проблемы конфликтов, унаследованных от времен колониализма и работорговли. Она добавляет: «Европейцы еще не выработали общий нарратив своей истории, однако их уже объединяет общая мемориальная культура»[240].
Исторические травмы
Понятие «исторической травмы» введено, чтобы продемонстрировать то значение, которое имеет память для преодоления наследия, оставленного колониализмом и работорговлей. Дипеш Чакрабарти понимает под «исторической травмой» «сочетание истории и памяти»[241]. Если большинство его коллег продолжает размышлять о противоположности и несовместимости истории и памяти, индийский историк подчеркивает их тесную взаимосвязь. Сознание исторической травмы возникло не в исторической науке, а в мультикультурной политике признания. Научные исследования подчиняются собственным объективным законам, а потому тщательно избегают любой пристрастности и вмешательства извне; политика признания, напротив, базируется на обосновании и утверждении идентичностей. Признание исторических травм представляет собой абсолютную историческую новацию, ибо ей предшествуют многие столетия политически мотивированной, но уже кажущейся вполне естественной дискриминации, которая лишает равноправия чужеродную социальную группу. Взаимоотношения людей зависят прежде всего от того, на какую ступень они ставят друг друга. Ступенчатая иерархия играет при этом ключевую роль. На протяжении длительного исторического периода определяющее значение для общества и политики имело существование иерархической шкалы, внутри которой высокое или низкое положение устанавливалось насильственным путем, поддерживая имущественное и социальное неравенство. Войны воспроизводят это неравенство сначала между другом и врагом, затем между победителем и побежденным; тем самым периодически решается, кто на данный период наделен правом действовать и принимать решения, а кто вынужден подчиняться. Однако люди выстраиваются в иерархию верхов и низов не только благодаря войнам или завоеваниям, но и под воздействием дискурсивных актов, культурных традиций и идеологических предпосылок. Наряду с политической иерархией, базирующейся на различии друг – враг и представляющей собой подвижную, изменчивую систему властных отношений, существует другая иерархия вне сферы вооруженных конфликтов и политического соперничества. Здесь идет речь уже не о политическом, а о культурном неравенстве, которое возникает, когда могущественная социальная группа в одностороннем порядке лишает прав другую социальную группу. Основу дискриминации составляет оппозиция «человек – нечеловек», или «равноценный – неравноценный». При ранжировании по признаку «свой – чужой» социальная группа «неполноценных» лишается шанса на изменение властной конфигурации, зато социальная группа, наделенная властью, считает себя вправе пренебрегать моральными нормами и приличиями по отношению к дискриминируемым. Тем самым контраст между властью и безвластием имеет тенденцию к постоянству и абсолютизации. Чрезвычайное положение становится перманентным, однако существенно отличается от той ситуации, которую описал Карл Шмитт. Он называет чрезвычайным положением временную аномалию во взаимоотношениях людей и их поведении, которая возникает из-за нарушения действующего политического порядка. А перманентное чрезвычайное положение, напротив, укрепляет границу между властью и безвластием, опираясь на культурные парадигмы и предрассудки, которые укоренены в социуме и габитусе настолько сильно, что уже не нуждаются в дискурсивном оправдании и способны воспроизводиться на протяжении многих веков.
Однако длившаяся веками и тысячелетиями история культурного неравенства, опирающаяся на оппозицию «полноценности – неполноценности», подошла к концу в 1980-е годы, когда утратили силу прежние политические системы, исторические эпистемологии и культурные онтологии. Этот эпохальный поворот произошел не в результате войны или революции, а как следствие ценностных перемен, которые произошли во многих областях, взаимно обуславливая и усиливая друг друга. Носителем перемен стала «культурная революция»; однако она не навязывала новизну силой, как это делали Сталин и Мао, а заключалась в самокритичном переосмыслении собственной истории, ее культурных основ. 1980-е годы потрясли фундамент западной культуры, поскольку имперская база экспансии христианства, колониализма, антисемитизма и расизма неожиданно сделалась предметом исторических исследований и научного анализа. Резюмируя сказанное, можно констатировать, что лишение прав – это дискриминация, причем в качестве не индивидуального акта, а структурного феномена. Базируясь на культурных стандартах в условиях политической стабильности, дискриминация становится нормой и уже не требует объяснений или обоснований, поскольку право изначально характеризуется асимметрией по отношению к тем, кто безвластен. Поэтому первый шаг политики признания направлен на критическое осмысление наличной ситуации с нарушением прав, сопровождающееся пересмотром прошлого и переписыванием истории.
На этом фоне возник феномен, который Дипеш Чакрабарти именует «исторической травмой», связывая его с политикой признания. Историческая травма обнаруживается у коренных народов, притеснявшихся колонизаторами, а также у жертв работорговли и принудительного труда в сталинских и гитлеровских лагерях, у обществ, где существовала расовая сегрегация, апартеид и строгое разделение на касты. В долгой истории бесправия, угнетенных меньшинств с их историческими травмами Холокост не выглядит абсолютно новым явлением; скорее он представляется абсолютным и недосягаемым апогеем всех деструктивных тенденций долгой истории бесправия.
Чакрабарти проводит различие между «историческими травмами» и «историческими фактами». Это отражает конфликт двух заинтересованных групп – цеха профессиональных историков и группы, ориентированной на новую политику идентичности. Исторические травмы, как неоднократно отмечает Чакрабарти, представляют собой взаимодействие истории и памяти, что обуславливает раздражительность историков по отношению к этому сочетанию, поскольку историки полагают необходимым во имя исторической правды развести эти два компонента. Историки зачастую не могут верифицировать факт исторической травмы, ибо опираются в своих исследованиях на архивы своих стран, где документы о дискриминации не собирались и не хранились. Это не исключает того обстоятельства, что в основе исторической травмы находится историческая правда. Но исторические травмы имеют иную природу, нежели эмпирически верифицируемые факты, поскольку отличаются наличием обобщений и эмоциональной связью с идентичностью, являются частью исторического нарратива и нуждаются в социальном признании. Состав столь различных компонентов и объясняет формулу – «взаимодействие истории и памяти». Исторические травмы, обусловленные лишением людей человеческих прав, нуждаются не только в исторических исследованиях, но и в последующем политическом и социальном признании. Поэтому исторической травме присущ диалогический элемент, основанный на договорных началах. Диалог, ведущий к признанию, должен инициироваться виновниками исторической травмы; они обязаны в рамках политики покаяния признать свою причастность к исторической травме. Серия публичных извинений, последовавших одно за другим в 1990-е годы, оказалась непосредственным следствием ценностной трансформации и перформативным выражением новой политики признания. Из-за своей зависимости от диалогического признания историческая травма носит социально-этический характер, а потому имеет гораздо более зыбкий статус, чем исторический факт. Речь идет о культурном феномене, существующем как бы эфемерно, поскольку для его морального статуса необходимо достижение и поддержание общественного консенсуса[242].
Историческая травма нуждается в такой диалогической договоренности между преступниками и жертвами, в которой обе стороны признают как историческую травму, так и травматическое прошлое этой истории. С исторической травмой Холокоста связаны такие дополнительные элементы, как повышенная значимость свидетельств, оставленных уцелевшими очевидцами, а также «вторичными свидетелями», так и значимость (непричастных) «третьих лиц», которые добровольно берут на себя моральное обязательство хранить историческую травму в своей памяти и не забывать о ней. Холокост приобретает тем самым универсальное измерение, которое не обладает такой же степенью общезначимости для других исторических травм.
Чакрабарти подробно рассматривает вызовы исторической науке, связанные с концептом исторической травмы. Компонент памяти является проблемой для историков, ибо они считают нелегитимным подход к истории с позиций личного опыта: в таком случае страдает необходимая научная объективность. К тому же историки выступают против использования прошлого в качестве политического инструмента в настоящем. И, наоборот, те, кто испытал на себе тяжкий груз памяти и пережитого, критикуют историков за слишком узкий взгляд на прошлое. Данная конфронтация изменила саму историческую науку. Начиная с 1980-х годов появляются все более открытые формы репрезентации истории, которые стирают, казалось бы, очевидную границу как между фактами и вымыслом, так и между историей и памятью. Новым здесь оказывается то, что индивидуальный опыт тоже получает признание в качестве возможности для понимания эмоциональных и других не менее важных измерений истории[243]. Историография и память различаются своим отношением к настоящему и прошлому. Если профессиональный цех историков обязан настаивать на строгом разделении настоящего и прошлого (в таком разделении и такой дистанции заключается суть объективности), то память преодолевает разрыв между прошлым и настоящим, извлекая из прошлого то, что индивидуум или социальная группа считает для своего нынешнего самосознания пригодным или еще не до конца проработанным, а потому связанным с живыми реакциями, неудовлетворенными притязаниями или нерешенными проблемами.
«История» как абстракция и собирание единичных фактов, породившая к концу XVIII века новую профессию, частично утратила свою прежнюю гомогенность. Различие восприятий, некогда поставленное под контроль этим абстрактным понятием, теперь, похоже, возрождается, что связано с выделением пограничных областей на периферии исторической науки. С историческим плюрализмом возвращается и осознание связи различных версий истории с социальными группами, их опытом, взглядом на будущее и идентичностью.
Как подчеркивал Райнхард Козеллек, сегодня право на собственную память имеет не только каждый человек, культурным правом на собственную память обладает и социальный коллектив. Но история социального коллектива значима лишь тогда, когда ее признают другие и когда она связана с иными историями.
Постколониальная и посттравматическая эпоха продемонстрировала, какой коррекции подвергаются большие исторические нарративы, написанные бывшими победителями, и как смещаются акценты западных исторических нарративов. Официальная историография и национальная память во все большей мере включают в себя воспоминания о страданиях жертв. Тем самым общество предоставляет место для исторического опыта собственных субкультур и социальных меньшинств, которые получают таким образом культурное и социальное признание, интегрируясь в социальную ткань доминирующей культуры. Новая политика покаяния[244] еще не распространилась повсеместно, но состоявшийся этический поворот знаменует собой эпохальную цезуру в западном самосознании.
Разнонаправленная память (multidirectional memories)
Повсюду в мире устойчивая вирулентность понятия жертвы сопряжена с активной политикой утверждения национальной идентичности, что обусловило возникновение многообразных конфликтов и зон напряжения также и в Европе.
Конфликтующие, несовместимые друг с другом воспоминания образуют динамичный подтекст для текущих политических событий, что приводит к все новым столкновениям национальных версий памяти (clashes of memories). Данная проблема хорошо изучена memory studies; существует множество публикаций под хлесткими названиями, вроде «Clashes of Memory» или «Memory Wars». Если эти работы описывают ситуацию в той или иной национальной мемориальной культуре, то книга Майкла Ротберга, о которой пойдет более подробный разговор, имеет совершенно иную направленность. Ротберг разрабатывает понятийный ряд, позволяющий выбраться из той ловушки, которой в мемориальной культуре становится конкуренция жертв. Темой исследования и одновременно главной мыслью Майкла Ротберга является совместимость памяти о Холокосте с памятью о колониализме. Подзаголовок его книги» гласит: «Remembering of Holocaust in the Age of Decolonization». Воспоминания о колониализме и работорговле в различных странах Европы обнажает еще один слой европейской памяти. Но наиболее важные выводы данного исследования применимы и к другим историческим комплексам, связанным с массовым насилием.
Методологическая новация Майкла Ротберга состоит в переносе научного мемориального дискурса с национального на транснациональный уровень. Понятие «multidirectional memories», введенное Ротбергом в мемориальные исследования, позволяет преодолеть разделительную логику конкуренции жертв и осмыслить те аспекты и потенциал мемориальных процессов, которые прежде не учитывались и которые могут дать положительный эффект для практической работы в сфере мемориальной культуры.
В контексте политики покаяния уже говорилось о глобализации памяти. Реконструкция национальной памяти утрачивает свою направленность исключительно на собственную нацию, когда глава государства официально признает преступления против человечности, имевшие место в истории своей страны. Глобализация памяти увеличила возможность для сравнений и одновременно обострила конкуренцию. Новые возможности саморепрезентации позволили социальным группам, прежде не имевшим влиятельных лоббистов и не располагавшим доступом к государственной инфраструктуре, заявить о своих притязаниях в глобальной борьбе за признание, ресурсы и престиж. Майкл Ротберг, исходя в своей книге из той же постановки проблемы, что и Чарльз Майер, делает, однако, совершенно иные выводы. Он цитирует литературного критика Вальтера Бена Михаэлиса: «Почему в стране существует финансируемый государством мемориальный Музей Холокоста на Национальной аллее (National Mall) в центре Вашингтона?»; его вопрос связан с высказыванием одного афроамериканского активиста: «Черный Холокост был в сто раз страшнее еврейского. Вы говорите, что потеряли шесть миллионов. Мы потеряли шестьсот миллионов!»[245] Тони Моррисон, лауреат Нобелевской премии 1983 года, предпослала своему роману «Возлюбленная» посвящение: «Вас было более шестидесяти миллионов»; Опра Уинфри сказала об этом романе, в экранизации которого она сыграла главную роль: «Это мой “Список Шиндлера”»[246].
Майкл Ротберг воспринимает коллизию коммемораций как повод для детального анализа борьбы за признание, разворачивающейся в данной сфере, и для изучения связанной с этой борьбой логики вытеснения из исторической памяти. Он задается вопросом: как перейти от конфронтации коммемораций к их взаимодействию? Ротберг считает необходимым соединить коммеморации о жертвах, в чем ему видится целительное средство против нынешней практики взаимного неприятия и вытеснения; это средство и предлагается им для обсуждения. Я неоднократно указывала, что память о Холокосте достигла своего крещендо спустя шесть десятилетий после него самого, на протяжении которых происходило институциональное и политическое оформление транснациональных рамок памяти. По мнению Ротберга, гегемония памяти о Холокосте в глобализированном мире не ведет к вытеснению и тем более к уничтожению памяти о других исторических травмах, как это следует из аргументов Вальтера Бена Михаэлиса. Ротберг подвергает критике сами предпосылки подобных утверждений: применительно к предмету памяти речь не идет об игре с нулевой суммой, когда при выигрыше одного другой непременно проигрывает. Такое бывает, но это не заложено в самой природе памяти, которая всегда зависит от элементов, привнесенных извне. Клаустрофобическое ощущение тесноты в национальной памяти возникает лишь тогда, когда закрываются ее внешние границы. Поэтому следует разорвать порочный круг воспоминаний, исторической памяти и насилия, чтобы создать новую конструкцию.
Новая концепция Ротберга возвращается к основам мемориальных исследований, к взаимоотношениям между памятью и идентичностью. Здесь нет ни естественной прямолинейной зависимости, ни однозначного доминирования, а есть нарративы и репрезентации в открытом дискурсивном пространстве. По мнению Ротберга, память о Холокосте не вытеснила и не аннулировала память о других исторических травмах, а, напротив, дала им язык и новые социальные рамки. Память о Холокосте действительно уникальна, но именно поэтому она становится парадигмой и моделью для других исторических травм, которые ориентируются на нее в своих мемориальных саморепрезентациях и политических притязаниях. Тем самым память о Холокосте создала скорее новые возможности, нежели препятствия, поскольку она всегда – и это имеет решающее значение – ассоциативно и аргументативно взаимодействует с другими коммеморациями.
Методологическая новация Майкла Ротберга базируется на простом принципе: он усматривает сходство там, где другие видят исключительно различия. Воля к утверждению собственной идентичности всегда есть воля к обособлению, отмежеванию, что неизбежно ведет к конфронтации. Обнаружение сходств указывает на иную перспективу, открывающую возможность сочувствия, сострадания и солидарности. Так возникают амбивалентные отношения там, где раньше преобладала однозначность, так как уникальность Холокоста оказывается мостом к памяти о других исторических травмах, которые благодаря подобной связи привлекают к себе большее внимание и приобретают более высокую значимость. «Прискорбная конфронтация воспоминаний является обстоятельством, из которого должно вырасти новое представление о солидарности и справедливости»[247]. Такова базовая идея концепции мемориальных взаимосвязей. Метафора «черного Холокоста» (black Holocaust) не обязательно подразумевает «конкуренцию жертв», она может иметь в виду и их солидарность. Появилось даже неуклюжее слово «холокостизация», означающее, что Холокост увязывается с другой исторической травмой, чтобы привлечь к ней внимание и повысить ее значимость[248]. Притязание на уникальность исторического опыта парадоксальным образом обернулось возникновением параллелей, метафор и аналогий. Такие параллели не обязательно влекут за собой конфликты; вначале проявляется связь исторических событий, а она обуславливает «комплексные акты солидарности, в которых историческая память становится носителем новых социальных и политических идентичностей. …Модель “разнонаправленной памяти” сохраняет дистанцию по отношению к эксклюзивным формам культурной идентичности и показывает, что память может как разделять, так и соединять различные пространства, времена и культурные топосы»[249].
7. Четыре модели обращения с травматическим прошлым
Помнить или забыть?
С тех пор как понятие «мемориальная культура» прочно вошло в обиход, мы полагаем, что сохранение памяти является необходимой работой, даже обязанностью, а потому считаем память важным социальным и культурным ресурсом. Ян Филипп Реемтсма оспаривает это распространенное мнение, он не согласен с утверждением, что сохранение памяти само по себе есть благо: «Обязанность помнить, императивная семантика памяти… Но в чем состоит императив воспроизводства памяти? Памятование и забвение – свойства человеческой памяти, как таковые они не хороши и не плохи; обе эти способности лишь помогают справляться с жизненными обстоятельствами. …Памятование предполагает забвение. Считать, будто памятование само по себе есть благо, – нелепо»[250].
Здесь Реемтсма, безусловно, прав. Действительно существует немало примеров того, что память способна разжигать ненависть или доводить до депрессии. Следовательно, всегда важно содержание памяти, ее рамки, от чего и зависят ее позитивные или негативные эффекты.
Помнить или забыть? Израильский философ Авишай Маргалит, размышляя над этой проблемой в книге «Этика памяти», рассмотрел обе возможности на примере своих родителей. «Мать обычно говорила: евреи уничтожены безвозвратно. Уцелели лишь жалкие остатки великого еврейского народа (она имела в виду европейских евреев). Единственно достойная роль для живущих евреев – создавать поминальные сообщества, становиться духовными светильниками вроде тех, что возжигают в память об усопших.
Отец обычно говорил: мы, уцелевшие евреи, – люди, а не светильники. Ужасна участь человека, которому суждено быть лишь хранителем памяти о мертвых. Такую участь избрали для себя армяне, совершив тем самым большую ошибку. Мы должны любой ценой избежать ее. Лучше создать сообщество, которое думает прежде всего о будущем и реагирует на настоящее, нежели сообщество, которым управляют братские могилы»[251].
В Израиле обе позиции взаимно не исключены, а следуют по времени друг за другом. После 1945 года преобладала вторая позиция. Израиль создавал тогда новое национальное государство; уцелевшим приходилось начинать жизнь заново, чтобы обеспечить будущее следующим поколениям. Подобные задачи требуют героев, сильных людей с прочными политическими убеждениями. В таких обстоятельствах было не до сломанных судеб тех, кто пережил Холокост; их голосам и свидетельствам еще не находилось места в израильском обществе. Но через два и в еще большей мере через четыре десятилетия стала утверждаться первая позиция. На иерусалимском судебном процессе по делу Эйхмана люди, пережившие Холокост, впервые получили возможность публично поведать о своих страданиях. Они вышли за пределы обычного судебного свидетельства, оказавшись очевидцами событий еще не написанной на тот момент истории. Они обращались к собственному прошлому, от которого отвернулись прежде. Жертвы расистского геноцида заняли центральное место в общественном внимании к этому процессу, вызывая к себе общее сочувствие. После Шестидневной войны (1967) и Войны Судного дня (1973) эта позиция приобрела доминирующий характер, а израильское общество все больше превращалось в ритуальную поминальную общину.
Маргалит парадигматически противопоставил два решения для проблемы преодоления травматического прошлого: памятование и забвение, сохранение прошлого или ориентация на будущее[252]. Однако обоих решений недостаточно для дифференцированной дискуссии по этой сложной проблеме. Оглядываясь сегодня на вторую половину XX века, можно констатировать, что формы отношения к травматическому прошлому многократно видоизменялись. Различные хронологические периоды характеризовались разными акцентами в мемориальной политике. Ниже будут выделены четыре таких периода, а также соответствующие им нормы и формы целеполагания:
диалогическое забвение;
помнить, чтобы никогда не забывать;
помнить ради преодоления;
диалогическое памятование.
Диалогическое забвение
Вопрос «помнить или забыть?» поставлен в книге специалиста по истории Античности Кристиана Майера «Заповедь забвения и неотвратимость памятования». Он ратует за то, чтобы ориентиром культуры считалось не памятование, а забвение, причем Майер подчеркивает, что Аушвиц в данном случае является исключением из правила[253]. Тезис Майера о благе забвения приобрел характер устойчивого топоса в любой дискуссии о немецкой мемориальной культуре, однако при этом не учитывается оговорка, сделанная автором в самом названии книги. Монография Майера используется не столько в качестве исторического исследования, сколько как искомый, подкрепленный научным авторитетом аргумент против немецкой мемориальной культуры.
О чем же идет речь в книге Кристиана Майера? Он исходит из ситуации гражданской войны. Основной тезис таков: память всегда считают средством, которое препятствует рецидиву насильственных преступлений. На самом же деле именно память сохраняет деструктивные силы в умах участников конфликта. Из данной посылки следует вывод: если память способствует разжиганию ненависти и возбуждает жажду мести, то забвение может умиротворить конфликтующие стороны и инициировать жизненно важную фазу реинтеграции. Разумеется, государство не способно повлиять на личные воспоминания своих граждан, однако оно в состоянии запретить им под страхом наказания бередить в публичном дискурсе старые травмы, возвращающие прежнюю боль и вражду, что приводит к новой агрессии. Подобная практика умиротворения использовалась в афинском полисе после Пелопоннесской войны[254]. Там для заповеди забвения даже придумали новое слово «mnesikakein» («помнить зло»). Это соответствовало на афинском юридическом языке «запрещению памяти как коммуникативному запрету», то есть акту публичной цензуры, предпринятой ради общественного блага. Слово «mnesikakein» имеет особый смысл: нельзя публично упоминать зло и страдания, причиненные одной стороной другой стороне. Тем самым закон предотвращал самовиктимизацию и культивирование собственного жертвенного статуса, которые порождают жажду мести и способны спровоцировать новый виток в спирали насилия.
Как показывает Майер, эта древняя политическая мудрость неоднократно использовалась в истории Европы. Можно сослаться на Шекспира, который в своих исторических драмах сформулировал политический принцип подведения финальной черты в виде четырех лапидарных императивов: «Forget, forgive, conclude and be agreed!»[255] Майер указывает также на миротворческую практику после Тридцатилетней войны. Мирный договор, подписанный в 1648 году в Мюнстере и Оснабрюке, содержал ключевую формулу «perpetua oblivio et amnestia». Эта формула «прощение и забвение» не раз способствовала после гражданских войн быстрой политической и социальной интеграции общества, поскольку широкие амнистии нейтрализовали конфликтный потенциал враждующих сторон.
Наиболее убедительным примером Кристиана Майера является Первая мировая война, которая слишком хорошо запомнилась немцам (в отличие от их европейских соседей). Систематическим разжиганием чувства униженности насаждалось сознание совершенной несправедливости, что порождало агрессию, которая прямиком привела немцев к Второй мировой войне. После Второй мировой войны, напротив, целительное забвение помогло заложить фундамент новой Европы. Примерами из греческой, римской и европейской истории Майер подтверждает свой тезис о том, что вслед за гражданской войной с ее эксцессами насилия восстановление политического сообщества и примирение конфликтующих сторон наступает не благодаря памяти, а при помощи врачующей силы забвения.
Врачующее забвение – Майер неоднократно указывает на это – сыграло свою роль и после Второй мировой войны в становлении западногерманского общества и в миротворческой консолидации Европы. Краткий период уголовного преследования наиболее крупных фигур нацистского режима, осужденных Нюрнбергским трибуналом, сменился реабилитацией большинства нацистских функционеров и их попутчиков. Союзники пошли на сохранение «коричневой» преемственности бюрократической элиты ради ускоренного восстановления Западной Германии в условиях противостояния двух политических блоков, которым характеризовалась эпоха холодной войны. Коллективное умолчание стало после войны международной практикой. Де Голль и Аденауэр вместе принимали военные парады и вместе присутствовали в 1962 году на торжественном богослужении в Реймсском соборе. Эти военные и религиозные церемонии служили символом прощения и примирения, закладываемых поверх национальных границ. Само место действия характеризовалось глубокой исторической символикой. 7 мая 1945 года на севере Франции в Реймсе состоялось подписание германской капитуляции, ибо здесь находилась штаб-квартира генерала Эйзенхауэра. Религиозный ритуал очищения имел важное политическое значение: «диалогическое забвение» ускоряло возвращение Западной Германии в альянс западноевропейских стран. В таких условиях забвение сыграло роль анестетика, что помогло в 1950-е и 1960-е годы преодолеть тяжесть войны и травматического прошлого.
Политолог Тони Джадт детально проанализировал международную практику коллективного умолчания. Во времена холодной войны национальная память европейских стран была заморожена ради нового политического альянса на западе и на востоке Европы по обе стороны «железного занавеса». «Вся ответственность за войну, за принесенные ею страдания и совершенные преступления возлагалась на немцев», поэтому преступления, совершенные и во время войны и после нее другими, оказались «удобным образом» забыты. Решающую роль сыграл следующий фактор: «Умолчание относилось не столько к собственным страданиям, сколько прежде всего к тем страданиям, которые были причинены другим. Реинтеграция Европы произошла на общей основе; это основой послужило “забвение” уничтоженных евреев»[256].
Готовность к забвению особенно отчетливо прозвучала в цюрихской речи Уинстона Черчилля, произнесенной в сентябре 1946 года. Она свидетельствует, что в контексте строительства нового европейского дома Вторая мировая война рассматривалась как своего рода гражданская война между нациями, с последствиями которой надеялись справиться оправдавшим себя древним средством – забвением. Черчилль ратовал за то, чтобы немцев, других членов «оси» и коллаборационистов перестали винить за прошлое. Он потребовал после осуждения нацистской верхушки в Нюрнберге «подвести черту» под прошлым, заявив: «Мы должны повернуться спиной к ужасам прошлого. Мы должны глядеть в будущее. Мы не можем позволить себе пустить в грядущее ненависть и месть, порожденные ранами прошлого. Если Европу суждено спасти от бесконечных бедствий и полного уничтожения, то в основу спасения должен лечь акт веры в семью европейских народов и акт забвения всех преступлений и ошибок прошлого»[257].
Западногерманское общество 1950-х и 1960-х годов во многом было сосредоточено на том, что в ту пору именовалось «преодолением прошлого» и что ныне называется «политикой подведения финальной черты». В 1950-е и 1960-е годы немцы отождествляли прошлое с виной, которую надлежало загладить (выплата компенсаций, установление дипломатических отношений с Израилем, движение «Знак искупления» и т.п.) в надежде, что этим вина будет изжита или по крайней мере останется в прошлом. Забвение не отождествлялось тогда с «вытеснением из памяти», как это делается сегодня (на что неоднократно указывал Герман Люббе), а соотносилось со стремлением к прогрессу, модернизации, «обновлению» и «открытостью для будущего», приобретшим характер общественного императива. От будущего ожидались позитивные перемены; такова была главная аксиома теории модернизации, которая служила после 1945 года базовым ценностным ориентиром во всех европейских странах Запада и Востока[258].
Устойчивую эмпатию по отношению к будущему можно проиллюстрировать эпизодом, который датируется летом 1966 года. Бывший канцлер ФРГ Конрад Аденауэр находился с визитом в Израиле; в Тель-Авиве его принял премьер-министр Леви Эшкол. В своем приветствии Эшкол сказал «о долгой и крепкой памяти народа Израиля». Она, дескать, является следствием долгих гонений. Его народ хорошо помнит как своих врагов, так и друзей. К последним Эшкол причислил и своего гостя, особенно отметив его заслуги в качестве «зодчего договоров по реституции 1952 года». Аденауэр ответил, что ему хорошо известно, «насколько ужасным преследованиям подвергли евреев национал-социалисты», к тому же он и сам пострадал от нацистского режима. (Многие немцы не знали, что Аденауэр и его жена находились в застенках гестапо под так называемым «охранным арестом». Позднее его жена умерла от последствий тюремного заключения.) Поэтому, по его словам, он с особой энергией выступал в годы своего пребывания на посту федерального канцлера «за примирение с еврейским народом и французскими соседями».
Все шло хорошо. Но вечером того же дня в доме премьер-министра произошел неприятный инцидент. Хозяин дома сказал в своей застольной речи: «Народ Израиля ожидает новых свидетельств и доказательств того, что немецкий народ сознает всю тяжесть ужасного прошлого. Возмещение ущерба является лишь символической компенсацией того, что утрачено в результате убийственного разбоя. Этим зверствам нет прощения, как нет утешения нашей скорби». Девяностолетний Аденауэр был шокирован. Восприняв выпад Эшкола как оскорбление для Германии, он ответил призывом «преодолеть время зверств, которые непоправимы. Но нужно оставить их в прошлом. Я знаю, как тяжело еврейскому народу согласиться с этим. Однако, если не признавать добрую волю, ничего хорошего не получится»[259].
Помнить, чтобы никогда не забывать
Но тогда же раздавались и другие голоса. Мне хотелось бы предоставить слово Ханне Арендт, главной провозвестнице новой мемориальной культуры. В то время, когда Черчилль и другие продвигали политику забвения, ориентированную на будущее, Ханна Арендт сформулировала концепцию новой мемориальной культуры. Спустя пять лет после цюрихской речи Уинстона Черчилля, выступившего в защиту забвения, Ханна Арендт опубликовала книгу «Истоки тоталитаризма». В предисловии к английскому изданию несколько тезисов посвящены забвению; эти четыре тезиса и послужили ориентирами новой мемориальной культуры.
Перед лицом ужасов Второй мировой войны Арендт констатировала наличие радикальной цезуры, знаменовавшей собой глубочайшее историческое падение, в котором «умерли все надежды». В противоположность риторическим заявлениям о подведении финальной черты под прошлым и о надеждах на новое будущее Ханна Арендт указала, что «базисная структура всех цивилизаций пребывает на грани слома», вследствие чего обещания лучшего будущего просто не могут перенести нас через эту грань[260].
Ханна Арендт констатирует, что на заключительных стадиях тоталитаризма «является зло в своей абсолютной форме». Она говорит об «абсолютной форме зла», «поскольку его уже нельзя вывести из каких-либо по-человечески понятных мотивов»[261].
Для тех, на кого обрушилось экстремальное насилие, негативное откровение ознаменовало начало новой эры, во время которой они узнали «подлинно радикальную природу Зла». После Ханны Арендт многие авторы – среди них и американский историк еврейского происхождения Йозеф Иерушалми – написали ряд исследований о метафизике исторического события, когда человечество вторично вкусило от древа познания, на сей раз испытав горький привкус пепла[262]. Задолго до того, как за этим событием укоренилось понятие «Холокост», и до его оценки в ходе «спора историков» Ханна Арендт подняла факт истребления европейских евреев с уровня частного исторического случая на универсальный уровень истории человечества.
По мнению Ханны Арендт, негативное откровение требует действенного ответа. Он состоит в защите человеческого достоинства на политическом, правовом и универсальном уровне: «Человеческое достоинство нуждается в новых гарантиях, которые можно найти только в каком-то новом политическом принципе, каком-то новом законе на земле, который должен быть правомочным для всего человечества, но в то же время ограниченным по своей мощи, укорененным в территориальных образованиях, которые можно определить по-новому»[263].
Наряду с этими новыми политическими формами защиты прав человека Арендт требовала еще одного ответа на новый трансцендентальный опыт, предложив концепцию этически мотивированной памяти: «Мы уже не можем позволить себе взять то, что было благом в прошлом, и просто назвать его нашим наследием, отбросить плохое и считать его мертвым грузом, который само время предаст забвению. Подспудное течение западной истории вышло наконец на поверхность и узурпировало статус нашей традиции. Такова реальность, в которой мы живем. Вот почему тщетны все усилия убежать из мрачного настоящего в ностальгию по все еще сохраняемому прошлому или в предвосхищение лучшего будущего, которое дарует нам забвение»[264].
Четыре тезиса, сформулированные Ханной Арендт, – цезура, знаменующая собой слом цивилизации; негативное откровение абсолютного Зла; необходимость новой политики; защищающей права человека; концепция этической памяти – составляют интеллектуальную основу новой мемориальной культуры. Она сформировалась, однако, не в 1950 году, когда была написана книга «Истоки тоталитаризма», а спустя три, даже четыре десятилетия, то есть в 1980-е, 1990-е годы. Понадобилось немало времени, чтобы произошел сдвиг в ценностно-темпоральной ориентации, приглушивший модернизационный оптимизм и обостривший «сознание реальности, в которой мы живем». По словам этой проницательной Кассандры, травматическое прошлое, унаследованное от века массового насилия, не изгладится само собой; напротив, это прошлое потребует от нас еще значительного ретроспективного внимания: от нас требуется «сознательное принятие того бремени, которое возложил на нас наш век»[265]. Это означает, что прошлое следует считать не «мертвым грузом», а тем весомым значимым опытом, который имеют для нас память о погибших и о совершенных злодеяниях.
Начиная с 1960-х годов ключевые понятия – такие, как «преодоление прошлого» или «возмещение ущерба», – вызывали в ФРГ все большую критику и сопротивление. С середины 1960-х годов началась новая эра терапевтического дискурса (Александр Митчерлих, открытие Института Зигмунда Фрейда), – дискурса, связанного с «критической теорией» Франкфуртской школы (Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер, публикация работ Вальтера Беньямина издательством «Zurkamp»), а также правового дискурса (Фриц Бауэр в качестве генерального прокурора на франкфуртском судебном процессе над охранниками концлагеря Аушвиц). Решающим фактором стало изменение перспективы. Теперь речь шла не о точке зрения преобладающей части общества, позволяющей преступникам сохранить лицо, а о взгляде на прошлое с точки зрения еврейских жертв, который до сих пор не учитывался доминирующим историческим нарративом. Именно с этим взглядом идентифицировало себя послевоенное молодое поколение, заявившее о себе бунтом 1968 года и противопоставившее себя государству и военному поколению собственных родителей. При переходе от старой культурной парадигмы к новой изменились содержание и значимость взаимосвязи между памятью и забвением. Если в рамках европейской культурной ориентации на модернизацию забвение имело положительную коннотацию в качестве инновационной и интеграционной стратегии, то теперь забвение ассоциировалось с отказом от прошлого и его вытеснением из памяти. Напротив, память, которая раньше оценивалась негативно из-за ретроспективной увязки с ненавистью, местью, враждебностью и конфронтацией, теперь возводилась в категорию терапевтического средства и этического долга.
1985 год сыграл для немецкой мемориальной культуры ключевую и поворотную роль. Начало было положено торжественными мероприятиями по случаю сорокалетия окончания Второй мировой войны, в рамках которых 5 мая Гельмут Коль и Рональд Рейган посетили солдатское кладбище в Битбурге, где находились могилы и членов СС. Подобная инклюзивность мемориальной политики была воспринята как забвение жертв Холокоста, что обернулось международным скандалом[266]. Речь федерального президента Рихарда Вайцзеккера к сорокалетию окончания Второй мировой войны, несанкционированные раскопки на территории будущего мемориала «Топография террора» в Берлине, а также «спор историков» стали дальнейшими событиями 1980-х годов, сформировавшими в Западной Германии рамочные условия для переориентации культуры и политики с забвения на воспоминания. Выражение «мемориальная культура» заменило такие прежние ключевые понятия 1950-х и 1960-х годов, как «подведение финальной черты», «преодоление прошлого» и «возмещение ущерба», которые были сопряжены с политикой самооправдания и забвения[267].
Сердцевиной новой мемориальной культуры служил Холокост. Лишь спустя четыре десятилетия после окончания Второй мировой войны период «вывихнутого времени» (1939 – 1945) занял центральное место в сознании немецкой и международной общественности. Вслед за тем, как чудовищное преступление немцев по отношению к евреям сделалось предметом судебных процессов, научных работ и журналистских расследований, это преступление во все большей мере становилось темой политической и общественной коммеморации. Упрочение памяти о Холокосте на основе этического договора между немцами как потомками преступников и евреями, пережившими Холокост, или потомками жертв явилось исторической новацией, став ответом на геноцид еврейского народа, беспрецедентный по своим масштабам и способам осуществления.
При определенных обстоятельствах забвение может стать целительным средством от травматического прошлого, но отнюдь не панацеей. Забвение оправдывает себя лишь после симметричного насилия, когда формируются политические или военные альянсы, но забвение не срабатывает, если речь идет об асимметрии экстремального насилия. В случае с Холокостом залогом новых отношений между преступниками и людьми, пережившими его, или потомками жертв служит не подведение финальной черты под прошлым, а готовность к совместным воспоминаниям. Жертвы не должны оставаться наедине с собой, их память о прошлом должна быть разделена с потомками преступников в качестве проявления «анамнетической солидарности» (Йоганн Баптист Мец); общая память об исторической травме может заложить фундамент для совместного будущего.
Как для жертв, так и для преступников общая память становится неотъемлемой частью их коллективной идентичности, поэтому Холокост приобретает характер нормативного прошлого. Такая форма сохранения прошлого основана на мемориальном этическом договоре, который ориентирован на неограниченное будущее: помнить, чтобы никогда не забывать.
Помнить, чтобы преодолеть
За последние десятилетия мы стали свидетелями того, как травматическая история рабства, колониализма, диктаторских режимов и гражданских войн приводила к переориентации рамочных условий культуры с забвения на воспоминание. Здесь следует вновь вернуться к различию между двумя формами воспоминаний, которые обозначались мной в связи с обеими немецкими диктатурами как «сохранение прошлого» и «преодоление прошлого». Сохранение прошлого подразумевает базирующуюся на этических основах мемориальную культуру, выводящую травматическое прошлое на уровень устойчивой нормативной инстанции, которая служит мерилом для оценки любых деяний в настоящем, а потому неизменно препятствует забвению прошлого. Категория «преодоление прошлого», свободная от прежних негативных ассоциаций, используется мной в качестве нейтрального термина для социально-терапевтических форм памяти, ориентированных на примирение, социальную и национальную интеграцию. В этом случае воспоминание не становится абсолютной нормой, а является средством для указанной выше цели. В этом смысле воспоминание есть важный перформативный акт кризисного переходного периода, направленный на желаемое воздействие терапевтического, очистительного и объединяющего характера.
Мемориальная культура богата примерами подобных «транзитивных воспоминаний». Так, христианская исповедь служит примером того, как вспоминают, чтобы забыть: вину следует осознать и назвать своим именем, чтобы священник смог ее отпустить. Нечто похожее происходит в эстетическом акте катарсиса: травматическое событие воспроизводится на сцене, чтобы тяжелое прошлое было пережито вновь и тем самым преодолено. Согласно Аристотелю, зрители выходят из такого коллективного переживания очищенными и сплоченными. Забвение через воспоминание – такова в сущности цель фрейдистского психоанализа, который возвращает травматическое прошлое в сознание, чтобы помочь сознанию расстаться с этой травмой. Схожую терапевтическую функцию приобретает воспоминание в новых общественно-политических процессах: травматическую правду необходимо предать гласности, сделать достоянием общественности; жертвы должны получить возможность поведать о своих страданиях; их следует выслушать с сочувствием и признанием их опыта, чтобы потом удалить травму из социальной и политической памяти. По этому принципу работала в ЮАР после ликвидации режима апартеида комиссия «Truth and Reconcilation Commission» («Комиссия правды и примирения»); созданная архиепископом Туту и Алексом Борэном, она представляла собой сочетание трибунала, катарсической драмы и ритуала христианской исповеди.
В настоящее время в мире действуют более тридцати комиссий правды и примирения, причем порядок их работы приходится всякий раз придумывать заново применительно к конкретной ситуации. Хотя условия политического транзита не исключают возможность юридического преследования на основании данных, собранных такими комиссиями, однако подлинно революционной новацией является фактор примирения. Эту форму мемориальной политики характеризует не стремление скрыть и замолчать тяжелые факты прошлого, а желание предать их гласности в обновляющемся социальном пространстве, обеспечить им признание и общественное внимание. Целью деятельности этих комиссий служит примирение и социальная интеграция, поэтому можно говорить о совершенно новых формах «преодоления прошлого», призванных способствовать переходу от диктаторских и авторитарных режимов, нарушавших права человека, к демократии[268]. Правду называют первой жертвой любой войны; это тем более справедливо для таких видов асимметричного насилия, как рабство, колониализм, геноцид или сталинский террор. Историческая правда является зачастую единственным, что вообще удается восстановить после десятилетий и даже столетий унижения, эксплуатации, убийств и систематического истребления. Наряду с правовыми мерами судебного преследования, наказания и реституции, которые порой невозможно использовать из-за давности совершенного преступления, все большее значение приобретают символические средства, такие как публичное признание вины и покаяние. В травматически расколотом обществе путь к правовому государству и социальной интеграции ведет сегодня через работу памяти о массовых преступлениях. Политический ритуал покаяния и эмпатическое памятование общества о жертвах смягчают боль пережитых травм и уменьшают тяжесть вины. Затем возможным становится новое начало при условии, что травматическая история остается в прошлом.
Модель комиссии правды и примирения изобретена в Южной Америке, где в 1980-е и 1990-е годы такие страны, как Чили, Уругвай и Аргентина, пережили переход от военной диктатуры к демократии. Жертвы прежних диктатур, активизировав парадигму прав человека, воспользовались категориями «нарушение прав человека» и «государственный терроризм». На этой основе были созданы следственные комиссии, преобразованные затем в комиссии правды. В своей деятельности они опирались на трансформирующую силу исторической правды и на значение активной работы по сохранению памяти. Девиз «помнить, чтобы не повторилось» (nunca más) стал политическим и культурным императивом. Парадигма прав человека способствовала формированию нового влиятельного дискурса о жертвах нарушения прав человека, которым сменился традиционный политический нарратив классовой борьбы, национальной революции и политических антагонизмов. Центральное место среди ценностей заняла теперь ценность человеческого достоинства и в смысле физической неприкосновенности, и в смысле социальной целостности личности. Эти универсальные ценности задали новую политическую повестку дня; впервые подверглись осуждению и другие формы государственного насилия вроде расовой и половой дискриминации, а также угнетения коренных народов. Подобная эволюция ценностей оказалась следствием символического ресурса, который ввел в глобальное правовое сознание понятие «преступление против человечности». Развернувшееся в конце XX и начале XXI века глобальное движение защиты жертв насилия схоже с интернациональной борьбой против рабства, характерной для XIX века. Существенное различие состоит в том, что в нынешнем глобализированном мире жертвы могут сами заявить о себе, о своем праве на общественное признание памяти о своих страданиях. Общественность увидела их и услышала их голоса, поэтому возникла новая глобальная этическая рамка, которая по крайней мере затрудняет для национальных политических элит проведение репрессивной политики забвения и вытеснения преступлений из исторической памяти.
Глобальная экспансия правозащитного дискурса, функционирующего на основе новой мемориальной культуры, идет в том же направлении, что и упомянутые акты публичного покаяния, когда главы государств или иные политические лидеры приносят публичные извинения жертвам насилия, в прошлом пострадавшим от руководимых ими государств. В свете подобной практики, возникшей в 1990-е годы и продолжающейся ныне, национальные государства выступают на мировой арене как моральные акторы и сообщества, несущие коллективную ответственность. Здесь мы также имеем дело с новой формой мемориальной культуры, обсуждающей в рамках защиты прав человека проблему вины за массовое насилие, имевшее место в собственной истории, – это касается, в частности, и истории колониализма.
В обществе, пережившем диктатуру, память о жертвах является важной частью социальных перемен и общественного примирения, которыми должна сопровождаться трансформация политической системы. Иными словами, политический транзит должен дополняться и углубляться процессом общественного преобразования. В новых культурных рамках мемориальные практики и ритуалы могут инициировать дискурс о преступлениях прошлого, что приводит к их признанию и к преодолению травматической истории, раскалывающей общество. Именно к таким мемориальным практикам применимо наполненное новым содержанием понятие «преодоление прошлого». Его цель состоит прежде всего в том, чтобы, разобравшись с историей преступлений, оставить ее позади ради будущего.
Диалогическая память
Третья модель – помнить, чтобы преодолеть, – используется странами, где произошла либо радикальная переоценка ценностей, либо политическая трансформация, в результате которых возникла необходимость объединить расколотое общество, сформировав новый ценностный консенсус. Моя четвертая и последняя модель подразумевает ситуацию, выходящую за пределы одной страны. Речь идет о мемориальной политике двух или нескольких стран, связанных друг с другом общей историей пережитого насилия. Двум странам приходится вырабатывать диалогическую модель памяти, если они в одностороннем или взаимном порядке признают собственный вклад в травматическую историю насилия, пережитого другой страной, и готовы ответственно и сочувственно включить в собственную историю вину за страдания, причиненные другой стороне.
В этом случае национальная память сталкивается с чрезвычайным вызовом, ибо такого рода форма мемориальной политики носит диалогический характер. Сама структура национальной памяти формировалась на протяжении XIX века, имея своей задачей поддержку и реализацию национальной идентичности. Поэтому национальная память фиксировала наиболее славные, достойные или хотя бы приемлемые эпизоды истории. По отношению к травматической истории национальная память готова санкционировать лишь три роли:
– роль победителя, одолевшего зло;
– роль борца и мученика, оказавшего сопротивление злу;
– роль пассивной жертвы, пострадавшей от злодеяния.
Все, что не вписывается в данные позиции и взгляд на события с этих точек зрения, не может стать предметом приемлемого нарратива, а потому оказывается «забытым» на официальном уровне.
«Конкуренция жертв» и «войны памятей» показывают, что в логике национальной памяти доминирует представление о постоянном дефиците места: собственные страдания занимают очень большое пространство, не оставляя места для чужих страданий. Марк Блох еще в 1920 оду подверг критике монологический характер национальной памяти: «Давайте прекратим, наконец, заниматься либо одной национальной историей, либо другой, не стремясь к взаимопониманию». Он говорил о «диалоге глухих, которые невпопад отвечают на вопросы друг друга»[269]. Но в Европе одна национальная память не существует полностью изолированно от иных национальных памятей. Вновь и вновь подтверждается мысль, что европейская интеграция не сможет получить реального развития, пока продолжит укрепляться монологическая конструкция национальной памяти каждой страны в отдельности, вступая в конфликт с национальной памятью соседей. Ответом на данную ситуацию и служит моя четвертая модель «диалогической памяти», которую я предлагаю наряду с инклюзивным понятием жертвы и с концепцией «разнонаправленной памяти» (multidirectional memory). Речь при этом идет не об уже практикуемых формах совместного обращения к общей истории пережитого насилия, а о культурном и политическом потенциале, который содержится именно в проекте европейской интеграции.
Европейская комиссия в настоящее время инициирует исследовательские проекты, имеющие ясную политическую задачу: «Данные проекты должны разрабатывать идеи углубления диалога между гражданами ЕС о различной исторической памяти с целью прийти к общим взглядам на прошлое, настоящее и будущее Европы»[270]. Мое предложение очень просто. Под диалогической памятью вполне прагматично понимается взаимное признание чередующихся ролей преступника и жертвы в совместной истории совершенных и пережитых преступлений. Включение травматической памяти другой страны в собственную национальную память взломает монолитную конструкцию памяти, очерченную национальными границами[271]. Устройство Европейского союза представляет собой уникальные рамки для перехода от монологической к диалогической конструкции памяти. Как заметил однажды психоаналитик Александр Митчерлих, «проработка прошлого, исходящая из принципа реальности, слишком затягивается»; сегодня такая проработка может быть форсирована в условиях европейской интеграции[272]. Ричард Сеннет подчеркивал, что для признания неприятных исторических фактов необходимо множество разноречивых воспоминаний[273]. Именно в этом заключается особый потенциал общеевропейских рамок памяти, который пока используется недостаточно.
Европейский союз сам является одним из последствий Второй мировой войны и ответом на нее. Становится все очевиднее, что травматическое наследие этой сложной истории (взаимного) насилия нельзя осмыслить, пользуясь ограниченной грамматикой национальных конструкций памяти. В этой истории есть множество фактов, которые достоверно известны историкам и которые, однако, до сих пор не нашли своего места в национальной памяти, поскольку отсутствовало необходимое давление изнутри или извне. К числу таких фактов принадлежат бесчисленные злодеяния Второй мировой войны, которые совершались немцами по отношению к соседним странам и которые прочно запомнились в этих, подвергшихся агрессии, странах. Если в рамках интернациональной мемориальной культуры еврейские жертвы вошли в сознание общественности, то подрастающие поколения немцев почти ничего не знают о польских или советских жертвах немецкой агрессии. Выставка о преступлениях вермахта начала свою экспозицию с нападения на СССР в июне 1941 года, с той цезуры, которую подхватил телесериал «Наши матери, наши отцы». Агрессия против Польши, тактика выжженной земли во время Польской кампании неизменно оказываются забытыми, что вызывает естественную обиду наших польских соседей. Конрад Шуллер напомнил об этом пробеле, который остается в памяти немцев: «Польша стала первой жертвой Гитлера, ее оккупация привела к гибели шести миллионов человек, половина из которых была евреями. Ни одна страна не потеряла на войне столько человеческих жизней по отношению к общей численности своего населения. Пожалуй, только в Израиле людям снятся еще более жуткие кошмары о наших матерях и отцах»[274]. Кроме того, телесериал содержит пространные эпизоды на польском языке, характеризующие крайний антисемитизм польских партизан, что в данном случае является не просто недомыслием, но и сомнительной «экстернализацией» немецкой проблемы, ибо немецкие персонажи этого фильма не наделены антисемитизмом – эту характеристику перенесли за границу Германии. Очевидно, что тем самым был нанесен тяжелый удар политике диалога, проводимой правительством Дональда Туска.
Возможность европейского диалога целиком зависит от сознания собственной вины за рану, нанесенную другому. Если бомбардировка Дрездена теперь прочно запечатлена национальной памятью немцев, то в Германии до сих пор мало знают о разрушении немцами Варшавы в наказание за восстание 1944 года; его обычно путают с восстанием в Варшавском гетто (1943 года), которое хорошо известно благодаря коленопреклонению Вилли Брандта перед памятником героям восстания. Блокада Ленинграда, окруженного войсками вермахта в 1941 – 1944 годах (наиболее длительная и разрушительная осада крупного города в новейшей истории), унесла около миллиона жизней советских граждан; она также пока не нашла места в немецкой исторической память[275]. Вслед за Кристианом Майером можно спросить, зачем вообще вспоминать все это? Не лучше ли, забыв пережитые страдания, оставить прошлое в покое? Ответ прост: пока те, кто пережили травмирующее насилие, не забывают о нем и, напротив, считают данные события отправным моментом собственной национальной памяти, их страдания не могут просто кануть в небытие лишь из-за того, что об этом в одностороннем порядке забыли сами преступники. Напротив, асимметрия односторонней памяти или забвения до сих пор составляет существенную часть бремени исторического прошлого, продолжая деформировать внутриевропейское взаимодействие. Данные асимметрии сами являются европейскими «местами памяти», однако о них не говорят на школьных уроках, они не служат предметом публичных дискурсов и исключены из символической репрезентации в публичном пространстве. Диалогическая память подразумевает не заключение мемориально-этического договора на какой-либо длительный срок, а совместное производство исторического знания о чередующейся роли жертв и палачей в общей истории пережитого и причиненного насилия. Объединенной Европе нужна не унифицированная память, а совместимые друг с другом картины европейской истории. Речь идет не о едином большом нарративе Европы, а о диалогической соотнесенности, взаимном признании и совместимости национальных картин истории. Итальянский историк Луиза Пассерини проводит в данной связи очень важное различие между «общими нарративами» (shared narratives) и «совместимыми историями» (shareable narratives)[276]. Диалогическая память, укорененная в национальной памяти, преодолевает национальные границы за счет транснациональной перспективы. Лишь на основе взаимного признания жертв и преступлений открывается перспектива общего будущего. Пока доминирует суженный национальный взгляд на историю, в Европе будет продолжаться «диалог глухих» или даже «тлеющая гражданская война воспоминаний». Из тупика героических мифов и конкуренции жертв может вывести, говоря словами венгерского писателя Петера Эстерхази, только «совместное знание европейцев о нас самих в роли преступников и жертв»[277]. Диалогический принцип транснациональной европейской памяти точно сформулировал другой венгерский писатель Дьордь Конрад: «Хорошо, когда мы, обмениваясь воспоминаниями, узнаем, что о нашей истории думают другие. …Вся европейская история – это общее достояние, открытое любому без всякой национальной или иной предвзятости»[278]. Дьордь Конрад, охарактеризовав наличное положение дел, указал и на потенциал, содержащийся в культурных рамках Европейского союза.
Израильский писатель Асмос Оз однажды заметил: «Будь моя власть, то на любой миротворческой конференции, проходящей где-нибудь в Вье (Wye) или Осло, я бы всякий раз отключал микрофон, когда та или иная сторона заводила речь о прошлом. Ведь переговорщикам платят за то, чтобы они находили решения для проблем настоящего и будущего!»[279] К сожалению, преодоление прошлого не всегда удается отделить от решения насущных проблем и проблем будущего. Напротив, повсюду в мире различные формы памяти самым тесным образом связаны с возникновением новых политических структур, а также с формированием новых взглядов на прошлое и будущее.
Спустя шестьдесят восемь лет после окончания Второй мировой войны мы видим различные фазы и типы исторической политики. Она началась с замалчивания как формы «диалогического забвения». В послевоенной Германии произошла смена политической системы, а главные военные преступники оказались под судом (теперь это именуется transitional justice[280]), однако внутри западногерманского общества в качестве эффективной стратегии социальной интеграции использовались принципы забвения и прощения при далекоидущем отказе от юридического преследования совершенных преступлений. Забвение практиковалось и другими европейскими странами обоих военно-политических блоков эпохи холодной войны. Это продолжалось до 1980-х годов, когда Холокост, выйдя из тени Второй мировой войны, занял в сознании мирового сообщества место главного преступления против человечности в XX веке. Политика умолчания и подведения финальной черты, оправдывавшая себя после симметричного насилия гражданских войн, не срабатывала в случае радикальной асимметрии использования экстремального насилия. Если диалогическое умолчание является стратегией, которая основывается на взаимной договоренности, то репрессивное замалчивание продлевает разрушительную асимметрию властных отношений: преступники уходят от ответственности, а жертвы продолжают страдать.
Вторая модель мемориализации является исторической новацией, ставшей ответом на трагедию Холокоста. Ни одно из прежних травматических событий мировой истории не порождало столь абсолютного императива «не забывать никогда!». Подобный императив, наводя мосты между нацией жертв и нацией преступников, формирует глобальное свидетельское сообщество. Добровольно взятое им на себя обязательство по увековечиванию памяти возводит определенную историческую эпоху в ранг «нормативного прошлого», превращая это обстоятельство в заповедь гражданской религии. С формированием памяти о Холокосте происходит переориентация политических и социальных рамок с забвения на памятование. Подобная мемориализация привела к необратимому изменению политической чувствительности в глобальных масштабах. Память о Холокосте с ее ориентацией на долговечную мемориализацию и глобальные масштабы хотя и стала моделью для различных категорий жертв, однако во многих отношениях она отличается от памяти этих социальных групп.
В 1990-е годы возникла еще одна форма мемориализации, политическая и культурная цель которой заключалась в общественном признании жертв и необходимом им воздаянии справедливости, но не увековечивании памяти о них на все времена. Эта третья модель предполагала сохранение памяти ради преодоления прошлого. Речь шла о проработке травматического прошлого, завершением которой должна была служить не просто память о нем, а трансформация государственного насилия в структуры моральной ответственности и успешная социальная интеграция бывших жертв и преступников. Когда жертвы обретают голос, а их страдания получают признание и сочувствие, когда их взгляд на историю входит в национальный нарратив, а за совершенными преступлениями следует символическая или моральная компенсация пострадавшим, то появляется надежда, что эффекты расколовшего общество политического террора (как это было в Аргентине) или насилия со стороны колониальных властей (например, в Австралии) будут преодолены. Третья модель подразумевает не увековечивание памяти о прошлом, а его преодоление в прямом смысле, то есть исцеление от травмы, примирение и открытость для совместного будущего.
Наконец, модель диалогической памяти, которая пока только складывается и еще не обрела устойчивых форм в мемориальной политике, отвечает такой ситуации, когда две или несколько стран пережили общую историю взаимного насилия. Диалогическая память имеет особенно благоприятные шансы в альянсе государств, каким является Европейский союз, за счет взаимного сближения и признания причиненных другому страданий; здесь появляется возможность ослабить монологизм национальной памяти и укрепить транснациональную интеграцию созданием более дифференцированной и комплексной конструкции исторической памяти.
Здесь открывается важнейшее поле исторического образования, дающего возможность учиться друг у друга. То, что казалось немыслимым для первого поколения, а затем игнорировалось вторым поколением, может послужить представителям третьего поколения темой для взаимных рассказов и предметом для взаимопонимания. Знание о травмах, которые твоя страна нанесла европейским соседям, является важнейшей предпосылкой развития прочных добрососедских отношений поверх границ между государствами. Это знание ведет к пониманию, возникающему как бы изнутри новых, более глубоко проработанных взаимосвязей с окружающими странами. Это также существенная часть европейского образования: знание исторических травм, которые выпали на долю соседей, особенно если травмы были нанесены твоей собственной страной. Чем глубже взаимопонимание, тем менее невротическими будут взаимоотношения европейских соседей. Издевательские карикатуры греков, рисующих Ангелу Меркель с гитлеровскими усиками, или глубокое недоверие британцев, питаемое к немцам на протяжении почти семи десятилетий, – подобные стереотипы способны передаваться от поколения над ними, то разного рода отрицательные клише могут постепенно сойти к поколению; однако если воспринимать их серьезно и работать на нет, благодаря устойчивому развитию диалогической памяти.
Заключение
Пять тезисов о предпосылках новой мемориальной культуры
Обычные живые существа забывают и начинают сначала. Но мы – люди, и мы никогда не будем искренними, не имея перед глазами то, что мы совершили.
Карл Ясперс [281]Новое понимание памяти и коммеморации существенно изменило наше отношение к прошлому. Связанные с этим последствия для культуры можно резюмировать в виде пяти тезисов.
Память – идет ли речь об индивидууме или социальной группе – является антропологической универсалией.
Память служит основной формой человеческого самосознания и ориентации во времени и пространстве. Эта мысль не нова, напротив, она с глубокой древности присутствовала в культурных практиках, определяя их характер. Она была лишь временно забыта и потеряла свое значение внутри темпорального режима эпохи модерна; данный темпоральный режим отводил абсолютно привилегированную роль будущему, обесценивая прошлое. Пока считалось, что прошлое проходит, а потому не может представлять собой важный ресурс для настоящего, человеческая способность помнить не имела большого социального и культуротворческого значения. Новое открытие антропологической, социальной и культурной значимости памяти привело к существенному расширению представлений о носителе памяти с переключением внимания от индивидуума к социальной группе и коллективному актору, что сопровождалось дальнейшим распространением интереса на медиумы памяти, коммеморативные техники и институции, работающие в рамках культурной памяти.
Формирование новых представлений о памяти, опирающихся на антропологические основания и включающих в себя психологические, социальные, политические и культурные аспекты, ведет к тому, что культура (заново) открывается как пространство памяти; это зафиксировано программной формулой Юрия Лотмана и Бориса Успенского: культура есть «ненаследуемая память коллектива»[282].
В рамках мемориальной культуры за индивидуумами, социальными группами и национальными культурами в целом признается одно из фундаментальных прав человека – право на собственное видение мира, опыт и идентичность. Разумеется, это не означает, что легитимна любая коммеморативная практика. Признание указанного фундаментального права вызвало повышенный научный интерес к индивидуальным воспоминаниям, живой истории, поколенческому опыту, разнообразному репертуару культурных форм коммеморации. Поворот к мемориальной культуре сопровождается определенным ростом общественного внимания к личным и неофициальным воспоминаниям, к индивидуальным судьбам, семейным историям, свидетельствам очевидцев, личным архивам, существующим в виде дневников, писем и фотографий, а также к проблемам межпоколенческого воспроизводства традиции.
Память – это осовременивание прошлого.
«Осовременивание» означает актуализацию прошлого в настоящем и для настоящего. Лишь настоящее является тем местом, откуда происходит обращение к прошлому; одновременно настоящее служит тем контекстом, в котором заново реконструируется прошлое. Оба акта указывают на субъект, обращающийся к прошлому. Перспектива субъектной позиции ограниченна. Это может быть перспектива индивидуума или социальной группы; речь может идти о личном опыте, который преобразован воспоминаниями, или же о многовековом опыте, который сохраняется посредством изображений, текстов или устных преданий. Все, что извлекается памятью из прошлого, подвергается усиленной селекции и всегда обусловлено насущными потребностями и целями индивидуума или социальной группы. В данном случае «осовременивание» – согласимся с Фридрихом Ницше – есть живое воспоминание о прошлом, посредством которого тот или иной актор удостоверяет собственную историю, маркирует свою самобытность, упрочивает свое самосознание и обретает ориентиры для будущего. Воспоминание о прошлом никогда не покоится само в себе, подобно гемме в медальоне; то, что отобрано и вызвано воспоминанием, попадает непосредственно в настоящее, участвуя в конструировании идентичности, формируя установки, стимулируя мотивации, влияя на решения и поступки.
Память нуждается в репрезентации.
Онтологическое различие между тем, что есть сейчас, и тем, что было прежде, неустранимо, поэтому в принципе нельзя перенести нечто прошедшее в настоящее. Вместо такого возврата, который возможен только в научной фантастике, в мемориальной культуре мы всегда имеем дело не с прошлым как таковым, а лишь с его репрезентацией, то есть с его медийно опосредованными трансформациями. Факты прошлого доходят до нас не в «сыром» виде, а неизменно как часть истории[283]. Увиденное облекается в слова, пережитое перерабатывается в рассказ, прочувствованное становится памятником, историческое событие экранизируется. Целая эпоха отображается музейной экспозицией.
В форме репрезентации воспоминания оказываются воспроизводимым наследием и рыночным товаром. Растущему интересу к воспоминаниям соответствует расширяющийся рынок. Воспоминания стали важной темой для средств массовой информации (периодика, книгоиздание, театральные постановки, телевидение, радио, кино и Интернет, музеи и выставки). При этом отсутствующее, невидимое, недоступное прошлое постоянно заменяется неким эрзацем, с помощью которого устанавливается чувственный контакт с прошлым. Подобные символические заменители – не просто копии того, что заинтересовало нас в прошлом, они оказываются его реконструкцией и интерпретацией. Поэтому мемориальная культура всегда имеет дело с определенными средствами, жанрами и форматами репрезентации. Наше восприятие формируется конструктивными и ограничивающими сам предмет моделями сюжетных схем, приемов репрезентации, процессами интерпретации и смыслообразования. Особенно богатый опыт в этой сфере накапливается художниками с их постоянной рефлексией о возможностях тех или иных средств репрезентации и рамочных условий их использования, поэтому именно деятели искусства играют ныне столь значительную роль в «осовременивании» прошлого и его осмыслении.
Новацией мемориальной культуры служат ее этические рамки.
Пока различные социальные активисты использовали память как средство для достижения собственных целей, не было нужды в появлении нового термина. Ностальгические и эгоистические обращения к памяти происходили всегда и будут происходить впредь. Память – это антропологическая универсалия, а потому она не является благом сама по себе, ибо, как справедливо отметил Кристиан Майер, память может разжечь ненависть и возбудить агрессивное желание мести. После Первой мировой войны самооценка немцев серьезно пострадала из-за поражения и символических унижений. Речь тогда не шла о целительном забвении; напротив, пережитые страдания стали основой для массовых движений и национальной мобилизации. Интроспекция увязывала память с действием: невозможно было допустить мысль, что павшие солдаты погибли напрасно! Из памяти о павших складывался национальный долг, обязывавший бороться против совершившейся несправедливости с новой, удвоенной силой.
Ценности, увязанные с политической памятью, всегда носили в истории партикулярный характер, специфичный для конкретной социальной группы. Соответствуя тезису Ницше об ограниченности исторического горизонта, эти ценности являлись ориентирами для достижения поставленных целей, они служили укреплению идентичности и легитимировали собственные деяния. Поэтому на уровне конструирования коллективной памяти неизбежно происходило столкновение культур (clash of cultures), конфронтация мировоззрений: древние боги, выходя из гробниц, стремились к власти над нашей жизнью и начинали вечную борьбу между собой[284].
Все это продолжается до сих пор, о чем мы с тревогой ежедневно читаем в газетах. Новацией оказалась этическая основа, связывающая память с универсальной ценностью прав человека и придающая совершенно новое качество пересечению прошлого и настоящего. По сути, речь идет не о неизменно громких требованиях текущего момента, а об уже почти неслышных голосах, которые сетуют на гнетущее наследие незавершенного прошлого. Контекстом подобных жалоб служат чудовищные исторические преступления против человечности, последствия которых до наших дней продолжают длиться для жертв, ожидающих решения своих проблем. Прошлое не завершилось, потому что оно связано с правом на признание пережитых страданий и на возмещение ущерба, с необходимостью примирения и с правом на память.
Абсолютной исторической новацией является то, что преступники или победители готовы принять взгляд на исторические события с точки зрения жертв. В новой мемориальной культуре, основывающейся на правах человека, все большую роль играет этический императив. Заповедь «помни!» действует там, где нет спонтанного, мобилизующего и консолидирующего импульса для сохранения памяти и, наоборот, имеет место сильный импульс для забвения, которое обещает избавление от гнетущего чувства стыда и вины. Слово «monere» – латинский глагол, означающий «помнить», «вспоминать», значил также «напоминать». Памятник служит напоминанием, обязывая не забывать не только потому, что память всегда недолговечна, но и потому, что она неизменно стремится избавиться от бремени воспоминаний. Йохан Хейзинга имел в виду именно данное свойство памяти, когда написал: «История – это та духовная форма, посредством которой общество дает себе отчет о своем прошлом»[285]. Помнить о том, что хочется забыть, не является антропологической потребностью, поэтому обращение к прошлому носит этический характер. Обращение к прошлому выводит за узкие рамки групповой идентичности, поднимаясь на уровень универсалий, то есть воспоминаний более высокого социального порядка, требующих признать страдания жертв, хранить в памяти их историю. На основе этого этического императива с 1980-х годов начала формироваться новая политика покаяния. Здесь следует обратить внимание на «негативную память», которая возникает в результате признания собственной вины и проявляет себя там, где государство берет на себя историческую ответственность за страдания жертв совершенных им преступлений[286]. С этих пор память служит уже не только средством индивидуального или коллективного самоутверждения; она может инициировать трудный процесс самокритики и помочь – в рамках диалогической, разнонаправленной и транснациональной памяти – восстановить человеческое достоинство дискриминируемых социальных групп, укрепляя взаимное доверие.
Мемориальный дискурс как шанс для критической рефлексии
Начиная с 1990-х годов, параллельно со становлением новой мемориальной культуры сформировалась значительная по масштабам область междисциплинарных и интернациональных исследований, где происходит рефлексия и анализ государственной и общественной активности в сфере исторической политики и мемориальной культуры. Данный научно-теоретический дискурс отчасти довольно четко отграничивает себя от прикладных проблем и актуальной полемики, но отчасти переплетается с некоторыми видами практической деятельности (мемориалы, исторические музеи и исторические кинокартины), оказывая поддержку, создавая легитимирующую основу или же осуществляя критическое, порой разрушительное вмешательство. В отличие от ситуации XIX и XX веков конструкции памяти утратили свою «естественность» и «невинность»; сегодня им приходится быть предметом научно-критического анализа и сравнений с другими национальными образцами.
Память и воспоминания не являются априори моральными, поэтому критический потенциал мемориальных исследований состоит в изучении как деструктивных аспектов, так и целительных свойств памяти. «Историческая память всегда служила и продолжает служить крайне агрессивным целям, создавая устойчивый образ врага, разжигая страсти или обосновывая необходимость мести и реванша», однако данное обстоятельство не может оставаться слепым пятном исторических исследований, а должно привлекать их непосредственное внимание[287]. Поэтому мемориальные исследования развиваются сразу по двум направлениям, включая в себя и самоанализ. Здесь же следует отметить, что мы опираемся на нормативные конструкции памяти, сознавая их конвенциональную природу.
Переход от традиционной мемориальной практики к новым рамкам мемориальной культуры начался в 1980-е годы все большим смещением в системе координат прошлое – настоящее – будущее. Релятивизация прежнего исторического оптимизма, согласно которому любые деяния совершаются в ожидании все более позитивного будущего, впервые продемонстрировала, что и прошлое способно предъявлять нам свои требования, от которых нельзя попросту отмахнуться. Такие требования имеют особую силу тогда, когда непонимание, игнорирование или забвение репрессивных иерархий сохраняет их власть, отчего продолжают страдать жертвы репрессий. В этом смысле мемориальная культура является обобщающим выражением того обстоятельства, что в западных странах расширилась сфера ответственности общества и государства, поскольку они осознают не только положительные основы собственной истории, но готовы интегрировать в свою идентичность и негативные исторические события. Этой переориентации соответствует поворот и в нашем темпоральном сознании. Мы расстались с представлением, будто прошлое – это то, чего больше не будет, а потому прошлое неподвластно воздействию человека. Напротив, окрепло убеждение, что сама хронологическая последовательность отдельных временных фаз формируется культурой и событие прошлого, казавшееся необратимо ушедшим, навсегда оцененным и преодоленным, при определенных обстоятельствах может вернуться в значимый и практический горизонт настоящего. Ныне очевидно: проблемы травматического прошлого не способно решить одно лишь течение времени. Преступления против человечности не исчезают сами по себе, они нуждаются в последующем признании страданий, испытанных жертвами, и в принятии на себя ответственности за совершенные преступления. Последний глава ГДР Эрих Хонеккер любил завершать свои публичные преступления лозунгом: «Всегда вперед – никогда назад!» Уверенность, будто по пути вперед можно и нужно расстаться с прошлым, служила символом веры в модернизацию по ту и другую сторону Берлинской стены. Элиас Канетти сформулировал принцип вето против подобной трактовки темпоральной ориентации: «Прошло – не значит навсегда!» С этой убежденности начинается новая эра темпоральной культуры.
Примечания
1
Freud S. Das Unbehagen in der Kultur (1930) // Freud S. Kulturtheoretische Schriften. Frankfurt/M., 1974. S. 218, 260; цит. по: Фрейд З. Недовольство культурой // Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995. С. 311.
(обратно)2
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. Zur Renovierung der deutschen Erinnerungskultur. Hamburg 2012. S. 166; ср.: Radkau J. Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt. München, 2002. S. 164 ff.
(обратно)3
Ср.: Assmann A. Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne. München, 2013.
(обратно)4
Lübbe H. Vom Parteigenossen zum Bundesbürger. Über Beschwingende und Historisierte Vergangenheiten. München, 2007. S. 132.
(обратно)5
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 73.
(обратно)6
Nietzsche F. Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben // Nietzsche F. Werke in drei Bänden / Schlechta K. (hrsg.) München, 1962. Bd. 1. S. 229 – 230; цит. по: Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 178.
(обратно)7
Assmann A., Frevert U. Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945. Stuttgart, 1999.
(обратно)8
Todorov T. Hope and Memory. Lessons from the Twentieth Century. Princeton, NJ, 2003. Р. 3.
(обратно)9
Райнхард Козеллек «Существует ли коллективная память?», выступление 06.12.2003 на софийской международной конференции «Пьер Нора. Места памяти и конструкции современности». Мне довелось услышать это выступление Козеллека, состоявшееся в присутствии его французского коллеги, которому была посвящена конференция. Воспользовавшись предоставленной возможностью, Козеллек заявил о своем неприятии концепции коллективной памяти. Цитирую по машинописной расшифровке магнитофонной записи, найденной в Интернете и любезно переданной мне коллегой из Таллина.
(обратно)10
Halbwachs M. Das Gedächtnis und seine sozialen Rahmenbedingungen. Frankfurt/M., 1975.
(обратно)11
Mrozek B. Zur Frage des kollektiven Erinnerns. Die Semantik der Memoria // Merkur. № 66. Mai 2012. Р. 412.
(обратно)12
Ульрике Юрайт, сотрудница гамбургского Института социальных исследований, считает, что немцы отрицают наличие данной границы или намеренно стирают ее. К этому утверждению мы еще вернемся.
(обратно)13
Koselleck R. Gibt es ein kollektives Gedächtnis? Р. 4. («Существует ли коллективная память?»)
(обратно)14
Ibid. Р. 6.
(обратно)15
Koselleck R. Gibt es ein kollektives Gedächtnis? Р. 4. («Существует ли коллективная память?»)
(обратно)16
Ibid. Р. 5.
(обратно)17
Düringer H. Die Vergangenheit ist nicht abgeschlossen. Religiöse Aspekte des Erinnerns // Frölich M., Jureit U., Schneider Ch. (Hrsg.). Das Unbehagen an der Erinnerung – Wandlungsprozesse im Gedenken an den Holocaust. Frankfurt/M., 2012. S. 59.
(обратно)18
Rüsen J. Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken // Rüsen J. Historische Orientierung. Über die Arbeit des Geschichtsbewusstseins, sich in der Zeit zurecht zu finden. Köln et al., 1994. S. 211 – 234.
(обратно)19
Reemtsma J.Ph. Wozu Gedenkstätten? // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2010. Vol. 25 – 26. S. 3.
(обратно)20
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 16.
(обратно)21
Ibid. S. 75.
(обратно)22
Reemtsma J.Ph. Wozu Gedenkstätten? S. 9.
(обратно)23
Koselleck R. Gibt es ein kollektives Gedächtnis? S. 3.
(обратно)24
Mrozek В. Zur Frage des kollektiven Erinnerns. S. 419.
(обратно)25
Reemtsma J.Ph. Wozu Gedenkstätten? S. 7.
(обратно)26
Kattermann V. Endlich fertig erinnert? Ein psychoanalytischer Beitrag zur Diskussion kollektiver Vergangenheitsarbeit // Merkur. № 66 (Mai 2012). S. 463.
(обратно)27
Knigge V. Zur Zukunft der Erinnerung // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2010. Vol. 25 – 26. S. 10 – 16. Жестко противопоставляя «хорошую» критическую историографию «плохой» мемориальной культуре или «индивидуализацию» – «коллективизации», Книгге оказывается последователем Козеллека.
(обратно)28
Knigge V. Zur Zukunft der Erinnerung // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2010. Vol. 25 – 26. S. 10 – 16.
(обратно)29
Knigge V. Zur Zukunft der Erinnerung // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2010. Vol. 25 – 26. S. 10 – 16.
(обратно)30
Spiegel. 25.03.2013. S. 134.
(обратно)31
Buß Ch. ZDF-Weltkriegepos: Glaube, Liebe Hitler // Spiegel. 13.03.2013.
(обратно)32
Spiegel. 25.03.2013. S. 134.
(обратно)33
Spiegel. 11.03.2013. S. 144.
(обратно)34
Ibid.
(обратно)35
Buß Ch. ZDF-Weltkriegepos: Glaube, Liebe Hitler // Spiegel On-line. 13.03.2013.
(обратно)36
Michal W. Grenzen der Erinnerung // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 22.03.2013. S. 43.
(обратно)37
Kamann M. Grenzen der Erinnerung // Welt am Sonntag. 24.03.2013. S. 10.
(обратно)38
Herbert U. Die Nazis sind immer die anderen // Tageszeitung. 21.03.2013 (/).
(обратно)39
Fuchs A. After the Dresden Bombing. Pathways of Memory, 1945 to the Present. Houndmills, 2012. Р. 9 – 15.
(обратно)40
Цитата заимствована из интервью, которое кинорежиссер Доминик Граф взял у сценариста и режиссера Оливера Шторца (1929 – 2011). Шторц принадлежал к последнему поколению немцев, попавших на фронты Второй мировой войны. В начале 1960-х годов он снимал телефильмы для немецкой публики, которая еще хранила в живой памяти те военные годы. Постоянной темой его фильмов были национал-социализм и совершенные нацистами преступления. Шторц относился к числу тех, кто пытался преодолеть замалчивание, характерное для послевоенного периода. Он использовал в этих целях телевидение, – то есть новые и экспериментальные на ту пору технологии массовой коммуникации, – чтобы привлечь внимание немецких семей к данной теме.
(обратно)41
Lübbe H. Vom Parteigenossen.
(обратно)42
Ср.: Herwig M. Die Flakhelfer. Wie aus Hitlers jüngsten Parteimitgliedern Deutschlands führende Demokraten wurden. München, 2013. Я сняла об этой теме документальный фильм «Конец, означавший начало. Поколение “помощников ПВО”», 2013.
(обратно)43
Lübbe H. Vom Parteigenossen. S. 18 f. О том же говорила Элизабет Ноэлль-Нойманн: «Такими были мнения, внешние проявления, которые необходимо было демонстрировать на публике, чтобы не оказаться в изоляции»: Donsbach W. Die Theorie der Schweigespirale // Schenk M. (Hrsg.). Medienwirkungsforschung. Tübingen, 1987. S. 327; см. также: Noelle-Neumann E. Öffentliche Meinung. Die Entdeckung der Schweigespirale. erw. Ausgabe, Berlin und Frankfurt/M., 1996 [1982].
(обратно)44
König H. Das Erbe der Diktatur. Der Nationalsozialismus im politischen Bewusstsein der Bundesrepublik // König H. et al. (Hrsg.). Vertuschte Vergangenheit. Der Fall Schwerte und die NS-Vergangenheit der deutschen Hochschulen. München, 1997. S. 308.
(обратно)45
Lübbe H. Vom Parteigenossen. S. 69.
(обратно)46
Lübbe H. Vom Parteigenossen. S. 95.
(обратно)47
Die Normalität des Unnormalen. Hermann Lübbe im Gespräch mit Stephan Sattler // Focus. 3.09.2007.
(обратно)48
Это понятие заимствовано у Кристиана Шнайдера. См.: Schneider Ch. Der Holocaust als Generationsobjekt. Generationsgeschichtliche Anmerkungen zu einer deutschen Identitätsproblematik // Frölich M. et al. (Hrsg.). Repräsentationen des Holocaust im Gedächtnis der Generationen. Zur Gegenwartsbedeutung des Holocaust in Israel und Deutschland. Frankfurt/M., 2004. S. 234 – 253.
(обратно)49
Гюнтер Грасс и Вольфдитрих Шнурре адресовали эту фразу Союзу писателей ГДР в связи со строительством Берлинской стены. Но она применима и к замалчиванию нацистского прошлого; Грасс прервал это замалчивание лишь спустя сорок пять лет признанием о службе в войсках СС.
(обратно)50
Интервью с Петером Слотердейком: Matussek M. Wir Deutschen. Warum uns die anderen gern haben können. Frankfurt/M., 2006. S. 204.
(обратно)51
Aly G. Unser Kampf. 1968 – ein irritierter Blick zurück. Frankfurt/M., 2008.
(обратно)52
Lepsius M.R. Das Erbe des Nationalsozialismus und die politische Kultur der Nachfolgestaaten des ‹Großdeutschen Reiches› // Haller M. et al. (Hrsg.). Kultur und Gesellschaft. Frankfurt/M.; New York, 1989. S. 247 – 264.
(обратно)53
Schmid H. Das Unbehagen in der Erinnerungskultur. Eine Annäherung an aktuelle Deutungsmuster // Frölich M., Jureit U., Schneider Ch. (Hrsg.). Das Unbehagen. S. 161 – 181.
(обратно)54
Schneider Ch. Generation im Abtritt. Vom Schicksal historischer Gegenidentifizierungen // Frölich M., Jureit U., Schneider Ch. (Hrsg.). Das Unbehagen. S. 89.
(обратно)55
Jureit U., Schneider Ch. Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung. Stuttgart, 2010; Frölich M., Jureit U., Schneider Ch. (Hrsg.). Das Unbehagen.
(обратно)56
Frölich М. et al. (Hrsg.). Das Unbehagen. S. 31.
(обратно)57
О различии между «жертвенной ориентацией» и «самоидентификации с жертвами» в мемориальной культуре см.: Konitzer W. Opferorientierung und Opferidentifizierung. Überlegungen zu einer begrifflichen Unterscheidung // Frölich M., Jureit U., Schneider Ch. (Hrsg.). Das Unbehagen. S. 119 – 127.
(обратно)58
Lübbe H. Vom Parteigenossen. S. 32.
(обратно)59
Ibid. S. 79 – 80.
(обратно)60
Ibid. S. 11.
(обратно)61
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 7.
(обратно)62
Lübbe H. Vom Parteigenossen. S. 20.
(обратно)63
Torpey J. Politics and the Past. On Repairing Historical Injustices. New York und Oxford, 2003. Р. 3.
(обратно)64
Jureit U., Schneider Ch. Gefühlte Opfer. В дальнейшем я буду ссылаться на главу, написанную Ульрике Юрайт.
(обратно)65
Frölich M., Jureit U., Schneider Ch. (Hrsg.). Das Unbehagen.
(обратно)66
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche.
(обратно)67
Weshalb erinnern? Vorgänge. Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik. Heft 2. Juni 2012.
(обратно)68
Jureit U., Schneider Ch. Gefühlte Opfer. S. 84.
(обратно)69
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 49.
(обратно)70
Интервью с Нико Хофманом: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 18.03.2013. S. 27.
(обратно)71
Lübbe H. Vom Parteigenossen. S. 345.
(обратно)72
Jureit U., Schneider Ch. Gefühlte Opfer. S. 25.
(обратно)73
Koselleck R. Formen und Traditionen des negativen Gedächtnisses // Knigge V., Frei N. Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord. München, 2002. S. 28.
(обратно)74
Jureit U., Schneider Ch. Gefühlte Opfer. S. 33, 95 ff.
(обратно)75
Konitzer W. Opferorientierung und Opferidentifizierung // Frölich M., Jureit U., Schneider Ch. (Hrsg.). Das Unbehagen. S. 120 f.
(обратно)76
Ibid. S. 124.
(обратно)77
Jureit U., Schneider Ch. Gefühlte Opfer. S. 85.
(обратно)78
Frölich M., Jureit U., Schneider Ch. (Hrsg.). Das Unbehagen. S. 10, 27.
(обратно)79
Об этом рассказывал Игнац Бубиу в середине 1990-х годов, выступая в университете города Констанц.
(обратно)80
Schmid H. Das Unbehagen in der Erinnerungskultur. Eine Annäherung an aktuelle Deutungsmuster // Frölich M., Jureit U., Schneider Ch. (Hrsg.). Das Unbehagen. S. 169.
(обратно)81
Ibid. S. 177.
(обратно)82
Lübbe H. Vom Parteigenossen. S. 90.
(обратно)83
Таков заголовок статьи Веры Каттерманн: Kattermann V. Endlich fertig erinnert? Ein psychoanalytischer Beitrag zur Diskussion kollektiver Vergangenheitsarbeit // Merkur. № 66 (Mai 2012). S. 459 – 465.
(обратно)84
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. Далее я буду ссылаться только на главы, написанные Харальдом Вельцером, и поэтому называть только этого автора.
(обратно)85
Ibid. S. 20.
(обратно)86
Ibid. S. 23.
(обратно)87
Интервью с Хансом-Ульрихом Велером: Welt am Sonntag. 08.05.2005. Люббе также подчеркивает: «Федеративная республика явилась практическим ответом на опыт национал-социализма. Ее создание ознаменовалось успехом, именно поэтому национал-социализму суждено завершиться его полной историзацией». Интервью с Германом Люббе: Focus. 03.09.2007.
(обратно)88
Интервью с Хансом-Ульрихом Велером: Welt am Sonntag. 08.05.2005.
(обратно)89
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 21.
(обратно)90
Ibid. S. 25.
(обратно)91
Torpey J. Politics and the Past. Р. 26.
(обратно)92
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 18.
(обратно)93
Jarausch K.H. Nightmares of Daydreams? A Postscript on the Europeanisation of Memories // Pakier M., Strath B. (Hrsg.). A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance. Oxford; New York, 2010. S. 314.
(обратно)94
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 98 – 99.
(обратно)95
См.: Joas H. Gewalt und Menschenwürde. Wie aus Erfahrungen Rechte werden. Ms., 2009, а также: Winter J. Foreword: Rememberance as a Human Right /// Assmann A., Shortt L. (Hrsg.). Memory and Political Change. Basingstoke, 2011. S. vii – xi.
(обратно)96
Habermas J., Derrida J. February 15, or What Binds Europeans Together: A Plea for a Common Foreign Policy, beginning at the Core of Europe // Constellations. 2003. Vol. 10. № 3. Р. 291 – 297; Derrida J. A Europe of Hope // Epoché. 2006. Vol. 10. № 2. Р. 407 – 412.
(обратно)97
-eu100.html.
(обратно)98
Jureit D., Schneider H. Gefühlte Opfer. S. 34.
(обратно)99
Douglas M. Ritual, Tabu und Körpersymbolik. Frankfurt/M., 1986.
(обратно)100
В 1963 году, спустя десятилетие после восстания в ГДР, федеральный президент Любке провозгласил 17 июня национальным памятным днем, однако для политической культуры тогдашней ФРГ он воспринимался гражданами как чуждый, установленный сверху ритуал. Молодежь призывали «достойно» отмечать этот памятный день, что подразумевало, например, проведение факельных шествий.
(обратно)101
Wesel R. Gedenken als Ritual: Zum politischen Sinn ‹sinnentleerter Rituale› // Bergem W. (Hrsg.). Die NS-Diktatur im deutschen Erinnerungsdiskurs. Opladen, 2003. S. 17.
(обратно)102
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 21.
(обратно)103
Schüle Ch. Deutschlandvermessung. Abrechnungen eines Mittdreißigers. München und Zürich, 2006. S. 100.
(обратно)104
Wieviorka A. L’ère du témoin. Paris, 1998.
(обратно)105
Lübbe H. Vom Parteigenossen. S. 93.
(обратно)106
Lübbe H. Correctness. Über Moral als Mittel der Meinungskontrolle (01.06.2006): -freiheit-der-wissenschaft.de/downloads/texte/vt_010606_luebbe.pdf. S. 1.
(обратно)107
Ibid. S. 3.
(обратно)108
Ibid. S. 16.
(обратно)109
Jureit D., Schneider H. Gefühlte Opfer. S. 34 – 35.
(обратно)110
Lübbe H. Correctness. S. 15 – 16.
(обратно)111
Sadigh P. Wer hat sich mehr blamiert? // Dis Zeit Online. 11.10.2007: -eva-herman-kerner/seite-2.
(обратно)112
Hoffmann A. Der Fall Eva Herman. Hexenjagd in den Medien. Grevenbroich, 2007.
(обратно)113
Sadigh Р. Wer hat sich mehr blamiert?
(обратно)114
Flaig E. Das Unvergleichliche, hier wird’s Ereignis. Reflexion über die moralisch erzwungene Verdummung // Merkur. № 701 (Oktober 2007). S. 978 – 981.
(обратно)115
Lübbe H. Vom Parteigenossen. S. 73.
(обратно)116
Brockhaus G. // Frölich et al. (Hrsg.). Das Unbehagen. S. 112.
(обратно)117
Lübbe H. Correctness. S. 13, 15.
(обратно)118
Brockhaus G. // Frölich et al. (Hrsg.). Das Unbehagen. S. 113.
(обратно)119
Schieder R. Die Zukunft der Religion, цитируется по тексту выступления 14.01.2013 года в университете Констанц, 17.
(обратно)120
Schieder R. Die Zukunft der Religion, цитируется по тексту выступления 14.01.2013 года в университете Констанц, 17.
(обратно)121
В сфере искусства табуирование не срабатывает. Напротив, преодоление запретной черты – в том числе и при изображении Холокоста – может послужить главным творческим импульсом.
(обратно)122
Schieder R. Die Zukunft der Religion. S. 18 – 19.
(обратно)123
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 9.
(обратно)124
Интервью с Харальдом Вельцером: Frankfurter Rundschau. 16 – 17.05.2012. S. 32.
(обратно)125
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 100.
(обратно)126
Jureit U. Das Unbehagen. S. 84.
(обратно)127
Ibid.
(обратно)128
Badiou A. Le siècle (2005), цит. по немецкому изданию: Badiou A. Das Jahrhundert. Zürich und Berlin, 2006, S. 17 – 18. См. также: Baberowski J. Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt. München, 2012. S. 132 – 154.
(обратно)129
Hunt L. Inventing Human Rights. A History. New York; London, 2007. P. 204 – 205.
(обратно)130
Jureit U. Das Unbehagen. S. 31.
(обратно)131
Jaworski R. Alte und neue Gedächtnisorte in Osteuropa nach dem Sturz des Kommunismus // Jaworski R., Kusber J., Steindoff L. (Hrsg.). Gedächtnisorte in Osteuropa. Vergangenheiten auf dem Prüfstand. Frankfurt/M.; Wien, 2003. S. 11 – 25.
(обратно)132
Borst A. Barbarossas Erwachen. Zur Geschichte der deutschen Identität // Marquard O., Stierle K. (Hrsg.). Identität. Poetik und Hermeneutik. Vol. VIII. München, 1979. S. 19.
(обратно)133
Lübbe H. Vom Parteigenossen. S. 132 – 133; Schirrmacher F. Historisierung – Nur noch ein Kapitel im Geschichtsbuch // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 18.03.2013. S. 3, 5.
(обратно)134
Историк Винфрид Шульце называет это «память силой закона» в статье о европейской мемориальной политике: Zeitschrift Geschichte // Wissenschaft und Unterricht. 2008. Heft 7/8. S. 364 – 381.
(обратно)135
Koposov N. Memory Laws // Europe: A New Civil Religion? (-russian-historian-to-lecture-on-memory-laws/).
(обратно)136
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 49 – 50.
(обратно)137
Ibid. S. 50, 52.
(обратно)138
Ibid. S. 52.
(обратно)139
Schüle Ch. Deutschlandvermessung. S. 98.
(обратно)140
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 77.
(обратно)141
Torpey J. The Pursuit of the Past. P. 251.
(обратно)142
Torpey J. Making Whole What Has Been Smashed. On Reparations Politics. Harvard, MA, 2006. P. 8 – 9.
(обратно)143
Torpey J. The Pursuit of the Past. P. 251.
(обратно)144
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 52.
(обратно)145
Burckhardt J. Weltgeschichtliche Betrachtungen // Burckhardt J. Gesamtausgabe, hrsg. v. Oeri A, und Dürr E. Bd. 7. Berlin; Leipzig, 1929. 6 f.
(обратно)146
Reinhardt K. Die Klassische Philologie und das Klassische // Reinhardt K. Vermächtnis der Antike. Gesammelte Essays zur Philosophie und Geschichtsschreibung. Göttingen, 1966. S. 336.
(обратно)147
Ср.: Assmann A. Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Niedergang des Zeitregimes der Moderne. München, 2013.
(обратно)148
Foer J.S. Extrem laut und unglaublich nah. Frankfurt/M., 2011. S. 105.
(обратно)149
Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 20 – 21.
(обратно)150
Lepsius M.R. Das Erbe des Nationalsozialismus. S. 247 – 262.
(обратно)151
Knigge V. Zweifacher Schmerz. Speziallagererinnerung jenseits falscher Analogien und Retrodebatten // Haustein P. et al. (Hrsg.). Instrumentalisierung, Verdrängung, Aufarbeitung. Die sowjetischen Speziallagerin der gesellschaftlichen Wahrnehmung 1945 bis heute. Göttingen, 2006. S. 250 – 264.
(обратно)152
Интервью с Фольхардом Книгге: Den doppelten Schmerz aushalten // Spiegel Online. 25.04.2006 (-den-doppelten-schmerz-aushalten-a-412 829.html).
(обратно)153
Oehmke P. Zwickmühle der Vergangenheit // Der Spiegel. 2008. № 21. S. 166.
(обратно)154
Göring-Eckardt K. Kritisch Erinnern – Grüne Positionen zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Manuskript 2008. S. 1.
(обратно)155
Faulenbach B. Probleme des Umgangs mit der Vergangenheit im vereinten Deutschland. Zur Gegenwartsbedeutung der jüngsten Geschichte // Weidenfeld W. (Hrsg.). Deutschland. Eine Nation – doppelte Geschichte. Materialien zum deutschen Selbstverständnis. Köln, 1993. S. 190. Назначенная бундестагом парламентская комиссия по изучению истории диктатуры СЕПГ и ее последствий составила отчет, который насчитывал 15 тысяч страниц. В 1995 году была назначена вторая парламентская комиссия.
(обратно)156
Göring-Eckardt K. Kritisch Erinnern. S. 15.
(обратно)157
Göring-Eckardt K. Kritisch Erinnern. S. 15.
(обратно)158
Это слово обозначает еще и «отпущение грехов». – Прим. пер.
(обратно)159
Jesse E. Die zweiten Materialien einer Enquete-Kommission zur SED-Diktatur: kein Aufguß der ersten // Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung. 2000/2001. Berlin, 2001. S. 484 – 488.
(обратно)160
Совместное заявление правления партии и парламентской фракции ПДС: Zum Schlussbericht der Enquête-Kommission «Deutsche Einheit» des Bundestages. Gemeinsame Erklärung des Parteivorstands und der Bundestagsgruppe der PDS vom 17.06.1998 ().
(обратно)161
Müller C.P. Leerzellen der Geschichte // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 05.01.2010. S. 3.
(обратно)162
Schuller W. Erst Unrecht, dann Undank // Die Welt. 12.02.2011 ( 515 731/Erst-Unrecht-dann-Undank.html).
(обратно)163
Jureit U. Das Unbehagen. S. 36.
(обратно)164
Kraft H. Rubrik Politik // Rheinische Post (-online.de/politik/deutschland/hannelore-kraft-und-christina-rau-das-passt-aid-1.2290097).
(обратно)165
Fiedler L. Cross the Border, Close the Gap // Welsch W. (Hrsg.). Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. Weinheim, 1988. S. 73.
(обратно)166
Zeuner Ch. Citizenship Education in Kanada: Zwischen Integration und Selektion // Forneck H.J. et al. (Hrsg.). Teilhabe an der Erwachsenenbildung und gesellschaftliche Modernisierung. Baltmannsweiler, 2006. S. 65 – 82.
(обратно)167
Из выступления Джона Ралстона Соула 1 марта 2007 года в Ванкувере на церемонии получения эмигрантами канадского гражданства: Some thoughts on Canadian citizenship ( %E2 %8C%A9=eng). Благодарю Мишу Габовича за указание на это выступление.
(обратно)168
Hage G. Against Paranoid: Searching for Hope in a Shrinking Society. Annandale, N.S.W., 2003. Р. 100.
(обратно)169
Loewy H. Taxi nach Auschwitz. Feuilletons. Berlin; Wien, 2002. S. 4, 3.
(обратно)170
Diner D. Nation, Migration and Memory: On Historical Concepts of Citizenship // Constellations. 1998. Vol. 4. № 3. Р. 303.
(обратно)171
Rothberg M., Yildiz Y. Memory Citizenship: Migrant Archives of Holocaust Remembrance in Contemporary Germany // Parallax. 2011. Vol. 17. № 4. Р. 32 – 48.
(обратно)172
Michal W. Wunschtraumata der Kinder // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 22.03.2013. S. 43.
(обратно)173
Welzer H. Weitgehend ohne Moral // Frankfurter Rundschau. 16/17.05.2012. S. 32.
(обратно)174
Georgi V.B. Entliehene Erinnerung: Geschichtsbilder junger Migranten in Deutschland. Hamburg, 2003.
(обратно)175
Motte J., Ohliger R. Geschichte und Gedächtnis in der Einwanderungsgesellschaft: Einführende Betrachtungen // Motte J., Ohliger R. (Hrsg.). Geschichte und Gedächtnis in der Einwanderungsgesellschaft: Migration zwischen historischer Rekonstruktion und Erinnerungspolitik. Essen, 2004. S. 7 – 16.
(обратно)176
Saul R. Some thoughts on Canadian Citizenship.
(обратно)177
Weiland S. Zwickauer Zelle: Republik im Schockzustand // Spiegel Online. 13.11.2011.
(обратно)178
Его дочь Семия Симсек недавно опубликовала книгу об одиннадцати годах неведения о причинах трагедии (Simsek S., Schwarz P. Schmerzliche Heimat. Deutschland und der Mord an meinem Vater. Berlin, 2013).
(обратно)179
Vgl.: Mordserie: Friedrich spricht erstmals von Rechtsterrorismus // Die Welt Online. 13.11.2011 ( 714 953/Friedrich-spricht-erstmals-von-Rechtsterrorismus.html).
(обратно)180
Koselleck R. Gibt es ein kollektives Gedächtnis?
(обратно)181
Knigge V. Zur Zukunft der Erinnerung. S. 10, 15.
(обратно)182
Эти темы не упоминаются Вельцером и Гизеке. Вельцер даже исключает в будущем возможную опасность со стороны неонацистов: «Угрозы для демократии исходят не столько от ее решительных противников (вроде неонацистов), сколько от эрозии норм, которые оправдываются якобы прагматическими соображениями – такими, как необходимость использования войск бундесвера внутри страны, возможность применения пыток или дискуссия об ограничении прав, защищающих личность» (Giesecke D., Welzer H. Das Menschenmögliche. S. 95).
(обратно)183
Messerschmidt A. Weltbilder und Selbstbilder. Bildungsprozesse im Umgang mit Globalisierung, Migration und Zeitgeschichte. Frankfurt/M., 2009. S. 205.
(обратно)184
Ibid.
(обратно)185
Heitmeyer W. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in einem entsicherten Jahrzehnt // Heitmeyer W. (Hrsg.). Deutsche Zustände. Frankfurt/M., 2012. S. 15 – 41; Küpper B. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutschland. Bericht aus einem Langzeitprojekt // Die Abwertung der Anderen. Theorien, Praxis, Reflexionen. Frankfurt/M., 201. S. 6 – 9.
(обратно)186
Kermani N. Lessing-Preis-Rede in Hamburg. 23.01.2011 (Manuskript). S. 8.
(обратно)187
Zender H. Die Neue Rechte zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus. Neurechte Deutungsmuster am Beispiel der Debatte um Thilo Sarrazin. Magisterarbeit, Universität Heidelberg, 2011.
(обратно)188
Фильм Маттиаса Дайса «Восемь турок, один грек и женщина-полицейский. Жертвы правых террористов». Фильм демонстрировался 12 марта 2012 года на телеканале WDR ().
(обратно)189
«Федеральный президент встречается с родственниками убитых», Bundespräsident trifft Hinterbliebene // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 19.02.2013 (-mordserie-bundespraesident-trifft-hinterbliebene-12 084 807.html).
(обратно)190
С ноября 2012 по февраль 2013 года расширенная выставка экспонировалась в Кассельском университете, в офисе сетевой организации «Останься в Касселе».
(обратно)191
Краткое описание проекта. Благодарю организаторов за предоставленные материалы.
(обратно)192
Цитата из материалов выставки «Закрыв глаза», Fotomotel Kassel, июнь – сентябрь 2012.
(обратно)193
Слова президента ФРГ Кристиана Вульфа, произнесенные во время выступления 3 ноября 2010 года. – Прим. пер.
(обратно)194
Rusesabagina P. An Ordinary Man. An Autobiography. London, 2006. Р. 190.
(обратно)195
Todorov T. Hope and Memory. Lessons from the Twentieth Century. Princeton, NJ, 2003. Р. 142 – 143.
(обратно)196
Maier Ch.S. A Surfeit of Memory? Reflections on History, Melancholy and Denial // History and Memory. 1993. Vol. 5. № 2. Р. 143, 146.
(обратно)197
Ibid. Р. 147.
(обратно)198
Rothermund D. Rezension: Ismaël-Sélim Khaznadar, Aspects de la repentance // H-Soz-u-Kult. April 2013 (-net.org/reviews/showpdf.php?id=38 938).
(обратно)199
Nietzsche F. Jenseits von Gut und Böse // Nietzsche F. Sämtliche Werke. Berlin; New York, 1988. Bd. V. S. 86.
(обратно)200
Sabrow M. Erinnerung als Pathosformel der Gegenwart // Vorgänge. Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik. 2012. Bd. 51. № 2. S. 14, 10.
(обратно)201
Sabrow M. Held und Opfer. Zum Subjektwandel deutscher Vergangenheitsverständigung im 20. Jahrhundert // Frölich M., Jureit U., Schneider Ch. (Hrsg.). Das Unbehagen. S. 46.
(обратно)202
Ibid. S. 53.
(обратно)203
Ibid. S. 54.
(обратно)204
Lim J. – H. Victimhood Nationalism in Contested Memories: National Mourning and Accountability // Assmann A., Conrad S. (Hrsg.). Memory in a Global Age – Discourses, Practices and Trajectories. Houndmills, 2010. Р. 139.
(обратно)205
Sabrow М. Erinnerung als Pathosformel. S. 11.
(обратно)206
Ibid.
(обратно)207
Brumlik M. Bildung nach Auschwitz im Zeitalter der Globalisierung // Vorgänge. Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik. 2012. Bd. 51. № 2. S. 45.
(обратно)208
Следует заметить, что в конфликте между различными трактовками истории проблематичную роль играет и официальная терминология. Существует отчетливая иерархия в классификации преступлений. На ее вершине находится понятие геноцида, который ассоциируется в сознании мирового сообщества прежде всего с Холокостом. Следующий уровень занимает понятие «резня». Тот, кто оказывается в роли виновного, всячески избегает слова «геноцид», предпочитая говорить о «резне». Это соответствует официальной позиции Турции. Когда заходит речь об истреблении армян на периферии Первой мировой войны, то в Турции обычно говорят о «резне», а в других странах – о «геноциде». О том же свидетельствует недавняя реакция российского телекомментатора на немецкий сериал «Наши матери, наши отцы», обвинившего создателей фильма в фальсификации истории. Дескать, фильм не показал уничтожение немецкими солдатами 22 миллионов советских граждан. «Германия напала на нас. Это был величайший в истории геноцид русского народа! Но все говорят только о Холокосте» – Verkürzte Wahrheit, verfälschte Geschichte – Russische Medien und anti-westliche Propaganda am Beispiel Unsere Mütter, unsere Väter, Deutschlandfunk. 05.05.2013, Reporter: Thomas Franke.
(обратно)209
Nietzsche F. Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. S. 214; цит. по: Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. ??.
(обратно)210
Schwelling B. Gedenken im Nachkrieg. Die «Friedland-Gedächtnisstätte» // Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History. 2008. Bd. 5. № 2 (-forschungen.de/16 126 041-Schwelling-2 – 2008).
(обратно)211
Kroh J. Das erweiterte Europa auf dem Weg zu einem gemeinsamen Gedächtnis? // Frölich M., Jureit U., Schneider Ch. (Hrsg.). Das Unbehagen. S. 215 – 216.
(обратно)212
Gross J.T., Grudzinska Gross I. Golden Harvest. Events on the Periphery of the Holcaust. Oxford, 2011.
(обратно)213
Новое название организации: ‹International Holocaust Remembrance Alliance› (IHRA).
(обратно)214
Amtsblatt der Europäischen Union vom 27.01.2005: Holocaust, Antisemitismus und Rassismus. Entschließung des Europäischen Parlaments zum Gedenken an den Holocaust sowie zu Antisemitismus und Rassismus (eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: C:2005:253E:0037:0039:DE: PDF).
(обратно)215
Diner D. Gegenläufige Gedächtnisse. Über Geltung und Wirkung des Holocaust. Göttingen, 2007.
(обратно)216
Confino A. The Holocaust as a Symbolic Manual: The French Revolution, the Holocaust, and Global Memories // Hazan H., Goldberg A. (Hrsg.). Marking Evil: The Dialectic of Globalizing the Holocaust. New York, 2013.
(обратно)217
Ibid.
(обратно)218
Kroh J. Transnationale Erinnerung. Der Holocaust im Fokus geschichtspolitischer Initiativen. Frankfurt/M., 2008; Idem. Das erweiterte Europa.
(обратно)219
Reiter J. Fremde Federn: Geteilte Erinnerung im vereinten Europa // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 07.05.2005. S. 8.
(обратно)220
Droit E. Die Shoah: Von einem westeuropäischen zu einem transeuropäischen Erinnerungsort? // Buchinger K., Gantet C., Vogel J. (Hrsg.). Europäische Erinnerungsräume. Frankfurt/M.; New York, 2009. S. 257 – 265.
(обратно)221
Ее автобиографическая книга о Холокосте вышла и на немецком языке: Veil S. Und dennoch leben. Die Autobiographie der großen Europäerin. Berlin, 2009.
(обратно)222
См.: -union.de/reden/altes_neues_europa.htm. Сандра Калниете поведала о своей судьбе в книге: Kalniete S. Mit Ballschuhen im sibirischen Schnee. Die Geschichte meiner Familie. München, 2005.
(обратно)223
Ibid.
(обратно)224
Entschließung, 1481 (2006). См.: Hammerstein K., Hofmann B. Europäische «Interventionen». Resolutionen und Initiativen zum Umgang mit diktatorischer Vergangenheit // Hammerstein K. et al. (Hrsg.). Aufarbeitung der Diktatur – Diktat der Aufarbeitung?
(обратно)225
Kroh J. Das erweiterte Europa. S. 215, 214.
(обратно)226
Brumlik М. Bildung nach Auschwitz. S. 46.
(обратно)227
Из блога о 23 августа как новом памятном дне (18.03.2013, 06:35, goscho: Spiegel online).
(обратно)228
Maier Ch.S. Heißes und kaltes Gedächtnis: Über die politische Halbwertszeit von Nazismus und Kommunismus // Transit. 2001/2002. № 22. S. 153 – 165.
(обратно)229
Kovács E. Das Gedächtnis der Shoah als mémoire croisée der verschiedenen politischen Systeme // Eurozine (2007): – 04 – 18-kovacs-de.html.
(обратно)230
Leggewie C. Der Kampf um die europäische Erinnerung. Ein Schlachtfeld wird besichtigt. München, 2011. S. 11.
(обратно)231
Интервью с Иреной Вейсайте: Veisaitė I. The Lessons of the Holocaust // Levinson J. (Hrsg.). The Shoah in Lithuania. Vilnius, 2006. S. 494.
(обратно)232
Blacker U., Etkind A. Introduction // Blacker U., Etkind A., Fedor J. (Eds.). Memory and Theory in Eastern Europe. London: Palgrave-Macmillan, 2013. P. 6.
(обратно)233
См.: Bogumil Z. Stone, Cross and Mask: Searching for Language of Commemoration of the Gulag in the Russian Federation // Polish Sociological Review. 2011. Vol. 177. № 1. Р. 71 – 90 (первоначальную версию статьи см.: Богумил З. Кресты и камни: соловецкие символы в конструировании памяти о ГУЛАГе // Неприкосновенный запас. 2010. № 3).
(обратно)234
Blacker U., Etkind A. Introduction. Р. 12.
(обратно)235
О понятиях «international» или «imagined super-community» см.: Trouillot M. – R. Abortive Rituals: Historical Apologies in the Global Era // Olick J. et al. (Eds.). The Collective Memory Reader. Oxford, 2011. Р. 462.
(обратно)236
Osiel M. Mass Atrocity, Collective Memory, and Law // Olick J. et al. (Eds.). The Collective Memory Reader. P. 470.
(обратно)237
«Молитвы о прощении в соборе Св. Петра» («Kalenderblatt: Vergebungsbitten im Petersdom»), передача транслировалась 12.03.2010 радиостанцией Deutschlandfunk (/1 140 262).
(обратно)238
Martens M. Rednerische Irrfahrten // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 26.04.2013. S. 1.
(обратно)239
Bruckner P. La Tyrannie de la Penitence. Essai sur le masochisme occidental. Paris, 2006. Цитируется по немецкому изданию: Bruckner P. Der Schuldkomplex. Vom Nutzen und Nachteil der Geschichte für Europa. Berlin, 2008. S. 173.
(обратно)240
Rigney A. Transforming Memory and the European Project // New Literary History. 2012. Vol. 43. P. 615.
(обратно)241
Chakrabarty D. History and the Politics of Recognition // Jenkins K., Morgan S., Munslow A. (Eds.). Manifestos for History. London; New York, 2007. P. 77 – 87.
(обратно)242
Chakrabarty D. History and the Politics of Recognition // Jenkins K., Morgan S., Munslow A. (Eds.). Manifestos for History. London; New York, 2007. Р. 78.
(обратно)243
Ibid. Р. 80; Friedländer S. Das Dritte Reich und die Juden. Erster Band: Die Jahre der Verfolgung: 1933 – 1939. München, 1998.
(обратно)244
Olick J. et al. (Eds.). The Collective Memory Reader; Torpey J. The Pursuit of the Past. A Polemical Perspective // Seixas P. (Eds.). Theorizing Historical Consciousness. Toronto; Buffalo; London, 2004. P. 240 – 265.
(обратно)245
Rothberg M. Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization. Stanford, CA, 2009. Р. 1.
(обратно)246
Chakrabarty D. History and the Politics of Recognition. P. 82.
(обратно)247
Rothberg М. Multidirectional Memory. Р. 313.
(обратно)248
О «холокостизации» говорят, например, в связи с памятью о работорговле в США или памятью о депортациях и беженцах в Германии. Ср.: Hahn E. Über die Holocaustisierung des Vertreibungsdiskurses // Jenseits von Steinbach. Zur Kontroverse um ein Vertreibungszentrum im Kontext des deutschen Opferdiskurses, hrsg. v. Arbeitskreis geschichtspolitische Interventionen. Berlin, 2010. S. 11 – 13.
(обратно)249
Rothberg М. Multidirectional Memory. Р. 11.
(обратно)250
Reemtsma J.Ph.Wozu Gedenkstätten? S. 3.
(обратно)251
Margalit A. The Ethics of Memory. Cambridge, MA, 2003. Р. VII – IX.
(обратно)252
Маргалит проводит различие между «covering up» и «blotting out», отдавая предпочтение первой форме. Он не считает приемлемой возможностью забвение негативного опыта, но полагает допустимым его умалчивание.
(обратно)253
Meier Ch. Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns. Vom öffentlichen Umgang mit schlimmer Vergangenheit. München, 2010.
(обратно)254
См.: Loraux N. La Cité divisée. L’oubli dans la Mémoire d’Athènes. Paris, 1997; Emrich H., SmithG. (Hrsg.). Vom Nutzen des Vergessens. Berlin, 1996; Smith G., MargalitA. (Hrsg.). Amnestie, oder Die Politik der Erinnerung. Frankfurt/M., 1997.
(обратно)255
Shakespeare W. Richard II. (I, 1, 156) // The Complete Works of William Shakespeare / ed. by W.J. Craig. London, 1959. Р. 382.
(обратно)256
Judt T. The Past is Another Country: Myth and Memory in Postwar Europe // Daedalus. 1992. № 121. Р. 89.
(обратно)257
Churchill R.S. (Eds.). The Sinews of Peace. Post-War Speeches by Winston S. Churchill. London, 1948. Р. 200. (Благодарю за подсказку Марко Дюранти.)
(обратно)258
Assmann A. Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Niedergang des Zeitregimes der Moderne. München, 2013.
(обратно)259
Журналист Ханс Ульрих Кемпски записал следующие слова Аденауэра, сказанные во время его визита в Израиль: «В годы нацизма было убито столько же немцев, сколько евреев. …Нам нельзя забывать эти времена». (Adenauer K. Die letzten Lebensjahre 1963 – 1967. Briefe und Aufzeichnungen, Gespräche, Interviews und Reden. Bd. II: September 1965 – April 1967 / Bearb. v. H.P. Mensing. Paderborn, 2009; Blasius R. Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, 1966. München, 1997).
(обратно)260
Arendt H. The Origins of Totalitarianism (1951). Немецкое издание: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus, 9. Aufl. München, 2003. S. xxix. Цит. по русскому изданию: Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996. С. 29.
(обратно)261
Арендт Х. Истоки тоталитаризма. С. 31.
(обратно)262
«Из пепла лагерей смерти выросло уродливое древо познания; мы все вкусили от его горьких плодов и знаем теперь то, чего не знали прежде: если возможно это, то возможно все» (Yerushalmi Y.H. Diener von Königen und nicht von Dienern. Einige Aspekte der Geschichte der Juden. München, 1995. S. 55).
(обратно)263
Арендт Х. Истоки тоталитаризма. С. 31.
(обратно)264
Арендт Х. Истоки тоталитаризма. С. 31.
(обратно)265
Там же. С. 30
(обратно)266
Hartman G.H. (Eds.). Bitburg in Moral and Political Perspective. Bloomington, 1986.
(обратно)267
Frei N. Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. München, 1997; Wolfrum E. Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland: Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948 – 1990. Darmstadt, 1999.
(обратно)268
См. их обзор Пьера Хазана, посвященный проблемам восстановления справедливости после конфликтов: Das neue Mantra der Gerechtigkeit. Vom beschränkten Erfolg verordneter Vergangenheitsbewältigung // Der Überblick. Deutsche Zeitschrift für Entwicklungspolitik. 2007. Bd. 43. № 1/2. S. 10 – 22.
(обратно)269
Bloch M. Für eine vergleichende Gesellschaftsbetrachtung in der europäischen Gesellschaft // Middell M., Sammler S. (Hrsg.). Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule der Annales in ihren Texten 1929 – 1992. Leipzig, 1994. S. 159.
(обратно)270
Europäische Kommission, Arbeitsprogramm 2009; Kooperationsthema 8: Wirtschafts– und Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften, Rev. 18 (-and-preparing/work-programme/index_de.htm).
(обратно)271
Подробнее см.: Assmann A. Europe: A Community of Memory? Twentieth Annual Lecture of the GHI, 16. November 2006 // GHI Bulletin 40 (Frühjahr 2007). S. 11 – 25.
(обратно)272
Mitscherlich A., Mitscherlich M. Nachwort // Mitscherlich A., Mitscherlich M. Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens. München, 1977. S. 365.
(обратно)273
Sennett R. Disturbing Memories // Fara P., Patterson K. (Eds.). Memory. Cambridge, 1998. P. 14.
(обратно)274
Schuller K. Sie schonen sich nicht. Polen debattiert «Unsere Mütter, unsere Väter» // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 22.06.2013. S. 38. Шуллер подчеркивает, что 3,7 миллиона польских зрителей, увидевших телесериал, все же по-разному восприняли эпизоды, вызвавшие возмущение у значительной части польской публики.
(обратно)275
Jahn P. 27 Millionen // Die Zeit Online. № 25. 14.06.2007 (-Millionen-Tote).
(обратно)276
Passerini L. Shareable Narratives? Intersubjectivity, Life Stories and Reinterpreting the Past. Berkeley Paper, 11 – 16. August 2002. Р. 5, 14 ().
(обратно)277
Esterházy P. Alle Hände sind unsere Hände // Süddeutsche Zeitung. 11.10.2004. S. 16.
(обратно)278
Konrád G. Aufruhr. Rede zur Eröffnung des 50-jährigen Bestehens der Aktion Sühnezeichen am 3. Mai 2008 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin (www.asf-ev.de/fi leadmin/asf_upload/aktuelles/Jubilaeum2008/gyoergy.pdf).
(обратно)279
Oz A. Israelis und Araber: Der Heilungsprozeß // Trialog der Kulturen im Zeitalter der Globalisierung, Sinclair-Haus Gespräche, 11. Gespräch, 5 – 8 Dezember 1998, Herbert-Quandt-Stiftung, Bad Homburg v. d. Höhe. S. 83.
(обратно)280
См.: Reichel P. Der Nationalsozialismus vor Gericht und die Rückkehr zum Rechtsstaat // Reichel P., Schmid H., Steinbach P. (Hrsg.). Der Nationalsozialismus – Die zweite Geschichte: Überwindung – Deutung – Erinnerung. München, 2009. S. 22 – 61.
(обратно)281
Jaspers K. Wahrheit, Freiheit, Friede. Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, 1958 (-des-deutschen-buchhandels.de/sixcms/media.php/1290/1958_jaspers.pdf).
(обратно)282
Lotman J.M., Ušpenskij B.A. The Semiotics of Russian Culture. Ann Arbor, MI, 1984. Р. 3.
(обратно)283
Todorov T. Hope and Memory. Р. 142.
(обратно)284
Weber M. Wissenschaft als Beruf (1919) // Weber M. Schriften 1894 – 1922, hrsg. v. D. Kaesler. Stuttgart, 2002. S. 502.
(обратно)285
Huizinga J. Im Schatten von morgen. Eine Diagnose des kulturellen Leidens unserer Zeit. Bern und Leipzig, 1936, S. 9.
(обратно)286
Torpey J. Politics and the Past. Р. 3.
(обратно)287
Knigge V. Zur Zukunft der Erinnerung. S. 10 – 11.
(обратно)


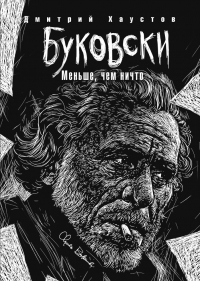



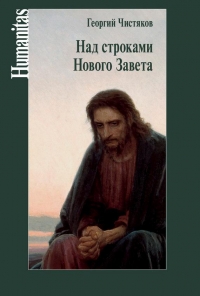
Комментарии к книге «Новое недовольство мемориальной культурой», Алейда Ассман
Всего 0 комментариев