Ксения Ермишина Религиозная антропология
© Ермишина К. Б., 2012
© Оформление. Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2013.
Книга опубликована в авторской редакции
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
* * *
Введение
В XX в. возрос интерес к проблеме человека, что связано как с разрушением христианской религиозно-философской антропологии, торжеством науки и техники, так и с упадком традиционных (семейных, корпоративных) связей в западноевропейском и российском обществе. Результатом этих сложных процессов стало появление целого ряда концепций, претендующих на объяснение природы человека, тем более что современный человек, освободившись от связей с традицией и родом, открыл в самом себе такие возможности, о которых не было известно прежним эпохам. Так, например, когда началось строительство железных дорог, возникли споры в образованных кругах российского общества о том, сможет ли организм человека выдержать скорость движения более 40 километров в час. В конце XX в. появилось не вполне осознанное представление о бесконечных возможностях человека, так что сейчас может обсуждаться вопрос, как человек перенесет скорость света в возможном проекте дальних космических полетов.
К началу XX в. относят рождение такой дисциплины, как философская антропология, основателем которой считается Макс Шеллер (1874–1928), автор работы «Положение человека в космосе» [2, 129–193]. Он выделил пять значимых идей о человеке: 1) идея религиозной веры, которая до сих пор подспудно определяет представления европейцев о природе человека (христианское учение о сотворении, грехопадении, спасении человека, о двойственности его природы – душа и тело, о ценности каждой личности и ее правах), что до сих пор влияет на менталитет и взаимоотношения людей; 2) изобретение греков – представление о человеке как о разумном существе (homo sapiens), согласно которому человек отличен от окружающего мира наличием в нем специфического качества – разума, присущего одновременно Высшему божественному разуму (человек способен познавать мир, познание по необходимости является истинным, поскольку малый разум человека и Логос мира соотносимы); 3) идеи Ч. Дарвина, К. Маркса и примыкающих к ним мыслителей о человеке как об эволюционном существе, появившемся в результате труда (homo faber), что исключает человека из сферы теологического дискурса, не выделяя его из животного мира, т. е. человек проходит те же стадии развития, что и животный мир, подчиняясь объективным законам природы и являясь особым, специфическим животным, использующим орудия труда; 4) идеи Т. Лессинга (1872–1933) о том, что человек – это брак, неудача природы в ходе долгого эволюционного развития, т. е. человеческий разум является особого рода болезнью, которая, кроме всего прочего, воспитала в человеке манию величия (не умея выжить в природном мире, не имея эффективных средств защиты своего существования, «хищная обезьяна» приспособилась за счет развития своего разума); 5) атеистические теории Ф. Ницше и Н. Гартмана (1882–1950), радикально отрицающие религиозную идею (если есть Бог, то, следовательно, свобода для человека невозможна, следовательно, невозможен и сам человек) и утверждавшие, что человек сам берет ответственность за свою судьбу, проецирует свойства, ранее приписанные Богу, на себя и тем самым становится секулярной личностью, для которой не страшен природный, детерминированный космос, так как познавая его объективные, неизменно действующие законы, человек может творить свою судьбу в предсказуемом мире, являясь единственным творцом разумного бытия.
Выделенный М. Шеллером ряд антропологических взглядов, появившихся к XX в., показывает, насколько острыми были споры о природе человека, насколько актуальной могла бы стать общая, примиряющая концепция. Стоит заметить, что о религиозной антропологии М. Шеллер не пишет, так как к этому времени исследования по восточным и древним религиям еще не были на достаточно высоком теоретическом уровне, наука носила дискриптивный характер, а ее данные составляли сферу интересов отдельных специалистов. Во времена Шеллера антропология, которая сводилась больше к этнографии, была на уровне эмпирического накопления материала. Даже обзор христианской антропологии страдает у Шеллера поверхностностью и схематизмом. В начале XX в., ознаменовавшегося кризисом религиозности, такие пробелы были естественными. Просвещенной общественности казалось, что серьезно можно обсуждать только наукообразные концепции. Интерес к восточной мистике, появившийся в США, затем с меньшей силой в Европе после Второй мировой войны, вносит существенные коррективы в схему М. Шеллера. Современному обществу, погруженному в стихию элементарных интересов потребления, близка языческая антропология, которая находит свое образное, красочное отражение в индийских и китайских представлениях о мироздании. Наукообразные, философские и атеистические теории стали менее популярны и востребованы.
В современном комплексе философских, богословских и религиоведческих дисциплин существуют три вида антропологии – философская, религиозная и христианская антропология. Следует учесть, что у каждой антропологической дисциплины свое проблемное поле, так что при некотором теоретическом преимуществе философской антропологии, выражающемся в том, что она является наиболее общей дисциплиной, включающей проблемное поле смежных антропологических дисциплин, на деле оказывается, что для нее человек существует как явление скорее природного характера, вне соотнесенности с Богом, с метафизическими и религиозными сферами бытия. М. Шеллер полагал, что главной задачей философской антропологии является «точно показать, как из основной структуры человеческого бытия, кратко обрисованной… вытекают все специфические монополии, свершения и дела человека: язык, совесть, инструменты, оружие, идеи права и бесправия, государство, руководство, изобразительные функции искусства, миф, религия, наука, историчность, общественность» [2, 187]. С точки зрения религиозной антропологии сама такая формулировка задачи неверна, из чего следует невозможность решения основного антропологического вопроса.
Религиозная антропология стремится не через человека объяснять явления духа, а, наоборот, через религиозное откровение – феномен человека. Например, проф. А. И. Сидоров полагает: «Вряд ли будет преувеличением сказать, что главной проблемой бытия как всего человечества, так и каждой конкретной личности является смерть. Она, с одной стороны, есть непреложный и неизбежный факт, а с другой – есть тайна и вечный вопрос для всякого человека, приходящего в этот мир» [1, 475]. Религиозная антропология изучает различные концепции о сущности и смысле жизни человека, которые ориентированы, в той или иной степени, на главную проблему его бытия, связанную с событием смерти. Учения, входящие в сферу изучения религиозной антропологии, решают этот вопрос, предлагая те или иные пути избавления от смерти, при этом каждое учение выдвигает свою концепцию бессмертия, указывая пути его достижения.
Философская антропология ориентирована главным образом на решение проблемы наличного бытия человека, концентрируя внимание на его социальных, нравственных, экзистенциальных характеристиках. В XX в. философская антропология в связи с появлением экзистенционализма обращается к проблеме смерти, однако решения экзистенционализма остаются в плоскости посюстороннего бытия, речь идет не о возможности преодоления смерти и выходе к бессмертию, но о придании смысла событию смерти и включении его в горизонт наличного бытия человека. Смерть преодолевается на путях гнозиса, как если бы возможно было ее укротить и приручить, придав ей измерение осмысленности, понять ее не в качестве конца, но телоса (исполнения), сделать пространством, в котором и происходит нахождение смысла жизни человека.
Христианская антропология преимущественно ориентирована на богословское понимание человека и его обоснование. Она занимается в том числе частными богословскими антропологическими моделями и критическим анализом современных гуманитарных концепций, являясь в этом отношении апологетической дисциплиной.
Религиозная антропология в каком-то смысле является синтетической религиоведческой дисциплиной, связанной как с философской, так и с христианской антропологией. В отличие от христианской антропологии, имеющей богословскую направленность, религиозная антропология является дисциплиной скорее исторической и описательной. Кроме того, она часто обращается к методам сравнительного анализа религиозных традиций, чем отличается от философской антропологии.
Следует заметить, что активное развитие философской антропологии и расширение ее границ есть явление, сигнализирующее о том, что только в Новое время на Западе стали понимать человека как секулярное существо, природное и внерелигиозное, в то время как во все предшествующие эпохи, известные нам по историческим источникам, человек мыслился как мистическое существо, созданное Богом (богами) для особых целей, выходящих за пределы видимого мира. В определенном смысле современная атеистическая, секулярная мысль о человеке – это исторически новое явление, имеющее историческую параллель в некоторых течениях древнегреческой философии (скептики, киники, киренаики), хотя эти течения не называли себя атеистическими.
Сразу оговоримся, что когда речь идет об атеистических учениях, то подразумеваются религиозно-философские системы, целостные мировоззренческие и антропологические идеалы, а не стихийный и бездумный жизненный процесс человека, не осмысляющего своей природы и смысла существования. Такое состояние схиархим. Софроний (Сахаров) удачно назвал «пре-адамовым», т. е. когда человек еще не вошел в ощущение своей природы, корень и исток которой – Богом созданный праотец Адам.
Когда же происходит обращение человеческой мысли к внутреннему миру, поиск человеком самого себя, своей сущности, которая христианская мысль понимает как Образ Божий? В разных культурах это происходило в моменты наибольшей зрелости, выхода из натурального, эмоционально-непосредственного состояния. Нередко это были эпохи кризиса (как, например, переходный IV в. на Западе, время жизни блж. Аврелия Августина или кризисный XVII в. в России, давший, в частности, сочинение отечественного писателя протопопа Аввакума Петрова[1]). Цивилизационные катастрофы способствуют формированию антропологических идей, обостряют чувство личной самоценности. Эпохи цивилизационных катастроф порождают персоналистические учения о человеке (о «я»), тогда как во время стабильности формируются общекультурные, общефилософские взгляды о человеке (о «нем»). В данном случае можно вспомнить учение о так называемых эпохах «осевого времени» (термин К. Ясперса), когда примерно в VI–VIII вв. до н. э. появляются великие (всемирные) религии и философские системы древности. Впервые в европейской истории требования самопознания были сформулированы в Древней Греции, однако и античность, колыбель современной цивилизации, не знала центрального классического вопроса «что есть человек». Впервые этот вопрос как основополагающий и центральный появился вместе с христианством, когда Бог стал человеком и этим показал высокое, вечное достоинство человека, драгоценного в глазах Самого Бога.
В ХХ в. вместе с кризисом христианства вопрос о человеке перестал быть центральным, а Мишель Фуко (1926–1984) в книге «Слова и вещи» провозгласил смерть человека (концепция «смерти автора»), как ранее, в XIX в., Фридрих Ницше провозгласил смерть Бога («Бог умер»). Антропологический сдвиг, начавшийся в «осевое время» и имеющий центром Рождество Христово, является центральным событием европейской цивилизации. Интенции цивилизационного сдвига, порожденного христианством, сохранялись примерно 15 веков.
Начиная с эпохи Возрождения, которая переходит в Просвещение XVIII в., человек снова становится загадкой. Об этом пишет Иммануил Кант (1724–1804), который впервые наиболее остро ставит антропологические вопросы в парадигме светского философствования, вне-теологического мышления. Его вопросы звучат следующим образом: «Что я могу знать?», «На что я могу надеяться?», «Что я должен делать?», «Что такое человек?». По мысли Канта, первые три вопроса можно свести к четвертому, самому трудному. Своими вопросами Кант задал для последующих веков не просто задачу построения новой философской мысли, но и новой антропологии. Если мы кратко попытаемся ответить на вопрос, почему новоевропейская история начинается, по сути, с отвержения христианского взгляда на человека, то увидим следующее. В эпоху Средневековья было выработано довольно устойчивое и понятное представление о человеке. Но было ли оно вполне удовлетворительным? С точки зрения своего времени – да. Однако ум человека развивается и стремится постичь более глубокие истоки своего бытия, не удовлетворяясь средневековой антропологией с ее мифическими и апокрифическими аспектами.
В Новое время человек, с разочарованием отвергнув христианство, ищет новый образ своего «я». Он часто даже не подозревает, что средневековый образ христианства – это все же не само христианство, а лишь его преломление в исторической, земной и несовершенной реальности. Дать же новое толкование христианства, соответствующее новой исторической реальности, европейские народы оказались не в состоянии, потому что угас религиозный талант, аскетический порыв и религиозная самоотверженность. Христианство становится «частным делом» людей, оставшихся верными евангельскому благовестию, или «обратившихся» неофитов. Освобождение христианства от несвойственной ей функции государственной опеки над гражданами, раскрепостило стихию индивидуализма, что одновременно явилось причиной упадка аскетической традиции и ослабления церковной дисциплины.
В современном мире антропологические вопросы звучат особенно остро и актуально. Историческое развитие европейской антропологической мысли наглядно показал Мартин Бубер (1878–1965) в книге «Проблема человека» (1948). Согласно его схеме, весь период развития антропологических идей до И. Канта прошел две фазы развития и две промежуточные стадии. Первая фаза названа М. Бубером эпохой обустроенности, которой соответствует античность и понимание антропологии в единстве с космологией. Например, у Аристотеля человек – разумное, политическое, общественное животное, которое занимает в мире свою вполне понятную и обустроенную нишу. В мире действует фатум, с которым воевать абсолютно бессмысленно. Можно лишь осознать себя частью мира, наслаждаться его благами и философствовать о космических процессах, достигая безмятежности и гармонии с мировым целым. Античность – органичный мир, устремленный к идеалу гармонии, красоты, меры и числа. Все зло, царящее в мире, человек воспринимал как часть космического целого, включающего общую сумму его различных составляющих элементов. Однако ко времени пришествия Христа античное мировоззрение оказалось в кризисе, человек почувствовал себя одиноким перед лицом открывшейся ему вечности. Эпоха, когда антропология была частью космологии, закончилась, началась стадия бездомности человека, исполненная тревоги и сомнений. Миросозерцание этого времени выразил блж. Аврелий Августин своим антропологическим вопросом-цитатой: «Что есть человек, что Ты помнишь его?» (Пс 8. 5). Теперь антропологические вопросы человек ставит перед лицом Бога и ждет ответа от Него.
Христианство начало выстраивать для человека новую метафизическую модель мира. Образом мира, в котором человек обретает свое место, стал Крест от Небес до Ада, через сердце человека (вертикаль), временной же промежуток (горизонталь) охватывает все время от сотворения до Судного дня. Эта метафизическая модель мира разрушается научными открытиями Н. Коперника, Г. Галилея, идеями Дж. Бруно, которые утверждали, что мир бесконечен, Земля же и человек на ней не центр мира, но далекая, затерянная в просторах Вселенной периферия. Ужас человека перед бездной бесконечности выразил Блез Паскаль (1623–1662) своим новым антропологическим вопросом: «Что такое человек в бесконечности?» С эпохи научных открытий началась новая стадия бездомности и покинутости человека. Несмотря на попытки создать новый образ мира, построение гармоничной метафизической модели оказалось невозможно. В новой картине мира человек чувствовал себя неуютно, так как он не соотнесен с какой-либо соразмерной ему величиной, а его бытие ничем не обусловлено и не гарантировано перед лицом загадочных, пустых и молчащих пространств равнодушной Вселенной.
Современная эпоха, по М. Буберу, является преимущественно временем бездомности и покинутости, несмотря на множество вариантов решения антропологической проблемы. По мнению Бубера, повышенному вниманию к антропологии содействуют два фактора: во-первых, распад форм социальной общности (семья, ремесленный союз, община, сословие, класс), что усиливает приступы «мирового одиночества»; во-вторых, отторжение человека от природы, когда между миром и человеком стоит техника, политика и культура, что усиливает тоску по естественному природному состоянию, с его ритмами, сезонами и переменами. Бубер полагал: «С незапамятных времен человек знает о себе, что он – предмет, достойный самого пристального внимания, но именно к этому предмету во всей его целостности, со всем, что в нем есть, он как раз и боится приступить. Порой он делает такую попытку, но уже вскоре, подавленный множеством возникающих здесь проблем, отступает с безмолвной покорностью и либо пускается в размышления о всевозможных материях, за исключением человека, либо расчленяет этого человека, т. е. самого себя, на составные части, которыми удобно оперировать порознь, без особых хлопот и с минимальной ответственностью» [3, 158]. Из такого описания философской антропологии становится ясно, что для данной дисциплины характерно скорее огромное проблемное поле, чем некоторые удовлетворительные решения. Однако состояние изумления перед человеком характерно и для религии. Новые темы, новые возможности и технологии, затрагивающие человека, требуют осмысления его феномена с точки зрения религиозных положений.
В современном мире возникает новый антропологический страх, вопрос о человеке предстает в экзистенциальной форме. М. Бубер предлагал свой вариант решения проблемы в виде теории коммуникации: выход из одиночества – общение между Я и Ты, порождающее категорию Мы. Его решение является скорее суррогатом христианской заповеди о любви, но, в отличие от религиозного решения проблемы, не подкрепляется ничем, кроме философских выкладок. Религиозное решение предполагает акты изменения сознания с помощью религиозной практики (покаяние и аскеза), чтобы человек стал способен любить, способен к истинной коммуникации и общности в самоотверженном принятии Другого.
Антропология есть феномен европейской истории, ее цивилизации и культуры, от Древней Греции через христианскую Европу до наших дней. Мир Востока (Индия, Китай, мир кочевых народов и древнейших цивилизаций) не знал проблемы человека как личности. Реконструкция (и неизбежная модернизация) антропологических взглядов восточных религиозных традиций обычно делается по образцу западных, христианских представлений, что, впрочем, приближается к аутентичному прочтению восточной религиозной антропологии. Более того, восточная религиозная антропологическая мысль в современном мире успешно конкурирует не только с атеистическими и философскими представлениями, но и с христианской традицией. Таким образом, в современном мире философский и религиозный подходы к пониманию антропологической проблемы являются сложными и противоречивыми.
Исходя из всего сказанного, следует дать несколько основных определений, связанных с антропологией как научной дисциплиной.
Антропология – это наука о сущности и сущностных структурах человека, о его основных отношениях к Богу, природе, обществу и другим людям, о его происхождении, социальных и метафизических основах существования, основных категориях и законах человеческого бытия.
Религиозная антропология – это научная дисциплина, которая рассматривает проблему человека с точки зрения религиозных учений и традиций. Объектом ее изучения является сам человек, представления о его природе в разных религиозных традициях. Предмет изучения религиозной антропологии – все множество религиозно-философских антропологических идей, от религиозных и культурных систем целых цивилизаций, выразивших свое представление о человеке в различных письменных источниках, до отдельных систем выдающихся религиозных мыслителей.
Литература
1. Сидоров А. И. Смерть как наказание и смерть как благодеяние согласно учению прп. Максима Исповедника («Вопросоответы к Фалассию», 61) // Максим Исповедник, прп. Избранные творения. М., 2004.
2. Шеллер М. Положение человека в космосе // Избр. произведения. М., 1994.
3. Бубер М. Два образа веры. М., 1995.
Глава 1. Культура Ом: древнеиндийская антропологическая модель
В современных исследованиях Древняя Индия и Древний Китай часто понимаются как религиозно-философские культуры, организованные вокруг ключевых понятий и символов – Ом (Аум) и Дао[2]. В этих символах происходит фиксация религиозно-философского самосознания. Почему слово «Ом» выбрано для символического обозначения древнеиндийской культуры? Что оно означает? Ом – это слог, не имеющий самостоятельного значения, но несущий огромную потенцию смысла. Во-первых, оно служит для концентрации внимания в медитации и молитве. Произнося этот слог, согласно свидетельству «Тайтирии Упанишады», мудрец-подвижник говорит «да достигну я Брахмана». Словом «Ом» обозначается высшая духовная реальность индийской религиозной традиции – Атман и Брахман. В «Мандукье Упанишаде» этому слогу дается антропологическое толкование, которое можно считать классическим: в слоге Ом четыре буквы (одна из них непроизносимая), которые соответствуют четырем основным состояниям сознания человека: 1) бодрствование (ложное сознание); 2) сон со сновидениями; 3) сон без сновидений (прекращение прошлого опыта); 4) ни сна, ни бодрствования – состояние просветления, освобождения.
Нужно учесть, что освобождение сознания, «свобода, абсолютная и трансцендентная, и образует высшую и безусловную ценность традиционной индийской культуры» [5, 214]. В словесной формуле Ом отражено, таким образом, главное содержание культуры, т. е. ее цель и устремленность, указаны направления к осуществлению этой цели. Ом – священный слог-удгитха, ритуально-мистическая формула. Магическое песнопение Ом наиболее полно соответствует дыханию, которое, по представлению индийцев, является основным жизненным началом, соответствующим душе.
Культура Ом включает несколько важнейших понятий: 1) в ее основе лежит священный текст, из комментариев к которому и заимствовано слово «Ом»; 2) следовательно, эта культура ориентирована на сакральное, религиозное и мистическое начало;
3) антропологические аспекты в ней занимают важнейшее место, поскольку человек призван к достижению состояния просветления;
4) учение о человеке в этой культуре совершенно противоположно привычной на Западе и в России христианской модели. Состояние бодрствования признается ложным, все внимание обращено на измененные состояния сознания. Религиозная практика имеет дело не с личностью, но с сознанием человека, в идеале – с чистым сознанием. В индийской антропологической модели достижение блаженства происходит при движении сознания «вглубь», к истокам бессознательной жизни души, где она соприкасается с мировыми космическими стихиями.
Культура Ом парадоксальна, так как в ней утверждается, что человек в бодрственном состоянии есть ложное существо. Через совлечение своей личности, которая мыслится как преходящее и эфемерное явление, человек может достигнуть истины, состояния будд, богов, вечно свободного безличного духа. Утверждается, что в потенции человек и есть Бог, чистое самосознание, причем божественного состояния он способен достичь сам, своими природными силами. Схиархим. Софроний (Сахаров), который в молодости испытал влияние восточных учений и около восьми лет пытался применить к себе соответствующую антропологическую модель, позднее воспринимал свой данный опыт как величайший грех. Он считал, что движение души к самообожению равносильно первородному греху Адама в раю.
В основе культуры Ом лежит священный текст, что характерно для любой великой культуры (сравните, например, значение Библии и Корана для христианской и исламской цивилизаций). В Индии было создано огромное количество религиозно-философских текстов, на русский язык переведена только небольшая их часть, но тем не менее самые значимые тексты доступны для изучения. Ниже приведена таблица, в которой показан генезис основных священных текстов древнеиндийской цивилизации, начиная с Вед и до различных толкований и комментариев к ним. Данная таблица охватывает самые известные тексты традиции астики, признающей священный авторитет Вед, или ведической традиции, но не включает традицию настики, отрицающую Веды (к ней относится, например, корпус буддийской литературы).
Таблица 1
Веды (время создания – примерно 2-е тыс. дон. э.)
Огромный ведический корпус охарактеризовать целиком очень сложно. Можно сказать, что Веды – это мифопоэтические произведения в честь богов. Кроме того, они являются сакральными текстами, к которым примыкают сочинения, связанные с их истолкованием и религиозным познанием (религиозно-философские и аскетические тексты). Для религиозной антропологии следует выделить главные категории антропологического характера, являющиеся основой религиозного и философского гнозиса Индии. В Ведах знание о мире представлено в виде мифологической системы. На раннем этапе истории основным теоретическим посредником между человеком и миром выступает миф – сакрально-когнитивный комплекс, целостный образ мира, способ мышления, который неотделим от образа жизни древнего человека. В отличие от современного мышления, предпочитающего абстрактные категории (качества, количества, времени, пространства, числа и т. д.), древнее мышление использует поэтические, конкретно-визуальные образы.
Основные антропологические категории культуры Ом
Основные антропологические категории, получившие разработку в текстах ведической традиции, немногочисленны, но по смысловому содержанию отличаются емкостью и многоплановостью. Это карма, сансара, атман, «я», или самость, Брахман, освобождение (мокша). Другие антропологические категории получают разработку в позднейших учениях, некоторые из которых (буддизм, джайнизм) противостоят Ведам, но принимают все вышеназванные категории, частью отталкиваясь от них, частью развивая их в русле своих оригинальных представлений. Таким образом, учения настики включены в русло той же религиозной традиции, поддерживают единую антропологическую модель.
Учение о карме – доктринальный стержень всех религий Древней Индии. Карма («дело», «действие») – это поступок или ряд актов, имеющих последствия. При этом поступком считается не только физическое, но и всякое ментальное действие – словесное, волевое, мысленное. Триада «тело, речь, мысль» характерна для древних текстов, что указывает на глубинный анализ в них природы человека. Совокупность всех действий, общая их энергия, вызывает необходимость следующего рождения, определяет место рождения, пол, социальное положение, которые наследует умерший.
Круговорот смертей-рождений носит название сансары (санскр. круговорот), главной и характерной особенностью которой является страдание. Все религии Индии ставят себе целью освобождение или выход из сансары, обретение свободы от боли, страданий, влечений, на которые осуждены все живые существа. Сансара является страданием, потому что любое живое существо подчинено импульсам, которыми оно не управляет, так как заключено в круговорот неумолимого и равнодушного к страданиям человека кармического закона. Такое существование чревато постоянным повторением все тех же действий, ролей, обстоятельств, что означает бессмысленность бытия, его бесцельность. Учение о карме и сансаре возникло примерно в XIII–XII вв. до н. э., определив ход религиозной и философской мысли в Индии. В индуизме считается, что карму определяют боги, а в буддизме она действует как природный закон, подобный другим естественным законам мироздания. В сансарическом существовании человек отчужден от своего истинного «я», подлинной природы (бытия самого себя), что определяет отношение в Индии к телу и душе. Тело – феноменально, оно лишь временная оболочка воплощенных психических энергий, не имеющая самостоятельной ценности.
Наравне с представлением о феноменальности тела существует противоположное отношение к телесности в Индии: невероятно развитая система аскетических упражнений (йога), до тонкости изучившая все телесные движения, все его особенности, состояния и энергетические каналы. В христианстве нет подобного внимания к телесным практикам и к телу вообще. Христианские аскеты старались без особой нужды вообще не прикасаться к телу и даже не смотреть на него. Для индийской религиозности тело является инструментом достижения нужных ментальных состояний, из чего следует множество систем работы с ним, различные асаны (позы), немыслимые упражнения, требующие многолетних тренировок. Можно сказать, что религия в Индии не отличает тела от души, работая с телом так, как будто оно является душой или главным орудием преобразования психики. Данное положение было теоретически обосновано в аскетических практиках буддизма, где сознание и тело считались единым, недвойственным проявлением субъекта.
Что же в таком случае понимается в Индии под «я» или душой? Сразу следует сказать, что применение термина «душа» к индийской религиозной системе мысли некорректно. Души, как самостоятельного личного начала, Индия не знает. Есть понятие об атмане как индивидуальном начале в человеке (в тех религиозно-философских системах, где вообще признают его наличие), наряду с которым существуют представления о скандхах, гуннах, дхармах (в буддизме), противостоящие понятию Атмана или являющиеся его альтернативой. Буддизм отрицает понятие Атмана, заменяя его пятью скандхами (группами психических элементов). Тем не менее в буддизме используется аналогия с понятием Атмана, так как буддист должен познать себя как «не-Атман», пройти процедуру ментального развоплощения своей личности. Понятие Атмана неотделимо от представления о Брахмане (Высшей абсолютной реальности). Брахман – это не Бог-творец, но высшая сила, проявляющая себя в материальном мире различными действиями. Брахман владеет душами как высшее духовное единство. В древнегреческой и русской религиозной философии понятию Брахмана соответствует представление о Душе Мира. Каждая конкретная духовная субстанция (или в христианской терминологии – душа) является частью Брахмана.
Атман – это истинное «я», самость, Абсолютный субъект, чистое «я», свободное от эмоций и аффектов. Под эмоцией в данном случае подразумевается весь комплекс чувств, включая любовь, жалость, сострадание, желание, страх, надежду и т. д. Религии Индии тяготеют к идее чистого «я», а не к эмоционально-волевой, личностной антропологической модели христианства. Такое безличное видение человека является источником основных индийских религиозных представлений, которые внешне отличаются изощренностью религиозных сюжетов и поражающим воображение обилием символов, ритуалов и суеверий.
Путь к освобождению (альтернатива христианскому понятию «спасение») – самопознание, познание своего чистого «я», Атмана, который тождествен в итоге Брахману. Об этом свидетельствуют самые известные религиозные афоризмы Индии: «Атман есть Брахман», «я есть он». Познание открывает истину о том, что Атман – абсолютный субъект всех психических состояний, не причастный их течению. Он не причастен и мышлению, которое понимается как часть чувственных, аффективных, т. е. неистинных состояний. С другой стороны, существует представление о том, что Атман един для всех существ и тождествен с Брахманом. Отличие индивидуального Атмана от Брахмана в некоторых школах объясняется иллюзией (майей), которая коренится в общем неведении. Освобождение есть избавление от неведения и иллюзии, для чего различные школы предлагают свой набор религиозных практик.
Для индийских религиозных систем характерно признание двух субстанций – духовной (пуруша) и материальной (пракрити). Пуруша зачастую выступает как тождественный Атману и Брахману, хотя имеет свои особенные характеристики. Так, например, йога считает, что существует пуруша, который не сочетался с материей, остался свободным, не отождествив себя с ней, и считается богом. Соответственно отношение к нему почтительное, но он не является объектом религиозных интересов в йоге.
Таким образом, антропологическое мышление древнего индийца можно описать как релятивное[3] и антиперсоналистическое (вне-личностное). Индийские религии проникнуты пафосом сомнения и трансцендентной тоски. Отношение к жизни как страданию возникает не без влияния ошеломляющего разнообразия природы и климата Индии, тех сказочных богатств, которые, по сути, являются мертвым грузом, а не живым товаром (вспомним, что наука и капитализм родились не в богатейшей Индии, а в полунищей Европе). Ошеломляюще пестрая и сложная религия как бы повторяет природу Индии, являясь ее экстраполяцией. Вся эта пестрота утомляет сознание, человек стремится к избавлению от сложности и даже некоторой избыточности натуральной, естественной жизни. Необходимо добавить, что важнейшим социальным установлением Индии являются касты, жестко фиксирующие социальное положение каждого члена общества, что дополняет яркую, но довольно безысходную картину самоощущения человека в подобных условиях.
Возникает вопрос: как такая антропологическая доктрина стала привлекательной и легла в основу религиозной модели индийской цивилизации? Более того, в современном мире индийские религии являются популярными и успешно конкурирующими с христианством и исламом. Схиархим. Софроний (Сахаров) объяснял, что у человеческих душ, созданных из небытия, существует некая тяга к обратному возвращению в ничто, которое притягивает человека в условиях его отчуждения от Святого Духа. В частности, христианский подвиг состоит в освобождении от чар небытия – в том, чтобы стать к нему спиной и направиться к Жизни, Свету, Богу. Из противоположности оценок одного и того же религиозного явления (стремление к ничто, абсолютному успокоению) наглядно выступает полярность, противоположность двух антропологических моделей в индуизме и христианстве.
Аскетические требования в Индии касались не только телесных практик. В «Дхаммападе», самом значительном памятнике буддистской литературы, есть, например, определение святого человека, которое предполагает работу с душевной, ментальной структурой: «Если даже человек мало повторяет писание, но живет, следуя дхамме, освободившись от страсти, ненависти и невежества, обладая истинным знанием, свободным разумом, не имея привязанности ни в этом, ни в ином мире, он причастен к святости» [1, 513]. Однако с точки зрения христианской аскетики такого определения «от противного» (упор на свободу от пристрастия к миру) недостаточно. Состояние отрешенности от мирского бытия можно отнести, в христианской терминологии, к естественной праведности, или, как у прп. Иоанна Лествичника (в «Лествице»), оно соответствует первой ступени, ведущей к святости. Святость в христианской традиции предполагает освящение природы человека тем, что выше его природы, приобщение не к бесстрастию в чистом виде, но к любви как полноте бытия.
Несмотря на провозглашаемые принципы внутренней «святости», индийский аскетизм тем не менее остается в основном в рамках сугубо телесных, отчасти ментальных практик (медитация, сосредоточение, изменение сознания): «Безраздельное почитание меня неуклонной йогой, отсутствие влечения к людскому обществу, пребывание в уединенном месте, стойкость в познании высшего атмана, постижение цели истинного знания, это называется знанием; неведеньем – все другое» [1, 483]. Недаром внутренний подвиг индийской аскезы описывается, как правило, с использованием гносеологических (а не этических, как в христианстве) категорий. Этическое пространство внутреннего подвига связано с личностным самосознанием, которое и призван нивелировать индийский аскетизм.
В некоторых школах индийской мысли существуют колебания относительно единства природы человека. Так, например, в первоначальной версии буддизма и джайнизма освобождения (нирваны) не могли достичь женщины и миряне. Благочестивому мирянину оставалось надеяться на то, что в следующей жизни он родится брахманом или отшельником и станет на путь аскезы. Женщина, как существо более эмоциональное, считалась существом менее совершенным, более погруженным в сансару и далеким от подлинного «я». На эту тему в «Суттапитаке» есть история возведения молитвенного дома, для которого понадобился конек на крышу. Конек нашелся в доме у женщины: «…но продать его женщина не согласилась, сказав: “Обещайте пускать меня в дом собраний, тогда отдам вам конек”. Те вскричали: “Не хотим мы с женщинами дело иметь!” Тут за Судхамму вступился плотник: “Зачем вы так говорите, друзья? Только в мир Брахмы нет доступа женщинам”» [1, 529]. Женщина была менее свободна в индийском обществе, она не могла оставить суету и заняться йогой и отшельничеством с той же свободой, как мужчина. Здесь определенная градация (а не иерархия, как в христианстве) мужского и женского начал – мужчина лучше и ближе к освобождению, чем женщина.
Если проводить различия антропологических моделей индуизма и христианства, то выяснится еще одна характерная черта. Образ человека в христианстве – сосуд, храм Божий[4]. В Индии есть скорее понятие об аморфном содержании, которое силами безличных космических потоков вливается в ту или иную форму. Между прочим, следствием такой антропологической модели являются отношение ко времени, особенная социальная структура и внутриполитическая ситуация. Время – величина, не интересующая индийца, который живет ощущением космических циклов величиной в миллионы лет, поэтому типичны расхождения в индийских хрониках описываемых событий на 100–200 лет. В отличие от Древнего Китая, для Древней Индии характерна стабильная социальная обстановка, отсутствие значимых для истории страны гражданских войн и крестьянских восстаний. Человек – малая, исчезающая частица в колоссальном круговороте космических энергий и многомиллионных временных циклов. Раз все погружено в сансарическое бывание, которому нет ни начала, ни конца, то бесполезно стремиться изменить судьбу отдельного человека или целой страны.
Что такое освобождение как высший антропологический идеал? Мокша понималась двояко. С одной стороны, она есть чисто отрицательное состояние избавления от страданий, освобождение, разъединение чистого сознания и материи (пракрити). При этом Атман (или пуруша) может быть соединен с Брахманом, слиться с ним (в теистических системах), или пребывать в своем подлинном качестве чистого сознания вне чувств и мышления, безотносительно к Брахману (учение сангхьи). Необходимо отметить одно важное обстоятельство: мокша как положительное (наполненное положительным содержанием радости и блаженства) состояние – это скорее изобретение западного необуддизма и неоиндуизма, возникших в конце XIX в. и получивших бурное развитие в середине XX в. Различная литература необуддизма и неоиндуизма, которая во множестве продается или просто раздается на улицах, не имеет отношения к аутентичной древнеиндийской мысли. Во многом представления о мокше как о положительном опыте загробного блаженства возникли под влиянием христианства.
Антропологический идеал Древней Индии – освобождение от сансары, достигаемое совлечением всего умственно-эмоционального (личного) слоя душевной жизни и выход в состояние безличного субъекта, слияние с энергией духовного Абсолюта. Пути достижения этого идеала различны. Именно в вопросах о путях достижения мокши возникали разночтения и расхождения религиозных традиций Индии, отличающихся в целом терпимостью в доктринальных и вероучительных вопросах. Рассмотрение буддизма конкретизирует изложенный выше материал, более полно охарактеризует индийскую антропологию.
Буддизм об антропологических основаниях человеческой природы
Оригинальный буддизм – очень сложное для понимания учение. Необуддизм, адаптированный к сознанию европейского человека, более прост, так как модифицирован и соотнесен с христианскими идеями. Настоящий, аутентичный, буддизм часто труднодоступен даже для восприятия азиатского человека. Известный исследователь буддизма А. М. Пятигорский пишет: «Центральноазиатские кочевники, слушая первых буддистских миссионеров, с недоумением спрашивали, что такое Будда…» [4, 48]. Учение о Будде в буддизме имеет сложную схему: «Будда-человек обладает человеческим телом… но с “добавкой” тридцати двух признаков… сверхчеловека… Он также обладает психикой, разумом (manas), но опять же с “добавкой” абсолютной и полной Пробужденности… и десяти особых сверхъестественных способностей» [4, 48].
Пятигорский считает, что человеку, воспитанному в европейской системе ценностей, непросто понять буддистские тексты. Необходимо переключиться на иную систему мышления, которое иначе организовано: без понятий о личности и об основной идее, организующих текст. Буддистские тексты (в первую очередь известная «Бхаммапада») построены таким образом, что принципиально отрицают структурное объединение и подчинение текста основной идее. Текст должен настраивать читающего на особую волну восприятия, он призван вводить в медитативное (измененное) состояние сознания, поэтому важны ритм, смысловые разрывы в афоризмах, парадоксы, намеки и т. д.
В буддизме нет понятия о личности. Если мы говорим о Будде как об идеале, о пробужденном сознании, то по-христиански склонны понимать его как некое просвещение, преображение личности, т. е. по формуле: личность + какие-то особенные (сверхъестественные) качества. Однако в буддизме европейские (христианские) психофизические понятия не действуют, скорее формула будет обратной: особенные качества, исключая личность.
Существуют две основные версии буддизма – хинаяна (малая колесница) и махаяна (большая колесница), т. е. строго аскетический буддизм для отшельников и версия для мирян, для «всех». Разделение буддизма на два направления произошло в IV в. до н. э. на соборе в Раджагрихе, где определенная часть собравшихся выступила за ослабление первоначально суровых аскетических требований, но встретила сопротивление сторонников сурового подвижничества. Второй собор произошел в Вайшале через 100 лет после первого, на нем уже явно выделялись две партии – сторонников и противников суровых требований. Реванш взяли традиционалисты, а прогрессисты созвали третий собор, в Паталипутре, где, приняв нужные для себя решения, по мнению консерваторов, уничтожили самый дух учения Будды.
Основной вывод модернистов состоял в том, что состояние Будды присуще каждому и необходимо его развивать, тем самым нивелировав первоначальную, аристократическую (с чувством избранности) направленность буддизма. Во II в. до н. э., в царствование царя Ашоки, обратившегося в буддизм, происходит расцвет учения, которое становится миссионерской религией. К I в. происходит упадок буддизма, в Индии возрождается брахманизм, махаяна частично смешивается с ним, Будда превращается в бога, и учение развивается в теологическом, мистическом и культовом направлениях[5]. С течением времени каждое из направлений (хинаяна и махаяна) породили еще по две версии: хинаяна – школы вайбхашиков и саутрантиков, махаяна – школы йогочары и мадхиямики. Все четыре школы отличаются на первый взгляд незначительными акцентами и различными утверждениями по поводу реальности или ее отсутствия, сознания и ее составляющих, но каждая из них держится своей теоретической и догматической версии буддизма, практики, традиции и т. д. В настоящее время самыми популярными и известными произведениями буддистской традиции являются два текста – «Дхаммапада» и «Абхитхарма-коша».
Буддизм как учение представляет собой развитие четырех благородных истин (есть страдание, есть его причины, оно может быть прекращено, есть восьмеричный путь, ведущий к этой цели). Этика буддизма основана на простой мысли: из «я», эго-центра, постоянно рождаются желания, целью буддиста является их искоренение. Для этого необходимо иметь правильные взгляды, решимость, речь, поведение, образ жизни, усилия, направление мысли и тела, сосредоточение, что составляет восьмеричный путь. На высоких уровнях познания истины буддист имеет правильную самадху (сосредоточение), которое заключается в отречении от радости, покое без размышлений, наслаждении чистым мышлением, что вводит, в конце концов, в состояние освобождения от радости и в нирвану. Однако кроме краткого «символа веры» буддизма существует изощренная философская диалектика, традиция обратной логики (логика возможных миров) и парапсихологии. Антропология буддизма, представленная ниже, – это общие представления, характерные для всех школ буддизма.
Интересен ответ буддизма на вопрос, что такое жизнь человека. Он состоит в том, что жизнь есть причинно-зависимая цепь из 12 элементов. Для иллюстрации обычно используется так называемая формула Взаимообусловленного Возникновения из 12 частей: 1) авидья (неведение) – нечувствие, непонимание четырех благородных истин, заблуждение относительно природы человека; 2) самскары – подсознательные импульсы, влекущие умершего к новому переживанию бытия; 3) возникновение новой жизни и зарождение сознания; 4) возникновение имени (ума, ментальных структур) и формы (тела) человека; 5) формирование шести органов чувств, среди которых на первом месте ум (манас); 6) соприкосновение (в момент рождения) чувств с внешним миром; 7) возникновение, вследствие соприкосновения ощущений приятного и неприятного, нейтрального; 8) формирование страстей, влечений, аффектов; 9) возникновение привязанностей; 10) сансарическое бытие, возникающее вследствие привязанностей; 11) очередная жизнь, завершающаяся смертью; 12) прошлая жизнь (или промежуток между смертью и рождением).
Данный текст автореферентен, т. е. каждая нидана (причина) несамостоятельна, но напрямую зависит от предыдущей, так что нет ответа на вопрос о ее прямой сущности. Например, если мы стараемся понять, что есть страдание, то ответ будет не о сущности его, но с указанием на то, что страдание возникает с рождением; вопрошая, что есть рождение, мы получаем ответ, что оно возникает с концом прежнего существования, и т. д. Самозамкнутость текста говорит о его пустотности, неукорененности в одной исходной причине, что также указывает на его основное предназначение – не отвечать на вопрос, но вводить в медитативное состояние того, кто этот текст воспринимает.
Буддистское Колесо Бытия (Бхавачакра) в храмах изображается красочно и наглядно для восприятия простого народа, в виде огромного чудовища (символ расплаты и неумолимой кары), держащего в лапах круг бытия. В центре графического изображения Круга Бытия, разделенного на шесть секторов (миров), помещен круг, на котором изображены петух как символ страсти, змея – гнева, свинья – невежества, т. е. символы самых страшных для буддизма аффектов, основных виновников скитания в сансаре. Буддизм выделяет шесть миров, в которых, в зависимости от кармы умершего, человеку суждено родиться. Первая сфера – мир богов, вторая – мир асуров, полубогов, воюющих с буддистским Олимпом и друг с другом, третий – мир людей, далее – мир животных, еще ниже – претов, вечно голодных духов. В самом низу располагается ад, где мучаются грешники. В каждом из миров есть свой Будда, проповедующий путь к спасению.
В храмах Бхавачакра, которая является заметным украшением интерьера, изображает философские истины в картинках. Цепь 12 нидан (причин) включает изображения: 1) слепого с посохом (авидья); 2) горшечника, лепящего глину (совокупность деяний, мыслей, чувств, определяющих следующее рождение); 3) обезьяны, срывающей плод с дерева (зарождение сознания, которое подобно плоду содержит все данные о будущем человеке); 4) человека, плывущего в лодке по морю жизни (возникновение имени-формы нового человека); 5) дома с запертыми дверями (символ шести чувств); 6) мужчины и женщины в объятиях (направленность чувств на внешний мир); 7) человека со стрелой, попавшей ему в глаз (возникновение трех видов ощущений); 8) человека с чашей вина (желание, удовлетворение которого рождает новую страсть); 9) человека, собирающего плоды (символ привязанности); 10) беременной женщины (возникновение нового существа); 11) рождающей женщины (новый круговорот сансары); 12) старика с мешком на спине (старость и смерть как итог очередного рождения).
Буддизм признает существование множества божеств, подчиняющихся закону кармы, но категорически отрицает существование Бога-Творца, который мог бы избавить людей от нее. Буддистские храмы изобилуют изображениями различных божеств, будд и бодхисатв, но они для религиозной традиции ничто, только пустотные символы возможных благих качеств, созерцая которые верующий должен стремиться к приобретению буддистских добродетелей. Из настоящего описания круга жизни человека понятно, что центральное положение антропологии буддизма о несуществовании индивидуального «я» разработано на уровне догматических определений и художественных образов.
Однако что же представляет собой конкретный человек, его индивидуальность? Буддизм предлагает в качестве ответа теорию пяти скандх (групп психофизических элементов), составляющих то, что носит название личности (души). Слово «скандха» буквально переводится как «ствол дерева», иногда – как «куча», «состав». Существует пять основных видов скандх, из которых слагается понятие о «я» человека:
4) рупа, материальное тело (или форма, о которой говорит четвертая нидана);
5) ведана, эмоция, группа ощущений (приятное, неприятное, нейтральное);
6) санджня, распознавание, группа осознания различий и формирования понятий;
7) сандскары, волевые побудительные импульсы;
8) виджняна, сознание как таковое.
Перечисление видов скандх дано в порядке чувственного восприятия какого-либо объекта. Так, например, увидев вдали человека, вначале сознание воспринимает его форму, далее вступают в силу эмоция, распознавание, после которого вступают в силу волевые импульсы (например, желание приветствовать человека). Все виды восприятия объемлет единое сознание воспринимающего.
Атомизация души человека на этом не заканчивается. Группы элементов не являются субстанциями, они, в свою очередь, состоят их других элементов, психофизического, относительно-реального характера. Эти частицы психической жизни носят название дхарм, понятие о которых противостоит христианскому понятию о душе. Дхармы, текущие элементы, дискретные и не связанные друг с другом, в буддизме несколько условно сведены к пяти группам (скандхам). Дхарма (от санскр. корня dhr – держать) – одно из важнейших понятий в буддизме. Переводят слово «дхарма» как «закон», «правило», «принцип», «истина», «путь», однако дословный перевод будет звучать как «носитель», «держатель» (в смысле – носитель информации). В общем смысле дхарма – путь благочестия, который предполагает выполнение определенных правил. В случае с психикой дхарма как носитель информации есть элемент, удерживающий происходящее с человеком в текущий момент реальности. Как пишет один из современных буддологов: «…буддизм смотрит на личность как на только лишь имя, призванное обозначить структурно упорядоченную комбинацию пяти групп несубстанциальных и мгновенных элементарных психофизических состояний – дхарм» [5, 244].
Понятие о текучести душевной жизни человека было известно и в христианстве, особенно ярко об этом явлении писал прп. Исаак Сирин, который, рассматривая причины непостоянства человека и текучести его мысленных, чувственных состояний, выделяет четыре причины данного явления. Помыслы и страстные движения происходят от 1) плотской, естественной похоти, 2) чувственного представления мирских предметов, 3) прежних впечатлений и душевных склонностей, 4) бесовского воздействия. В итоге прп. Исаак Сирин сделал вывод: «…человек даже до смерти, пока он в жизни этой плоти, не может не иметь помыслов и брани. Ибо рассуди сам, возможно ли, чтобы прежде исшествия человека из мира… пришла в бездействие одна из сих четырех причин?» [2, 24]. Состояния текучести помыслов связываются в христианской аскетике с греховностью человека, которая преодолевается на путях аскезы, молитвы, покаяния, концентрации всех сил души в устремлении к Богу. Наконец, подвижник может достичь благодатного состояния единства всех сил души, когда «умолкнут всякие уста и всякий язык; да умолкнет и сердце – этот хранитель помыслов, и ум – этот кормчий чувств, и мысль – эта быстропарящая и безстудная птица» [2, 60]. В этом состоянии молчания чувств и помыслов человек достигает просветления и встречается с Верховной Личностью Бога. В буддизме текучесть и непостоянство душевной жизни преодолевается в обратном направлении, путем избавления от личности, погружения в глубокий транс, при котором атомизация душевной жизни достигает пределов через отказ от личной самоидентификации. В этом состоянии человек, как предполагается практиками медитации, испытывает покой при растворении с мировым целым и блаженство вследствие отказа от личности с ее непостоянством и греховными желаниями.
В буддизме есть различные школы, которые по-разному представляют число дхарм (от 75 до 100), но общая идея сводится к тому, что все содержание психической и физической жизни состоит из элементарных частиц – дхарм. С этой точки зрения даже учение Будды есть Дхарма, к нему также не нужно иметь привязанности, но понимать как текущую и преходящую сущность, без опоры на реальность. Атомы-мысли, согласно «Абхитхарма-коша», а) абсолютно просты, б) мгновенны, в) абсолютно дискретны, г) различаются по обстоятельствам возникновения, а не сами по себе, причем число таких случаев может быть бесконечным. Таким образом, процесс мышления как конгломерат разнообразных дхарм является психическим процессом смены состояний, и с этой точки зрения нелепо ставить вопрос об истине познания (для европейской традиции это, как известно, основной вопрос гносеологии). Мысли можно различить не по признаку истины и лжи, но по степени влияния на карму: они могут быть благими, не благими и нейтральными (неопределенными). Их можно рассмотреть и с точки зрения причинности: они могут быть причинными и непричинными (беспричинными), возникшими в сфере чувственности, сопровождающимися хорошим или дурным умонастроением и т. д. Мыслительная сфера в буддистской традиции невероятно психологизирована, в этом смысле буддизм не отличает мысль от чувства или ощущения, что является заметным штрихом в его антропологической теории.
Таким образом, антропологическое определение в буддизме будет следующим: любой человек, любое существо есть поток текущих состояний, каждая дхарма существует только одно мгновение, заменяясь в следующий момент другой, так что человек каждое мгновение – новый, не имеющий связи ни с реальностью, ни с самим собой. Эта формула (каждое мгновение – иная личность) именуется в буддизме теорией мгновенности. Человек – поток состояний, поэтому буддизм, исходя из этого определения, не поддерживает и теорию реинкарнации, поскольку нет сущности, которая могла бы перевоплотиться. Происходит только новая комбинация дхарм, и больше ничего за определением «новая жизнь» не стоит.
Буддизм махаяны тем не менее выдвинул доктрину сострадания-милости к людям, обреченным на сансарическое бывание. В отличие от суровой монашеской версии хинаяны, в махаяне к избавлению призваны все люди независимо от половой принадлежности и социального статуса. Буддист махаяны стремится достичь нирваны, пробуждения своего истинного сознания, не только ради собственного блага, но и для блага других людей. Он отказывается погрузиться в нирвану, пока страдают другие, подражая в этом Будде, начавшему проповедь после постижения истины. Такие качества, как сострадание и мудрость, становятся наиболее желательными чертами антропологического идеала в буддизме махаяны. Мудрость буддизма – умение воспринимать мир в свете учения Будды, сострадание – способы спасения всех, однако без учета свободной личности объекта спасения, поскольку учение о несуществовании «я» не предполагает любви к конкретной личности, к ее уникальным чертам и особенностям психического склада.
С персоналистической точки зрения учение махаяны о сострадании к людям и усилиях, направленных на их спасение, довольно парадоксально и противоречиво: если объекта спасения как такового нет, а есть лишь неопределенная психофизическая текущая энергия-форма, то сложно представить ее спасение. Для достижения положения, что истинная религия должна иметь нравственно-возвышенный и универсальный характер, исходя из рационалистической антропологии с теорией анатмана, в махаяне была разработана концепция так называемого «космического тела Будды».
До пробуждения Будда был принцем Сиддхарха Гаутамой, после глубочайшего транса и достижения просветления его личность исчезла, а на смену ей пришло новое существо – Будда с природой пробужденного сознания. Будда вошел в бытие и некоторым образом принес с собой новую положительную ценность просветления (бодхи), которая наряду с нирваной является целью буддиста. Если стремление к нирване и способы как-то ее представить в воображении считаются опасными, способными вернуть человека в мир сансарического бывания (нирвана как объект желания), то стремление к бодхи-пробуждению в целом «безопасно». Будда при этом понимается аналогично богу – он явлен в форме учителя, но его природа есть чистое пробуждение: «Пробужденность Будд выражается в Дхарме – учении, и, таким образом, Дхарма формирует истинное тело Будды. Но под дхармой понимается также элементарная частица опыта, и потому тело Будд есть Дхарма дхарм, “дхармовая природа”, истинный опыт» [3, 208].
Выводом из этой концепции становится признание общечеловеческой основы бытия – дхармова тела, которое едино для всех пробужденных. Однако потенциально любой человек может достичь пробуждения, поэтому дхармово тело определенным образом общее для людей. Все живые существа – потенциальные носители природы Будды, что составляет общечеловеческую основу, причину и возможность сострадания. Общечеловеческая основа в христианстве – кровное родство всех людей, происшедших от падшего праотца Адама. Общечеловеческая основа дает возможность Второму Адаму, воплотившемуся Богу, спасти всех обращающихся к покаянию, привив к человеческой природе Свое нетленное и вечное Божество. Эта общечеловеческая основа позволяет в каждом увидеть своего собрата, ощутить боль всего человечества как свою собственную, не прибегая к хитроумным и головоломным философско-психологическим идеям. Проблему потенциального тела воскресения, общего всем людям в будущем веке, развивал русский философ-интуитивист Н. О. Лосский[6], взгляды которого, не являясь выражением святоотеческого православия, обнаруживают любопытную близость к рассматриваемым буддистским идеям.
Безусловно, возникает вопрос о главной цели буддистов, т. е. о том, что такое нирвана. Прямого ответа на этот вопрос в буддистских текстах нет, кроме указания на то, что желать нирваны, стремиться к ней есть грех, вводящий в сансарическое бытие. Ответ дается от противного (отрицательное определение) в указании на то, что такое состояние в принципе существует и что оно есть не-страдание, не-сансарическое бытие: «Да, о царь, нирвана не обусловлена. Она никем не сотворена; о нирване, о царь, нельзя сказать ни того, что она возникла, ни того, что она не возникла, ни того, что она должна возникнуть, что она прошлое, будущее или настоящее, что ее можно воспринять зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием. <…> Существует нирвана, а я не могу показать нирвану ни с помощью цвета, ни с помощью формы» [1, 511–512]. Махаяна утверждает, что нирвана есть подлинное бытие, в то время как сансара является некой иллюзорной и несуществующей надстройкой нирваны, пробуждение же сознания способно даровать истину, открыть путь к подлинному существованию, которое, как предполагается, не будет иметь конца или изменений, вызывающих страдания. Онтологическое прочтение нирваны определенным образом вписывает ее в круг бытия, что можно считать отступлением от исходных принципов ее апофатического описания, высшим выражением которого было молчание об этом предмете самого Будды.
Все вышеизложенные «истины» буддист должен усваивать до тех пор, пока не будет воспринимать самого себя и все окружающее в свете подобных идей. По сути, такое восприятие обозначает анализ, в котором ведущую роль играет аналитический и все разлагающий рассудок (что соответствует постмодернистскому определению «деконструкция»). Буддизм с его голым, все разлагающим анализом подвергался жесткой критике со стороны индуистов и других не разделяющих это учение индийских религиозно-философских школ. Основные аргументы против буддизма: популярное буддистское сравнение личности с ожерельем без нити обозначает полный релятивизм, нет различия между низшим и высшим, нет и спасения как онтологической реальности, нет смысла в буддизме, он не является истинным учением. Смысл критики буддизма, например со стороны Шри Шанкары (создатель адвайта-веданты, VII–VIII вв.), сводится к тому, что отрицание личности – самый большой порок буддизма, поскольку спасение ради спасения, без самого желающего спастись, есть абсурд.
Впрочем, такими аргументами крайне сложно переубедить буддистов, которые вполне согласятся с любой критикой, указывая, что абсурдность восприятия и составляет цель буддиста. Это положение демонстрирует чань-буддизм с его известными изречениями вроде «какой звук производит хлопок одной ладони» или «если встретишь Будду, идущего по дороге, – убей его», которые должны ввести новоначального в состояние шока, разорвать цепь обыденного восприятия реальности. Стремление к парадоксальности, шокирующие религиозные практики (тантрический буддизм с его предписанием совершать смертные грехи ради пробуждения сознания), атеизм и обожествление Будды, трезвость и рационализм, крайности монашеской аскезы и восточная невозмутимость – все это включает в себя буддизм, являясь аморфной религией и одновременно изощренной философской школой. Антропология и учение буддизма достаточно трагичны, но вместе с тем они становятся притягательными в силу своего всеобъемлющего синтетического принятия практически любых идей с последующей их адаптацией. В этом проявляется уникальность буддизма, его яркое отличие от других религиозных систем, что ведет к широкому распространению на постхристианском Западе. Вместе с тем буддизм доводит до логического завершения исходные антропологические посылки о карме, атмане, мокше, сансаре, являясь, возможно, в концентрированном виде наиболее характерным, ярким и самобытным религиозным явлением Древней Индии.
Литература
1. Антология мировой философии. Древний Восток. М., 2001.
2. Исаак Сирин, авва. Слова Подвижнические. М., 1993.
3. Максимов Ю. В., Смоляр К. В. Православное религиоведение: Ислам, Буддизм, Иудаизм. М., 2008.
4. Пятигорский А. М. Непрекращаемый разговор. СПб., 2004.
5. Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада. СПб., 2007.
Глава 2. Культура Дао: китайская антропологическая модель
Начиная изучение древнекитайской культуры Дао, необходимо осознать ее особенности, отраженные в сложных формах, некоторые из которых, до сих пор определяя китайский менталитет, не имеют аналогов в современном мире, но принадлежат иному, древнейшему типу мировосприятия. Символом этой сложности и оригинального мировосприятия является китайский язык, самый сложный из известных сейчас языков в современном мире. Это язык-в-себе, иероглифы рассчитаны в первую очередь на созерцание, а не на озвучивание, что задает характеру культуры Дао и ее носителям архетип стабильности и утонченного, целенаправленного внимания к деталям. В отличие от индийской культуры, ориентированной на звук (существует, например, миф о начале мира от великого звука Ом), китайская культура ориентирована на созерцание. Иероглифы состоят из нескольких односложных составляющих, каждая из которых имеет свое обозначение, и, вместе соединяясь, они образуют новое понятие. Каждый иероглиф – это своего рода кроссворд, отдельная информационная единица со своим значением[7]. Прочтение-понимание иероглифа и его озвучивание несоотносимы.
Яркую аналогию китайскому языку дают древнерусские знаменный и демественный роспевы с их системой крюковой нотации. Каждый крюк, а тем более фита (длинный звукоряд, зашифрованный несколькими крюками) может состоять из формульных компонентов, имеющих свое название (например, «голубчик борзый», «два в челну», «стрела поводная» и т. д.), а их сочетание дает различное звуковое прочтение, от одного до восьми и более звуков. Особенности восприятия информации (звуковой, богослужебной, в случае с Древней Русью) означают определенного рода сходство психологических и когнитивных установок культуры Дао и древнерусской культуры.
Упоминание некоторых особенностей китайского языка в начале знакомства с культурой Дао вполне уместно и оправданно. Текст, письменность – понятия священно-сакральные в Китае, слова «язык» (букв. небесные узоры) и «культура» здесь тождественны. Если письменность и культура в Китае нераздельны, то это может подсказать некоторые существенные характеристики китайской цивилизации. Замкнутость иероглифа в себе, нераскрытость его в звучании говорит об установке на стабильность и созерцательность, что определяет социальность и индивидуальный характер китайцев. «Непрозрачность» лиц китайцев, уклонение от эмоциональности ради сохранения своего «лица» (социального образа) является высоким достоинством в Китае, в то время как для европейской цивилизации такая интровертированность представляется скорее недостатком, нежелательным качеством, сулящим социальную неудачу. Установка скорее на внутреннюю стабильность, чем на внешние изменения, была характерна для Китая на протяжении нескольких тысячелетий. Эта установка изменилась вместе с агрессивным вторжением в Китай европейцев начиная с XVI в.
Все указанные общие черты китайской ментальности необходимо конкретизировать, обратившись к истокам китайской культуры и понятию «Дао». Наиболее глубоко понятие «Дао» раскрывается через рассмотрение так называемой «Схемы великого предела» (Тай-цзы ту). Ее создали даосы, основываясь на древних преданиях, в которых присутствуют мотивы, выраженные мифопоэтическим языком.
Согласно даосской мифологии, в основе всего сущего находится Беспредельное, которое называется Хаосом, Единым, энергией Ци. Основная его характеристика – покой-отсутствие, что объяснимо, вероятно, тем, что в китайском языке нет глагола «быть», вместо которого используют понятие «иметься» или «есть», что означает констатацию факта существования. Категория «отсутствие» в китайском мышлении превалирует над «присутствием», покой – над действием, причем отсутствие есть не «ничто», но «все», содержащее в нераскрытом, неразвернутом виде бытийную полноту: «Люди древности … знали, что изначально вещи не существуют, – вот предел, вот вся бездна смысла, и добавить к этому нечего» [8, 68]. В силу неведомых причин Беспредельное начинает пульсировать и обретает полярность инь и ян – положительный и отрицательный полюса, которые действуют как противоположности, разворачивая Беспредельное во множество сущностей. Биение пульса инь и ян, их взаимовращение и обороты – это космическое веретено, на котором соткалась вся ткань бытия. Процесс пульсации инь и ян имеет пять фаз или циклов, соответствующих пяти первоэлементам (первоистокам): дерево, огонь, земля, металл и вода. Первоэлементы переходят друг в друга, одно преодолевается другим как более слабый элемент более сильным. Из перемен (и) и превращений (хуа) возникают Небо и Земля, мужское и женское, все вещи Вселенной. Об этой космологической схеме начала мудрец Чжоу Дунь-и (1017–1073), составивший комментарий к схеме Великого Предела, говорил: «Все сущее есть лишь пять первоэлементов, пять первоэлементов есть лишь два модуса – инь и ян, два модуса есть лишь единый Великий Предел» [7, 72].
В Древнем Китае человек был подчинен мировым ритмам, которым следуют Небо и Земля. Согласно древнекитайским представлениям когда-то Вселенная существовала в совершенной гармонии. Два великих начала инь и ян ритмически, в космическом танце породили гармонию цзы. Цзы, находясь между инь и ян, закрывал великую пустоту хаоса, и в Поднебесной царствовала гармония. В результате некой катастрофы цзы (ребенок космических сил) был выбит из сердцевины космических ритмов и в мир вторгся хаос. Миф о золотом веке, райском состоянии мира и человечества, является важнейшим для китайской культуры. Это не просто мифологема, а историческое предание, влияющее на жизнь китайского общества. Райское состояние предполагало абсолютную соразмерность космоса, человека, Неба и Поднебесной, когда в мире присутствует гармония Дао – Пути (Закона) всех вещей и людей, следующих ему. Движение космоса и человека, согласно гармонии Дао, является идеалом для китайской культуры. Китайская философия и религия – это сознательное стремление реставрировать гармонию Дао. Первой по времени попыткой реставрации являются магические практики, письменно зафиксированные в И-цзин («Книге Перемен», создана ок. 3 тыс. лет назад), далее следуют даосизм и конфуцианство. Другие школы примыкают к одному из трех главных направлений. Конфуций, реставрируя культуру Дао, мировоззренчески ориентировался на будущее, даосизм – на прошлое, мистика, основанная на И-цзин, пытается обрести искомый идеал в вечно длящемся настоящем с помощью магических практик.
Что такое Дао? Можно определить Дао как Всеобщий Закон, меру всех вещей, воплощение всех добродетелей, принцип существования Вселенной. Дао присутствует над мировым целым, одушевляя его и обусловливая мировую гармонию, при этом оставаясь невидимым. Можно указать на попытки теистического осмысления Дао как Бога, Творца и Промыслителя (например, Чжуан-цзы обращается к Дао как к личности, «мой Учитель»), но это скорее редкое исключение, чем правило. Представления о том, что основой всего сущего является Верховная Личность, нет в язычестве (в отличие от иудаизма, христианства и ислама), но во всяком случае Дао допускает подобное толкование. Известно, что иезуитские миссионеры, когда переводили Новый Завет на китайский язык, первые строки Евангелия от Иоанна «В начале было Слово» перевели «В начале было Дао». В данном случае был сделан перевод смысла из культуры Логос в культуру Дао, для того чтобы в таком контексте мысль евангелиста была понятна китайцу. Однако в Древнем Китае до персонификации Дао было еще далеко, хотя нужно отметить, что китайская культура, в отличие от индийской, выдвигает универсальный регулятор, надкосмический верховный принцип, который возможно осмыслить в монотеистическом и персоналистическом ключе.
В классическом толковании Дао – это 1) универсальная этическая норма, этический эталон, 2) высшее первоначало, 3) предельная онтологическая реальность, 4) абсолютное начало, абсолютная ценность, 5) высшая закономерность Вселенной, 6) китайский аналог понятия «Бог». Красноречиво о Дао говорит известный отрывок из «Дао-дэ цзин»: «Вот вещь, в хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся! О беззвучная! О лишенная формы! Одиноко стоит она и не изменяется. Повсюду действует и не имеет преград. Ее можно считать матерью Поднебесной. Я не знаю ее имени. Обозначая иероглифом, назову ее дао» [2, 614].
Из краткого обзора можно сделать следующие выводы о китайской культуре Дао: 1) эта культура ориентирована на социальные, моральные принципы и обращена не к индивиду, но к сообществу (роду, клану и т. д.); 2) моральное ориентирование китайской культуры парадигмально, сам человек в Китае определяется не как homo sapiens, но как homo moralis, т. е. мораль и добродетель отличают человека от животных; 3) вселенная, человек, общество должны следовать Дао, направляя усилия на гармонизацию и сущностное совпадение с ним. Такие особенности определяют характерные черты антропологической модели в китайской культуре. Для описания этой модели необходимо сориентироваться во времени, чтобы обозначить антропологические и временные границы китайской истории. Ниже помещена периодизации китайской истории, в которой отражены события, имеющие отношение к становлению религиозно-философской мысли.
1. Протогосударство под руководством самого влиятельного клана Шан-инь (середина 2-го тыс. до н. э.). Формирование мифо-исторических преданий и религиозных представлений, оформление гадательной и культовой практики религии рода.
2. Господство династии Чжоу (1027–771 г. до Р. Х.). Чжоуский Китай – идеальный образец для конфуцианства, эпоха стабильности и мудрых правителей. Расцвет религиозных практик предшествующего периода. К V в. происходит первая техническая революция (появление железа, новые техники земледелия и т. д.), что раскололо общество и дало начало последующей эпохе.
3. Эпоха Чжанго (Борющихся Царств) (V–III в. до н. э.), является составной частью эпохи Чжоу, но выделяется как особое время в ее составе. Произошло раздробление Китая на 140 княжеств, что завершается объединением страны под властью династии Цинь (221–206 г. до н. э.), создавшей первую в Китае империю. Эпоха Чжанго – расцвет философской мысли в Китае. Во время династии Цинь в Китае существовало девять философских школ: конфуцианство, даосизм, легизм, моизм, школа имен, натурфилософы и дипломаты.
4. Эпоха Хань (206 г. до н. э. – 220). На смену плюрализму пришло единство, конфуцианство становится ведущим направлением, складываются основные понятия, определившие мировоззренческий синтез. Сложившиеся модели доживают без существенных изменений до XI в., испытав незначительное влияние в связи со знакомством с буддизмом в IV–VII вв. Из религиозно-философских направлений ведущими остаются конфуцианство и даосизм.
5. Эпоха Вэй-Цзинь (III–V вв.), отличается новой раздробленностью страны. В Китай приходит буддизм, постепенно ставший значительной силой.
6. Эпоха Тан (618–907). В это время даосизм становится государственной религией, происходит рост монастырей, храмов, мистических настроений.
7. Эпоха Сун (960–1279). После непродолжительного господства даосизма и буддизма в конце эпохи Сун начинается стремительный взлет конфуцианства.
8. Правление династии Мин (1368–1644). Происходит все большая стагнация китайской культуры в конфуцианском ее варианте.
9. Правление маньчжурской династии Цин (1644–1911). Постепенное нарастание кризиса, встреча и знакомство с Западом (первые португальские корабли прибыли в 1517 г.), попытки синтеза западной рациональности и неоконфуцианства. Упадок даосизма, появление прозападной интеллигенции, распространение атеизма, забвение традиций (в начале XX в.), появление жажды перемен, первая Синьхайская революция, начало модернизации.
Периодизация показывает, что рождение великих идей для китайской культуры происходит в эпоху Чжанго́, которая ознаменовалась появлением конфуцианства и даосизма. Стоит заметить, что это время общенационального кризиса, в которое рождается особый тип творчества – личное постижение истины и религиозно-философские переживания, ставшие основой нового национального самосознания. Основы и особенности религиозной системы Китая были заложены в глубокой древности, начиная с эпохи Шань-инь. Шаньская цивилизация городского типа появилась в бассейне реки Хуанхэ в середине 2-го тыс. до н. э., примерно в то же время, что арии и ведическая традиция в Индии. В отличие от индийской культуры, в китайской культуре не получили распространение сложные мифологические и поэтические системы, место мифов заняли историзированные легенды о мудрых и справедливых правителях. Божества как бы спускались на землю, перерождаясь в первопредков и идеальных правителей, роль культов в честь богов в Древнем Китае выполняло почитание предков и духов умерших.
В связи с этим нужно отметить, что для китайского мировоззрения не существует проблемы, обозначенной на Западе как «удвоение мира» (мир вещей и мир идей, мир Бога – мир человека, мир трансцендентный – мир имманентный). Для китайского самосознания два мира сливаются в одно непрерывно текущее (процессы перемен) бытие здесь-и-сейчас. Мир одновременно и трансцендентен и имманентен. С этой особенностью мировосприятия связано недоумение первых иезуитских миссионеров эпохи Просвещения, которым казалось, что китайцы – атеистический народ. Миф об атеизме китайцев существовал довольно долго и был окончательно развеян синологической наукой в XIX в.
Народные религиозные представления о человеке в Китае практически не изменились со времен глубокой древности. Однако параллельно с народной религиозностью развивалась философская, элитарная мысль. Обособленность философской традиции определялась в первую очередь знанием китайской письменности, что автоматически включало его обладателя в государственную, социальную и культурную элиту. Соответственно сформировались две антропологические концепции, друг с другом связанные, но имеющие все же существенные отличия. Разделение на два класса людей в Китае – знающих и не знающих иероглифический язык (т. е. на элиту и простолюдинов) – естественно породило и две антропологические концепции. Традиционная китайская религиозность не знала представлений о бессмертии души, ей была неизвестна идея перевоплощений (реинкарнация, метемпсихоз). Жизнь, ее продление, долголетие с древнейших времен считались высшими ценностями китайской культуры, априори предполагалось, что за порогом смерти не может быть ничего благого.
В традиционной народной китайской культуре господствовало представление о множественности душ (аналогичное древнеегипетскому полипсихизму). У человека два типа душ: разумные души (хунь) и животные (по). Души хунь связаны с сознанием, с разумностью, их насчитывалось три. Души по (семь разновидностей) связаны с органической и физической жизнедеятельностью, одушевляют и олицетворяют физиологические процессы. Тело есть начало, объединяющее 10 душ, его смерть ведет к их гибели, но сохраняется тонкая материя – пневма – как их субстрат. После смерти эти два вида душ разъединяются, продолжая существовать в комплексе. Души хунь образуют дух (шэнь), а души по – злые духи-призраки, привидения. Особенно опасны злые духи у людей, умерших насильственной смертью, или у тех, кому после смерти не принесли жертву. Такие духи вредят семье и потомкам умершего, принося различные несчастья. Дух человека способен существовать вне тела определенное время, но и он конечен, исчезает, сливаясь с окружающей средой. Дух шэнь растворяется в небесной пневме или обретает бессмертие за особые заслуги на небесах. Души по уходят под землю, в мир желтых источников, где они влачат тенеподобное существование, или растворяются в земле окончательно. Таким образом, представления о душевно-духовном строении человека, согласно народным китайским преданиям, можно изобразить с помощью следующей схемы:
Китайская народная вера хранила убеждение, что духи могут жить и среди обычных людей в земном мире. Души хунь способны покинуть тело во время сна, транса, обморока (в этом есть сходство с идеями шаманизма), они могут также взлетать на Небо и становиться бессмертными. В народной традиции почитаемых бессмертных было довольно много, со временем пантеон разрастался все больше. В связи с такими представлениями особенно тщательно разработан был погребальный ритуал, во время которого крайне нежелательны были какие-либо ошибки, что могло повредить как умершему, так и его родственникам. В древнейшие времена на могилах вождей сжигали рабов, чтобы те служили им в загробном мире, позже погребения снабжались всем необходимым: еда, одежда, украшения, оружие, музыкальные инструменты, что означает тождественность земного и небесного мира. В современном мире этот обычай оригинально трансформировался: на могилах в дни поминовения сжигают деньги (специально отпечатанные именно на этот случай), изображения машин и бытовой техники. Представления о рае и аде, о посмертном воздаянии пришли в Китай только с буддизмом. Всем этим архаичным представлениям противостояла философская традиция. Базовые понятия философской традиции можно описать следующим образом:
1. Человек включен в процесс непрестанных перемен Вселенной и ориентирован на образец, который демонстрирует Небо, задающее нормы существования Поднебесной. Небо не только выражает этические нормы, которым должен следовать человек, но и эстетические идеалы, находящие выражение в культуре. Человек в интеллектуальной традиции соотнесен с космическими ритмами, узорами неба, пропорциями и закономерностями, что рождает математически точный склад ума. В Небе видят образцы моральности и закона, а не олицетворение разрушительных стихий.
2. Одной из важнейших категорий китайской культуры является понятие «ци» (энергии), придающее особое измерение антропологической мысли. Душа, дух – тонкая ипостась энергии ци, материя – плотная ее модификация. Все в мире, в том числе и сознание человека, – разнообразные комбинации разреженной или сгущенной, уплотненной энергии ци. Энергия ци циркулирует в теле человека по особым энергетическим каналам и оживотворяет его. Представления об энергии ци лежат в основе традиционной китайской медицины: причиной любой болезни является нарушение циркуляции энергии ци в теле. Таким образом, человек – существо не материальное и не духовное, но энергийное.
3. Органом мышления, сосредоточием разумности считалось сердце. Процессы мышления не соотносились с головой, головным мозгом, но с сердцем (что соответствует христианским и, в особенности, исламским взглядам). Соотнесение ума с сердцем связано с особенностями мировосприятия китайцев. В основе интеллектуальных процессов лежит интуитивизм, созерцательность, а не рационализм (в новоевропейском смысле этого слова). Отсюда и отсутствие в Китае противоречия между разумом и верой, возвеличивания разума человека (не разум, но мораль делает человека человеком). Вера разумно организована, познание проникнуто интуитивными прозрениями. Само мышление в Древнем Китае было не причинно-процессуальное, но коррелятивное, т. е. устанавливали не причинно-зависимую связь явлений, но их сродство, постижимое на интуитивном уровне. Например, типичны были классификационные ряды следующего характера:
земля – гармония – инь-ян – центр – середина года – желтый дракон – искренность – селезенка;
металл – зарождение инь – запад – осень – белый – тигр – справедливость – легкие;
вода – зрелость инь – север – зима – черный – черепахо-змея – почки и. т. д.
Классификационные ряды такого рода могли служить основой медицины, концентрировать знание о мире из разных областей в одну схему. Мышление китайца не только коррелятивно, но и магично. Самым элементарным примером коррелятивного мышления является магическая практика, когда, воздействуя на изображение человека, стараются добиться результатов от него самого. В основе симпатической магии лежит представление о том, что все в мире связано со всем, в том числе человек включен в этот универсальный процесс. Поступки человека (в первую очередь императора) имеют влияние на Поднебесную и даже на весь Космос, обусловливая, например, плохую или хорошую для земледелия погоду и т. д.
4. Человек мыслится как малый мир, микрокосм, отражающий в себе макрокосм, большую Вселенную. Человек – голограмма Космоса, он занимает срединное место между Небом и Землей, являясь членом мировой триады Небо – Человек – Земля, определяя и одновременно определяясь ходом процессов и закономерностей мира.
5. Наряду с возвышенным представлением о человеке существует и довольно заниженная его оценка. Весь мир, каждая его сущность есть видоизменения энергии ци, так что в мире в принципе невозможно выделить нечто неживое и неодушевленное, но все в мире однородно и рядоположно: человек, камень, животное, печень крысы или южный ветер – без явного преимущества одного над другим. Человек – вещь среди вещей мира, он включен в непрерывный процесс перемен; как и все сущее, человек – это тоже процесс, от зарождения до смерти и последующих трансформаций.
6. Последнее представление влияет на особенности восприятия жизни и смерти в китайской культуре. Величайшим благом считалась жизнь, однако и смерть не казалась ужасной, не представала перед сознанием китайца в устрашающем облике. Жизнь и смерть равнозначны, составляют разные полюса единого процесса перемен. «В Северном океане обитает рыба, зовут ее Кунь. Рыба эта так велика, что в длину достигает неведомо сколько ли. Она может обернуться птицей, и ту птицу зовут Пэн» [8, 59] – вот самый типичный образец рассуждения о мире, где идет непрестанный процесс перемен. Смерти в новоевропейском смысле (страшное исчезновение самосознания, мучительное переживание бессмысленности бытия) не существовало, поскольку сам феномен развитого личного самосознания был древнекитайской культуре неизвестен[8]. Основной чертой восприятия жизни и смерти был органицизм и холизм (целостность), т. е. осознание полной включенности человека в мир, в котором протекают различные трансформации. Одной из таких трансформаций является переход из жизни в смерть, из одного образа существования в другой. Тем не менее жизнь почиталась верховным благом, поэтому смерть была явлением, подлежащим непременному преодолению, а различные рецепты на этот счет предлагали китайские религиозно-философские школы.
Две традиции противостояли в Китае идее преодоления смерти ради долголетия или новой духовной жизни: буддизм, который в Китае был воспринят оптимистически (за смертью последует новое рождение) и философия Мо-цзы (V в. до н. э.), который допускал духовную форму бессмертия. За исключением этих двух отклонений традиционная китайская мысль была направлена на преодоление физической смерти ради обретения долголетия, которое в идеале должно перейти в бессмертие, бесконечное бессрочное продление жизни. Долголетие (продление земной физической жизни) – это важнейшая антропологическая категория китайской культуры. Оно почиталось величайшим благом, с учетом того что со временем человек духовно совершенствуется и в старости пожинает плоды мудрости, жизненного опыта и безмятежности. Ради того чтобы старость была легкой и приятной, разрабатывались многочисленные рецепты сохранения здоровья, практики особых гимнастик, иглоукалывания, лечебных голоданий и проч.
В христианстве, как и в индийской традиции, долголетие не входит в перечень важнейших жизненных ценностей. Для сравнения наиболее важных жизненных ценностей можно обратиться к схеме, показывающей ценностное самоощущение в различных культурах. Из схемы видна специфика ценностной шкалы китайской культуры на фоне аналогичных классификаций других культур.
6. Китайская культура Дао: долголетие, гармония, мудрость, долг, ритуал, естественность, ценности кланово-родового содружества.
7. Индийская культура Ом: кама (любовь), артха (материальное благополучие), дхарма (долг, служение, учение, праведность), мокша (освобождение).
8. Христианская средневековая культура: спасение, благодать, духовное совершенство – святость, красота, иерархия, богослужение.
9. Современная культура: знание, самореализация, материальное благополучие, свобода, любовь, ценность личности и ее права.
Не просто спокойное, но даже положительное отношение к смерти, заключающееся в полном ее приятии, демонстрирует даосский текст «Чжуан-цзы». Автор утверждает, что, не зная природы смерти, невозможно и сожалеть о ней, поскольку есть шанс обретения лучшего бытия после нее. Основная мысль «Чжуан-цзы» по вопросу о жизни и смерти заключается в том, что чувство умершего может быть подобно чувству человека, в детстве потерявшего свой дом, а теперь наконец-то нашедшего дорогу обратно. Наша земная жизнь кажется нам единственной реальностью, наполненной важными делами, но вполне возможно, что за гранью этой жизни вдруг наступит истинное пробуждение и земная жизнь покажется сном, пустым мечтанием: «Так откуда мне знать, не раскаивается ли мертвый в том, что прежде молил о продлении жизни? Кто во сне пьет вино, проснувшись, льет слезы. Кто во сне льет слезы, проснувшись, отправляется на охоту. Когда нам что-нибудь снится, мы не знаем, что видим сон. <…> Но есть еще великое пробуждение, после которого узнаёшь, что есть великий сон» [8, 72].
Глава XVIII «Чжуан-цзы» является кульминацией переживания смерти как истинного пробуждения, здесь мы находим описание поведения Чжуан-цзы после смерти жены (он предавался веселью, размышляя об этом событии). Также здесь содержится диалог с черепом, отвергающим суету и прославляющим блаженное единение с миром после смерти: «Для мертвого нет ни государя наверху, ни подданных внизу, ни времен года. Безмятежно следует он круговороту Неба и Земли, и даже утехи державного владыки не сравнятся с его счастьем» [8, 171]. Следует заметить, что в описании Чжуан-цзы, после смерти умерший не теряет самосознания и памяти, для него не существует земных реалий, но он знает об их существовании и знает, что они такое. Его «счастье» после смерти носит характер личного переживания мировой гармонии, так что подобное воззрение совершенно несоотносимо с древнеиндийскими взглядами об исчезновении личности после смерти, растворении его в Брахмане. Взгляды Чжуан-цзы скорее исключение, нехарактерная для Китая спиритуализация жизни, подразумевающая деление на материальное и духовное бытие. Типичным образцом направленности мысли в Китае был поиск долголетия, вплоть до обретения физического бессмертия, что было мифом культуры Дао, во многом определявшим умственную и религиозную жизнь.
В китайских средневековых текстах выделяются несколько видов бессмертных: небесные бессмертные, земные бессмертные и бессмертные, освободившиеся от тела. Первые вознеслись в небесные миры (аналог древнегреческого Олимпа), вторые остаются на земле, живут в высоких горах и наслаждаются единением с природой. Наконец, в последнюю группу попадают те даосы, которые, несмотря на все усилия, так и не смогли преодолеть физическую смерть, умерли, но после смерти воскресли. Для воскресения умершего даоса необходимо было соблюсти ряд условий, как, например, сохранение базовых органов (печень, сердце, селезенка, легкие, почки) и скелета. Буддизм с идеей кармы и сансары был неадекватно осмыслен как теория ранее неизвестной формы бессмертия, что и было принято народной традицией, отвергнувшей идею об анат-мане – несуществовании индивидуального начала и атомизации внутренней душевной жизни.
В целом китайскую антропологическую модель можно считать оптимистической. Китаец, как ребенок, неспособен слишком глубоко почувствовать трагизм смерти и испугаться ее, относясь к смерти скорее как к опасному приключению. Впрочем, в этом отношении к смерти не было примеси фамильярности, что характерно скорее для новоевропейской и постмодернистской культур, у которых в основе такого восприятия лежит скептицизм и ирония, своеобразные защитные механизмы, призванные «обезвредить» смерть. В Китае принятие смерти обозначает скорее покорность мировому порядку и глубочайшее чувство гармонии человека и всего окружающего мира.
Антропологическая концепция конфуцианства
Конфуций (Кун-цзы, 551–479 до н. э.) – основатель конфуцианства, в древних книгах называется просто Учитель (подразумевалось, единственный учитель китайской нации). Основная книга конфуцианской традиции «Лунь юй» («Беседы и суждения») состоит из коротких записей бесед Учителя с последователями, афоризмов и краткого жизнеописания Конфуция. На протяжении веков конфуцианство претерпело трансформации, вектор которых можно обозначить как движение от индивидуальной религиозно-этической системы к политической и социальной идеологии. В современном посткоммунистическом Китае, на родине Конфуция Цуой-фу (Цой фу), открыт огромный мемориальный комплекс, здесь проводятся научные конференции, на которые приезжают ученые из разных стран. Духу Конфуция совершают поклонение в кумирнях (по преданию, он дарит долголетие и многочисленное потомство), проводят праздники с красочными представлениями в честь Великого Учителя.
Является ли конфуцианство религией? С христианской точки зрения, до сих пор принятой в западноевропейской традиции исследования религиозных феноменов, конфуцианство невозможно полностью идентифицировать с религией, тем более что слова «религия» и «Бог» не существуют в китайском языке. Все религиозно-философские школы, в том числе даосизм и конфуцианство, называются в Китае «цзяо» – духовное учение. Необходимо упомянуть, что цзяо не имеют эсхатологических идей, что вообще с точки зрения христианства, ислама и даже буддизма совершенно неприемлемо для религии, поскольку лишает ее основного смысла. С другой стороны, в конфуцианстве несомненно присутствуют религиозные признаки и особенности: вера в духов, развитый культ предков, поклонение Небу, стремление к переживанию мистического опыта, психофизические практики (медитация). Со временем сам Конфуций был обожествлен, в его честь воздвигали храмы и приносили жертвы. По существу, конфуцианство обращено к конкретному человеку, поэтому с точки зрения персонализма конфуцианство антропоцентрично. Конфуций совершил переворот в мировоззрении, обратившись к конкретному человеку и таким образом привив персонализм к китайской культуре. Учение Конфуция ближе к западноевропейской традиции по сравнению с даосизмом.
Конфуцианство выдвигает антропологический идеал благородного мужа (цзюнь-цзы), антиподом которого выступает низкий, ничтожный человек (сао-жень). Наряду с названными антропологическими типами в конфуцианстве существует представление о совершенно мудром человеке (шень-жень), практически недостижимом идеале, образцы которого дает глубокая древность. Важнейшими характеристиками цзюнь-цзы выступают следующие: 1. Благородный человек находится в центре между ученостью-знанием и естественностью-природой. По мнению Конфуция, если естественность превосходит ученость (культуру), то это порождает варварство, а если ученость превосходит естественность, то это рождает книжность, начетничество. Идеальным сочетанием того и другого выступает золотая середина, гармония культуры и природы (естественности) у благородного мужа. 2. Небо у китайцев воспринимается как круг, а земля – как квадрат. У Лао-цзы, основателя даосизма, идеалом следования для человека выступает квадрат, земля, женское начало. У Конфуция, наоборот, благородный муж следует кругу, небу, мужскому началу ян. Конфуцианство – это философия, основанная на научении, мужском начале ян, на разумных и волевых принципах, в основе ее – активное действие по преобразованию себя в идеал цзюнь-цзы. 3. Конфуций определяет благородного человека как активного и волевого, он не является управляемой технической вещью (ти) и соединяет противоположности в суждения. У Лао-цзы идеальный человек уподобляется сосуду, вокруг которого выстраивается хоровод вещей, он говорит неговорение и делает недеяние. 4. Цзюнь-цзы – эталон для подражания, он должен обладать важными качествами – гуманностью (жэнь) и чувством долга (и). Гуманность толковалась довольно широко: это целый комплекс добродетелей, таких, как скромность, справедливость, сдержанность, достоинство, бескорыстие. Цзюнь-цзы свой долг ставит выше пользы, в отличие от своего антипода, ничтожного человека сао-жень. В понятие долга (и) включалось и стремление к знанию, к полному пониманию того, что именно человек берет на себя в качестве должного. Истинный цзюнь-цзы равнодушен к богатству, к материальным благам, всего себя он посвящает служению обществу и высоким идеалам.
Постепенно образ-образец цзюнь-цзы, олицетворяющий все возможные идеалы, закоснел в форме внешних приличий и правил поведения: «В любой момент жизни, на любой случай, в счастье и в горе, при рождении и смерти, поступлении в школу или назначении на службу – всегда и во всем существовали строго фиксированные и обязательные для всех правила поведения» [1, 289]. С этим связана знаменитая китайская невозмутимость, непроницаемость, сдерживание эмоций. Правила поведения и ритуалы в эпоху Хань были изложены в конфуцианском своде «Ли-цзы». Сам Конфуций, как и его знаменитый современник Лао-цзы, жил в эпоху Чжанго, трагическое время разделения и общественных кризисов, для преодоления которых он и разработал морально-нравственную концепцию, выдвигая на первый план культуру (вень), носителем которой он назвал мудрого правителя древности Вень-вана, а в настоящую ему эпоху – самого себя. У Лао-цзы носителем культуры Вень выступает природа, само Небо, наблюдая узоры которого Вень-ван и создал иероглифическую письменность.
В чем Дао (Путь) благородного человека? Конфуций выдвигает несколько положений: благородный человек ведет себя с уважением, служит с подчинением, пестует народ с милостью, использует народ по справедливости, он в центре между верхами и низами, осуществляя циркуляцию жизненных связей в обществе. Верховным образцом такого общественного организатора выступает Сын Неба – император, воплощение всех добродетелей и проводник конфуцианских идей в общество. Будучи человеколюбивым, цзюнь-цзы не печалится понапрасну, будучи знающим – не сомневается, будучи храбрым – не робеет перед лицом опасностей. В связи с этим нужно отметить, что даосский совершенномудрый называет себя храбрым, становясь позади враждующих или в самом конце войска. Разница идеалов, в первом случае общественного, во втором – индивидуального, в определении храбрости налицо. Таким образом, цзюнь-цзы определяется его волевым устремлением к идеалу, активным стремлением силами человека низвести Дао в Поднебесную, водворить его научением и мудростью в народ.
В конфуцианском каноне мы можем встретить странные на первый взгляд фразы о том, например, что крик птицы перед смертью злобен, а у человека добр. В этом сказывается важная для конфуцианства тема об этической природе человека: «Тенденция рассматривать природу человека как нравственную, трансцендируя ее затем в область метафизической реальности, восходит к Мэн-цзы, линия которого со временем стала доминировать в конфуцианстве» [7, 139]. Мэн-цзы (372–289 гг. до н. э.), второй по значимости основоположник конфуцианства после самого Конфуция, полагал, что человек по природе добр. Его главный оппонент Гао-цзы (IV в. до н. э.) был склонен описывать природу человека как двойственную и скорее нейтральную, склонную как к добру, так и к злу: индивидуальная природа человека подобна стремнине, которую можно повернуть как на восток, так и на запад. Природа, данная человеку от рождения, более всего проявляет себя в стремлении к пище и удовлетворении похоти. Опровергаются эти взгляды в трактате «Мэн-цзы», в котором автор противопоставляет взглядам Гао-цзы свою концепцию однородности доброй природы человека: как у совершенномудрых, так и у всех других людей природа одинакова. Стремление человека к добру есть его естественное свойство. Сюнь-цзы (или Сюнь Куан, ок. 313 – ок. 238 г. до н. э.) утверждал, что врожденные свойства человека или его природу зла (э) преодолеть, исправить можно только через ритуал (ли) и долг (и), музыкой и этикетом. Учение Сюнь-цзы об изначально злой природе человека лежит в основе его этических взглядов. Ортодоксальные конфуцианцы отвергали его тезис как противоположный мнению Мэн-цзы, который считал, что природу человека образуют пять постоянств (у-чан):
1) гуманность (жэнь),
2) долг, справедливость (и),
3) ритуал, ритуальное благоговение (ли),
4) мудрость (чжи),
5) верность (синь).
Иллюстрируя примерами свое мнение, Мэн-цзы указывал, что, увидев упавшего в колодец ребенка, любой человек немедленно проникается состраданием, попадая в храм – испытывает чувство благоговения. Победа в вопросе о природе человека осталась за Мэн-цзы, мнение которого стало главенствующим в конфуцианстве.
Таким образом, мнения о природе человека в конфуцианстве и в среде его главных оппонентов можно зафиксировать следующим образом:
Мэн-цзы – человек от природы добр.
Гао-цзы – природа человека равно склоняется как к добру, так и ко злу.
Сюнь-цзы – природа человека зла.
Панэтизм – важнейшая особенность конфуцианства. С панэтической точки зрения людьми не считались «варвары», т. е. некитайцы, которых расценивали как зверей и птиц в человеческом облике. Предполагалось, что они могут стать людьми, только приобщившись к китайской культуре (главным образом к языку). Это мнение аналогично представлениям, бытовавшим в Древней Руси: русский – это человек, крещенный в православную веру, национальность при этом неважна, крещеные татары автоматически становились «русскими». Постепенно панэтизм в конфуцианстве распространяется на весь космос, сердце-ум человека у Мэн-цзы тождественно Небу, что дало импульс для мистического понимания этого предмета.
Учение о человеке Мэн-цзы получает развитие и в ортодоксальном направлении, которое возглавил Чжу Си (1130–1200), переработавший конфуцианство в систематизированную, отчасти схоластическую форму, ставшую официальной идеологией Китая. Его учение (неоконфуцианство) с 1313 г. было включено в систему государственных экзаменов на должности чиновников и ученые степени. Чжу Си окончательно сформулировал концепцию врожденной благой природы человека, которая изначально обща всем людям. Чжу Си говорил, что природа человека (син), веление Неба (тянь мин) и ритуал (ли) – одна и та же сущность. Ли (принцип благочестия, ритуал) – важнейшая категория в конфуцианстве, который понимается как сдерживающее начало, возвращающее человека в золотую середину: в гневе не быть жестоким, в спокойствии быть близким к доверию и т. д. Ли – это принцип, определяющий этикет и нормы поведения, взаимоотношения людей. Природа человека есть принцип «ли», которым наделяет его Небо.
В связи с этим представлением возникает вопрос о сути зла: объективно не все люди добры. Ответ конфуцианства на закономерный вопрос звучит в тонах антроподицеи (оправдания человека): человек двусоставен, его коренная природа – принцип «ли», вторичную сущность составляет энергия «ци» (тождественная в данном случае материи, телесному началу). Это положение еще раз доказывает слабое различение материи и духа в Китае. Принцип «ли» неизменен и самотождествен, энергия-форма «ци» различна, изменчива, многообразна. Чжу Си использует для иллюстрации этого положения метафору сосудов, близкую к христианским представлениям о человеке как неком сосуде (храме), предназначенном «в честь» или «не в честь»[9]. Предположим, говорит Чжу Си, что существует два сосуда – чистый и грязный. Если налить в них одну и ту же чистую воду, то в грязном сосуде она станет мутной. Вода самотождественна и неизменна, в том, что она стала мутной, повинен грязный сосуд. Другой образ, иллюстрирующий ту же мысль: есть две лампы, одна новая и чистая, другая потускневшая, засиженная мухами. Первая даст яркий свет, вторая – тусклый, несмотря на то что огонь, который будет в них гореть, не изменится. Сочетание «ли» и «ци» дает вторичную, материально-вещественную природу, которая у всех различна. Человек уподобляется лампе и сосуду: если его материальная форма (конденсированная энергия) по каким-либо причинам «потускнела», то принцип «ли» уже с трудом может сквозь нее просвечивать. Задача состоит в очищении вторичной природы, чтобы сквозь нее ярко проявлялась сущность «ли». Здесь выясняется и различие человеческой природы от животной: у животных телесная сущность такова, что сквозь нее едва просвечивает «ли». Человек – существо вполне совершенное и с точки зрения телесной организации: у него круглая голова (образ Неба) и квадратные ступни (сведенные вместе – образ Земли). Он является срединным членом триады Небо – Человек – Земля, сквозь его телесную организацию принцип «ли» может просвечивать ярко, отражая все грани мироздания.
У Ван Янмина (1472–1529) самопознание, доведенное до конца, тождественно познанию Неба. В центре рассуждения философа-неоконфуцианца учение о сердце (синь сюэ). Предпочтение отдается внутреннему совершенству, а не внешнему знанию, зафиксированному в канонах. Душа (самосознание) беспричинна, надындивидуальна и одновременно лична, но тождественна безбрежной «Великой Пустоте». Сердце отождествляется с подсознательными импульсами, оно является предпосылкой всякого знания, врожденного нравственного чувства. Даже истины, записанные в конфуцианских книгах, есть отражение истин и ценностей, заключенных в душе каждого человека. Данные взгляды близки к индийской концепции тождества Атмана и Брахмана, но в специфически конфуцианском звучании.
За метафорой сердца у Ван Янмина скрывается сложный комплекс познавательных и мистических способностей: «Отсутствие и добра и зла – такова сущность… сердца. Наличие добра и зла – таково движение помыслов. Знание добра и зла – таково благомыслие. Совершение добра и устранение зла – таково выверение вещей» [3, 47]. Вместе с тем Ван Янмин противопоставлял недеянию и уходу в себя активную жизненную позицию, гармонию «практики и теории», что и демонстрировал своим примером успешного и активного губернатора провинций Гуандун и Гуанси. По его мнению, медитация и углубление в себя способствуют возрастанию эгоизма, а неприятие активной социальной позиции может постепенно привести к деградации нравственности. Таким образом, конфуцианство даже в мистической трактовке сохраняет присущий ему облик учения о «золотой середине», которому противны крайности индивидуально-самозабвенного самонаслаждения или беспринципного управления государством.
В целом конфуцианство создало стабильный образ человека как существа, стремящегося к самосовершенствованию, и одновременно социального существа: «Конфуцианство настаивало на публичности морального действия, так что ревностные его поклонники, даже находясь в одиночестве, “держались так, словно принимали почетных гостей”. Но его отличает акцент на интериоризации морального идеала, “глубоком уединении” идеального человека. Проповедь Конфуция задала основы китайской традиции. <…> Она впервые сделала человека хозяином самого себя, потому что она сделала его мостом к самому себе» [5, 12]. Если бы китайская традиция ограничилась только социальной философией, основанной на рациональной «мужской» составляющей ян, то она была бы весьма односторонней и религиозно глухой. Но это, конечно, не так: идеал культуры Дао – гармония инь и ян, сведение противоположностей в великую гармонию миропорядка. Роль инь как раз и выполняла даосская традиция, противостоящая конфуцианству, но вовсе его не отрицающая. Противостояние двух школ мысли можно обозначить как два полюса магнита, наличие которых и делает его тем, что он есть, сообщает специфику и свойства данному предмету.
Антропологические аспекты даосизма
В даосизме ученые склонны были видеть два явления – религию и философию. О религиозной стороне даосизма известно довольно много, поскольку до сих пор он остается живой традицией. Современная синология склонна рассматривать даосизм как единое явление, в котором религиозная и философская части существуют в комплексе. Ранний даосизм эпохи Чжанго, к которой относят написание центрального для этой традиции текста «Дао дэ дзин», предполагал развитую религию, основанную на вере в богов, основное свойство которых – блаженное бессмертие. Одновременно текст «Дао дэ зцин» являлся и преодолением примитивного пантеизма с выходом на идею Единого (Дао). Даосизм возрождал многие древние поверья, среди которых, например, легенда о первочеловеке Паньгу. Из тела первочеловека была составлена Вселенная, что аналогично древнеиндийскому мифу о первочеловеке Пуруше или древнерусским представлениям о древнем Адаме, из тела которого создается мир. Легенда о Паньгу гласит, что из космического яйца, две части скорлупы которого образовали Небо и Землю, вырос гигант первочеловек, чьи глаза стали солнцем и луною, тело – почвой, кости – горами, волосы – травами и т. д.
Представления о Паньгу развивает памятник даосской мысли «Хуайнань-цзы» (II в. до н. э.), в котором последовательно проводится мысль о тождестве микрокосма (человека) и макрокосма. В человеке мир отражается как в капле воды, поскольку каждый человек может расшириться до горизонтов первочеловека Паньгу (он же – вечная антропологическая идея), стать подобным Дао, не переставая быть самим собой. Легенда о Паньгу имеет прямую связь с учением о достижении бессмертия, центральном для даосизма. В целом это учение сводится к следующему: тело человека есть микрокосм, подобный Вселенной-макрокосму. Вселенная живет во взаимодействии Неба и Земли, сил инь и ян, имеет звезды, планеты и прочее. Тело человека является результатом взаимодействия сил инь и ян, различных духов-монад (в количестве 36 тыс.). Необходимо создать для них наилучшие условия, чтобы те не пожелали покинуть тело, еще лучше, если они станут преобладающими элементами организма и поглотят тело, преобразовав его в бессмертное.
С дематериализацией связано обретение бессмертия, что и является целью религиозного даосизма. Для достижения искомого состояния рекомендуется пост, вплоть до приобретения умения удовлетворять голод своей слюной, дыхательные упражнения, различные позы, которые во многом совпадают с асанами индийской йоги, творение морально ценных поступков. Кандидат в бессмертные должен был совершить не менее 1200 добродетельных поступков, причем даже один неблаговидный поступок сводил на нет все прежде сделанные. Усилия и практики адепта даосизма завершаются дематериализацией и слиянием с Дао, причем видимая смерть не считалась признаком неудачи, о чем свидетельствует множество легенд о воскресении после смерти. Этот пункт является основным препятствием для проповеди христианства среди китайцев, которые зачастую не понимают, в чем уникальность Воскресения Христова, ведь китайский фольклор изобилует рассказами о различных воскресениях.
Для вступивших на путь аскезы даосов очень важны были способы питания, с чем связано изготовление различных эликсиров и «пилюль бессмертия», бурный рост алхимии (например, порох был открыт как побочный продукт на пути изготовления очередной пилюли бессмертия). У даосов процветала такая древняя наука, как астрология, причем в Средние века даосы стали абсолютными монополистами в данной области. Например, без составленного ими гороскопа не могло состояться никакое сватовство, которое начиналось с присылки гороскопа невесты в дом жениха. С поисками бессмертия связана и наука геомантия (фэн-шуй): «Связав небесные явления, звезды и планеты со знаками зодиака и странами света, с космическими силами и символами (Небо, Земля, инь, ян, пять первоэлементов и т. п.), геоманты разработали сложную систему взаимодействия между всеми этими силами и земным рельефом. Только при благоприятном сочетании небесных сил участок земли считался подходящим для строительства, устройства могилы или приобретения в собственность» [1, 320]. В связи с геомантией и ее нуждами был изобретен и компас. С религиозным даосизмом связана традиционная китайская медицина, знахарство, шаманизм, развитая система оберегов, талисманов, сексуальных практик, гаданий, суеверий и проч. Одним словом, даосы сумели доказать свою необходимость в китайском обществе и завоевать глубокое уважение и доверие, хотя многие ортодоксальные конфуцианцы считали даосов шарлатанами.
Даосский пантеон включал множество фигур, наряду с Лао-цзы, Конфуцием и Буддой в него входили многочисленные божества, выдающиеся политические деятели, случайно умершие при странных обстоятельствах люди и т. д. Не существовало строгих критериев для определения божественного достоинства или канонов, поэтому пантеон разрастался бесконтрольно и неудержимо. В качестве главнейших божеств даосы почитали императора Хуанди, богиню Запада Сиванму, первочеловека Паньгу, великое начало Тайгу и великий предел Тай-цзы. В пантеон входили бессмертные: основатель религиозного даосизма Чжан Дао-лин и восьмерка наиболее почитаемых бессмертных, среди которых была девушка Хэ Сянь-гу. Объяснением невероятной пестроты даосизма служит то, что он противостоял конфуцианству с его строгим моральным рационализмом, скепсисом к мистике и религиозной практике вне приписанного каноном ритуала. Мощная стихия религиозного трансцендентализма нашла выход в даосизме, влившись могучими потоками в его открытое русло, что и породило достаточно синкретическую и отчасти хаотическую религиозную систему. В даосизме всегда присутствовали верхние и нижние пласты религиозности: образованные верхи обращались к утонченной даосской мысли, даосизм вдохновлял художников и поэтов идеями простоты, естественности, гармонии с природой; низы удовлетворялись мифологией, астрологией и прочими даосскими религиозными практиками.
Кроме широко известной книги «Дао дэ цзин» («Канон Дао и Дэ», VI в. до н. э.), гениального произведения общечеловеческого значения, существует множество даосских текстов, комментирующих основное произведение или примыкающих к нему. Школы даосизма (их сложилось несколько десятков) отличаются тем, какой свод текстов принимается за основу. Что касается антропологических идей, предложенных даосизмом, то они отличались оригинальностью и тонким психологическим анализом, хотя и без углубленной разработки основных понятий и категорий.
Базовыми принципами даосизма являются: 1) выдвижение на первый план Дао как закона спонтанного бытия космоса и человека во всех текстах традиции и религиозной практике; 2) натуралистическая картина мира, признание энергии «ци» источником всего существующего, вера в то, что овладение «ци» дает способность управлять стихиями, вплоть до обретения бессмертия; 3) признание универсальности метаморфоз (перемен) и регулирующего их принципа Дао; 4) принципы коррелятивного мышления (подобное тяготеет к подобному); 5) признание жизни высшей ценностью; 6) почитание Лао-цзы воплощенным Дао и источником откровения; 7) противостояние конфуцианству с его идеями иерархии, законосообразности и государствостроения. Конфуцианские добродетели даосами рассматриваются как признак упадка, деградации и удаления от Дао, а не средство приближения к нему: «Когда устранили великое дао, появились “человеколюбие” и “справедливость”. Когда появилось мудрствование, возникло и великое лицемерие. Когда шесть родственников в раздоре, тогда появляются “сыновняя почтительность” и “отцовская любовь”» [2, 612].
Дао даосов выше добра и зла, оно выше человеческих требований, в которые его заковали конфуцианцы, с этой точки зрения оно абсолютно свободно. Логика рассуждений примерна такова: что благо для одного, то зло для другого, поэтому навязывание всем конфуцианских норм и добродетелей бессмысленно. С этим представлением связан идеал свободы. Недаром для даосизма характерна фигура юродивого (Лань Цай-хэ – один из восьми почитаемых бессмертных), да и остальные бессмертные несут в своем облике и поведении черты юродства, пребывания вне общества, нарушения общественных правил. Человек в основе своей свободен, при обретении свободы (цзы-жань, «самотакость» – близкий перевод китайского эквивалента), следовании Дао, которое следует самому себе, он становится бессмертным. Однако в центре само Дао, а не человек, поэтому даосизм не антропоцентричен, но даоцентричен.
Антропологическим идеалом даосизма выступает совершенномудрый муж (шень-жень), который для Лао-цзы является воплощением естественности. Шень-жень занимает центр мироздания (в центре китайского космоса – цзы, порождение сил инь и ян), и сам становится ребенком. Словно ребенок он, согласно «Дао дэ цзин», «ничего не знает», «предпочитает недеяние», «ставит себя позади других», «управляя, делает сердца подданных пустыми», «осуществляя учение, не прибегает к словам» и одновременно, следуя Дао, обладает совершенным могуществом и знанием. Великолепно иллюстрирует этот образ могущества и невмешательства (недеяния) рассказ архим. Софрония (Сахарова): «В жизни нашего монастыря был приятный случай. Я спросил одного из наших братьев: “Если бы у Вас была абсолютная власть, чтобы Вы теперь сделали, когда такая суматоха во всем мире? В России и во многих странах – коммунизм; во Вьетнаме – война, и так далее”. И он мне отвечает: “Если бы я имел абсолютную власть, то не мог бы ее нигде применить, именно из-за ее характера абсолютности”» [6, 158]. Этот ответ о. Софроний считал приложимым к ситуации Всесильного Бога в Его отношении к миру.
Что такое даосская альтернативная (по отношению к конфуцианскому цзюнь-цзы) модель антропологического идеала шень-жень? Шень по-китайски дух, жень – душа, вместе они дают представление о человеке, живущем исключительно духовными интересами. Духовный человек, космический ребенок – вот идеал Лао-цзы, который он выдвигает в центр своей философской системы. Модель познания выстраивается на вере-доверии (синь), которая ведет к просвещению, дарующему могущество. Отрицается познание многого, приветствуется познание единого Дао.
Даосизм – несомненно мистическая антропология, альтернативная конфуцианской модели человека. Высшая норма, признак шень-жень – естественность, которая означает мистическую интуицию и жизнь в ритмах Вселенной, следование Дао, которое «следует самому себе». Идеал Конфуция цзюнь-цзы характеризуется культурой, которая в определенной степени преодолевает, превосходит естественность, именно в горниле культуры выковывается мир человека – нравственность, закон, ритуал. Мысль Лао-цзы заключается в том, что человеческая мораль ничто по сравнению с нравственностью Дао. В христианстве этому противостоянию соответствует соотношение закона и благодати, законничества (книжности) и любви. Слово «любовь» нехарактерно для даосизма, но создается впечатление, что он пытается сформулировать и высказать именно это слово.
Недаром в этике Конфуция, столь противоположной даосским представлениям о морали, настойчиво присутствует понятие «долг»: «Цзы-гун сказал: “То, чего я не хочу, чтобы делали мне, я не хочу делать другим”. Учитель сказал: “Сы! Этого добиться невозможно!”» [4, 648]; «Кто-то спросил: “Правильно ли отвечать добром на зло?” Учитель ответил: “Как можно отвечать добром? На зло отвечают справедливостью. На добро отвечают добром”» [4, 667]. Лао-цзы эту же проблему решает совершенно иначе: «Добрым я делаю добро и недобрым также делаю добро. Таким образом и воспитывается добродетель» [2, 623]. В этих высказываниях Конфуция замечателен параллелизм Евангелию: «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф 7. 12); «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» (Мф 5. 43–44).
Однако противостояние этики закона и благодати не означает тождественность даосизма евангельским принципам, поскольку провозглашение «свободы» в даосизме зачастую оборачивалось темным сектантством, сходным, например, с раннехристианским николаитством. Существуют школы даосизма, практикующие религиозный разврат и оккультизм, использование наркотиков и галлюциногенов, что было бы немыслимо в «законническом» конфуцианстве. Теневая сторона присутствует в даосизме как его не-проявленная и непрозрачная для разума возможность, поскольку, объявляя человека «самотаким», «свободным», даосизм не ставит над ним никакого ограничения, регулирующего принципа, кроме безличного Дао. Неразвитая антропология является в этом смысле существенным недостатком даосизма, что порождает широкий спектр возможностей, распыляет его содержание, оставляя его открытым самым разнообразным толкованиям. Сдерживающим началом даосизма выступает не внутренний принцип, но внешнее ему конфуцианство, что является оригинальной отличительной чертой даосской антропологии.
Тема младенца как образа совершенного мудреца очень важна для даосизма: истинный мудрец, как и младенец, безыскусен, естествен, он находится в единении с Дао как с Матерью: «Кто содержит в себе совершенное дэ, тот похож на новорожденного. <…> Кости у него мягкие, мышцы слабые, но он держит [дао] крепко. Не зная союза двух полов, он обладает животворящей способностью» [2, 625]. Дао понимается именно в женском роде, как Мать Вселенной, в отличие от патерналистской модели конфуцианства. Младенец-мудрец мыслится как сгусток энергии «ци», воплощение сил жизни, что порождает целый ряд психофизических практик, результатом которых должно быть уподобление младенцу. Подобно младенцу, шень-жень не ведает различия мужского и женского, в идеале он есть андрогин, или, как утверждают даосские тексты, знать необходимо свое мужское начало, но охранять (пестовать) только женское. Утверждается, что вообще женщина лучше подходит для даосской психофизической практики, кандидат в бессмертные уподобляется одновременно младенцу и беременной женщине, вынашивающий бессмертный зародыш. Такой упор на женское начало – яркое отличие даосской антропологии не только от конфуцианской, но и от большинства других религиозно-антропологических моделей древнего мира.
Пожалуй, главное в жизни кандидата в бессмертные – осуществление особой жизненной практики недеяния, на антропологических аспектах которой следует остановиться особо. Недеяние – это не только «ничего неделание», но и достаточно активная жизненная позиция, предполагающая активность, осуществляемую в особом состоянии, сходном с трансом. Для недеяния характерно медитативное слияние с космосом, совпадение с мировыми ритмами (сравните, например, характерное описание этого состояния у даосов: «Цзы-цы из Наньго сидел, облокотившись на столик, и дышал, внимая небесам, словно и не помнил себя» [8, 64]).
В тексте «Чжуан-цзы» есть на тему недеяния замечательный пример даоса, повара Дина, разделывающего туши для царя Вэнь-хоя (Глава III. «Главное во вскармливании жизни»). Повар, мастерски овладев своим искусством, за краткое время научился рассекать огромную тушу, не затупив ножа: «Теперь я не смотрю глазами, а полагаюсь на осязание духа, я перестал воспринимать органами чувств и даю претвориться во мне духовному желанию. Вверяясь Небесному порядку, я веду нож через главные сочленения, непроизвольно проникаю во внутренние пустоты, следуя лишь непреложному» [8, 74]. Отсюда понятно, что недеяние – это «особое состояние, объединяющее “я” с энергетическими волнами “ци”, проносящимися по Вселенной и достижение недвойственности с объектом своего интереса» [7, 186], что предполагает спонтанность, непроизвольность поведения. Категория «недеяние» апеллирует к внутренним силам свободы-самотакости «я», совпадающей в своих действиях с сущностной свободой (цзы-жань) каждой вещи. Свобода и следование своей природе совпадают в едином действии-недеянии, активный субъект устраняется и дает место внутреннему пространству души, бессознательной стихии, сочетаться с предметом интереса (созерцаемое небо, слышимая мелодия, нож в руке искусного мясника) и осуществить недеяние (у-вей).
Еще один аспект даосской антропологической модели – отказ от техники, разрушающей естественность, всякого усовершенствования жизни с помощью ухищрений разума. Для Китая в целом характерно почтительное отношение ко всякого рода устроениям, сооружениям ирригационных систем, запруд, водохранилищ, систем орошения полей, так что выдающиеся чиновники, потрудившиеся на этом поприще, вполне могли попасть в пантеон и удостоиться народного почитания (например, чиновник Ли Бин из области Шу, или Симэнь Бао, правитель области О близ Хуанхэ). Даосское неприятие вмешательства в природу составляет обратную сторону положительного общекитайского отношения к технике. В тексте «Чжуан-зцы» мы находим рассказ о конфуцианце Цзы-Гене, который, проходя по сельской местности, заметил крестьянина (даоса), усердно работающего на своем огороде, поливая его из глиняного кувшина и затрачивая много сил, чтобы с его помощью взять воду из колодца. Конфуцианец стал ему объяснять устройство водяного колеса, но получил ответ, что тот, кто пользуется машиной, постепенно отождествляется с ней и его сердце тоже становится механическим, что ведет к утрате связи с Дао: «…тот, кто работает с машиной, сам все делает как машина, у того, кто все делает как машина, сердце тоже становится машиной. А когда сердце становится как машина, исчезает целомудрие и чистота. Если же нет целомудрия и чистоты, не будет и твердости духа. А тот, кто духом нетверд, не сбережет в себе Путь» [8, 132]. Совершенство здесь означает неразрывную связь с Космосом, непротивление (у-вей) природе.
В тексте «Дао дэ цзин» достаточно примеров похожего умонастроения, как, например, известное выступление против организации большого государства («Пусть государство будет маленьким, а население редким» [2, 633]), множества мастеров, изготовителей различных орудий и оружия («Когда у народа много острого оружия, в стране увеличиваются смуты. Когда много искусных мастеров, умножаются редкие предметы» [2, 626]), распространения знаний и т. д. Это общая антицивилизационная настроенность даосизма, вытекающая из его базовых антропологических принципов и идеалов, что тем не менее не означает стремления к обскурантизму и невежеству. Скорее это значит утверждение концепции совершенномудрого человека, обладающего высшим знанием Дао, по сравнению с которым частное человеческое знание не более как заблуждение.
В заключение следует еще раз сказать, что даосизм и конфуцианство не существуют в Китае друг без друга, как медаль не может иметь только одну сторону. В их противостоянии сказывается осознание и уточнение позиций, но, по сути, они составляют единое китайское бинарное мировоззрение, единую двусоставную антропологическую модель, исходные точки которой определяются оппозициями инь и ян, недеяние и активность, природа и культура и т. д. Соотношение даосской и конфуцианской традиций в современном Китае тем не менее неравнозначно: даосов в стране насчитывается около 20 млн (из них 25 тыс. монахов), в то время как конфуцианцы – это бо́льшая часть миллиардного китайского населения. Буддизм исповедуют 300 млн, мусульман насчитывается около 30 млн, христиан всех деноминаций – не более 4,5 миллиона, ежегодно крещение принимают около 5 тыс. человек[10]. Из этих соотношений ясно, что даосизм в современном Китае является значительной силой, но подлинное увлечение всей нации – учение Конфуция, с которым китайцы надеются вступить в мир высоких технологий и модернизации.
Литература
1. Васильев Л. С. История религий Востока. М., 2000.
2. Дао дэ цзин // Антология мировой философии. Древний Восток. М., 2001.
3. Китайская философия: Энциклопедический словарь. М., 1994.
4. Лунь-юй // Антология мировой философии. Древний Восток. М., 2001.
5. Малявин В. В. Мудрость «безумных речей» // Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995.
6. Софроний (Сахаров), архим. Духовные беседы. Эссекс; Москва, 2007. Т. 2.
7. Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада. СПб., 2007.
8. Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995.
Глава 3. Культура Логос: древнегреческая антропологическая модель. Исторические и религиозные предпосылки древнегреческой культуры
Родина древнегреческой культуры – берега Эгейского моря, пространство Балканского полуострова и Малой Азии. Особенность берегов Эгейского моря – их необычайная изрезанность; само море усеяно множеством островов, находящихся в непосредственной близости и имеющих удобные бухты, что делало острова архипелага единым целым. Внутри страна разделялась горными хребтами на обособленные друг от друга области, что поддерживало политическую раздробленность и уподобляло земной ландшафт морскому с его отдельными островами-областями. Географические предпосылки, непосредственно влиявшие на древнегреческую культуру, имели отражение в философии и религии. В отличие от великих культур Востока, полностью зависимых от разлива центральных рек Нила, Тигра, Инда, Ганга и Хуанхэ, древнегреческая культура формировалась в меньшей зависимости от природных факторов. На первый план довольно рано выходит человеческий фактор, что отразилось в принципиальной антропоцентричности древнегреческой культуры.
Антропоцентризм имел непосредственное влияние на религию, о чем свидетельствует пантеон древнегреческих богов, приобретших антропоморфный облик и имевших человекоподобный образ, но возведенный в совершенную, прекрасную, идеальную степень. Даже стихии и природные явления здесь имели антропоморфное воплощение, причем боги были вполне соотносимы с человеком: они мудрее, могущественнее, прекраснее людей, но, по сути, это те же люди, наделенные особыми способностями. Греция является родиной значимого для всей Европы канона красоты, определявшего вплоть до конца XIX в. нормы и принципы эстетики. Эстетический фактор имел здесь гораздо большее значение, чем в других цивилизациях Древнего Востока.
Греки – новый народ по сравнению с народами, создавшими великие культуры Древнего Востока. По свидетельству историка Геродота, в начале V в. до н. э. в египетских Фивах оказался образованный милетянин Гекатей. Когда он похвалился перед жрецами своей родословной, восходящей в шестнадцатом поколении к богам, жрецы привели его в огромное святилище и показали ряд колоссальных статуй (345 монументов), каждая из которых ставилась при жизни верховным жрецом, и ни один из них не был богом. Этот небольшой эпизод показывает особенности взаимоотношений между египетской культурой и «новой» греческой, причем он больше передает самоощущение самих греков, всегда чувствовавших огромное почтение к седой древности и свою «юность» в сравнении с ней. Греки благоговели перед величием древних культур и интенсивно усваивали их достижения, в особенности «мудрость», однако, как и в случае любого заимствования, брали то, что лежит на поверхности, не углубляясь в истоки. В этом заключается уникальность древнегреческой культуры: она возникла и достигла расцвета позже древневосточных цивилизаций, с необходимостью усвоив многие их достижения, будучи свободной от многовековой работы, в ходе которой заимствованные ценности возникли.
Греки – народ арийского происхождения, пришли на земли, ставшие их второй родиной примерно к XII в. до н. э. До греков эти земли колонизовали предприимчивые мореплаватели финикийцы, посредством которых к грекам перешел финикийский алфавит. Первоначально греки занимались скотоводством, на берегах Эгейского моря им пришлось осваивать ремесла, торговлю и мореплавание. С Востока через Лидию к грекам пришла чеканка монеты, торговые меры греков также были восточного (вавилонского) происхождения. Что касается религии, то здесь сфера влияния восточных народов (вавилонян, финикийцев, хеттов, пеласгов и т. д.) проявилась довольно ярко, но не затемнила своеобразие древнегреческой автохтонной религиозности. Во главе греческого пантеона стоит Зевс, обладающий чертами верховного бога индо-ариев, иранцев, славян, германцев, а Олимпийский пантеон, куда вошли многие боги-пришельцы, получившие греческое «гражданство» (Аполлон, Афродита), не утратил узнаваемого облика богов индоевропейских религий.
Несмотря на своеобразную культурную зависимость греков от древневосточных цивилизаций, древнегреческая культура явилась особым, небывалым феноменом человеческой истории. Культура Логос достигла развития в довольно оригинальных политических условиях, полисно-демократическая система сложилась во многом благодаря вышеупомянутым природно-климатическим и географическим факторам. Цивилизации древнего мира тяготели к образованию огромных государств, царств или империй. В Греции тяготение было прямо противоположным – ценность отдельного малого города-государства явно превалировала над ценностями огромного царства, в котором неизбежно выстраивалась иерархическая модель: первый и единый царь (правитель), а остальные – подчиненные или рабы. Империей Греция стала только во времена Александра Македонского, достигнув того этапа развития, когда накопление культурных и политических ценностей не умещалось в рамки малого древнегреческого полисного мира.
В отличие от древних цивилизаций, в основном религиозно ориентированных на трансцендентный, потусторонний мир, интересы греков были направлены скорее на имманентный, земной мир, что нашло отражение в искусстве. Греки стали изображать богов, которые имели человеческую природу, возведенную в степень идеала. Представления об олимпийских богах полностью сформировались к VI–V вв. до н. э., но греческий пантеон не смог вытеснить местные культы, в разных регионах чтили своих богов и героев. Потребность объединить и упорядочить греческий пантеон появилась у греков уже на заре их исторического бытия. Поэты составили родословные богов, записали и художественно переработали представления о происхождении мира и месте человека в нем. Так возникли авторитетные тексты древнегреческого народа: «Одиссея» и «Илиада» Гомера (XI–X вв. до н. э.), «Теогония» Гесиода (VIII–VII вв. до н. э.), которые в смысловом отношении могут быть сопоставлены с сакральными текстами других народов (Веды, «И-цзин», «Книга мертвых» и др.). Однако и здесь проявляются яркие особенности культуры Логос: в отличие от священных книг древневосточных народов, имевших, согласно традиции, божественное происхождение, тексты которых как минимум анонимны, авторитетные книги культуры Логоса имеют вполне человеческое происхождение, известны их авторы и даже некоторые подробности их жизни и внешности. Этим, вероятно, была обусловлена ранняя критика этих текстов, которая уже в V в. до н. э. усматривала в них вольное и непочтительное отношение к богам.
Антропоморфная религия уравновешивалась мистериальными культами, самыми популярными из которых были элевсинские мистерии (празднования в честь богини Деметры и ее дочери Персефоны). Мистериальные культы имели, скорее всего, восточное происхождение и особым образом трансформировались в древнегреческой культуре. Процессы облагораживания, очеловечения, избавления от оргиастических и безобразных черт религиозного поклонения, замена их различными символами с последующим их толкованием (осмыслением) – вот характерный вектор развития древнегреческой религиозности, в которой имплицитно присутствовала гуманистическая тенденция. Однако все атрибуты древних культов и религий присутствовали и в Греции: жертвоприношения животных (первоначально, во времена архаики, людей), храмы, множество статуй и домашних алтарей, гадания, празднества, предсказания, различные суеверия и магические практики. Вместе с тем признаки внешней «народной» религиозности получили осмысление в кругах интеллектуалов, среди которых рано наметилась тяга к монотеистическому и пантеистическому осмыслению религии.
Феномен «греческого чуда», рождение прототипа европейской цивилизации, был внутренне связан с процессом, получившим название «движение от мифа к Логосу» (термин И. Дерфера и В. Нестле), не имеющим аналогов в мировой истории. Саму древнегреческую культуру обозначают как культуру Логос, в чем получают выражение главные особенности этого цивилизационного типа. Необходимо пояснить, что такое «Логос» в применении к древнегреческой культуре, и сразу отсечь христианские ассоциации, связанные с пониманием Логоса как трансцендентного Бога, второй ипостаси Отца, принявшего воплощение.
В текстах слово «Логос» встречается очень часто, в значениях самых разнообразных, это слово универсально и многогранно используется, являясь кодом-паролем древнегреческого сознания. Наиболее часто слово «Логос» встречается в следующих значениях:
Таким образом, Логос – это принцип, связанный с разумной упорядоченностью, системностью, иерархией, законностью. Можно констатировать, что в основе мироощущения древнего грека лежала убежденность, что в мире царит некий все упорядочивающий Логос, Верховный Закон, определяющий как структуру бытия, так и структуру восприятия этого бытия. Соответственно и антропология греков соотносится с их цивилизационным типом, т. е. на первое место выдвигается разум, в том числе и в этической и религиозной сфере[11]. Мысль о том, что люди творят зло по неведению, а если бы знали, что есть добро, то непременно делали бы только добрые дела, принадлежит Сократу, являющему собой архетип философской и этической мысли Древней Греции. Однако и у многих других мыслителей присутствует та же мысль, иногда в ослабленной или видоизмененной форме.
Здесь кроется одна из исходных интуиций древних греков о мироздании: как миром правит Логос, так и человеческой душой управляет аналогичное разумное начало. Приписывание космосу надмирной разумной и божественной структуры, упорядочивающей, умопостигаемой, прекрасной, как уже было сказано, характерно для Древней Греции уже с самой ранней стадии философствования. Слово «Логос» емко выражает эту центральную идею, являясь смыслообразующим архетипом, лежащим в основе древнегреческого типа рациональности и всей древнегреческой культуры.
Для более глубокого познания древнегреческого цивилизационного типа полезно ознакомиться с двумя толкованиями культуры Логос, которые принадлежат Ф. Ницше и А. Ф. Лосеву. Две названные концепции древнегреческой культуры характеризуются яркостью и последовательностью, но это не значит, что не существует других интересных и продуманных концепций – напротив, их создано большое количество. Древнегреческая культура явилась извечным образцом для европейской цивилизации, так что каждая новая эпоха (Средние века, Возрождение, эпоха научных революций, модерн, постмодерн) давала свое понимание культуры Логос, пытаясь через это осмыслить изменения, произошедшие в сознании европейского человека.
До Ф. Ницше Античность воспринимали однозначно как идеальное время красоты, гармонии, торжества добродетели и философии. Ницше опроверг поверхностное понимание Античности. В знаменитой работе «Рождение трагедии из духа музыки» (1872) он утверждал, что предшествующее ему поколение ученых смотрело на Грецию поверхностно, выделяя только одно начало, а именно рациональное, творящее мир искусства, науки, упорядоченной жизни. Разгадку древнегреческой культуры Ницше намеревался осуществить через анализ становления искусства, а именно раскрыть сущность главнейшего, центрального, корневого явления – древнего искусства трагедии. Ницше утверждал, что всякое искусство, а по преимуществу трагедия как его квинтэссенция, возникает из взаимодействия двух начал, аполлонического и дионисического. Первое начало Ницше назвал аполлоническим (по имени Аполлона, бога света, разума, красоты), которое выполняет важную функцию организации всего прекрасного, возвышенного, разумного. В чистом виде оно усыпляет сознание, показывая только мнимый упорядоченный мир.
Аполлоническое начало проявилось на всех уровнях культуры, а в религии – в гармоничных образах олимпийских богов. Однако мир грез и сновидений – это только фасад, скрывающий второе, опьяняющее начало или безосновную основу чарующего мира. Второе начало Ницше обозначил как дионисическое, под влиянием которого «являет себя человек сочленом более высокой общины… <…> …В человеке звучит нечто сверхприродное: он чувствует себя богом, он сам шествует теперь восторженный и возвышенный» [11, 62]. Под влиянием второго начала человек срывает маску культуры, разумности и в дикой, необузданной пляске сливается в оргиастическом культе с природой. Вместе с тем как сон, так и опьянение апеллируют к истинной сущности человека, которую Ницше обозначает как общую основу бытия всех людей. Аполлонизм не равен рационализму, это скорее инстинкт разумного, принцип организации индивидуального начала, но одновременно он выполняет важную функцию – усыплять сознание образами прекрасного, дабы оно не встретилось с самой действительностью, являющей «везде лишь ужас и нелепость бытия» [11, 83]. Принцип индивидуации спасает от бессмысленности существования иллюзией соразмерности, чувством возвышенного, и это изобретение греков навсегда поставило их на пьедестал первенства в искусстве.
Однако аполлонизм – только одна движущая сила искусства, не существующая без дионисического начала, способного возвратить человека в лоно общей праматери природы, к истокам бытия. В дионисизме принцип индивидуации преодолевается, человек становится опьяненным ритмами и дифирамбами, выводящими его к иному постижению жизни, вневременному и внепространственному, хотя и чисто природному бытию. Таким образом, как одно, так и другое начало призвано, так сказать, одурманить сознание человека, чтобы оно не встретилось с истинной жизнью. Главный смысл двух начал – создание двойной иллюзии сна и опьянения, причем без Аполлона с его принципами меры и возвышенного бесстрастия Дионис страшен в обнажении звериных инстинктов, без Диониса же Аполлон – ничто, лишенный почвы, основы и всех питательных соков бытия.
По мысли Ницше, древнегреческая культура, пока она покоилась на гармонии этих двух начал, была гениальна, здорова и прекрасна. Однако в какой-то таинственный момент появляется третье начало древнегреческой культуры, которое явилось основой и западноевропейской цивилизации – сократическое начало. Третье начало разрушило древнегреческую трагедию, подорвало основы искусства, вытолкнуло Грецию на магистраль совершенно иного исторического пути, который ведет, по мысли Ницше, к упадку и вырождению. Мистериальное учение трагедии «о единстве всего существующего, взгляд на индивидуацию как изначальную причину зла, а искусство – как радостную надежду» [11, 94] оказалось забыто и попрано, на исторической сцене появляется комедия, наука и философия. Греция переживает закат, забвение основ бытия. Сократ является вестником совершенно иного рода искусства, культуры и морали. Он в одиночку осмелился отрицать «греческую сущность» в лице Гомера, Пиндара, Эсхила, Перикла, поэтому мудрость Сократа, по мнению Ницше, проявлялась в «совершенно ненормальной натуре» [11, 108]. В этой ранней работе Ницше весьма дипломатично нападал на Сократа, скорее удивляясь его «ненормальности», в то время как в поздних работах он сделал из Сократа своего личного врага, источая на него всевозможные и литературно приемлемые ругательства.
Вместе с Сократом Греция входит в период деградации и задает упадочную парадигму для развития грядущей западноевропейской культуры. Упадок заключается в том, что полностью отрицается дионисическое начало, познание и искусство выстраиваются исключительно на аполлоническом начале, претерпевающем к тому же странное перерождение в рационализм, полагающий, что мир необходимо исправить с точки зрения рассудка. Все что не разумно, не может быть прекрасным, тем более истинным – вот новое утверждение, основанное на сократическом начале, что приводит к появлению нового антропологического типа – теоретического человека с его наукой и отрицанием мистики. Появляется наивное и вредное заблуждение, что мышление может проникнуть в тайны и бездны бытия, более того – исправить его. Ницше выражал надежду и даже уверенность в том, что в его время наконец происходит окончательная гибель сократической установки, а впереди вновь возродится трагедия и истинное искусство, из духа дионисической музыки.
Концепция Ф. Ницше была подвергнута резкой критике сразу же после выхода его книги, но со временем она стала классической, и за вычетом острых и пристрастных оценок три начала греческой культуры, сформулированные Ницше, не вызывают особого возражения. Можно констатировать, что для Ницше «подлинной» греческой культурой является архаика и высокая классика, т. е. период до наступления «осевого времени» (VI–IV вв. до н. э.), до момента модификации мифа в Логос. Зрелость, когда греческая культура в лице своих великих философов пытается осознать и сформулировать свои религиозно-этические и теоретические построения, для Ницше уже закат и деградация. Безусловно, ницшеанская концепция остается скорее художественной, чем научной, так как в ней заметен сильный момент идеализации «подлинной» Греции.
Среди научных построений особой стройностью, последовательностью и убедительностью обладает фундаментальное исследование А. Ф. Лосева «История античной эстетики», в котором изложена оригинальная авторская концепция древнегреческой культуры. В его интерпретации древнегреческая культура являет не кульминацию зрелости, а скорее детское состояние, поэтому в ней так много своей прелести, наивности и чистоты, силы интеллектуальной и практической. Древние греки – нормальные дети, с наивным взглядом на реальность, на бытие. Предельным абсолютом для греческого сознания выступает чувственно-материальный космос, который есть вполне обозримая, предельно большая вещь. Космос есть совершенная оформленность целесообразного движения небесных светил. Кроме космоса и его бытия, нет для древнего грека ничего иного, и быть не может. Боги, демоны и герои не являются личностями. До Сократа античность вообще не знала личности как самостоятельного начала, поскольку сам чувственно-материальный космос безличен. Божества есть только обобщения природных свойств и явлений. В космосе как внеличностном абсолюте творится как все целесообразное, так и нецелесообразное, а принцип, который обосновывает такую жизнь, есть не что иное, как судьба, поэтому греческая мысль в пределе склоняется либо к фатализму, либо к скептицизму. Космос вечно становится самим собой, вечно приходит к самому себе, находясь в постоянном внеисторическом становлении. Таким образом, основной античной интуицией является не духовность, но телесность, поскольку космос есть тело, да и боги в пределе – это только прекрасные тела. Душа и ум для Древней Греции внеличны и относятся к телу космоса, который движет сам себя. Жизнь сама в себе и есть душа, а целесообразность такой жизни есть ум. И тем не менее именно в Греции была впервые глубоко осмыслена идея личности. Для ориентации в исторических периодах ниже помещена схема временных эпох, составленная на основании периодизации А. Ф. Лосева.
1. Конец 2-го тыс. до н. э. Гибель крито-микенской культуры, оставившая следы в древнегреческом эпосе.
2. Рубеж 2–3-го тыс. до н. э. Архаический (доклассический) период. Эпическое творчество (Гомер).
3. XI–VI вв. до н. э. Классический период. Расцвет философских учений о Космосе.
4. VI–IV вв. до н. э. Высокая классика. Создание философских систем Платона и Аристотеля. Рождение понятия о личности (Сократ и его многочисленные ученики и последователи).
5. III–I вв. до н. э. Эпоха эллинизма. Падение мифа, расцвет многочисленных постклассических философских школ (стоики, скептики, эпикурейцы). Завоевания Александра Македонского, эллинизация Востока и постепенное проникновение начал восточных культур в Грецию.
6. Конец I в. – 529 г. Поздний эллинизм. Расцвет Римской империи и ее угасание; начало Средних веков.
Как видно из схемы, рождение ключевого для дальнейшего исторического развития понятия «личность» происходит на стыке высокой классики и эпохи эллинизма. Высокая классика выдвигает принцип личности как всеобщий и абстрактный идеал, а в эпоху эллинизма эта всеобщность становится конкретной. Лосев полагал: «Субъект есть арена мышления, чувства, воли, аффектов и, вообще говоря, сознания и переживания. Субъект уже не есть просто объект, но такой объект, который дошел до соотнесения себя самого с самим же собой <…> До такого самосознания объективная действительность, если она существует сама по себе, в классике еще не дошла или доходит частично, не принципиально» [6, 33–34]. В эпоху эллинизма личность становится внутренне развернутым принципом, одновременно личность погружается в себя, отходит от внешнего мира, находя в самой себе малый мир, не менее богатый и разнообразный: «…возникла эллинистическая военно-монархическая организация. Тут-то и появляется в античности субъект уже нового и небывалого типа, который, с одной стороны, был необходим для организации международных объединений, а с другой стороны, однажды получивши самостоятельность, мог тем самым углубляться сам в себя и даже быть в антагонизме с окружавшими его военно-монархическими организациями» [6, 34]. Открытие внутреннего пространства личности многогранно обыгрывается в школах стоиков, скептиков и эпикурейцев, в которых выдвинут идеал аполитичной личности, выступающей как отдельная (внеполисная) единица, стремящаяся к покою души.
В эпоху эллинизма вместе с завоеваниями Александра Македонского в Грецию «хлынули огромные богатства и началась эпоха роскоши… Появился двор, придворная знать с ее иерархией, этикетом и блеском. <…> Цари стали требовать себе божеских почестей… Появилась новая социальная группировка – интеллигенция, которая с небывалой жаждой свободного, независимого утонченного знания и весьма изысканных ощущений заявила о своем приоритете во всех делах культуры. <…> Наконец, в эпоху эллинизма с Востока хлынули многочисленные культы (Великой Матери, Изиды, Адониса и т. д.), смысл которых в конечном счете заключался именно в субъективировании, в переводе древней религии на язык интимно-личных ощущений» [7, 132]. «Старая суровая и холодная эллинская религия» [7, 133] подверглась мощному влиянию восточных, личностно-эротических культов, что находит отражение в новом представлении о человеке, о его месте в мире. Все эти влияния, процессы, перемены, в конце концов, завершаются последним этапом греческой культуры, поздним эллинизмом, в котором мысль возвратилась к истокам, мифологизировалась, растворив личность в мифе, событие превратив в чудо, а историю – в мистерию. В эпоху позднего эллинизма архаику пытались реставрировать, но уже рациональными средствами (неоплатонизм): «Поздний эллинизм именно и стал рефлективной мифологией, в которой все нерасчлененные моменты уже логически расчленились и противопоставились… Вместо богов, демонов, героев и людей были формулированы точнейшие логические категории, и все эти категории были сведены в одну строжайшую систему… Античная философия, как мы видим, началась с мифа и кончилась мифом. И когда был исчерпан миф, оказалась исчерпана и сама античная философия» [6, 37]. Все это историческое разнообразие завершается в 529 г., когда император Юстиниан закрыл философскую академию и последние философы-неоплатоники рассеялись по Востоку. Это был конец всего античного языческого мироощущения и начало новой христианской истории.
Из огромной работы А. Ф. Лосева мы выделили в данном случае только два существенных момента: периодизацию и появление понятия о личности. Даже столь предельно краткое перечисление идей[12] (вернее, указание на них) А. Ф. Лосева показывает, что он исследовал греческую культуру главным образом как философскую традицию, пытаясь охватить культуру Логос как целостный феномен, во всем его разнообразии и подробностях[13]. Весь этот огромный и важный период необходимо рассмотреть для выяснения антропологических идей культуры Логос.
Антропологические идеи древнегреческой культуры Логос
Изучение религиозной антропологии Древней Греции необходимо начинать с выяснения той цели (конца, телоса) жизни человека, которая бы увенчивала и давала смысл его существованию. Архаическое наследие древнегреческой культуры являет три представления о загробном существовании человека:
1. Острова блаженных, элизиум героев-праотцев, лежащие за пределами небесного Океана; древнеарийское представление, находящее отражение в различных мифах и сказаниях.
2. Царство мертвых Аид, в котором томятся без различия все мертвые, добрые и злые, имея призрачную, тенеподобную жизнь. Не автохтонное и изначально несвойственное для Древней Греции представление, напоминающее шеол семитов.
3. Вера в метемпсихоз (палингенесию) – представление о периодическом возрождении умерших, их возвращении в новое тело. Это исконно греческая идея, находящая отражение в различных мистериях и местных культах.
Во времена Гомера мертвых сжигали, до этого погребали с утварью и оружием, под камнем, на котором приносили жертвы во время погребального обряда. Изменение погребения на сожжение умершего в огромном кострище указывает на перемены в религиозных представлениях о человеке в сторону большего «одухотворения» его посмертного бытия, создания более резкой разницы между жизнью земной и загробной. Во времена Сократа, т. е. к V–IV вв. до н. э., обе формы погребения бытовали как альтернативные и зачастую похоронный обряд зависел от воли умершего, выраженной в завещании.
Уже у Гомера появляется представление о душе человека как о бесплотной и бессильной тени. Души, заключенные в Аиде, вызывают не страх, а скорее жалость. Мир земной освобожден от душ умерших, после сожжения тела они не могут явиться людям даже во сне. Господствуют боги, смысл которых заключается в полнокровном телесном бытии, нет демонов, асуров или иных существ, ограничивающих их власть, за исключением Судьбы (мойры). Подобные религиозные представления выходят на первый план в классическую эпоху и завоевывают все большую популярность, оттесняя древние предания, продолжающие существовать на периферии религиозного сознания, о том, что души мертвых обладают внушающей страх силой и требуют какой-либо нейтрализации или умилостивления.
Ранние архаические представления базировались именно на таком, довольно материалистическом взгляде на человека. По Гомеру, человек есть существо телесное, жизнь которого сосредоточена в брюшной перепонке, его дух (ψυχή) является не бессмертной субстанцией, а скорее жизненным дыханием, даже особого рода ветром. Тени усопших уносятся ветрами и существуют без разумного сознания в Аиде, обретая память и самосознание, только напившись жертвенной крови. Жизнь и сознание, таким образом, зависят от крови, телесной субстанции. Соответственно все радости, доблести и добродетели, все содержание жизни находятся на земле, и нет смысла стремиться к потустороннему спасению души. Характер классической древнегреческой религии соотносился непосредственно с такими антропологическими положениями: основное содержание богообщения заключалось в непосредственном обращении человека к богам с просьбой о помощи в различных нуждах, как правило практического характера.
Изменение способа погребения, связанное с миграциями, имевшими место в то время, способствовало вытеснению древних традиций. Все большую популярность завоевывают представления, что с уничтожением тела на костре всякая связь между живыми и умершими прерывается. Таким образом, на поверхность религиозного сознания выступает идея о том, что «и под землею, и на островах блаженных бессмертная жизнь, в отличие от призрачного существования теней, принадлежит лишь существам, облеченным в плоть и кровь, как олимпийские боги. О бессмертии души помимо тела нет и понятия: душа, отрешенная от тела, и есть самаясмерть» [17, 519]. Эти представления закрепляли высокий статус земной жизни, способствовали развитию идей о том, что вполне насладиться жизнью и является целью человеческого существования; делало непопулярным представление о том, что драгоценное время жизни необходимо употреблять на возможное улучшение участи в загробном мире.
Мистерии, получившие распространение в VII в. до н. э., и зарождающаяся в это же время философская мысль способствовали становлению иных, более возвышенных представлений о душе и ее возможном посмертном существовании. Культ Диониса, пришедший из Фракии (неистовые пляски, превращавшие участников в свиту Диониса, экстаз и экзальтация), на греческой почве был постепенно облагорожен, подчинен греческой идее очищения (катарсис) и мантики (пророчеств, гаданий). Культ Диониса вызвал религиозное брожение, подъем мистики, активизацию религиозных сект орфиков и пифагорейцев. Последним значительным всплеском влияния дионисийских культов явилось развитие орфических представлений и мифов с конца VI в. до н. э., с их учениями о катарсисе (во время мистерий), загробном воздаянии (комплекс морали, понятие о долге) и о душепереселении (метемпсихоз).
Тем не менее самой популярной оказалась идея о самоценности земной жизни и призрачности загробной. Несмотря на ее изначально не греческое происхождение, эта идея более всего гармонировала с древнегреческим миросозерцанием: «Народ настоящего, жизнерадостный и боготворящий действительность, грек мало заботился о душе своей; в своем крайнем антропоморфизме он не понимал другой жизни, кроме человеческой. Загробное существование могло представляться ему только тенью действительности… <…> От умершего остается один призрак или видение (ειδωλον), которое уносится в царство теней» [16, 101]. Таким образом, согласно ранней древнегреческой религиозности, цель жизни человека не за границами земной жизни, но заключается в ней самой, в том, чтобы прожить жизнь по возможности наиболее красочно, полноценно, насладившись ее благами, и умереть, насытившись днями, полными приятных впечатлений. Такая религиозно-практическая установка по необходимости обращала самого человека в цель (телос[14]) если не мирового процесса, то самого себя, имея потенциальную возможность обратиться в установку самореализации, раскрытия внутреннего содержания человека в границах его земной жизни. По сути, это была установка на развитие светских основ культуры, творчества в разнообразных его проявлениях.
Понятие о душе как о бессмертной разумной субстанции появляется после архаического периода и связано с орфико-пифагорейской традицией, имевшей два направления развития: 1) мистерии и 2) философия Платона как рациональное осмысление мистических интуиций и мистериальных действий. Вера в тень или двойник была общераспространенной, но понятие индивидуальнои души было новым, и оно распространилось в среде интеллектуальной элиты. Орфические представления о человеке были оригинальным переложением восточных верований. Согласно орфическим мифам, титаны разорвали на части и поглотили тело Диониса-Загрея, за что и были испепелены молнией Зевса, создавшего из праха титанов человека. Человек, согласно этому мифу, есть существо сложное и имеет в своем составе часть от титанов. Он зол, неразумен и недолговечен, но поскольку титаны поглотили бога, то человек имеет в себе и нечто божественное, а кроме того, создан из праха, причастного огню Зевса. Таким образом, согласно орфикам, в своем душевном составе человек имеет две составляющие – добрую и злую. Характерными для орфиков являются представления о жизни как о темнице и теле как могиле души. Душа есть нечто божественное и возвышенное, противостоящее греховному смертному телу, душевные радости и наслаждения не принадлежат земному миру, поэтому разрабатываются способы (аскетическая практика) приближения к истинной духовной жизни. Для орфизма характерна тяга к единобожию, выделение Зевса как единственного, главнейшего бога. Орфическая религиозная психология стала частью древнегреческой антропологии, наиболее полно себя выразившей в мистериях и философии Платона.
Наиболее известны мистерии, происходившие недалеко от Афин, в Элевсине (22 км от города) и на о. Самофракия. Элевсинские мистерии устраивались раз в два года, и их смысл заключался в подготовке к переходу в загробный мир. Это был урок приобщения к инсценированной смерти, для приобретения опыта перехода через границу жизни и обретения бессмертия. Еще при жизни посвящаемым предлагалось приобщиться к опыту смерти как к таинственному мистическому действию. Есть свидетельства, что элевсинские мистерии совершались еще в микенское время (XVII–XII вв. до н. э.) и в дальнейшем, к VII в. до н. э. (греческая классика), оформились как религиозное действо с детально разработанным обрядом; древние кровавые культы модифицировались в символы и субъективизировались. В посвящениях могли участвовать афинские граждане, понимавшие греческий язык, не запятнавшие себя преступлениями и прошедшие малые посвящения. Неофит становился мистом, далее мог дойти до ступени эпопта и принять высшие посвящения. Многоступенчатая система посвящений стала архетипичной для религиозных систем, признающих градацию в приобщении к таинствам – от манихеев до масонов.
Мистериальная традиция древнегреческой религиозности выдвинула особое представление о человеке: 1) человек двусоставен, тело и душа есть равно противостоящие друг другу субстанции; 2) душа человека намного выше тела, является чем-то возвышенным и символическим, нуждающимся в мистериальных действиях для дальнейшего духовного роста; 3) смерть есть граница двух миров, видимого и невидимого; 4) жизнь должна быть подчинена цели удачного прохождения через эту границу.
Платон больше всех способствовал развитию идеи бессмертия души, в то время как большинство античных трагиков, ораторов и поэтов утешались мыслью о жизни после смерти в своих «бессмертных» произведениях. В культуре Логос мы находим противостояние религиозно-мистической жизни со стороны того, что позже в Западной Европе будет названо светской культурой. Возвышение культуры за счет понижения религиозности есть также неотъемлемая черта древнегреческой жизни, поэтому соответственно ценность и смысл человеческой жизни в «светских» кругах осознавались как самореализация, раскрытие содержания человеческой личности с ее последующим совершенным исчезновением после смерти.
Религиозно-философская антропология Платона
Учение о бессмертной человеческой душе наиболее полно изложено в диалоге Платона «Федр». В нем утверждается, что всякая душа бессмертна, поскольку в ней заключена жизнь самой себя. Она движет саму себя, в отличие от тела, которое движется душой, не имея в себе источника жизни. Душа же есть нечто нерожденное и бессмертное. В «Федре» душа уподобляется колеснице, управляемой возничим-разумом. У богов и кони (силы души) и возничий (разум) благородного происхождения, у людей они имеют смешанный характер, один конь – благородного достоинства, другой – низкого. До воплощения в тело душа в надмирном пространстве парит в небе, но потом происходит ее таинственное падение – и она воплощается в земном мире. У богов душа имеет тонкое тело, но душа сопряжена с ним вечно, соответственно и не может воплотиться в грубую материю, имея тонкое эфирное тело. Души смертных и богов вращаются на периферии мира, созерцая прекрасные идеи, но боги там и остаются, наслаждаясь блаженством, в то время как душа человека не имеет достаточно сил пребывать там вечно. Души смертных, не выдержав пребывания в истине, падают на землю, воплощаются и забывают небесный мир, но могут, хотя и с великим трудом, его припомнить.
Земное бытие души зависит от знания, которое она получила, будучи на небе. Это одно из положений закона Адрастеи (богиня судьбы, кары и возмездия), как его формулирует Платон: душа, будучи спутницей бога и увидевшая хотя бы частицу истины, останется невредимой до следующего кругооборота небесного свода, где происходит созерцание, а душа, следующая за богом по небесному кругу, забудется и отяжелеет, падает на землю. Здесь она в соответствии с увиденным может стать любителем мудрости (высшая антропологическая ступень у Платона) или служителем муз, царем, воином, врачом, прорицателем или религиозным деятелем, земледельцем или ремесленником, софистом и, наконец, что хуже всего, тираном. Все это различные призвания, в которых душа, правильно жившая, получит лучшую долю, а нарушившая справедливость – худшую.
Путь души – возвращение на небо, которое зависит от того, как скоро душа окрылится. У философа это может произойти за промежуток в течение трех тысяч лет (если душа три раза изберет жизнь философа), у иного смертного – в течение десяти тысяч лет. Души, не избравшие жизнь философа, подвергаются суду, наказанию в подземных темницах, а потом имеют возможность снова стать человеком или животным, согласно внутренним влечениям. Главный герой диалогов Платона, философ Сократ, перед смертью (диалог «Федон») произносит пространную речь о посмертной участи философа, из которой наглядно предстает антропологический идеал: «Те из их числа, кто благодаря философии очистился полностью, впредь живут совершенно бестелесно и прибывают в обиталища еще более прекрасные. <…> И вот ради всего, о чем мы сейчас говорили, Симмий, мы должны употребить все усилия, чтобы приобщиться, пока мы живы, к добродетели и разуму, ибо прекрасна награда и надежда велика! …Нечего тревожиться за свою душу человеку, который в течение целой жизни пренебрегал всеми телесными удовольствиями и, в частности, украшениями и нарядами… который гнался за иными радостями, радостями познания, и, украсив душу не чужими, но доподлинно ее украшениями – воздержностью, справедливостью, мужеством, свободою, истиной, – ожидает странствия в Аид, готовый пуститься в путь, как только позовет судьба» [12, 65–76].
Из перечисления добродетелей Сократом следует, что антропологический идеал состоит сплошь из добронравия и высшей разумности, скромности и воздержания. Не перечислены добродетели, подобные любви или самопожертвованию, однако это не значит, что душа достигает высшего мира посредством только разума. Это мнение самого Сократа, но Платон придерживался несколько иной точки зрения. Высшим идеалом человека, верховной добродетелью, способной окрылить душу и увести на небо, у Платона выступает любовь-эрос (в противоположность христианской любви – агапе). Эрос у Платона не имеет возвышенной окраски жертвенной и чистой любви, он есть именно страстная любовь, туманящая сознание, заставляющая человека терять голову: «Он любит, но не знает, что именно. Он не понимает своего состояния и не умеет его выразить; наподобие заразившегося от другого глазной болезнью, он не может найти ее причину – от него утаилось, что во влюбленном, словно в зеркале, он видит самого себя; когда тот здесь, у возлюбленного, как и у него самого, утихает боль, когда его нет, возлюбленный тоскует по влюбленному, также как тот по нему» [12, 164]. Когда речь идет о платонической любви, Платон имеет в виду человека, «искренне возлюбившего мудрость или сочетавшего любовь к ней с влюбленностью в юношей» [12, 158]. Таким образом, согласно Платону, философия родственна неистовой страсти, эрос познания захватывает душу, которая, исполненная особой страсти, способна предаваться выяснению истины, забыв земную суету. Перед нами гностические категории «познания», «знания», «истины», «ума», «разума» и прочие, не тождественные «чистому» или опытному познанию новоевропейской эпохи. Это весьма эмоционально и даже страстно окрашенные «разум» и «познание», нечто среднее между мистической интуицией, талантом диалектика и любовным опьянением.
Что касается тела, то оно, по Платону, имеет четыре блага: красоту, здоровье, силу и богатство. Платон различает красоту души и тела, но, несмотря на провозглашение примата первой, он, как истинный грек, всецело пленен красотой второго, так что разговоры о душе и ее добродетелях не всегда убедительны на фоне превозношения земной реальности. У Гомера и Гесиода прекраснее всего женщина, у Платона – юноша, что связано с провозглашением первенства разумного, созерцающего начала, которое несомненно воплощается в мужчине. В этом пункте у Платона ярко проявляется противостояние идеалу андрогинизма, наиболее ярко выраженному в даосизме и кришнаизме.
Таким образом, антропология Платона дуалистична: тело представляет собой злое, отрицательное начало, связанное с забвением истины, практически оно объявлено наказанием за премирные грехи; душа же родственна богам, не создана и вечна, способна к высшим созерцаниям. Главный недостаток души – ее неокрыленность, нестойкость в истине, неумение вечно пребывать в духовном мире. Душа, таким образом, является несовершенным, становящимся богом. Человек как сочетание божественного и ничтожного есть существо крайне противоречивое. Высшее начало и качество в человеке есть его разумность, способность к созерцанию и постижению истины. Разумность следует взращивать, питать высокими мыслями, чувствами, интеллектуальными беседами, а телесную стихию подавлять и презирать.
Между тем при провозглашении таких, по сути аскетических, идеалов никакой теории аскезы у Платона нет, но, наоборот, мы находим многообразные описания пиров философов и наслаждения земной жизнью. Нет речи о йоге, телесных практиках, изнуряющих постах и прочем. Так как тело есть нечто презренное и греховное (хотя и весьма прекрасное), то оно и не заслуживает пристального аскетического внимания. Все устремления должны быть посвящены душе, развитию ее разумного начала с помощью философии, искусства, бесед и размышлений об идеях и Едином Прекрасном, поскольку именно так совершается ее очищение и окрыление. Сердечная (этическая) сторона душевной жизни оставлена Платоном без внимания, нет речи о жертвенной любви, сострадании, доброте, милости к страждущим и т. д. Такое невнимание к этической стороне жизни вообще характерная сторона древнегреческой антропологии, достигающей апофеоза в мировоззрении древних римлян. Здесь наиболее контрастно сказывается разница языческого древнегреческого миропонимания и христианства с его «новой заповедью» о любви к Богу и ближним. Языческая антропология всецело эстетична, в то время как христианская по преимуществу этична.
Провозглашаемое Платоном блаженство души – это подавление ее темных аффектов, чистое созерцание истины, наслаждение четырьмя телесными добродетелями, образцом которого являются олимпийские боги. В связи с антропологической моделью Платона довольно неожиданно возникает у него образ человека как игрушки богов: «Этот принцип игры является для Платона подлинным принципом морали. Человек раздирается противоречиями, влекущими его то в хорошую, то в дурную сторону, причем каждое человеческое влечение или действие происходит благодаря той нити, которая соединяет человеческую душу с божественным произволением. Боги дергают за эти нити, и в зависимости от этого мы поступаем то хорошо, то дурно» [8, 624]. Согласно Платону, человек все же должен каким-то образом пренебрегать этими божественными играми, следуя рассудку. Учение о человеке как об участнике божественных игр достаточно периферийно у Платона, хотя его присутствие свидетельствует о нерешенности проблемы свободы и свободной воли, что свойственно и всей древнегреческой мысли. Последняя, являясь порождением и развитием языческой религии, необходимо принимает понятие судьбы или рока. В конце жизни Платон и вовсе отказывается от идеи свободы, противопоставляя ей свою социальную утопию, изложенную в диалоге «Государство».
В этом диалоге мы находим утверждения, что душа человека состоит из трех начал: 1) ум, познающее начало (творческая, познавательная деятельность); 2) гнев, волевое начало (охраняющее и защищающее начало); 3) вожделение или страсть (область человеческих чувств и устремлений). Каждому началу соответствуют добродетели: мудрость (добродетель разумного начала), мужество (волевого) и рассудительность (аффективного). В раннем диалоге «Федон» Платон описывает три образа (возница и два коня), однако в «Государстве» возникают совершенно другие акценты: возница в «Федоне» представляет собой разум, благородный конь – стыдливость, сдержанность и послушание, неблагородный – низкие страсти. Вознице приходится трудно в управлении такой неравной парой, колесница все время в опасности от несогласованных действий коней. В «Федоне» три начала присутствуют в одном человеке, сообщая его душе сложность, контрастность внутреннего строения, борьбу за свободу духа.
В «Государстве» мифологические образы превращаются во вполне конкретные и психологически четкие представления: три начала человеческой души соответствуют трем типам людей, которые могут быть философами и стоять во главе государства, или воинами, охраняющими его внешние и внутренние устои, или простыми гражданами, выполняющими функции обслуживания социального организма. Человек, таким образом, сводится к одной функции, упрощается его душевное устроение, снимается вопрос о внутренней борьбе. Государство, организованное на началах распределения функций граждан, считается у Платона справедливым, так как все его члены занимают те социальные ниши, к которым имеют врожденные способности.
В каждом человеке преобладает одна из названных наклонностей, которая выявляется в раннем возрасте и затем тщательно воспитывается. Платон подробно описал систему воспитания в справедливом государстве, где все должны быть счастливы, так что, например, бо́льшая часть музыкального или поэтического наследия должна быть признана вредной и расслабляющей души. При воцарении справедливости будет достигнута гармония и счастье – так, например, стражи не имеют частной собственности, семьи и устойчивого быта, но их совместная казенная жизнь, согласно их наклонностям, должна доставлять им высшее удовлетворение. В счастливом государстве врачи должны лечить только здоровых, оставляя безнадежно больных и слабых умирать, а судебная система должна отслеживать и уничтожать «несправедливых» людей.
Справедливость человека есть упорядоченность и согласованность души, подчинение ее разумному началу, а несправедливость – противоположное этому состояние. Справедливый имеет награду не только здесь, на земле, в виде счастливого существования, но и в загробном мире, где получит десятикратное воздаяние, в отличие от несправедливого, который будет мучиться на том свете. Через тысячу лет каждой душе будет предложено снова выбрать себе земную жизнь по своему вкусу. Впрочем, получивших блаженство философов не забудет и государство, которое «на общественный счет соорудит им памятники и будет приносить жертвы как божествам, если это подтвердит Пифия, а если нет, то как счастливым и божественным людям» [13, 325]. Таким образом, государство Платона выполняет функцию фабрики душ для блаженного загробного существования, строго отслеживая возможных рецидивистов и ревниво выращивая именно ту породу людей, которая предназначена к счастью. Государство отбраковывает неудачный человеческий материал (например, детей, случайно появившихся на свет без мудрой санкции правителей). Устроить такое государство не составит большого труда, достаточно просто взять всех детей в городе, отослать в деревню всех, кому старше десяти лет, а оставшихся, разлучив с родителями, воспитать в правильном духе, так что «государство расцветет, а народ, у которого оно возникнет, достигнет блаженства и извлечет для себя великую пользу» [13, 327].
«Государство» – самое большое по объему произведение Платона, написанное, согласно современным исследованиям, в конце его жизни. Оно резко отличается по стилю и тематике от его ранних диалогов. В «Государстве» Платон дает яркую и противоречивую картину своей новой, по сути уже не религиозной, а социальной антропологии, переходя от концепции человека как индивидуального и конкретного существа к понятию о человеке как об инструменте осуществления общественного блага. Согласно его первой антропологической теории, душа человека предстает как гостья из другого мира, а сам человек получает толкование как существо, стремящееся к лучшему миру и влюбленное в истину. Вторая модель рисует образ человека в виде существа, породу которого улучшают путем отбора лучших особей, причем особи отличаются в своем душевном устройстве по признаку устремления души к мудрости, воле или аффективности. Несмотря на внешние противоречия двух антропологических моделей у Платона, существует некоторая внутренняя эволюция от первой антропологической модели ко второй, которая, подчиняясь определенным диалектическим законам, стремится к нивелированию личного начала и низведению религиозной идеи до степени удобной и общепринятой в государстве идеологии посмертных воздаяний.
Антропологические взгляды Аристотеля
Несмотря на то что Аристотель был учеником Платона, его философская система и антропологические взгляды противоположны взглядам учителя, особенно при рассмотрении Аристотелем проблемы бессмертия. Платонизм с его теорией идей вырастает из орфико-пифагорейской традиции, являясь, по сути, рациональным осмыслением религиозно-мистического опыта. Аристотель, отказываясь от религиозно-мистической основы, выстраивает свою концепцию, в первую очередь подвергая критике самое средоточие платонизма – теорию идей, которая является краеугольным камнем в утверждении бессмертия души у Платона. Аристотель вскрывает существенный недостаток теории Платона: слабо аргументированную и мало продуманную связь души и тела. У Платона эта связь описывается весьма неопределенно, будто душа носится в пространстве после падения с небесного свода и, встречая нечто твердое или тело, вселяется в него.
Для Аристотеля не существует души, которая как внешний предмет сочеталась бы с телом. Для него душа – это форма или осуществленность (энтелехия) тела, принцип жизни и бытия, так что в концепции Аристотеля душа оказывается не просто тесно связанной с телом, но является его проявлением, внутренним принципом его одушевления. Отказываясь от концепции души как отдельной от тела сущности, Аристотель не признает, что душа способна существовать вне тела, тем более невозможно для нее скитаться по различным телам. У Аристотеля душа-энтелехия (действительность, осуществление) делает тело актуально живым, сама же остается нематериальной. Душа и тело существуют в неразрывном единстве, подобно воску и сделанному из него изображению. После разделения души и тела человека больше не существует. Без тела человек не является человеком, он может быть назван духом, частью мироздания или чем-либо иным, однако свою человеческую, психофизическую индивидуальную природу он утрачивает.
Душа, по Аристотелю, неоднородна и состоит из двух начал: низшего страдательного разума, который гибнет вместе с телом, и высшего деятельного разума, являющегося вечным, богоподобным. Высший разум есть истинная сущность человека, хотя он и не определяет индивидуальность человека, так как чистый ум, созерцающий сам себя (образ Бога у Аристотеля), лишен личностных и психологических характеристик. После смерти высший разум человека, будучи бессмертным, не сохраняет, однако, никакого воспоминания или самосознания, но соединяется с космическим премирным Умом, сливаясь с ним. Бессмертие, понятое таким образом, не имеет для человека никакой положительной ценности или нравственного значения. Аристотель, далекий от всякой мистики, приходит логическим путем к схеме, подобной индуистской формуле «Атман есть Брахман», и наполняет ее своим содержанием, приходя к представлению о том, что «малый человеческий разум тождествен Великому Мировому Логосу».
Метемпсихоз, с точки зрения Аристотеля, недопустим, потому что душа как формирующий принцип или энтелехия данного единичного тела не может быть соединена с другим, чуждым ему телом. Здесь сказывается особое мироощущение Аристотеля, ярко чувствовавшего индивидуальную природу души, ее неповторимость и уникальность. Будучи последовательным язычником, которому неведом принцип создания души по Образу Бога, Аристотель был приведен силой неумолимой логики к концепции небытия индивидуальной личности после смерти. Ход мысли Аристотеля характерен для греко-римского язычества, возвеличивающего в человеке два начала – ум и тело, и мало знающего личность с ее внутренним духовным миром. Человек у Аристотеля – это индивидуально осуществленное тело, верховным началом которого выступает его высший разум.
В чем, по Аристотелю, заключается высшее счастье, блаженство человека? Ответ на этот вопрос дает его этическая система, изложенная в сочинениях «Никомахова этика», «Большая этика» и «Эвдемова этика». Задачей этики Аристотеля является выяснение того, для чего существует человек, в чем цель его жизни и как он может достичь блаженства. Аристотель полагал, что для человека существует окончательная цель или благо, к которому нужно стремиться, данная цель желанна сама по себе, как и остальные цели, и главная цель есть высшее благо. Высшее благо – это деятельность согласно добродетели, причем добродетель есть не врожденное, но приобретенное трудами верное устроение души, середина между крайностями (например, мужество – среднее между трусостью и безрассудством и т. д.). Блаженства же человек достигает жизнью, причастной разуму, поэтому истинно блажен и богоподобен философ.
В своей попытке определить конечную цель человеческой деятельности Аристотель начинает с выяснения того, чем является высшее благо по мнению большинства. Люди стремятся к эвдемонии (счастью), которое по смыслу близко к всецелому благополучию, состоянию полного общего удовлетворения. По Аристотелю, эвдемония нетождественна удовлетворению телесных потребностей, наличию славы или богатства. Она есть в соответствии с добродетелью деятельность высшей разумной части души, которая достойна и присуща именно человеку. Добродетель (арете, αρετή) в античном смысле – это не просто благое качество, но скорее способность быть умелым в какой-либо деятельности, как, например, есть своя арете у плотника и оратора, хорошо владеющего своим искусством. Душевные добродетели есть качества, говорящие о полном владении собой, умении управлять своими чувствами и волей. Без поддержки внешних средств человек не сможет быть добродетельным, ему необходимо определенное количество богатства, хорошее происхождение, здоровье, нормальная семейная жизнь. Человек становится развратным, впадает в распущенность или невоздержание вследствие неудовлетворенности жизнью, например от болезни или увечья. Могут быть и несчастные обстоятельства, когда арете выявится полнее, такие, как утрата внешних благ, при которой человек остается невозмутим, но это есть удел немногих благородных.
По мнению Аристотеля, существенным признаком человека является его интеллект, но душа не подчинена ему полностью, так как она причастна началам животного и растительного мира и, таким образом, несовершенна. Связь с растительным и животным миром выявляется в питании, размножении, перемещении в пространстве и ощущениях. В силу такого сложного душевного устройства человек и не может следовать добродетели в полноте. Аристотель даже говорил об испорченности природы человека, что выражается в стремлении к крайностям (например, человек может быть корыстолюбивым или расточительным). Человек несовершенен, так как не обладает цельной природой, которую имеет Бог, единый Ум. Довольно интересным моментом рассуждений Аристотеля является его указание на то, что многосоставность человека есть его недостаток, в то время как в подавляющем большинстве религиозных традиций такое свойство рассматривается как достоинство. Человек – малый микрокосм, он подобен в своем сложном составе космосу, и это есть положительное свойство, полагают многие, особенно восточные религиозные мыслители.
Аристотель своего человека обособляет от космоса и природы, предлагая концепцию человека как существа политического, общественного. По Аристотелю, человеку свойственно общение с себе подобными, в полноте реализуемое в обществе и государстве. Человек, живущий вне государства и общества, или выше природы человеческой или ниже ее. В иерархии Аристотеля государство стоит на первом месте перед семьей и тем более отдельным индивидом, целое предшествует части. Именно общение с себе подобными делает человека человеком, а не его корреляция с космосом или божеством. Выражение Аристотеля «человек – существо политическое» означает, что он есть существо социальное и раскрывает себя только в обществе, а не ту мысль, что он склонен к политике как таковой: «…человек по природе своей существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, – либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек. <…> …Природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только человек из всех живых существ одарен речью. <…> Это свойство людей отличает их от остальных живых существ» [1, 419].
Речь есть явление общественное, так как посредством слова можно выразить такие понятия, как добро и зло, справедливость и несправедливость, создающие основу общественной жизни. Отсюда следует вывод, что, в отличие от животных, человек есть такое существо, которое при отсутствии вышеупомянутых понятий, т. е. нравственных ориентиров, становится ниже животного: «Поэтому человек, лишенный добродетели, оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным в своих половых и вкусовых позывах» [1, 420].
Правильный склад души есть верная иерархия: «…душа властвует над нашим телом как господин, а разум над нашими стремлениями – как государственный муж» [1, 424]. Следовательно, не только и даже не столько разум отличает человека от животного, сколько его нравственная природа, регулируемая и направляемая разумом, причем основная цель нравственного усовершенствования для человека – способность к совместному существованию. Этика Аристотеля направлена на общественное и коллективное существование, в ней нет еще ярко выраженного момента ценности (уникальности) душевной жизни человека как отдельного нравственного и богоуподобляющегося существа, так как время для рождения понятия личности и ценности ее индивидуального религиозного пути еще не наступило. Аристотель является ярким выразителем идей эпохи высокой классики, тяготеющей к рассмотрению человека как части большего, чем он сам, целого, общества или государства.
Благо для человека состоит в согласии с высшей из добродетелей, которая есть сознательно избираемый склад души, состоящий в обладании серединой, причем середину всех действий и состояний определяет благоразумный человек. В замысловатом определении добродетели заключается несколько мыслей, призванных выразить учение о золотой середине, которая является самой известной частью его этики. Аристотель подчеркивает, что середина есть не математическая величина, но верная степень активности души в той или иной ситуации, адекватное и точное реагирование на нее, причем как ситуация, так и человек в ней индивидуальны. Не существует общих рецептов действия, для принятия решений должна действовать интуиция, подсказывающая в той или иной ситуации правильный душевный ход. Учение о золотой середине состоит в утверждении, что существует верная пропорция или мера, которую нужно соблюдать во всех поступках. Эта формулировка допускает такие ситуации, при которых правильным будет поведение, нарушающее общественные нормы. Человек призван постоянно творчески реагировать на жизненные ситуации, руководствуясь разумом и избегая крайностей. Добродетель Аристотеля соотносится с суждением благоразумного человека, что показывает последнюю инстанцию в вопросах нравственной этики. Все, что выше человеческой добродетели, – свойства богов, которыми Аристотель не интересуется. Для сравнения можно указать на то, что христианская шкала добродетелей и моральных поступков соотносима не с благоразумным человеком, но с Богом, Который является как Образцом, так и Судьей нравственного поведения. Таким образом, в лице Аристотеля мы имеем пример преодоления религиозной этики светской или естественной моралью.
Все добродетели Аристотель делит на этические и дианоэтические. Первые относятся к характеру, вторые – к интеллекту; примерами первых могут служить щедрость и сдержанность, вторых – благоразумие, мудрость, рассудительность. Возникает образ человека, способного менять разумом нечто в своей природе; его добродетели есть не аффекты и способности, а именно благоприобретенные качества, выработанные усилиями воли и разума.
Аристотель пытается задать вопрос о свободе выбора в случае избрания добродетели, вопрос чрезвычайно сложный для античного человека, зависящего от судьбы или рока. В Античности тем не менее человек мыслится как имеющий определенную долю свободы выбора и действий, не сравнимую с индийской моделью абсолютной зависимости (концепция кармы). В данном вопросе Аристотель занимает противоречивую позицию. С одной стороны, он признаёт, что выбор во власти самого человека, с другой – утверждает, что свобода выбора есть врожденная способность, которой невозможно обучиться. Тема свободы тесно связана с проблемой рабовладения, которая привлекала пристальное внимание древнегреческой общественности. Уже некоторые софисты утверждали, что все люди по природе свободны и становятся рабами в силу обстоятельств. Аристотель – решительный противник такого универсального взгляда на природу человека. Он разоблачает мнения тех, которые считают, что власть господина над рабом противоестественна. Согласно Аристотелю, люди уже от рождения предрасположены и предназначены к подчинению, как некоторые – к властвованию. Иерархичность есть общий закон природы, без которого не существует хозяйственной деятельности как отдельной семьи, так и целого общества.
Рабы в такой же степени отличаются от свободных, в какой тело отличается от души или человек от животного. Лучший удел рабов – находиться в подчинении, воспринимая указания хозяина, потому что они не имеют своего высшего разума для принятия верных решений. Аристотель тем не менее оговаривается, смягчая ригоризм своих суждений, что бывают и исключения: «Впрочем, зачастую случается и наоборот: одни имеют только свойственные свободным тела, а другие – только души» [2, 425]. Свободный должен в свою очередь относиться дружелюбно к рабу, поскольку это согласно и с его интересами, но невозможно дружить с рабом, являющимся всего лишь одушевленным инструментом. Антропология Аристотеля в этом пункте предстает как антиуниверсальная, так как он отвергает единство человеческого рода, для него мужчина по природе выше женщины, «…и вот первый властвует, вторая находится в подчинении. Тот же самый принцип неминуемо должен господствовать и во всем человечестве» [2, 424]. Из его рассуждений следует, что в точном смысле человеком является: 1) свободный, 2) гражданин полиса, 3) имеющий какую-либо собственность, 4) склонный к умственным интересам. Все, что выпадает из этого списка, определенно уже не вписывается в узкое понятие о человеке.
Аристотель выводит на страницах своих произведений образ идеального человека или свой антропологический идеал. Одним из главных свойств такого идеального человека выступает себялюбие или эгоизм. В системе Аристотеля эгоизм является не отрицательным понятием, но, скорее наоборот, необходимым и верным определением благоразумного человека. Он утверждал, что человек может быть хорош, только любя себя. Кстати, это «благоразумное» суждение Аристотеля зачастую воспроизводится при попытке понять заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», которая интерпретируется так, что, прежде чем любить ближнего, надо возлюбить себя, а на этом основании уже строить свои взаимоотношения с людьми. В святоотеческой литературе есть указания на то, что возлюбить надо «истинного» себя, безгрешного и святого, но возненавидеть себя в грехе и несовершенстве.
Аристотель пишет: «Любя друга, мы любим собственное благо, ибо хороший человек, став нашим другом, становится благом – поскольку мы его любим. Таким образом, каждый в дружбе любит собственное благо» [3, 286]. Отсюда уже суждения о самолюбии набирают логические обороты: человек «сам себе более всего друг, и следует любить больше всего самого себя» [3, 286]. Самолюбие тем не менее не исключает и самопожертвование, – например, ради интересов полиса можно пожертвовать собой, поскольку такое поведение основано на разуме.
Другая важная черта антропологического идеала Аристотеля описывается как великодушие или величавость, сознание собственного достоинства: «Итак, величавость («великодушие» или даже «гордость» в других переводах. – К. Е.) – это, видимо, своего рода украшение добродетелей… Признак величавого – не нуждаться никогда и ни в чем или крайне редко, но в то же время охотно оказывать услуги. Кроме того, с людьми высокопоставленными и удачливыми величавые держатся величественно, а со средними – умеренно, ибо превосходство над первыми уместно и производит впечатление, а над последними не составляет труда; и если возноситься над первыми не так низко, то над людьми убогими гадко, так же как выказывать силу на немощных… Его нелегко удивить, ибо ничто не кажется ему великим… Он не обсуждает людей, ибо не станет говорить ни о себе, ни о другом; право же, ему нет дела ни до похвал себе, ни до осуждения других, и в свою очередь он скуп на похвалы. По той же причине он не злословит даже о врагах, разве только когда, презирая их, хочет оскорбить… Таков, стало быть, величавый человек, отклонение в сторону недостатка дает приниженного, а в сторону избытка – спесивого» [14, 230]. По поводу этого замечательного пассажа известный историк философии Бертран Рассел заметил: «Содрогаешься, когда подумаешь, на что походил бы спесивый человек» [14, 231]. Ясно, что таких великодушных и величавых людей не может быть много в обществе, так как подобный образ мысли и поведения могут себе позволить аристократы и богатые интеллектуалы.
О страданиях людей Аристотель холодно заметил, что страдающие самим фактом своего существования делают несчастными и вполне благополучных людей, что, конечно, уже само по себе досадно. Истинное блаженство человек приобретает через дианоэтические интеллектуальные добродетели, что не связано с состраданием к людям, тем более с оказанием какой-либо помощи нуждающимся. О сострадании рассуждали в риторских школах, где готовили адвокатов (судебных ораторов), одной из задач которых было произнесение речи в пользу подзащитного, вызывающей сострадание к нему судей. О сущности сострадания Аристотель рассуждает в «Риторике», интересуясь формальной стороной данного чувства, не входя в тонкий душевный анализ состояния, что вполне согласуется с утилитарно-практическим подходом к чувству сострадания, характерным для античного греко-римского мира. Открытие стихии сострадания как подлинного моста в душевную жизнь другого человека происходит уже в христианскую эпоху, наиболее ярко у блж. Аврелия Августина.
Антропологические модели Платона и Аристотеля оказали сильное влияние на становление христианской теологической системы. Соответственно Аристотель имел большее влияние и значение на Западе, Платон – на христианском Востоке. С философским наследием античных мыслителей на Востоке шла довольно сильная борьба, платонизму несколько раз объявляли анафему, однако до конца преодолеть его влияние не удалось. Аристотелизм на Западе был принят с огромным уважением и составил основу томизма – официальной теологической системы Католической Церкви.
Антропологические модели эпохи эллинизма (эпикурейцы, скептики и стоики)
Между эпохой эллинства (до завоеваний Александра Македонского) и эпохой эллинизма пролегает большая пропасть, что связано с новым опытом, полученным греками в эпоху разрушения старых устоев и открытия новых, небывалых перспектив. Для сравнения антропологических идеалов эпохи эллинства и эллинизма нужно обратиться к понятию «калокаготии», одному из центральных для древнегреческого понимания человека. Античность выдвигает свой антропологический идеал, который видоизменялся с течением времени, но всегда имел один неизменный признак и был связан с идеалом прекрасного. В традиции культуры Логос антропологический идеал описывался емким понятием «калокаготия», в котором сопрягались воедино этические и эстетические измерения. Слово «калокаготия» состоит из двух понятий: «калос» (прекрасный, красивый) и «агатос» (благой, добрый). Перевод этого слова на русский язык всегда неточен, поскольку в современном русском языке этические и эстетические категории разведены по разным понятийным группам. Для древнегреческого восприятия калокаготия – единый идеал, неразрывно соединяющий понятия красоты, добра и блага.
Называя человека калокаготийным, не всегда подразумевали, что он красив телесно. Например, Сократ, имевший с точки зрения общих стандартов того времени безобразную внешность, тем не менее современниками был назван калокаготийным за философский талант. Древнегреческий идеал калокаготии был завещан христианскому любомудрию, но существенно обогатился за счет внесения новой грани в это понятие: центральный элемент христианской калокаготии есть истина. Тройственная связь истины, добра и красоты составляет в христианском миропонимании признак подлинно прекрасного предмета или личности.
Эллинский идеал калокаготии имел несколько трансформаций. В эпическую эпоху прекрасным был человек, подобный олимпийским богам: «Эпос рисует образ героя-завоевателя, равняющийся на идеал героической цельности, идеал своеобразной физической гармонии… Главная черта героического идеала – эстетический, статуарно-телесный этос, чуждый каких бы то ни было утонченных телесных движений» [10, 173]. Таким образом, первоначально калокаготия соотносится с образами олимпийских богов, которым чуждо нравственное измерение, но их система взаимоотношений ориентирована на понятия чести, доблести, военного триумфа, телесной красоты и героического веселья.
Примерно в VII–VI вв. до н. э. идеал калокаготии был переосмыслен с точки зрения «высшего блага» справедливости, что характерно для переходного времени, для которого важна не красота сама по себе, но принципы закона, канона, меры и воздаяния. Таким образом, в эпический период в понятии калокаготии более выделяется идея «прекрасного», в классический – «доброго» (нравственного). К эпохе Платона и Аристотеля происходит значительная гармонизация начал «добра» и «красоты», рождается тяга к образу идеального во всем человека. Однако в эпоху эллинизма идеал калокаготии подвергается постепенному переосмыслению и разрушению, что связано с историческими потрясениями. В человеке были открыты новые, доселе невиданные измерения, личность несла с собой трагедию иррациональной тоски и разрушительных интенций. Так, например, киники выдвигают свой идеал безобразного, но внутренне свободного от всех условностей человека, что можно считать отправной точкой для рождения нового идеала.
В III в. до н. э. в античном обществе разразился тяжелый экономический и политический кризис. В среде интеллектуалов угасло стремление к политической жизни, интересы образованной части общества были направлены на решение вопросов частной жизни и морали. Эпоха эллинизма выдвинула новые представления о человеке, которые легли в основу римского миросозерцания и, таким образом, в основу последующей европейской антропологической мысли. Новые черты в образ античного человека внесли стоики, скептики и эпикурейцы, а после них уже ничего радикально нового на греческой почве не появилось. Последний этап эллинской мысли, выразившей себя в неоплатонизме, возрождает учения классического периода, наполняя их новыми яркими красками, соответствующими переживаемой эпохе, главной чертой которой была встреча эллинства с миром Востока, синтез восточных и эллинских начал.
Древний мир внезапно изменился: за десять лет – с 334 по 324 г. до н. э. – Александр Македонский завоевал Малую Азию, Сирию, Египет, Вавилонию, Персию, Самарканд, Бактрию и Пенджаб. Перед греками открылись перспективы знакомства и усвоения древневосточного наследства – религиозного и натурфилософского (преднаучного), социального и этнического. А. Ф. Лосев писал: «Индивидуализм – основная черта эллинистической культуры – сказывается в политико-социальной области очень осязательными, очень чувствительными моментами. Прежде всего, республиканская, олигархическая, совершенно разъединенная Греция объединилась под властью одного лица, одной личности; наступила эпоха монархии» [9, 8]. Единый монарх совершил дело объединения и умер, а огромный многокультурный, многоэтнический мир пришел в состояние брожения, возмущения и беспокойства. Об этом времени Б. Рассел заметил: «Это была такая эпоха, когда человек, имеющий деньги и не стремящийся к власти, мог прожить очень приятную жизнь – при условии, что он не попадется на пути никакой мародерствующей армии. <…> Но не было того, что можно назвать безопасностью. Дворцовый переворот мог сместить его (ученого льстеца) патрона; галаты могли разрушить виллу богача; родной город мог быть разграблен, как случалось в войнах династий. <…> Широко распространены были общественное недовольство и страх перед революцией» [14, 284].
Таким образом, с одной стороны, обилие разнообразных впечатлений, слом прежних политических институтов, рост торговли и отсутствие всякой безопасности, с другой стороны, появление большого числа образованных людей вызвали появление индивидуально (а не религиозно или социально) ориентированных учений. Индивидуализм эпохи эллинизма был сопряжен с космополитизмом, чего требовала общая социально-политическая ситуация. Одновременно всякое интеллектуальное творчество выражало самоощущение отдельной личности, освобожденной не только от власти космических сил (выражение краха народной религиозности в среде интеллектуалов), но и от полисной демократии, выработавшей определенные общественные нормы. Каждая из трех школ эллинизма по-своему стремится обосновать и сохранить хрупкий, ничем не гарантированный внутренний мир освобожденной личности. А. Ф. Лосев охарактеризовал такую личность следующим образом: «Да, это была глубокая личность, глубочайшая личность, весьма капризная и своенравная, мечтавшая быть самостоятельной и свободной. Однако, будучи вызвана к жизни телесным мироощущением… она никогда не могла стать такой личностью, которая мыслила бы себя уже совершенно независимой ни от какой физической области и которая в этом виде была бы уже личностью абсолютной» [9, 39].
Первой по времени философской школой, разрабатывающей понятие независимой личности, был эпикуреизм, основанный Эпикуром (342/341–271/270 гг. до н. э.). Его школа находилась в саду, на воротах которого было написано: «Гость, тебе будет здесь хорошо, здесь удовольствие – высшее благо». За основу своей системы взглядов Эпикур взял философию атомиста и материалиста Демокрита. Возвеличивание удовольствий и материалистический атомизм не означали здесь полного атеизма. Эпикур утверждал, что боги существуют в надмирном пространстве, но безразличны к людям, полностью отдавшись наслаждениям. Эпикур удовольствие описывал скорее как аскетичную категорию, которая в основном имеет отношение к чисто созерцательным (душевным и разумным) состояниям, а для поддержания жизни вполне достаточно хлеба и воды.
Эпикурейство ищет в первую очередь свободы (от телесных нужд, социальных обязательств и религиозных страхов), а провозглашаемое удовольствие или блаженство имеет скорее отрицательные, чем положительные характеристики: отсутствие волнений, влечений, зависимостей и т. д. Для эпикурейца необходимо было перестать заниматься общественной жизнью, науками и искусствами как нарушающими безмятежность личности. Самая же беспокойная область для человека – религия, так как она заставляет волноваться человека за посмертную судьбу и подчинять свою земную жизнь страху и религиозной заботе. Эпикурейцы устраняли религию учением о том, что человек есть набор атомов, каждый атом бездушен и лишен сознания, но из их сочетания создается душа, соединение неустойчивое и условное. После смерти атомы разлетаются в пространстве, и от человека уже ничего не остается – ни платоновой души, ни аристотелевского ума. Смерть человека – распадение атомов, жизнь – их соединение. Человеку дана только его земная жизнь, которую он должен прожить спокойно и с достоинством. Бессмертны и блаженны лишь боги.
На первый план человеческого существования эпикурейцы выдвигали не разум, но ощущение, с чем и связано их учение об удовольствиях. Всякое существо, в том числе и человек, тянется к удовольствию и избегает страдания, что является основным законом жизни. Эпикур призывал к получению непрерывного и равномерного удовольствия, которое, однако, может кончиться или смениться противоположным состоянием от пресыщения или чрезмерности. Эпикур проповедовал умеренность, вкушение всякого удовольствия малыми дозами. Первоначальный аскетический призыв Эпикура не был услышан последователями, для которых его философия явилась удобной базой для оправдания ярких и острых удовольствий как цели жизни. Например, его известный последователь Митродор поставил удовольствия желудка на первое место, причем в его интерпретации речь шла только о получении удовольствий, а не о его мере и количестве. Среди последователей Эпикура можно встретить об этом предмете целый спектр различных суждений – от требований умеренности до пропаганды полного невоздержания.
Однако одно остается неизменным: человека рассматривают как существо чисто природное и даже инстинктивное. Эпикур, в отличие от своих многочисленных и невоздержных последователей, кроме того, выдвигал на первое место душевные удовольствия, ставя их выше телесных наслаждений. Однако и в этом пункте он был последователен: душа не должна мучиться ожиданиями будущего, посмертного или посюстороннего. Отсюда уже следует и известная максима эпикуреизма: «проживи незаметно», что означает отказ от участия в мирской суете, политической или религиозной.
Как уже было сказано, взаимоотношения с богами у людей невозможны, тем не менее боги нужны в общей картине мироздания Эпикура, являя «осуществленный идеал человеческой жизни» [9, 228], уподобиться которому возможно только в самых ограниченных пределах, поскольку человек по природе смертен. Кроме того, Эпикур проповедовал богопочитание, но не для того, чтобы возносить молитвы и быть услышанным (желания людей гибельны либо для них самих, либо для ближних), но для общения с высшими благородными существами, которое само по себе способно осчастливить человека, подарить ему радость приобщения к высшему миру. Это общая антропологическая картина эпикуреизма, центром которой является освобожденный от страхов и религиозных суеверий равномерно наслаждающийся смертный человек, избегающий волнений жизни и по возможности пользующийся удовольствиями, от самых невинных до роскошных, в зависимости от возможностей и фантазии.
Эпикуреизм – философия свободного индивида, но даже с учетом этой специфики он не выглядит учением вполне оригинальным без упоминания еще одной интересной и важной для антропологии черты: впервые в истории античности он упраздняет фатум, судьбу. Атомы Демокрита способны уклоняться в произвольные и ничем не обусловленные движения, соответственно и человек получает определенную свободу воли и независимость своей жизни от вышестоящих инстанций в виде богов или судьбы. Избавление от фатализма, – пожалуй, самый интересный в антропологическом отношении момент в учении Эпикура. Последний и самый страшный враг спокойствия человека – смерть, но и ее Эпикур преодолевает убеждением, что пока есть жизнь, смерти нет, а когда нет человека, то нет ни страхов, ни волнений, нет уже ни жизни, ни смерти. Таким образом, эпикуреизм последовательно борется за права индивида, за его свободу, благородство и благополучие, т. е. за те ценности, которые в эпоху эллинизма становятся наиболее востребованными.
Вторая школа эпохи эллинизма – скептицизм, который является более теоретической и логически ориентированной спекулятивной школой мысли, но и у нее была антропологическая основа. Античная мысль в принципе проникнута скептицизмом, который простирается и на религиозную область. Однако именно основатель скептицизма Пиррон (III в. до н. э.) сделал скептицизм не просто ведущим настроением, но настоящей школой мысли со своей методикой. Скептицизм исходит из общего ощущения жизни как суетной, вечно тревожной и беспокойной. Философ, по утверждению Пиррона, – это тот, кто стремится к счастью, которое состоит в невозмутимости и отсутствии страданий (апатейа). Счастья можно достигнуть, отказавшись от каких-либо твердых утверждений о чем бы то ни было. Все суждения могут быть истинными, даже противоположные – вот убеждение скептицизма: «…скептики в своей теории потому и учили о невозможности говорить “да” или “нет”, что всякое такое утверждение или отрицание всегда человека к чему-то обязывает… чем-то ограничивает» [9, 14]. В результате у скептиков отсутствует развернутое учение о человеке. Скептики рассматривают человека в обыденном, практическом смысле и указывают ему способы правильного поведения, не занимаясь разысканиями о его природе. Косвенно можно выяснить общую антропологическую основу: человек для скептиков есть нечто случайное и маловременное, недаром Пиррон, любивший Гомера, часто повторял его строки из «Илиады»:
Сходны судьбой поколенья людей с поколеньями листьев <…> Также и люди: одни нарождаются, гибнут другие [1, 10].Скептицизм проповедует мудрое, спокойное, мужественное и в чем-то ироничное принятие своей смертности, покорность року и безмятежное состояние духа. Необходимо также учитывать, что основатель скептицизма Пиррон был верховным жрецом, есть сведения, что он будто бы встречался с индийскими мудрецами и позаимствовал у них идею воздержания от суждений. В античных преданиях о восточном происхождении учения Пиррона сказывается уважительное удивление перед мудростью Востока, почтение к основателю и, кроме того, ощущение связи проповедуемой безмятежности с мистической сферой, отрешенностью сознания. Антропологический идеал скептицизма – апатейа или атараксия, невозмутимость, которую понимали как блаженство (эвдаймонию), из чего можно сделать вывод, что скептицизм вызрел из какой-то религиозной потребности. Пристальнее вглядываясь в идеалы Пиррона, можно заметить, что невозмутимое отношение у скептиков к реальности открывало в человеческой природе свободу, внутреннее пространство личности.
В целом свобода скептиков означала посильную независимость от власти материи и общественного мнения. Ставя себя вне или над материей и обществом, скептик обретал свое блаженство. Так, скептик Тимон утверждал, что вещи текучи и неустойчивы, а органы восприятия обманывают, поэтому «мы не можем ничего решать о вещах, ничего высказывать о них и должны иметь полную свободу своих суждений, из которой вытекает непоколебимость нашего духа» [9, 410]. Таким образом, скептицизм предлагал не антропологическое учение, а тактику и стратегию поведения. Отсутствие четких теоретических указаний в этом плане делает скептицизм весьма расплывчатым учением, – так, например, у самого известного скептика Секста Эмпирика мы находим проповедь человеколюбия. Из жизни же самого Пиррона известен эпизод, когда он не стал спасать своего учителя Анаксарха, когда тот тонул, но последний, чудом оставшись в живых, похвалил воздержание и невозмутимость своего ученика. Таким образом, скептицизм защищает индивидуальную свободу человека как высшую ценность, жертвуя ради нее содержательными моментами своего учения.
Основателями школы стоицизма были Зенон из Кития (ок. 336–264 гг. до н. э.), Клеанф (ок. 331–232 гг. до н. э.) и Хрисипп (ок. 277–208 гг. до н. э.), из римских представителей стоицизма наиболее известны драматург и философ Луций Анней Сенека (ок. 4–65) и император Марк Аврелий Антонин (121–180). Основное убеждение стоиков состояло в том, что мир един, целесообразен, управляем Разумом-Логосом. Для стоиков необходимость (судьба, рок) непреложна, а всякое уклонение от необходимости невозможно. Судьба ведет того, кто ей подчиняется, и насильно влечет (буквально тащит за собой, как собаку, привязанную к телеге) того, кто ей противится. Основываясь на этих общих положениях, мудрец должен быть беспечен, невозмутим и нечувствителен к происходящему. Он стремится жить в согласии с природой и руководствоваться своим разумом. Жизнь разумная и согласная с природой добродетельна, она приводит к безмятежности духа (атараксия) – искомому антропологическому идеалу стоиков. Атараксия есть подлинная цель жизни человека, но и ее нельзя считать наивысшим благом, поскольку атараксия есть благо индивидуальное. Разумная жизнь включает в себя особого рода поведение, которое внушается совестью или естественным законом: «Сообразно с долгом то, что внушается разумом, – например, почитать родителей, братьев, отечество, уступать друзьям. Противно долгу то, чего разум не внушает, – например, относиться пренебрежительно к родителям, не заботиться о братьях, не думать о друзьях, презирать отечество и т. д.» [1, 681].
Стоики выдвигают идеал не индивидуального, но коллективного блага, или еще конкретнее, – блага государственного, так как человек есть существо общественное (здесь стоики согласны с Аристотелем) и обретает свое высшее блаженство в согласованном содружестве с себе подобными существами. В этом положении и сказывается отличие стоиков от других философских школ эллинизма, защищающих ценность и право на блаженное существование отдельной личности. Стоицизм, особенно в его римском варианте, – это идеология эпохи, стремящейся преодолеть деструктивный индивидуализм и утвердить общественные ценности, ради которой индивид приносит в жертву кое-какие свои личные права. Действующая сила такого самопожертвования, согласно стоикам, есть стремление к самосохранению, потому что благо человека зависит от блага государства.
Однако стоики не останавливаются на расширении индивидуального существования до границ общества и государства, а выдвигают концепцию тотального, вселенского космополитизма. «Человек – гражданин мира», – гласит известная стоическая максима. Цицерон полагал: «Ясно, что природа наделила нас отвращением к боли; точно так же очевидно, что сама природа побуждает нас любить тех, кого мы породили. Отсюда возникает общее естественное тяготение людей друг к другу, так что человек не может рассматривать другого человека как чужого именно потому, что он человек. <…> [Стоики] считают, что мироздание управляется волей богов, что оно представляет собой как бы общий город и общину людей и богов, что каждый из нас есть часть этого мироздания, а отсюда, естественно, следует, что необходимо ставить общее благо выше своего» [1, 676–677].
Для стоиков характерно представление о человеке как о приходящем в мир без природно-родового предопределения. Ум новорожденного подобен tabula rasa (чистая доска), и только со временем, в течение своей жизни, он наполняется различными содержаниями, впечатлениями, знаниями, которые к семилетнему возрасту оформляются в индивидуальный логос (разум) человека. Логос, о котором в данном случае рассуждают стоики, тождествен понятию индивидуальности или индивидуально приобретаемому жизненному опыту. Логос отличает человека от животных и роднит его с богами, поскольку Логос богов и людей имеет общую природу: «…развитие первичного, еще темного природного влечения порождает в нас сначала смутное, а затем все более проясняющееся сознание того, что достигает полной ясности в Логосе. Этот Логос учит нас, что все люди – братья и дети одного и того же небесного Отца. Община, в которую человек вступает при своем рождении и в которой он призван действовать, простирается до пределов, до которых простирается Логос. В эту общину входят и боги, и мы имеем по отношению к ним обязанности. Такова набожность» [3, 358].
Стоики не замечают некоторого рода смешения понятий: Логос богов есть субстанция, не сформированная каким-либо жизненным опытом, а Логос человека, постепенно оформляющийся и как бы вырастающий вместе с ним, оказывается равен или тождественен божественному логосу. Не зная о законах наследственности, не подозревая о бессознательном пласте душевной жизни, стоики рассматривают человека в несколько упрощенном виде, не вдаваясь в глубокий анализ различия разума как приобретенного опыта и самого разума как особого принципа природы человека, и, с другой стороны, логоса как общей природы человечества, которая может быть отягощена уже врожденными характеристиками, принципами и архетипами. Детальное рассмотрение принципов разумности человека нехарактерно для стоицизма, который больше интересуется темами нахождения нужной тактики поведения для человека и общественными, даже общемировыми проблемами. Однако, несмотря на свои «логические» выкладки, стоицизм является не чистой теорией познания, а религиозно-философским учением.
Мировой процесс един, он организуется фатумом (ειμαρμένη, еймормене), который является единой причиной всех процессов. Наряду с ним существует и благое провидение (προνόια, пронойа), главный признак которого есть целесообразность. Цель человека состоит в том, чтобы с помощью разума и правильного устроения душевных сил суметь попасть в поток течения благой пронойи, избежав фатума, механически свершающего судьбу всех вещей во вселенной и подчиняющего органический, неодушевленный мир. Наличием фатума стоики объясняют все зло в мире. Человеку же, приходящему в материальный, механически подчиненный фатуму мир, предоставляется возможность благодаря разуму возвыситься над животно-органическими стихиями. В полноте механизмы освобождения от фатума известны мудрецу, постигшему, что свобода и необходимость совпадают в иррациональном единстве. Разум, постигающий причины явлений, становится свободным, а это значит, что свобода не является принадлежностью или свойством всякого человека.
Свобода – явление элитарное, в полноте принадлежащее стоическому мудрецу: «При крайней необходимости мудрец отведает даже человеческого мяса. Только он свободен, другие люди – рабы. Свобода – это возможность действовать самостоятельно, рабство же – утрата такой самостоятельности. <…> Кроме того, они непогрешимы, так как не подвержены прегрешениям. <…> И они ни к кому не проявляют сострадания, ибо никому не прощают и ни с кого не снимают полагающегося по закону наказания, поскольку уступки и жалость и сама снисходительность есть ничтожность души, прикидывающейся доброй, когда наказывают; ведь они не считают, что наказания слишком строги. Далее, мудрец не удивляется тому, что кажется необычайным… <…> Однако добродетельный… не будет жить в одиночестве, так как он по природе общителен и деятелен, он упражняет свое тело ради его укрепления» [1, 683–684]. Идеал стоического мудреца во многом совпадает с «величавым человеком» Аристотеля, общие типологические черты свидетельствуют, что перед нами обобщенный идеал античности вообще, требовавшей статуарности, вне эмоциональности, невозмутимого «божественного» величия, приподнятости над толпой. Различие стоического и аристотелевского идеалов заключается в том, что стоики требовали участия в общественной жизни, а Аристотель более ратовал за индивидуалистический образ жизни. У стоиков происходит выдвижение на одно из первых мест категории воздержания, не характерной для жизнелюбивого Аристотеля. Стоицизм одобрял самоубийство как венец невозмутимости, мудрости и воздержания, что в полной мере продемонстрировал мудрец Сенека, вскрывший себе вены по повелению Нерона и, пока вытекала его кровь, диктовавший свои последние мысли, утешая родственников.
Мир создан ради людей и богов, причем целесообразный и закономерный процесс его создания выглядит как космическая мистерия, а не единичный акт божественной воли: в результате космического процесса первичное божество разделяется на множество богов, а вся совокупность разумных существ образует единую общину, царство Разума. Стать гражданином во вселенском царстве Разума – это сверхзадача, метафизическая цель жизни человека, задача-минимум – достижение атараксии. Человек состоит из души и тела, причем, согласно стоикам, душа – это тоже тело, но не грубо-материальное, а тонкое, пневматическое. Душа иерархически выше тела, поскольку именно в ней заключено начало разумности, или управляющая часть, которая создает представления и понятия, чувства и влечения, в общем смысле эта часть души ответственна за способность суждения. От разумной части по всему телу распространяются семь других частей души, пять из которых ответственны за работу чувств (зрение, обоняние, слух, вкус, осязание), другие одушевляют воспроизводительную силу и способность говорить. Управляющая часть души стоиками связывается с головой, в то время как метафора сердца нехарактерна для обозначения мыслительной и эмоциональной жизни.
Первоначально, с момента рождения, душа человека подобна душе животных, имеет смутные влечения, но по мере формирования Логоса «очеловечивается»: «Именно на душе человек записывает каждую свою мысль, и его первая запись производится чувствами» [1, 672]. После смерти состояние души зависит от степени достигнутой разумности: души мудрецов смогут существовать в виде духовных существ, духов-демонов (даймон), но и они не вечны. В момент всемирного пожара, которым завершается каждый мировой эон, души мудрецов, как и боги, возвращаются в божественную субстанцию. После мирового пожара вновь возникает тот же мир без всяких изменений, а пульсации ритмов возникновения и уничтожения мира бесконечны. Души людей вновь вступают в поток существования, не имея памяти о пережитом.
Отличие греческого стоицизма от римского состоит в том, что римские мудрецы несколько отходят от оптимистического идеала «всеобщего братства людей», больше подчеркивая моменты индивидуального существования, отличного от жизни «презренной толпы». «Нравственные письма к Луцилию» Сенеки проникнуты пафосом обличения ничтожных людей и возвышения личного невозмутимого пребывания человека наедине с самим собой: «Ты спрашиваешь, чего тебе следует больше всего избегать? Толпы! Ведь к ней не подступиться без опасности! Признаюсь тебе в своей слабости: никогда не возвращаюсь я таким же, каким вышел… Уходи в себя насколько можешь; проводи время только с теми, кто сделает тебя лучше» [15, 699–700].
Уже в первые десятилетия новой эры перед человеком остро встала проблема смертности индивидуального «я»; созревают все предпосылки для рождения нового типа личности, открывающей в самой себе целый мир, не подвластный пространству и времени: «…душа человека – вещь великая и благородная и не допускает, чтобы ей ставили иные, нежели богам, пределы. Во-первых, она несогласна, чтобы родиной ее были ничтожный Эфес, или тесная Александрия, или другое место, еще обильней населенное и гуще застроенное. <…> Во-вторых, она не принимает отпущенного ей короткого срока: “Мне принадлежат, – говорит она, – все годы, ни один век не заперт для великого ума, и все времена доступны мысли. Когда придет последний день и разделит божественное и человеческое, перемешанные сейчас, я оставлю это тело там, где нашла его, а сама вернусь к богам. Я и теперь не чужда им, хоть и держит меня тяжкая земная темница”» [15, 718–719]. Человек на рубеже тысячелетий ощущает свое богоподобие, человеческой душе тесно в рамках земного мира, встает проблема ее одиночества, обретения истинной дружбы, за которой скрывается жажда личного богообщения. Для мудреца, утверждает римский стоицизм, довольно самого себя, чтобы жить блаженно, но для того чтобы просто жить, ему все же нужны друзья. Поздние стоики пытаются объяснить и согласовать два разнородных требования – уединенность души и потребность в общении, ее временность и устремленность в вечность, телесность и духовные потребности. Для позднего стоицизма возникает уже определенного рода проблема, которая указывает на наступление новой эпохи.
Литература
1. Антология мировой философии. Античность. М., 2001.
2. Аристотель. Политика // Антология мировой философии. Антич ность. М., 2001.
3. Асмус В. Ф. Античная философия. М., 1998.
4. Афинагор. О воскресении мертвых //Апологеты. Защитники христианства. СПб., 2002.
5. Гомер. Илиада // Антология мировой философии. Античность. М., 2001.
6. Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изложении. М., 1998.
7. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 2000.
8. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Софисты. Сократ. Платон. М., 2000.
9. Лосев А. Ф. Ранний эллинизм. М., 2000.
10. Нижников С. А., Семушкин А. В. Архетипы философских культур Запада и Востока. М., 2008.
11. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1.
12. Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 2.
13. Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 3.
14. Рассел Б. История западной философии. СПб., 2001.
15. Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию // Антология мировой философии. Античность. М., 2001.
16. Трубецкой С. Н. Метафизика в Древней Греции. М., 2005.
17. Трубецкой С. Н. Новая книга по истории греческой религии // Собр. соч. М., 1908. Т. 2.
Глава 4. Кризис междувременья: антропологические идеи гностицизма, манихейства и неоплатонизма
Время, когда христианство получило распространение в Римской империи, совпало с расцветом языческой культуры (I–III вв.) и затем началом ее затяжного кризиса. Одновременно происходило становление новых культурных и – шире – цивилизационных (этических, социальных, правовых, психологических, национальных и т. д.) норм, которые вступали в острое противоречие со старой античной системой ценностей. Основная борьба приходится на II–III вв., давшие наибольшее количество христианских мучеников древней Церкви. Обветшавший и оскудевший языческий мир был открыт всевозможным духовным влияниям, причем разнообразные религиозные течения вступали в борьбу друг с другом, пытаясь добиться гегемонии.
Кризис античного мира в Римской империи был обусловлен многими факторами, из которых важнейшими представляются следующие:
1. Беспрецедентно огромная империя, объединившая народы Европы, Азии и Африки, не имела единой идеологии, своей наднациональной идеи. 2. Господствующая нация (римляне) уже к середине II в. невероятно низко пала в морально-нравственном отношении, погрязла в пресыщении, роскоши, разнообразных изощренных удовольствиях. Падшая нация уже не могла в полной мере быть цементирующей силой империи. Из суровых, неприхотливых и гордых воинов римляне постепенно превратились в развращенных, изнеженных аристократов. 3. Для постоянной бесперебойной индустрии роскоши и развлечений требовались немалые средства, все тяготы их добывания ложились на плечи обездоленных и угнетенных членов общества, что вызывало острое социальное противостояние. 4. Одновременно возникает как противодействие мощная волна религиозной потребности в аскетической, личностно ориентированной религии, которая бы противостояла культу жестокости, телесных наслаждений, разврату и языческому образу жизни с его обращенностью к жизни здесь и сейчас.
Кроме названных факторов, существовал еще один, связанный с исчерпанием духовно-энергийной основы античного цивилизационного типа, который, начавшись мифом, как показали А. Ф. Лосев и свящ. Павел Флоренский, возвратился в миф уже в отрефлектированной форме и за пределами мифа не имел иных источников религиозного, социального и морального вдохновения. Кризис эллинского типа рациональности (архетипа культуры Логос) обусловил ориентацию как элиты, так и простого народа на восточные мистико-оккультные учения. Религия римлян становится синкретичной, она включает огромное множество богов покоренных народов. Присутствие чужеземных богов в римском Пантеоне было источником раздражения римских патриотов. Оно размывало основы самой римской религиозности, что постепенно приводило к атеизму, иногда в завуалированной форме. Синкретизм римского язычества был последним этапом в развитии античной религиозной традиции.
Особого внимания заслуживает римский языческий образ жизни, который включал в себя множество разнообразных развлечений и празднеств, ставших неотъемлемой частью существования богатых: «Знать изощрялась в гурманстве, немыслимых туалетах, хитроумном услаждении своей чувственности. <…> В пирах и оргиях проводили многие ее представители бо́льшую часть своего времени. Огромные суммы денег уходили на эти мероприятия, с необычайной помпой проводившиеся в просторных залах римских дворцов (их стены и потолки были покрыты золотом, коврами или дорогими шелками) с использованием золотой и серебряной посуды, с шеренгами молодых рабов в раззолоченных одеждах. Чудеса механики и гидротехники использовались для развлечения гостей. Изощренные сексуальные наслаждения были неотъемлемой частью жизни римской знати поздней Империи… “Целомудрие свидетельствовало разве что об уродстве”… Разводы были обычным делом… В период поздней Империи женщины нередко выступали в мимических труппах и даже в роли гладиаторов» [5, 19].
Распространенным способом избавления от ненужных детей было выбрасывание младенцев на улицу. В середине II в. из годового круга 180 дней были праздничными, в цирках и амфитеатрах устраивали бои гладиаторов, скачки, театральные зрелища, заканчивающиеся настоящими, сценически обыгранными казнями преступников и рабов. Распространена была травля зверей, толпа приходила в восторг от казни христиан, выводимых на растерзание диким животным. Такая картина явной деградации и вырождения общества заставляла многих ревнителей старины и просто думающую интеллигенцию обратиться к христианству, выступившему с проповедью любви и строгих нравственно-аскетических идеалов.
Однако в начале II в. христианство не было ни ведущей, ни даже заметной силой в обществе, хотя Римской империей невозможно ограничить сферу его влияния. Кроме первых общин в Иерусалиме христианство быстро распространялось по территории всей Палестины, Сирии и достигло значительных успехов в Малой Азии и на Балканском полуострове; христианство проповедовали в Персии, Южной Аравии и Южной Индии. Однако завоевать столицу Римской империи значило победить, так как именно Рим был владыкой провинций, центром культуры, цивилизационным ядром, организующим финансы, военную мощь, религиозно-философскую мысль. В период поздней Античности, характерной чертой которой было смешение восточных и западных начал, появляются разнообразные религиозные течения, стремящиеся разрешить проблему синтеза разнородных культурных элементов. Наиболее заметными синтетическими учениями были гностицизм, митраизм, манихейство и неоплатонизм.
Римская (эллинистическая) религиозность во II в. превратилась в секулярную силу, поддерживающую авторитет власти, поэтому инакомыслие и внутреннее противостояние религии карались строго, как государственное преступление. Официальная религия Римской империи уже не удовлетворяла потребностям ищущих людей, христианство в тот момент также не было привлекательно для многих, как гонимое и малоизвестное. Распространение получили достаточно однотипные религии, истоки которых лежат в древнейшем зороастризме, или гибридные религии, появившиеся как реакция на христианство с его новыми идеями. Все влиятельные религиозные течения позднего эллинизма дуалистичны, жестко противопоставляют Свет – Тьме, Зло – Добру, Тело – Душе. Жесткий дуализм и ритуальная строгость характерны для зороастризма, который, однако, не является религией, проповедующей свое учение. Миссионерский, прозелитический пафос нехарактерен для зороастризма, так как это вполне этническая религия, распространенная среди персов. Отличие вышеназванных популярных религиозных систем позднего эллинизма от зороастризма в том, что, являясь дуалистическими религиозными системами, они обращаются к проповеди, т. е. становятся миссионерскими религиями, что было в целом нехарактерно для древних этнических религий.
Наиболее характерные антропологические идеи манихеев, митраизма, гностицизма и неоплатонизма
Основатель манихейства – мистик Мани (216–277). Его отец Патиций был обращен в христианскую (может быть, ессейскую) секту мугаласилахов («крестящие сами себя»), прежде обращения он был зороастрийцем. Мани с четырех лет воспитывался в секте, где практиковали безбрачие и строгий аскетизм. Воспитание в подобной обстановке рано повлияло на развитие его мистических способностей, – согласно сохранившимся свидетельствам, уже с 12 лет его посещали видения. Около 25 лет от роду Мани выходит на проповедь, главной отличительной чертой которой было обращение ко всем людям. Сам он говорил: «…мое учение пойдет и на Запад, пойдет и на Восток. И все услышат голос его посланцев на всех языках, и во всех городах будут провозглашать его. Моя церковь превосходит все другие церкви прежде всего в этом, все предыдущие церкви выбирали себе отдельные страны и отдельные города» [16, 306]. Манихейская церковь состояла из 12 главных учителей, подчиненных им 72 епископов, священников и диаконов. Манихейство отвергало Ветхий Завет и ветхозаветную мораль. Подчеркивая выгоду своего учения, манихеи обращались к христианам, говоря, что те «запуганы суевериями… [христианам] приказывают верить, а не рассуждать, они же [манихеи] никого не принуждают к вере, не объяснив предварительно истины» [1, 398].
В манихействе происходит явное смешение христианской традиции и зороастризма, элементы которого видны в центральной идее манихейства – борьбы Зла и Добра. Основная религиозная идея состоит с том, что от века существовало равновесие сил Зла и Добра, но в какой-то момент зло вторгается в область добра – и начинается борьба. Отец Величия, правитель Царства Света, имеет власть над добрыми стихиями – свет, благой ветер, огонь, вода, эфир, которым противостоят стихии тьмы, Царство Мрака, имеющее пять областей – мрак, дым, бурный ветер, разрушительный огонь, вредная вода. В результате борьбы происходит смешение духовно-светоносных частиц со злой материей, что и дает начало видимому земному миру, так что, согласно манихейской доктрине, тела материального мира есть воплощение зла, свидетели о Царстве Мрака.
В процессе борьбы в Царство Тьмы посылаются вестники, призванные вернуть заблудших на путь истины, но в результате неудавшейся миссии тьма поглотила пять священных элементов, плененных с тех пор в материальном мире. Задача адептов манихейской религии состоит в их освобождении. Вокруг идеи плененных частиц света выстраивается космогония, этика, аскетика и дисциплинарные нормы манихейской общины. Человек для манихейской религии есть результат смешения темных и светлых сил, он имеет две души – темную и светлую, последняя есть часть субстанции самого бога-отца. Человек обитает в нечистом мире, составленном из злой материи, сотворенной из останков поверженных демонов, из их костей составлены горы, из шкуры – девять небес и т. д.
Очевиден антагонизм данной идеи исконным общечеловеческим интуициям о творении мира из тела первочеловека (в Китае – первопредок Паньгу, в Индии – первочеловек Пуруша), которые дают представление о человеке как микрокосме, связанном со всем миром особыми энергийными каналами. Традиционные древние религии связывают человека с космическим порядком, манихейство провозглашает радикальный отрыв человека от мира, внушает жестко-аскетическую позицию его неприятия. Человек находится в центре изнурительной и тяжелой войны сил тьмы и света. Он в постоянном напряжении, его жизнь лишена творческого измерения, так как природа и материя тождественны злу, поэтому стремиться к творческому преображению мира бессмысленно. С этой точки зрения проблема культуры неразрешима в рамках манихейства, как и многие другие проблемы человеческого бытия (проблема свободы, любви, брака, творчества, культурного преемства поколений и др.).
Тягостное положение человека, заключенного в темницу земного мира, побуждает Царство Света к принятию решения об освобождении плененной частицы. На землю спускается душа мира Христос, владыка Солнца, который выходит на проповедь, приняв призрачное тело. По мнению манихеев, учение Христа было превратно понято христианами, поэтому Царство Света посылает второго посланника в виде Мани, восстановившего истину учения. Об этом манихейском представлении блж. Аврелий Августин писал: «Он же не соглашался на малую для себя оценку и пытался убедить людей, что Дух Святый, утешитель и обогатитель верных Твоих, лично в полноте своего авторитета обитает в нем… тем не менее кощунственность его попыток выступает здесь достаточно: говоря в своей пустой и безумной гордыне о том, чего он не только не знал, но даже исказил, он всячески старался приписать эти утверждения как бы божественному лицу» [1, 71].
Лица манихейской троицы имеют субординацию. Отец обитает в неприступном свете, сын – в зримой световой области, отождествлявшейся со светом солнца, где обитает его сила, и светом луны, области премудрости манихейского Христа. Святой дух обитает повсюду, однако особенной областью его правления является ветер. Солнце и луна имели важное значение у манихеев, души освобожденных (частицы света) переходили вначале на луну и солнце, затем в эфир, наконец – в Царство Света, манихейского бога-отца. Постепенно нагружаясь частицами света, луна достигает стадии полнолуния; переправив частицы на солнце, она скрывается, как опорожненный корабль. Солнце и луна обожествлялись как состоящие из божественной субстанции, а манихей, каждый раз наблюдающий фазы возрастания луны, исполнялся надеждой на конечное торжество Добра, поскольку перевезенные частицы увеличивали силу Царства Света. Манихеи проводили специальные наблюдения за светилами и довольно точно предсказывали солнечные и лунные затмения, объясняя эти явления согласно своей доктрине. О привлекательности манихейства говорит тот факт, что блж. Аврелий Августин в молодости девять лет пробыл в рядах «слушающих», об ограниченности манихейского учения красноречиво свидетельствует факт его ухода от манихеев, против которых он, став христианином, вел ожесточенную полемику.
Манихейство признавало метемпсихоз – постоянное возрождение и возвращение душ в тела. Новую судьбу человека определяет нравственно или безнравственно прожитая предыдущая жизнь. Не достигшие в земной жизни совершенства, души будут странствовать по различным телам, и странствие будет продолжаться до конечной катастрофы, в результате которой сгорит весь земной мир. Задача человека и основная религиозная цель его жизни – освобождение светлых элементов, причем в решении этой задачи важен был способ питания. Запрещалось вкушение мяса, предписывалось строгое вегетарианство, поскольку фрукты и овощи содержали, согласно доктрине манихеев, частицы света. Самым насыщенным частицами света считался хлеб, который, поданный голодному не манихею, терял частицы света, что считалось большим грехом. Так называемый «избранный» (высшая степень посвящения в манихействе) перед вкушением лепешки произносил молитву-извинение перед ней как причастной высшему свету. «Избранный» не имел права не только заниматься земледелием, в результате которого возможно повреждение световых частиц, но даже готовить пищу для него было большим риском, сопряженным с впадением в грех перед Царством Света. Согласно манихеям, «избранный», вкушая пищу, освобождает частицы света от плененной материи. Как писал блж. Аврелий Августин о верованиях манихеев, «стремясь очиститься… подносил так называемым святым и избранным пищу, из которой они в собственном брюхе мастерили ангелов и богов для нашего освобождения» [1, 49].
Согласно доктрине манихеев, человек, содержащий частицы божественной светоносной субстанции, есть сын и наследник бога-отца. Под воздействием сил зла он впал в забвение о своем происхождении и цели жизни на земле. Проповедь манихейства – напоминание о Царстве Света и пути, ведущем в него. Вступивший в общину начинал выполнять многочисленные и сложные предписания. Находящиеся на первой ступени посвящения именовались «слушающие», т. е. миряне, обслуживающие «избранного», который на своей ступени религиозного посвящения уже не мог работать, но все время посвящал поучению «слушающих». Религиозное знание (в частности, сложная и запутанная христология) считалось тайной доктриной, в которую посвящали не каждого, но достаточно долго пробывшего в чине «слушающего». «Слушающий», обслуживавший всю жизнь «избранного», мог с достоверностью надеяться, что в следующей жизни он родится «избранным».
Человек в учении манихеев предстает не цельным существом, он не рассматривается в единстве души и тела, акцент в манихействе сделан не на внутреннюю духовную этику, а на внешние действия. Манихейство не рассматривает разум человека как важнейшую и богоподобную часть его сущности и, соответственно, не выделяет аспект знания (гнозис), как это имеет место у неоплатоников и гностиков. Антропология манихеев основана на мифах, модифицированном и сложном сплаве христианства и зороастризма. Этика носит антиуниверсальный характер, внешние правила превалируют над внутренним содержанием (например, заповедь не подавать хлеб неманихею). С одной стороны, к человеку предъявлялись жесткие аскетические требования (для спасения в этой жизни он должен вести безбрачную жизнь «избранного»), с другой стороны – его земное греховное тело зависело от потребления частиц света и мрака, что имело огромное влияние на их судьбу. Такие противоречивые утверждения создают огромный дисбаланс и дисгармонию образа человека, спиритуализированного и одновременно жестко прикованного вниманием к происходящему с его телом, в частности в отношении питания. Все вышеназванные противоречия были причиной поражения манихейства, просуществовавшего почти десять веков и постепенно исчезнувшего в результате государственных гонений и разочарования в нем ищущих истину, что демонстрирует жизнь блж. Аврелия Августина.
Митраизм, генетически связанный с зороастризмом (Митра – одно из верховных божеств Царства Света в зороастризме), идет гораздо дальше в этическом отношении схематичной и насыщенной мифами манихейской религии. Митраизм был лишен богооткровенных или священных текстов. Человек понимался главным образом как существо волевое и эмоциональное. В этой религии не апеллировали к разуму и пониманию, что существенно ограничивало смысловые возможности доктрины. Главным привлекательным аспектом митраизма было обещание личного бессмертия адептам, что было значительным шагом вперед по сравнению с философскими концепциями античности, которые были посвящены загробной участи человека. Тем не менее, в отличие от христианства, бескомпромиссно поставившего вопрос о личности, митраизм признавал метемпсихоз, чем значительно подрывались персоналистические аспекты религии.
В эпоху позднего эллинизма митраизм был самой популярной и многочисленной религией, но к началу Средневековья от него уже не осталось ничего, кроме разрушенных храмов, немногих барельефов и отдельных замечаний критического характера в сочинениях христианских писателей. Усилиями специалистов религиозная система митраизма была частично реконструирована. Подобно манихейству, митраизм являлся дуалистической религией, признающей две могущественные силы в мире – добро и зло. Главной задачей почитателей Митры была помощь верховному богу Ахура-Мазде в борьбе со злыми силами. Митра в этой религии выступает в качестве посредника между людьми и верховным богом. Он также является судьей или проводником душ людей после смерти, которым надлежит пройти таинственный путь через семь врат. Мистерии митраизма приготовляли людей к прохождению посмертного семивратного пути, из чего следует сделать вывод об оккультном характере этой религии.
Для людей борьба ведется главным образом в этическом плане, как и в зороастризме здесь признается триада добродетелей: добрые мысли, добрые слова, добрые дела. Все члены религиозной общины почитались воителями, причем существовали градации или ступени посвящения. На первой ступени находятся воины или новоначальные, далее львы и гиены (ведущие борьбу), вороны (кто предчувствует победу зла), золотые (закаленные в борьбе). По другой версии, ступеней посвящения было семь, что соответствует семи посмертным вратам. Венчает лестницу воителей сам победитель зла Митра. Митраизм был воинственной религией для мужчин, к участию в культах и мистериях не допускались женщины, что делало митраизм ограниченным и нежизнеспособным учением. Митраизм особенно охотно принимали воины Римской империи, для которых военная тематика этой религии, строгий аскетизм и дисциплина были близки и понятны.
В митраизме, больше чем в манихействе, сделан упор на волю и выбор между добром и злом, человек считался активным участником всемирной борьбы верховных начал. Римлян привлекал в митраизме мистериальный культ, связанный со сложными и таинственными действиями для посвящаемых, и провозглашаемое равенство воинственного религиозного братства. Во время мистериального богослужения участники вкушали ритуальную пищу и наблюдали особые представления, устраиваемые жрецами. Вообще, театрализованная, зрелищная сторона митраизма была чрезвычайно развита. Во внешнем оформлении доктрины заключалась как сила, так и слабость митраизма.
Умерший человек почитался скверным и нечистым, поэтому трупом можно было осквернить даже место, почитаемое святым (например, храм). Член общины постоянно проходил многосложные обряды очищения, омовения и поста, что свидетельствует о стремлении к ритуальной чистоте и отрицательном отношении ко всему материальному миру, в том числе к телу. Митраисты называли себя братьями, одушевленными единой верой. Человек в интерпретации митраизма был заброшен в материальный мир, имеет благую душу и оскверненное тело. Он волевым актом избирает добро и сражается на его стороне, поддерживаемый общиной и многочисленными обрядами, смысл которых сводился к очищению от скверны материального мира. Таким образом, митраизм можно рассматривать как реликт античных мистериальных культов (мистерий), теоретически базирующийся на таинственном и волнующем воображение эллинов зороастризме. Митраизм как дуалистическая, оккультно-мистическая религия была гибридной, переходной и нежизнеспособной, но в ней нашли отражение религиозные запросы эпохи.
Что касается гностицизма, то он был порожден реакцией эллинской философии и мифологического мышления на христианство. Гностицизм – гибридное религиозно-философское учение, нечто среднее между неоплатонизмом и христианством. Гностицизм появился под воздействием общерелигиозных идей своего времени, в том числе манихейства и митраизма. Главными представителями были Симон Волхв (или Маг), его ученик Менандр, Кедрон, учитель Маркиона Керинф, Марцеллиана. В начале II в. гностицизм процветал в Риме, к этому периоду относится деятельность самых известных гностиков и оппонентов христианства – Василида и Валентина. К III в. гностицизм растратил свои творческие силы и с угасанием самой культуры Логос, породившей гностицизм, постепенно сошел с исторической арены, а свидетельства о нем остались в апологетических сочинениях святых отцов.
Описание гностической системы строения мира заняло бы немало страниц, так как космогонии были основным вероучительным содержанием гностицизма. Опуская многочисленные подробности и имена гностических божеств (эонов), кратко опишем основной ход мысли. Согласно гностикам, основой мира является самодостаточное божество, которому противостоит злая инертная материя. Из божества путем истечения отделяются особые существа – эоны (в количестве тридцати, имеющих половую дифференциацию и исходящих попарно), у одного из которых (эон София), наиболее далекого от первоначального божества, появляется желание погрузиться в материю. Результатом смешения эона с материей явилось появление Демиурга – творца материального мира, в котором живет человек. Демиург настолько далек от Плеромы, области обитания верховного бога и эонов, что полагает себя единственным божеством, не зная даже своей матери. Демиург – порождение падшего существа Ахамот, несовершенного создания эона Софии, которая и начала нисхождение из мира Плеромы. Материальный мир является результатом смешения духовных и материальных начал. У павшего эона Демиурга и порожденных им людей появляется желание избавиться от материи, однако она цепко, подобно сети, держит не имеющих духовных сил души людей и самого Демиурга. Для освобождения падших на землю спускается последний из отделившихся от Плеромы эон Искупитель (Иисус), вселяющийся в момент крещения в творение Демиурга – человека Иисуса, имеющего призрачное тело. Главная задача Христа – сообщение высшего знания (гнозиса, от греч. γνώσις) о путях освобождения от власти материи.
Гностики, духовные люди, познавшие сущность миссии Христа и строение мира, преодолевают душевно-материальное бытие и способны вступить в область Плеромы. Эсхатология гностиков сводится к тому, что материальный мир и душевно-телесные люди будут истреблены огнем. Варианты космогоний в гностических учениях иногда отличались, но центральная идея оставалась неизменной: творение мира – это неумелая попытка творчества Демиурга, случайность или злой умысел. Демиург иногда отождествлялся с Богом Ветхого Завета (у гностика Валентина) и выступал злой силой, в то время как змей в Эдемском раю, давший Адаму познание, рассматривался как сила благая. Прямо противоположные традиционным христианским и иудейским трактовкам толкования способствовали особому умонастроению, суть которого можно описать как переживание элитарности своего гностического положения по отношению к «заблудшим» христианам или предназначенным к погибели неверным.
Человек в этой системе мысли предстает малым микрокосмом, причастным духу, душе и телу, что отражает трехчленную структуру мира: Плерома, Демиург, материя. Все люди делятся на три группы: пневматики (от греч. πνήνμα – дух), у которых преобладает духовное начало, психики (от греч. ψυχή – душа), у которых душевная и телесная жизнь в определенном равновесии, и соматики (от греч. σώμα – тело), находящиеся всецело во власти материи, вещества. Вся проповедь, включая этические нормы, обращена к психикам, соматики рассматриваются как уже предназначенные к погибели, пневматики рассматривались как спасенные. Соответственно пневматики – это гностики, или потенциальные члены гностической общины, психики, – как правило, сбившиеся с истинного пути христиане, у которых, однако, есть шанс на спасение, даже оставаясь в Церкви, если они будут иметь естественно расположенное к истине душевное устроение.
Важной чертой гностической антропологии было утверждение, что частицы света, содержащиеся в душе человека, одноприродны Богу. Это давало повод некоторым видным гностикам объявлять себя богами, поскольку они достигли, по их мнению, высших степеней знания (Симон Волхв, Менандр, Епифан). Крен в сторону самообожения не был ведущей линией, но потенциальная возможность его находила себе место в утверждении нетварности, одно-природности частиц света в душе человека и сущности Бога. Упор на знание и познавательную сферу вообще давал особое звучание и антропологическим идеям: верховное начало разум-логос есть высшая часть человека, это орган богопознания и даже спасения, если его понимать как приобщение к тайному гнозису. Соответственно настоящим гностиком мог стать человек достаточно образованный по тогдашним меркам, в то время как простец вызывал сожаление или презрение. Гностики полагали, что простец может выучить гностическое знание как магические формулы, но настоящее приближение к божественной сфере ему, скорее всего, так и останется недоступно.
Важнейший момент в антропологии гностиков – учение о смерти. Смерть есть самая последняя и опасная ступень возвращения духовной сущности человека в Плерому. Духу человека противодействуют архонты, управители мира материи. Искупление – освобождение от тела и материального мира, а не от греха, поэтому душа, покинувшая тело, должна быть максимально удаленной в помысле и делах прошедшей жизни от материальной действительности. Препятствия душа преодолевает, предъявляя архонтам особые знаки, связанные с гностическим знанием, и используя заклинания, поэтому ритуалы и молитвенные действия рассматривались как особенно важное дело всей гностической общины после смерти ее члена.
В гностицизме было сделано некоторое преодоление дуалистической схемы с помощью концепции триадологического строения человеческой души и в целом антропологической типологии. Однако это преодоление в гностицизме является скорее мнимым, так как только дух является божественной частью в человеке, в то время как душа есть нечто неопределенное, склоняющееся к власти материального начала, и наравне с телом подлежит преодолению. Гностицизм – мифологическое учение (огромное место в доктрине занимают многочисленные мифологические представления об эонах, богах, их генеалогии и т. д.), мистико-ритуальное и главным образом философское: «…это не что иное, как философски подчищенная мифология с богами-эонами, снабженными христианскими именами, которые женятся, увлекаются, страдают от неудовлетворенной страсти и от страстей которых создается мир. Тот же языческий вкус виден в приверженности многих гностиков к магизму, к нравственной распущенности, в избегании мученичества и во многом другом» [8, 217]. После своей гибели и разложения в конце III – начале IV в. гностицизм дал дополнительный толчок развитию манихейства, продержавшегося как влиятельная сила еще около ста лет и затем ушедшего на восток Римской империи.
Что касается неоплатонизма, то он был чисто эллинским явлением, наиболее далеким от влияния восточных религиозных традиций, поэтому неоплатоники в своей системе не используют понятие Бога-спасителя. Неоплатонизм полностью принимает все антропологические взгляды Платона, дополняя их философскими идеями эпохи эллинизма и пытаясь примирить системы Платона и Аристотеля. Согласно неоплатоническим представлениям, в основе мира лежит непостижимая первопричина, Единое, из которого истекает (эманирует) Космический Ум и мировая Душа, виновница бытия материального мира. Единое есть источник Ума и Души, но само является превыше всех определений и понятий, неопределимым и непостижимым единством. Души людей есть божественное достояние, но, находясь в телах, они теряют знание о своем благородном небесном происхождении. Крупнейший неоплатоник Плотин (205–270) писал о людях: «Причина постигшего их зла лежит в них же самих – в их дерзостно осуществившемся желании рождения, в их изначальном стремлении к инобытию и обособлению, в их замысле ни от кого не зависеть, а быть и жить по своей воле от себя и для себя. Как только они вкусили сладости такого самостоятельного бытия, они тотчас дали полную волю всем своим прихотливым желаниям, и, став, таким образом, сразу на путь, противоположный своему первоначалу, постепенно отдалились от Бога до степени полного забвения о том, что они суть Его создание и его достояние» [11, 852].
Таким образом, душа получает от самостоятельного бытия особое удовольствие («сладость») и забывает свое высшее происхождение, что является причиной зла и индивидуальности. У Плотина довольно сложное отношение к личности, у него есть колебания в определении того, достойна ли она вечности и т. д. Личность несет в себе начала самосознания и духовности в человеке, но есть одновременно источник эгоизма и страстей. С этой точки зрения личность подлежит преодолению, и такое решение проблемы личности приравнивало бы философию Плотина к восточным учениям (в частности, к буддизму). Однако Плотин не выдвигает принцип преодоления личности как основу для неоплатонической сотериологии.
Сам Плотин был невероятно развитой личностью, а его мистический опыт приобщения к Единому носил характер ярко индивидуальный, несмотря на утверждение слияния индивидуального «я» в умном экстазе с Единым. Проблема личности в философии Плотина имеет двойственный характер: в отношении настоящей жизни и в отношении превечного существования в Едином как идеи. Воплощаясь в теле, душа приобретает личностные характеристики, но поскольку само воплощение является более низкой ступенью бытия по сравнению с духовным существованием, то и личность есть, по сути, нисхождение в эмпирическую реальность, которая чревата падением человека до полуживотного состояния. Плотин придерживался мнения о тройственной градации всех людей: 1) звероподобные, 2) приверженные к чувственному миру и 3) «божественные», что отражает его структуру мироздания: Единое – Ум – Мировая Душа. Как писал Плотин, «место [человека] – между богами и зверями, и он склоняется то к одним, то к другим; некоторые люди уподобляются богам, другие – зверям, а большинство придерживается середины» [7, 30].
Подлинное знание о благородном происхождении души состоит в том, что она достойнее и лучше всего материального мира, и только если она ставит материальные блага выше себя, делает их своей жизненной целью, то свыкается с мыслью, что она хуже тленного и преходящего. Душа каждого человека одноприродна с Мировой Душой и является ее частью, однако в моменты мистического исступления она способна выйти из области Души и приобщиться Уму, подобно тому как Ум в экстатическом стремлении к Единому уже не является Умом, но восходит к Единому. Ум человека есть центр его самосознания, в котором опыт восприятия и жизнь души получают свое оформление и завершение.
Вопрос о принадлежности души человека к области Мировой Души или Космического Ума имеет двойственное решение: душа человека как одноприродная Душе Мира есть ее часть, но центр самосознания человека совпадает с Умом, являясь его принадлежностью. Кроме того, в Едином существует предвечная идея человека как коллективного единого существа, с которой отдельный индивид совпадает и соотносится как частное с общим. Мировая Душа произвела мир и все души путем эманации, которая есть естественное движение в постижении сущностей для высших существ. Как писал второй крупнейший после Плотина неоплатоник Прокл (410–485), «выше всех тел – сущность души, выше всех душ – интеллектуальная природа, выше всех интеллектуальных субстанций – единое» [12, 936]. Душа человека неоднородна, так как, кроме ее низших частей, отвечающих за телесное существование и чувства, в ней есть высшее разумное начало, и она является образом космического Ума. Эта часть в человеке уже не есть человек, но часть самого Бога, так что по природе человек есть нечто божественное в прямом смысле этого слова: «…не только Божественный Ум, но также и душа являются “богами” в греческом смысле, и для Плотина наш собственный разум – суть бог внутри нас» [2, 207].
Разумом человек способен соединяться с Богом в моменты экстатического выхода, когда предметами его созерцания становятся Мировая Душа, Ум и Единое. Созерцательные практики неоплатонизма, как их описывал Плотин, носят характер визуализации, т. е. видений, которые человек актуализирует в себе с помощью силы воображения в состоянии мистического исступления, отрешаясь от всего чувственного и материального мира: «Каким образом эта великая мировая душа сообщает жизнь всей вселенной и каждому существу в отдельности, это может уразуметь наша душа не иначе как став предварительно достойной такого созерцания, а именно отрешившись наперед от всякого обольщения теми вещами, которыми другие души еще прельщаются, и затем сосредоточившись внутренне на себе с такой энергией и полнотой, чтобы в ее сознание не вторглось и ее не тревожило не только тело со всеми происходящими в нем движениями, но и ничто окружающее, чтобы для нее все замолкло – и земля, и море, и воздух, и само величественное небо. В таком состоянии она пусть представит, что во все это мертвенно-неподвижное нечто вдруг извне как бы вливается душа» [11, 853–854] (курсив мой. – К. Е.). Так Плотин описывал практику созерцательно-молитвенного постижения Мировой Души, в которой не присутствуют диалогические моменты обращения личности к иной Высшей личности (Богу), но задействованы воображение и сосредоточение, вводящие человека в измененные состояния сознания.
Основная характеристика мистического опыта – осознание слияния с Единым: «Критерием этого слияния будет отсутствие сознания нашего Я, ибо возможность осознания деятельности означает для Плотина ее неполноценность» [7, 29]. Таким образом, в неоплатонизме человек в религиозном аспекте предстает как существо не цельное, не единство тела-души-духа, восходящее к Богу, но душа или созерцающий ум, способный природными силами постигнуть божественные истины. В такой уверенности в религиозных способностях человеческого ума сказывается «…самоуверенный теологический рационализм эллинов, предполагающий, что философ способен своими собственными силами представить удовлетворительный отчет о божественных вещах; этот рационализм коренится в убеждении, что сам человек божественен по природе» [2, 198]. Перед смертью Плотин произнес слова, в которых отражено самоощущение разделенности человека на разноуровневые структуры, из которых только одна достойна вечности: «…сказал, что сейчас попытается слить то, что было божественного в нем, с тем, что есть божественного во Вселенной» [13, 829].
Неоднозначное отношение к материи демонстрирует Плотин: с одной стороны, материальное тело предстает как темное начало («тюрьма и гробница») и знак метафизического грехопадения; с другой стороны, воплощение души в тело человека есть необходимая часть божественного замысла о мире и только воплощение души в теле животного свидетельствует о ее безусловной падшести. Грех души заключается не столько в ее воплощении в тело, сколько в забвении, эгоистическом обособлении от божественной области. Самое замечательное в учении Плотина заключается в том, что душа мудреца, несмотря на свое воплощение в теле, каким-то непостижимым образом пребывает и в высшем мире, никогда не отлучаясь от него, так что у него существует некий двойник, превечная идея его самого. Поэтому мудрец оказывается выше магических операций и всяких религиозных, на него направленных воздействий, так как часть его самого обитает в высших сферах бытия, не подвластных взаимопроникновению элементов материального мира. Прокл, напротив, полагал, что и мудрец, подобно всякому иному человеку, воплощается «полностью», так что никаких идеальных «частей» его самого в высшем мире уже не остается. Разногласие по вопросу идей-двойников обнаруживает, скорее всего, не столько доктринальные противоречия, сколько самоощущение знаменитых неоплатоников и их мистический опыт.
В отличие от дуалистических учений Востока, в платонизме материя и тело не являются безусловным злом, так как тело, как и материальный мир, разумно и даже прекрасно организовано, но оно есть нечто, чего следует стыдиться. Тело – темница души, но у Плотина одновременно и ее дом, куда душа скрывается для медитаций. Порфирий, начиная рассказ о жизни Плотина, говорит о его отношении к своему телу, в котором ясно отражена антропологическая интуиция телесности в неоплатонизме: «Плотин, философ нашего времени, казалось, всегда испытывал стыд оттого, что жил в телесном облике, и из-за такого своего настроения всегда избегал рассказывать и о происхождении своем, и о родителях, и о родине. А позировать живописцу или скульптору было для него так противно, что однажды он сказал Амелию, когда тот попросил его дать снять с себя портрет: “Разве мало тебе этого подобия, в которое одела меня природа, что ты еще хочешь сделать подобие подобия и оставить его на долгие годы, словно в нем есть на что глядеть?”» [13, 828]. В словах Плотина видна огромная разница его самоощущения с христианским осознанием своего телесно-духовного единства, что демонстрирует «Исповедь» блж. Аврелия Августина, в которой дана попытка осмысления человека во всех его психофизических связях: с родиной (местом рождения), с родом (наклонности отца и матери), с ближайшим окружением (друзья, недруги, наставники, путеводители к Богу).
Вопрос о сущности зла и страдания решается в неоплатонизме в терминах роковой необходимости: страдание есть неизбывный результат воплощения. «Мудрец выше претерпевания не потому, что его тело не может страдать, а потому, что он присутствует в духе. Высшая часть его самого пребывает выше, в духовном мире, и он не опускается до конфликта и суматохи телесной жизни… Слабые, и глупые наряду со слабыми, страдают в этом мире по своей собственной вине и только за то, что заслужили. Они не имеют права ожидать, что боги или добрые люди проникнутся их жизнью и придут им на помощь» [2, 214]. Страдание не присуще душе, а есть следствие соединения души с телом, поэтому чем дальше человек от материального тела с его интересами, желаниями и страданиями, тем менее он причастен страданиям. Жизненному началу души, заключающему в себе источник желаний, необходимо в моменты скорби устраняться от происходящего, быть бесстрастным и ничего не желающим. Именно такое волевое преодоление страданий в самом себе есть, по Плотину, выход из неизбежности зла в мире, но сам материальный мир не может стать иным.
Неоплатонизм утверждал идею переселения душ и, таким образом, не признавал в полноте начало личности, неповторимости человеческого существа как психофизического единства, что противоположно утверждению об уникальности каждого конкретного человека у Аристотеля, отрицавшего метемпсихоз. Уникальной личностью является только мудрец, в то время как «остальные» еще не развились до степени самосознания и постижения мирового сущего. Личность в неоплатонизме может рассматриваться скорее как совокупность случайных и преходящих качеств, появляющихся в душе вследствие проживания жизни человека на земле – со всей ее суетой, обстоятельствами, местом и временем рождения и прочими акцидентальными (привходящими) и второстепенными, в сравнении с Вечностью, характеристиками.
В системе неоплатонизма человек чувствует свое тело как не вполне «свое» уникальное и единственное выражение его «я», но как одновременно очередное обличье, искажающее сущность души, в то время как по природе душа божественна и вечна. Задача человека состоит в возвращении в исходное единство с надмирным Единым, растворении своей личности в нем, что достигается философией, диалектикой и медитативными размышлениями, переходящими в умно-мистический экстаз, постами и участием в очистительных обрядах. Не последнюю роль в этом играло аскетическое воздержание от сна, пищи животного происхождения и различных удовольствий, поскольку неоплатонизм, в отличие от античного платонизма, стал со временем настоящей аскетической школой.
Несмотря на аскетическое отвержение тела и материи, неоплатонизм не отрицал земной повседневной практики. Напротив, под управлением Плотина находилось довольно большое количество воспитанников и их имения, относительно которых он давал распоряжения многочисленным приказчикам. Плотин даже мечтал устроить жизнь так, как она описана у Платона в «Государстве», но его планам помешали интриги завистников, не давших возможности попросить у императора Галлиена под управление город, который бы носил имя Платонополь. Прокл также «подавал политические советы: он присутствовал в городских собраниях, высказывая разумные мнения, он разговаривал о справедливости с правителями и свободою своего философского слова не просто убеждал, а чуть ли не заставлял их воздавать каждому по заслугам. <…> Был у него и другой способ явить в действии политический свой ум: он писал послания правителям и благодетельствовал этим целые города» [9, 919].
Таким образом, идеал совершенного отчуждения от мира ради очищения души (подобный христианскому подвижничеству, пустынножительству или монашеству) был неведом в неоплатонизме, как и в других религиях позднего эллинизма. Высшая цель души неоплатоника – уподобление Богу, что означало очищение от телесной скверны, а не от душевного греха, поэтому неоплатонизм подразумевал огромное количество очистительных ритуалов и молитвословий. Неудивительно, что тот же Прокл жил, «ночью и днем прибегая к отворотным молениям, к омовениям и ко всяким другим очищениям, и орфическим, и халдейским, а к приморскому бдению сходя неустанно каждый месяц. <…> …Очищался ежемесячно; египетских недобрых дней остерегался усерднее, чем сами египтяне; а сверх того постился в некоторые особые дни ради являвшихся ему видений» [9, 921–922].
В описании молитвенно-ритуальных очищений Прокла поражает синкретизм разных религиозных языческих традиций того времени, и сам неоплатонизм предстает как стремление приобщить человека к духовному миру без попыток критического осмысления разнообразного религиозного опыта. Как следствие, душевные добродетели оставались без надлежащего внимания, о чем свидетельствует биограф Прокла: «Он и впрямь был тщеславен, но это не было в нем пороком, как в других… Был он и гневлив, не спорю, но в то же самое время и кроток: успокаивался очень быстро и из гневного делался податливым как воск» [9, 920]. В целом нравственно-этическая сторона неоплатонизма осталась довольно бесплодной, базируясь на статуарно-телесных эстетических принципах предшествующей античной традиции и не предложив ничего принципиально нового в этической области, кроме религиозного синкретизма и молитвенно-экстатических практик, направленных на изменение сознания.
Несмотря на различия в учениях неоплатонизма, гностицизма, манихейства и митраизма, им присущи одинаковые типологические черты:
1. Все учения поздней античности являются дуалистическими, с разной степенью остроты противопоставляющими добро и зло, душу и тело. Материя осуждается как зло и источник греха, что означает обреченность религий на культурное бесплодие, так как любая культура – это гармоническое сочетание и воплощение идеального содержания в материи. Бог (или боги) названных религий гнушаются материей, ни один из них не объявляется подлинно воплощенным (принявшим тело), что имплицитно несло идею «чисто духовной религии», не способной становиться силой, объединяющей этносы, созидающей государственно-правовые, общечеловеческие нормы и принципы. Однако время требовало именно универсальной религии, которая могла стать основой нового типа социальности, пришла бы на смену обветшавшим древним религиям, не способным уже охватить и вместить тот новый антропологический опыт, приобретенный за несколько сот лет до начала новой эры.
2. В названных религиозно-философских доктринах человек предстает существом по преимуществу двусоставным, у которого высшее божественное и низшее, злое, телесное начала вступают в противоречие и непримиримую борьбу. Личность человека как гармоничное сочетание духовно-телесных характеристик, требующих осмысления и выражения (например, в биографии, покаянии и исповеди) не вмещалась в узкие рамки дуалистической антропологии.
3. Из дуалистического противопоставления вырастала и этическая система: внутреннее, сердечное измерение человеческого духа, из глубины которого и может совершаться личное богообщение[15], оставалась без внимания, но главным предметом религиозного рассмотрения и действия представала умственная сфера – от мистического умного созерцания в неоплатонизме до усвоения эзотерического доктринального знания рассудочным сознанием у гностиков, а кроме того, всевозможные практики очищений от материального мира.
4. Основные требования религиозных систем поздней античности касаются внешних очищений (пищевые запреты в манихействе) или мистериальных обрядов (в митраизме). Критериологический момент оценки духовного опыта (практика визуализаций в неоплатонизме) не был развит, так что невозможно оценить духовный опыт с точки зрения истины или лжи, благодетельности или опасности для психики человека.
5. Все указанные религиозные системы признают метемпсихоз, чем умаляется момент уникальности и неповторимости личности человека, ценность его земной жизни в плане достижения Вечности. Процесс спасения души растягивается на неопределенное число различных рождений, то приближающих, то удаляющих душу от главной цели. Признание множества жизней души снимает проблему ответственности человека за каждое слово и дело, дает ему еще один или даже бесчисленное множество шансов достижения Вечности, тем самым снижая глубину и остроту этических и религиозных переживаний, растворяя религиозную энергию жажды спасения в мифологических схемах, диалектических и натурфилософских изысканиях.
6. Рассматриваемые религии и религиозно-философские традиции стихийно тяготеют к монотеизму, выдвигая на первый план фигуру какого-либо бога-избавителя (в неоплатонизме – Единое), дарующего спасение через приобщение к знанию или призывающего человека к участию в борьбе со злом. Однако до конца личностные характеристики центрального бога не выявлены, поэтому религиозно-мистические переживания человека в названных религиях носят пантеистический характер. Провозглашается идея высокого (божественного) происхождения человека, которая, по сути, не подкреплена практикой, поскольку в этих религиях отсутствуют понятия о вселенскости (универсальности) человека: утверждается деление людей на «мудрецов», «духовных», спасенных и непросвещенных, телесных, «толпу». Несмотря на декларацию универсализма или попытки вселенской проповеди, все названные традиции культивировали сектантское мировоззрение, для которого характерно разделение людей на приобщенных к истинной доктрине и предназначенных к гибели, лишенных разума, влачащих полуживотное существование, что выражалось в пафосе избранничества, особенно заметного у гностиков с их трехчинной классификацией человеческого рода.
Названные черты и другие недостатки религиозных систем позднего эллинизма предопределили их поражение и историческое забвение. Религиозный синкретизм, появившийся вследствие кризиса традиционной религиозности и в ответ на духовные запросы тогдашнего общества, не сделал рассмотренные системы более жизнеспособными, но скорее внутренне разлагал их. Принципиальная новизна, которая могла бы завоевать сердца людей, уставших от многобожного язычества с его незнанием внутреннего пространства личности и культом жестокости, была тогда только у христианства, ставшего фундаментом новой цивилизации и христианской культуры более чем на тысячу лет.
Основные антропологические идеи раннего христианства в контексте языческой культуры I–III вв.
Принципиальное отличие христианского благовестия заключается в его теоцентричности и антропоцентричности. Гностики, манихеи, неоплатоники и другие оккультные течения позднего эллинизма много занимались вопросами космогонии, составлением родословных богов, уделяя внимание различным мифологическим событиям, происходившим не только до творения мира и человека, но и до появления главного бога материальной действительности. Мифопоэтическое измерение в раннем христианстве отсутствует, внимание верующего направлено на Бога и человека в их взаимодействии и порой трагическом противодействии, любви Бога к человеку и ответа последнего на божественный призыв. Какие новые, никогда ранее не звучавшие антропологические идеи провозгласило раннее христианство?
1. Человек – главное и любимое творение Бога, ради него создан весь видимый мир, с судьбой человека связаны тайны мироздания и Самого Бога, поскольку Он по причине сострадания и милосердия к Своему падшему творению воспринял человеческую природу. Утверждением категории тварности по отношению к человеческой природе нивелировались претензии на самообожение, а утверждением создания по Образу и по Подобию утверждалось его высокое богоподобное (но не божественное!) достоинство.
2. Человек есть существо падшее, повредившее свою первоначальную природу актом непослушания Богу. Категория падшести в той же мере важна в христианской антропологии, как и категория тварности. Понятие о падшести человека вызывало целый ряд этических и поведенческих норм: смирение перед Богом, благодарность Ему, решимость переносить различные мучения ради исповедания веры, одним из главных стимулов терпения в которых было осознание своей отдаленности от Бога и желание мучениями приблизиться к Нему, преодолев последствия падения. Очень рано появляется осознание того, что падение человека преодолевается на путях страданий – от вольных ограничений (бдение, пост, молитва, сохранение девства) до невольных, если возникала ситуация, в которой требовалось исповедать веру, несмотря на угрозы мучений и смерти.
3. На понятии о падшести как глубинной поврежденности природы человека основываются представления о спасении. Другие религиозные системы эллинства и эллинизма никогда не рассматривали человека как существо погибающее, которое бы нуждалось в спасении; человеку, согласно языческой религиозности, нужны знания, опыт, аскетические усилия, но положение человека не столь уж плачевно, чтобы могли требоваться радикальные меры спасения в виде воплощения и смерти Бога. Христианство провозглашает катастрофичность человеческого бытия в мире. Человек может спастись через Христа, личного Бога, через покаяние (изменение сознания) и творение заповедей Божиих, которые стоят в радикальном противоречии со всей морально-этической системой язычества. В языческих религиях спасение понимается или в русле гностицизма (как приобщение к неким знаниям), или мистицизма (ритуал, мистерии, магия, различные оккультные очищения). Спасение личности как выход к Высшей Личности Бога – совершенно новое религиозное представление христианства.
4. Христианство принесло идею воскресения мертвых, вызывавшую особенное неприятие, насмешки и обвинения языческого окружения. Практически каждый из апологетов раннего христианства писал в защиту этого вероучительного положения, доказывая различным образом необходимость для природы человека воскресения: «по окончании всего будет воскресение тел – не так, как учат стоики, по мнению которых после некоторых периодов времени одни и те же существа всегда являются и погибают без всякой пользы, – но однажды, по исполнении наших веков и единственно ради восстановления одних человеков для суда» [15, 80]. Согласно эллинскому мироощущению, тела людей есть нечто недостойное и низкое, или, по выражению знаменитого противника христиан, Цельса, «подобное грязи», не подлежащее после смерти восстановлению. Однако христианство отстаивало ценность тела как храма Божьего именно на основании его высшего назначения.
Человек имеет двухчастный состав – телесный и душевный (в аскетической литературе будет принято отдельно выделять уровень духовный), каждому из которых будет соответствующее воздаяние – блаженство или мучение: «Если же решительно во всех делах Божиих и исходящих от Него дарах нет ничего напрасного, то совершенно необходимо, чтобы бессмертной душе соответствовало вечное пребывание тела, сообразно с его природою» [3, 108]. Таким образом, не просто реабилитировалось телесное начало в человеке, но само тело перестало рассматриваться только как плоть, а именно в качестве храма души. Кроме того, утверждением воскресения тел были введены правильные этические координаты: не тело виновно в том, что человек греховен, как предполагала античная философия, но сама душа, отождествившись с телом и передав ему власть управления над человеком, виновна в беззакониях. Особенно высокую оценку тела в своих сочинениях дал раннехристианский апологет Тертуллиан, называя его якорем спасения. Позже, уже в XIV в., свт. Григорий Палама разовьет идею тела как основания спасения в целую концепцию о том, что ангелы ниже естества человека, поскольку не имеют тела. Именно через тело человек может доказать Богу свою любовь, изнурив себя аскетическими подвигами или даже сподобившись мученичества, каковых возможностей у ангелов не имеется.
5. Поклонение мощам возникло в христианстве очень рано, – возможно, еще до первых гонений и появления мучеников, которые закрепили факт почитания останков умершего святого. Нужно помнить, что первое христианство не имело еще храмов, изображений и предметов культа, что также ставилось христианам в вину язычниками, однако мощи мучеников стали как бы семенем, из которого постепенно вырастает стройное древо христианского культа как почитания Духа в материи, воплощении духовного содержания в религиозно-эстетических образах. Похоронить мученика или иметь его мощи считалось делом невероятно почетным, из-за чего тела пострадавших за веру нередко уничтожались язычниками. Тела мучеников иногда выкупали за большие деньги и с почестями предавали земле.
6. В раннем христианстве требования к нравственности были беспрецедентно высокими. Христиане верили в буквальное вездеприсутствие Бога, что вызывало насмешки философов: «Они говорят, что их Бог, Которого они не могут видеть, ни другим показать, тщательно следит за нравами всех людей, делами, словами и даже помышлениями каждого человека, всюду проникает и везде присутствует: таким образом, они представляют Его постоянно беспокойным, озабоченным и бесстыдно любопытным» [10, 179]. Для языческого сознания было неведомо «внутреннее делание», которым, согласно свидетельству ранних христианских писателей (Афинагор, Тертуллиан, свт. Феофил Антиохийский), занимались христиане: охранять ум от всяких недобрых и греховных помыслов, потому что всеведущий Бог будет судить слова, дела и помышления человека.
7. Ранние христиане не просто держали высокий уровень нравственности, выражавшийся в буквальном следовании всем евангельским заповедям, но ради их сохранения они готовы были, живя в миру, отрешиться от его дел, праздников и обычаев, что порождало всеобщую к ним ненависть населения. Христиане не присутствовали на гладиаторских боях, не посещали цирков, театров и других развлечений, не участвовали в официальных празднествах в честь императоров, не увенчивали себя лавровыми венками и не украшали дома зеленью и свечами во время языческих торжеств, как того требовал обычай, прекрасно осознавая, что этим вызывают подозрения в нелояльности государству и обвинения в человеконенавистничестве. В минуты особенного эмоционального накала подозрительность и раздражение населения выливались в погромы, убийства, грабеж не только домов христиан, но даже их кладбищ. Идея удаления от мира, в полноте реализованная в монашестве, была составной частью уже раннего христианства, но имела тогда другие формы. «Умри для мира, – восклицает Татиан, – отвергнув его безумие; живи же для Бога и, познав Его, отвергни древнее рождение» [15, 82].
8. Ранние апологеты настойчиво утверждают категорию человечности (humanitas), выделяя ее как наиболее приоритетное в определении нравственной природы человека. Категория humanitas связана с морально-нравственным измерением, для обоснования которого привлекаются и развиваются в новом для эллинской цивилизации толковании понятия сострадания и милосердия. Кроме того, термин humanitas означал личностные характеристики человека, его способность достигнуть Бога, трансценденцию и преодоление самого себя ради обретения личности, своего подлинного «я». В этической системе христианства не существовало понятий избранничества или предопределенности к погибели (позднее изобретение протестантизма), но утверждалась категория призвания от Бога, Который может помиловать и обратить каждого человека: вчерашнего гонителя (апостол Павел), падшего и отрекшегося (апостол Петр), неверного язычника (сотник Корнилий). Само слово άνθρωπος (человек), по мысли апологета Лактанция, греки присвоили человеку, поскольку он устремлен вверх (ανω), к Богу, в чем выражается цель его жизни. Категория человечности в более поздний период святоотеческой традиции уходит на второй план, все более заменяясь категорией энергийности (в IV в. в каппадокийском богословии, потом после XI в. у исихастов) и нравственности (на Западе в эпоху схоластики и позднее).
9. Важным утверждением раннехристианской мысли стала защита жизни еще не рожденного ребенка, на основании того, что человек уже с момента зачатия имеет душу, дарованную от Бога. Лактанций, рассуждая о природе человека, говорит, например, так: «…утверждают, что душа есть воздух. Но и это несправедливо; потому что душа гораздо прежде зарождается, нежели воздух бывает принят устами. Душа не по рождении входит в тело, как думают некоторые философы, а тотчас по зачатии. <…> Однако же нельзя сказать, что она заимствует свое существо от души родителей; потому что такая тонкая и простая субстанция, как душа, не может ничего от себя отделить. Бог творит душу и соединяет с телом, хотя образ творения и соединения составляет для нас тайну» [14, 406]. В результате многочисленные и настойчивые упреки раннехристианских церковных писателей обращены к языческому обществу, в котором жизнь младенцев не была защищена никакими религиозно-нравственными устоями: «Если мы утверждаем, что женщины, вытравливающие зародившихся младенцев, делают человекоубийство и дадут отчет Богу за вытравливание, то как же сами станем убивать человека? Какой же человек, верующий в воскресение, согласится сделать ся гробом тех, которые вправе воскреснуть?» [4, 102] – говорит Афинагор. Церковные писатели и апологеты подчеркивают свое бережное и благоговейное отношение ко всякому человеку, указывая на высокую этическую планку в брачных отношениях (девство или только один брак, повторного брака ранняя Церковь не признавала, рождение всех Богом посланных детей) как на признак божественного происхождения христианства.
10. Апологеты, а за ними ранние отцы Церкви отказывались применять метафору микрокосма в отношении человека: «Как малое и недостойное грезилось благородство человека некоторым из внешних, которые сравнением со здешним миром пытались возвеличить человека. И говорили, что человек есть малый мир (μικρόν…κόσμον), составленный из тех же стихий, что и все. Но, громким этим именем воздавая хвалу человеческой природе, они сами не заметили, что почтили человека отличиями (идиомами) комара и мыши… Но в чем же, по церковному слову, величие человека? Не в подобии тварному миру, но в том, чтобы быть по образу природы Сотворшего» [6, 50]. Утверждалась надкосмичность человека, ради более тесного соотнесения его с Богом.
11. Христианство утверждает и переосмысливает в ключе личностных переживаний понятия о любви, милости, милосердии, сострадании, умилении и сокрушении сердца, смирении, кротости, духовном плаче. Расширение границ личности за счет введения подобных чувств и переживаний открывало новые бытийные горизонты, что рождало особого рода мировоззрение, литературу, искусство и культуру, способные формировать новые характеры и, в конце концов, новые этносы. Христианская любовь, даже простое обозначение членов общины «братьями и сестрами» вызывали у язычников чувства подозрительности, обвинения в грехах и насмешки, настолько идея всеобщего братства и заповедь о любви казались тогдашнему миру нелепыми.
12. Постепенно формировалось новое понятие о личности, достигшее в раннехристианский период яркого выражения у блж. Аврелия Августина и противоположное языческому представлению о гордом, самоутверждающемся, независимом индивиде. Центр новой личности – кающееся, умиленное, милостивое сердце. В восточных традициях умиление и сострадание растворяло человека в Природе, поскольку главным объектом сострадания часто выступала сама тварь, из чего следовали принципы непричинения вреда всему живому (джайнизм, кришнаизм, во многом индуизм). Сострадание человеку как падшему существу и Образу Божьему, которого ожидают в Небесном Царстве, есть новая идея не только для Древнего Востока, но и для тогдашнего языческого Запада, где идея сострадания связывалась скорее с понятием о слабоволии. Сострадание как высшее выражение волевой позиции в отношении к человеку – это новая идея, принесенная христианством.
13. Одним из самых ярких антропологических нововведений христианства стало утверждение богоподобной свободы человека. Для тогдашней ситуации это была в первую очередь свобода от судьбы, предопределения, религиозных суеверий, связанных с практиками гаданий и астрологии. Человеку дана возможность выбрать путь жизни или путь смерти – жизни по Богу или жизни по плоти. Именно свободу человека от мира (гадания по звездам, приметы и т. д.) отстаивало христианство перед язычеством, подчиняющим его космическим закономерностям и нивелирующим его богоподобную личность.
Христианство с первых же шагов осознало себя носителем принципиально новой системы этики, нового понимания Бога и человека. Оригинальность Нового Завета ярко осознавалась христианами, что вызывало восторженное и острейшее переживание эсхатологического измерения времени (см., например, Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова (1 Ин 2. 18): «Дети! последнее время…»). Важнейшим откровением о Боге стало представление, что Бог есть любовь, а к человеку обращен призыв уподобления такому Богу. Идеал любви к человеку был важнейшим призывом и одновременно исторической задачей, определившей христианскую культуру.
Литература
1. Аврелий Августин. Исповедь. М., 1997.
2. Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. СПб., 2003.
3. Афинагор. О воскресении мертвых // Апологеты. Защитники христианства. СПб., 2002.
4. Афинагор. Прошение о христианах // Апологеты. Защитники христианства. СПб., 2002.
5. Бычков В. В. Aesthetica patrum. Эстетика отцов Церкви. М., 1995.
6. Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. СПб., 1995.
7. Лега В. П. Философия Плотина и патристика: взгляд с точки зрения современной православной апологетики. М., 2002.
8. Мансуров С., свящ. Очерки из истории Церкви. М., 1994.
9. Марин. Прокл, или О счастье // Антология мировой философии. Античность. М., 2001.
10. Марк Минуций Феликс. Октавий // Апологеты. Защитники христианства. СПб., 2002.
11. Плотин. Эннеады // Антология мировой философии. Античность. М., 2001.
12. Прокл. Первоосновы теологии // Антология мировой философии. Античность. М., 2001.
13. Порфирий. Жизнь Плотина // Антология мировой философии. Античность. М., 2001.
14. Скворцов К. Философия отцов и учителей Церкви (период апологетов). Киев, 2003.
15. Татиан. Против эллинов // Апологеты. Защитники христианства. СПб., 2002.
16. Энциклопедия для детей. Религии мира. М., 2001. Т. 6. Ч. 1: Верования древности.
Глава 5. Различия православной, католической и протестантской антропологии
Различия в учениях о человеке, которые характерны для трех самых многочисленных христианских конфессий (православие, католичество, протестантизм), в современном богословии исследованы еще недостаточно. Чаще всего в литературе обсуждаются отличия экклесиологического характера между католичеством и православием[16]. Говоря о различиях между православным вероучением и протестантизмом обсуждают практики благочестия, отношения к таинствам и другие проблемы церковных обычаев и вероучительных определений[17]. Между тем расхождения между тремя конфессиями весьма значительны, различия в догматике и даже в культе (богослужебной культуре) зависят от понимания центральных идей – сущности и бытия Бога, сущности и цели создания человека. Различия теологического характера очевидны: у католиков за счет введения в Символ веры вставки Filioque (и от Сына) Сущность Божия оказывается превалирующей над Ипостасями, началами Персональными: «…западная мысль в своем изложении тринитарного догмата чаще всего отправлялась от единой природы, чтобы прийти к Лицам, тогда как греческие отцы шли путем противоположным – от трех Лиц к единой природе» [8, 131], в результате чего Ипостасные свойства растворяются в Божественной сущности. В Троицу вносятся признаки субординационизма, поскольку Бог Дух Святой исходит как от Отца, так и от Сына, согласно Filioque, т. е. Он получает не самостоятельное бытие, но зависимое от Отца и от Сына, чем нарушается с точки зрения восточнохристианского восприятия внутритроические отношения абсолютного равенства (равночестности) и любви. Для восточной теологии Бог Отец есть единый исток Божественного Бытия и начало единства Святой Троицы. От Отца превечно рождается Бог Сын и исходит Бог Дух Святой. В католическом толковании ипостасные свойства становятся модусами, а Бог Дух Святой приобретает признаки логической связки между Лицами Отца и Сына.
Второе фундаментальное отличие состоит в том, что, согласно официальной концепции томизма, Бог есть Существо простое или чистый акт бытия, соответственно Его энергии, направленные к миру и человеку, признаются тварными, в то время как богословская мысль Востока признаёт энергии Божии нетварными, но непостижимо отличными от сущности Бога. Православное богословие различает сущность, три ипостаси и нетварную энергию, исходящую, но не отделяющуюся от божественной природы. Католическое понимание бытия Бога близко философскому, для которого «…концепция Бога как чистого акта не может допустить чего-то, что было бы Богом и не было бы самой сущностью Бога: здесь Бог Своей сущностью как бы ограничен» [8, 145]. Эти два наиболее ярких отличия богословского характера довольно ясно осознаны и подробно изучены в XX в.[18] В предшествующие столетия самыми значительными отличиями в конфессиях выступали догмат о непогрешимости римского папы, мариология и практики благочестия. Логично предположить, что столь яркие отличия в понимании сущности Бога должны иметь следствием разницу подходов и к проблемам антропологии: различие в догматах придает «различный уклон всему учению, представляет его в ином свете, иными словами – порождает иную духовную жизнь» [8, 107], иное понимание сущности человека.
Различны авторитетные источники, откуда черпают знания о человеке на христианском Западе и Востоке. В православии это Ветхий и Новый Завет, святоотеческая литература, по преимуществу отцов-аскетов, живших в Сирии, Газе, Палестине и Египте, и святых отцов, осуществивших богословский синтез (прп. Иоанн Дамаскин, прп. Максим Исповедник, свт. Григорий Палама). Источниками для католической традиции являются Ветхий и Новый Завет, учение блж. Аврелия Августина, Ансельма Кентерберийского и Фомы Аквинского, энциклики пап Пия XII и Павла II, деяния Соборов, в том числе Флорентийского (1442), Латеранского (1512–1517), I Ватиканского (1864) и II Ватиканского (1962–1965). Кроме того, католическая антропология подверглась влиянию различных популярных философских и научных концепций (в том числе теории эволюции), частично усваивая или отвергая эти концепции как противоречащие или соответствующие доктрине католицизма. Текучесть, аморфность католической антропологии зависела от того, что отсутствовала единая святоотеческая концепция, имеющая незыблемый авторитет.
До раскола Церквей (1054) различия в антропологических концепциях имели место, но не были осознаны и сформулированы. Необходимо помнить, что речь в данном случае идет именно о теологии, а не о практической церковной жизни, о чем писал прот. Георгий Флоровский: «…вера Западной церкви далеко не исчерпывается западным “богословием”. Я думаю, что по вере католичество более православно, чем в его школьном (или метафизическом) богословии» [13, 81]. Это краткое замечание позволяет осознать не только отличия (несомненно яркие и очевидные), но и найти основы для диалога с носителями католической религиозности, принадлежащими к западной духовной традиции – исторически, интеллектуально и религиозно-психологически.
Для становления основных понятий западной антропологии огромное значение имел спор блж. Аврелия Августина (354–430) и еретика Пелагия. Позиция церковного деятеля из Британии Пелагия (настоящее имя Морган, умер после 418 г.) сводилась к отрицанию божественного предопределения в отношении гибели или спасения людей. Первородный грех не смог до конца извратить природу человека, у которого осталась свобода воли и способность самому творить добро без помощи благодати. блж. Августин обрушился на Пелагия с критикой, утверждая, что природа человека извращена, без благодати человек не может творить добро, и Бог превечно, согласно Его предвидению, уже предузнал гибель или спасение людей. С точки зрения Восточной Церкви как одна, так и другая позиция являются крайностями, но позиция блж. Августина была в целом принята католиками за образец. Учение блж. Августина вплоть до появления томизма было основополагающим для католической традиции, и, кроме того, его сочинения стали фундаментом для протестантской антропологии. Это обстоятельство обусловлено наличием у него двух концепций – ранней (385–395) и поздней (395–430). Идеи его ранней концепции легли в основу католической антропологии, вторая стала источником для протестантской антропологии: М. Лютер, выходец из августиновского монашеского ордена, назвал Аврелия Августина своим предшественником вместе с Джоном Виклифом (1328–1384) и Лоренцо Валла (1407–1457).
Для первой концепции блж. Августина характерно преобладание рационалистических черт: на первый план активно выдвигается разум, так как Августин следует античной традиции, от которой к этому времени он еще не до конца дистанцировался. В ранних диалогах пафос познания и утверждение, что разум ведет к блаженной жизни, достигают наивысшей степени. Блаженный человек во всем мудр, он ищет истину и, находя ее, обретает безмятежность души. Различие с античной традицией заключается в том, что как в ранних, так и в поздних работах Августин выдвигает понятие любви как высшей цели стремления человека: Бог есть не только Истина, но и Любовь. Бог познаётся человеком в сокровенном душевном пространстве (сочинения «О Троице», «Исповедь»), поэтому для познания Бога человек должен заниматься самопознанием, проникновением в глубины своей душевной жизни. Бог-Слово вмещает платоновский мир идей, поэтому, познавая мир, человек способен постичь истину только в Боге умом, просвещенным верою. Высшее счастье человека – наслаждение истиной, которая есть Бог.
Вопрос о сущности зла (в диалоге «О свободном решении» 388 г.) решается Августином в порядке теодицеи: Бог не сотворил зла, все созданное Им сущее есть благо, источником зла в мире является свободная воля человека. Возвеличивая свободу воли человека, Августин преследует цель оправдания Бога. Чтобы свобода воли человека была возможной, необходимо допустить автономию субъекта, его независимость от Бога, природных причин и явлений. Доказав такую широкую автономию воли, Августин приходит к сложной проблеме соотношения свободы и благодати, природы человека и божественного провидения. Он доказывал, что промысел Божий не устраняет автономии воли человека: Бог как всеведущий все предвидит, но не все предопределяет. Человек свободно совершает зло, поэтому и терпит заслуженное наказание, поскольку Бог справедлив. Заповеди Бога написаны в душе каждого человека как моральный закон совести, грех же есть преступление морального закона, вследствие уклонения воли к злу. Зло, порожденное свободой человека, не является некой субстанцией, но есть отсутствие блага, как бы паразитарное образование на теле сущего. Августин признаёт, что творение добра для человека есть подвиг воли, к которому необходимо принуждать себя, поэтому человек может понести наказание не столько за содеянное, сколько за невыполнение должного, т. е. вследствие своего нерадения.
В этом пункте Августин во многом совпадает со святыми отцами православного Востока, полагавшими, что грешит человек по нерадению, поэтому грех и вменяется ему. Пункт расхождения заключается в определении справедливости. Восточные отцы (в частности, прп. Исаак Сирин) отказывались называть Бога справедливым, поскольку Он выше человеческих понятий о ней: если бы Он каждому воздавал наказанием за зло, то не устояла бы вселенная. Напротив, Он воздает человечеству добром и благословением, несмотря на грехи и неблагодарность, и к такому же образу действий призывает каждого человека. Августин, рассуждая о любви к Богу и человеку, рассматривал ее как определенного рода должное: если человек может, то и должен любить. Человека он должен любить не в некотором отношении (в качестве отца, брата и т. д.), но только за то, что он есть Образ Божий, за самую его человеческую сущность, которая заключается в свободе воли, как наиболее полное выражение его богоподобия.
В поздней концепции блж. Августин выдвигает совершенно другие темы и предлагает иные решения. Поворот в его мировоззрении связан с тремя событиями. Во-первых, Августин принимает епископский сан (зима 395/96 г.), что побуждает его более решительно отмежеваться от философских взглядов. Во-вторых, сочинениями его раннего периода воспользовались еретики-пелагиане, объявившие, что благодать не нужна для спасения. Необходимо было вырвать это оружие из рук еретиков, что можно было сделать, написав новые сочинения, в которых была бы разъяснена его позиция по вопросу соотношения человеческой природы и благодати. В-третьих, Августин начинает систематическое изучение трудов апостола Павла. Особенно внимательно он относился к Посланию к римлянам, в котором обсуждаются темы, волновавшие его в тот период. Вторая концепция во многом зависит от идей, высказанных в Послании к римлянам, которое и для протестантизма явилось центральным текстом христианства, о чем свидетельствуют комментарии и трактаты по этому поводу М. Лютера, Ж. Кальвина, Ф. Меланхтона, К. Барта и других протестантских авторов.
Вторая концепция Августина основана на утверждении о существования двух типов людей: избранных и отвергнутых. Она легла в основание фундаментального сочинения «О граде Божием» (413–437): существует греховный мир, составляющий Град земной, и странствующий в нем Град Божий, состоящий из спасаемых. Люди делятся на две категории, согласно критерию веры или неверия, но веру человеку подает Сам Бог. Вопрос о том, каким образом Бог может избрать или отвергнуть человека, если Он Сам дает ему веру, в рамках концепции Августина остается нерешенным. Августин выдвинул концепцию благодати, дарование которой предшествует всякой заслуге человека. Направленность к добру, к вере в Бога есть следствие призвания и оправдания, в которых сам человек не властен. Данное утверждение Августина противоречит восточно-христианской идее синергии воли Божией и воли человеческой: для спасения нужно «соработничество» воль, насильно Бог никого не спасает, на Его призыв человек должен ответить свободным согласием.
Восточнохристианское решение Августин считал «неблагочестивым», так как оно противоречило буквальному смыслу некоторых фраз из Послания к римлянам апостола Павла и, кроме того, слишком возвеличивало сферу «доброй воли» человека, несоотносимой, по Августину, с величием Божиим. Отвергнув идею синергии воль, Августин остается с дилеммой о соотношении благодати и божественного призвания с человеческой природой: «Будем же верить, если не можем постичь» [14, 148] – вот единственное решение, предложенное Августином. Верить нужно в высшую божественную справедливость, не делающую ничего напрасно и совершающую избрание на основании непостижимых для человека критериев.
Вторая антропологическая концепция Августина пессимистична: человек имеет только способность ко злу, он ощущает свое полное бессилие и ничтожество, но у него есть надежда на Бога. Человек переживает свои добрые решения как свободные, психологически они есть его акты, но сущностно все доброе – только дар благодати, которая одна способна даровать человеку терпение, чистоту сердца, милосердие, благочестие, любовь. Именно этические добродетели составляют у Августина сущность блаженной жизни, а мудрость как условие блаженства отходит на второй план.
Антипелагианские трактаты Августина стали причиной волнения в монастырях. В 426 г. часть монахов из Гадрумента истолковали его писания в духе фатализма, о чем настоятель Валентин послал письмо Августину. В ответ Августин послал монахам трактат «О благодати и свободном решении», умоляя признать как одно, так и другое начало в деле спасения. В 428 г. возникло брожение умов среди монахов Массилии, которых испугали пессимистические и фаталистические выводы в сочинениях Августина. Монахи отстаивали свободу воли человека, полагая, что человек не способен ни к какому добру, кроме веры, а желание спасения и воля к добру являются основанием избрания. Учение массилитов на Западе получило имя «полупелагианства», против которого Августин написал трактаты «О предопределении святых» и «О даре упорства», в которых усилил акценты в понятиях предопределения и избрания. Из комплекса идей Августина следовало несколько важных выводов: во-первых, в антропологических размышлениях приоритетными оказались понятия об избранных и отвергнутых; во-вторых, на первый план выходят фундаментальные категории: с одной стороны, природа человека и его свободная воля, с другой – божественная благодать. Человек рассматривался в целом как существо довольно статичное: к его испорченной грехопадением природе внешне прилагается благодать. Концепция о внутреннем взаимодействии человеческой природы и божественной энергии, характерная для восточной святоотеческой мысли, остается на Западе практически неизвестной.
Добавочная благодать, прилагаемая к природе человека, на Западе получила специальное обозначение – gratia supererogatia (добавочная, сверхдолжная благодать), которая и побуждает человеческую природу направиться к добру. В результате полемики Августина с Пелагием в контекст католической антропологии вводится понятие об автономии человеческой природы: Бог непричастен злу, основа которого в уклонении воли человека от добра. В таком рассуждении таилась опасность постепенной эмансипации человека от Бога. Однако у самого Августина подобный ход мысли невозможен, так как для религиозной эмансипации человека требовалась долгая работа, и в первую очередь рационализация как теологии, так и антропологии, превращение их в систему. На рубеже тысячелетий, перед расколом Церкви, у католиков началась постепенная рационализация религиозной антропологии.
Важнейшей фигурой западного богословия XI в. был Ансельм Кентерберийский (1033–1109), первый схоласт, который догматически обосновал учение о предопределении и искуплении через «удовлетворение» заслугами Христа. Жертва Христа вполне соответствовала тяжести падения человека, так что само его спасение совершалось в недрах Божества, и вопрос о прощении человека решен в его пользу. Однако сам человек выступает в качестве пассивной точки приложения благодати, а его активность сосредоточивается в познавательной (рациональной) сфере. Юридическая концепция оправдания человека опиралась на сложное место из Послания к римлянам апостола Павла, которое было в центре полемики между Августином и Пелагием: «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12). Последние слова на латынь с греческого оригинала были переведены in quo omnes peccaverunt, т. е. «в нем [в Адаме] все согрешили», что подтверждает мысль о вине всех потомков Адама за первородный грех: «Согласно латинской патристической экзегезе все согрешили “в Адаме” еще до совершения личных грехов, и это относится, таким образом, к младенцам» [16, 49].
Буквальное прочтение данного текста в латинской традиции, безусловно, связано с преобладанием рационалистических методов толкования Священного Писания. В оригинальном греческом тексте вместо переведенных у католиков «в нем» стоит εφ ω, что буквально означает «потому что». Таким образом, смысл отрывка для греческих отцов был совершенно другим: «Как грех пришел в мир через одного человека и смерть через грех, так смерть перешла на всех человеков, и по причине смерти все человеки грешили» [9, 208]. Смерть, постигшая все человечество, есть возмездие за грех, а люди грешат потому, что они существа смертные. Греческие отцы подчеркивали связь всех согрешений людей с первородным грехом Адама, от которого начались грех и смерть. Современная католическая экзегетика склонна понимать это место послания в том же смысле, как и восточные отцы, однако на протяжении многих веков на Западе держались формально-юридического подхода, породившего разное отношение к миссии Христа и понимание природы человека.
На Западе полагали, что Христос пришел удовлетворить грех Адама, на Востоке – разрушить грех и смерть. Соответственно человек на Западе рационально приобщается к делу Христа, осмысливает и понимает, чтобы верить, а на Востоке человек есть соучастник дела спасения. Для западного богословия все люди были ответственны за грех Адама, виновны в глазах Бога и нуждались не просто в искуплении, но и в прощении за первородный грех. Крещение понималось как таинство прощения грехов, совершалось в одно погружение (что постепенно эволюционировало в «обливание»), в то время как на Востоке крещение совершалось в три полных погружения как символ тридневного погребения и воскресения Христа.
Ансельм Кентерберийский разрабатывал концепцию соотношения веры и разума, написав сочинение «Монологион» «в ответ на просьбу нескольких монахов Бекского аббатства, которые желали иметь образец для размышлений о существовании и сущности Бога, в процессе которого все было бы доказано разумом и ничто не основывалось бы на авторитете Священного Писания» [6, 182]. Заметим, что подобная просьба от монахов на православном Востоке была бы немыслима, а если она была бы высказана, то, скорее всего, ее рассмотрели бы как свидетельство о глубочайшем духовном нездоровье. Однако для Западной Европы XI в. автономия человеческого разума считалась делом если не решенным, то, во всяком случае, приемлемым в качестве возможности. Ансельм решил проблему соотношения веры и разума в терминах паритета – нельзя отказаться ни от той, ни от другого, но за видимой констатацией рядоположенности веры и разума явно высказывается идея о предпочтении разума: «…дело у него обстоит так, как будто всегда можно понять если не то, во что веруешь, то по крайней мере необходимость в это веровать» [6, 183].
Человеческий разум, основываясь на правильной технике размышления, способен понять и даже самостоятельно приблизиться к истинам откровения. В сочинениях Ансельма идея неразрывности и взаимозависимости веры, разума (познания) и следующей из их правильного сочетания божественной радости выстраивается таким образом, что без познания вера, любовь и блаженство оказываются невозможны: «Еще не сказал я, Господи, и не помыслил, сколько возрадуются эти блаженные Твои. Верно, столько возрадуются, сколько возлюбят; столько возлюбят, сколько познают. О, сколь много познают они Тебя, Господи, в оное время и сколь крепко возлюбят Тебя!» [1, 202]. Несмотря на то что Ансельм еще сохраняет видимую связь с традицией мысли, восходящей к блж. Августину (диалогичность произведений, в которых разыскание истины происходит через обращение к Богу, полемика с Августином по ряду вопросов и т. д.), тем не менее он сам стал основоположником новой традиции, которая постепенно оформится в качестве классической схоластики.
Полная и окончательная рационализация природы человека была совершена в трудах Фомы Аквинского (1224–1274), учение которого до сих пор остается приоритетным для Католической Церкви. Человек в описании Фомы включен в иерархический строй тварного бытия, на вершине которого располагаются ангелы, нижней границей является неодушевленная материя. Ангелы в системе Фомы Аквината являются высшим творением, поскольку они нематериальны, но имеют духовную простую природу, сущность которой заключается в чистой интеллигенции – мыслительной и созерцательной способности. Человек ниже ангелов, так как его душа не чистая интеллигенция, но простой интеллект, а телом он причастен миру материи, т. е. является сложным двусоставным существом, что свидетельствует о несовершенстве, поскольку Бог есть чистый акт бытия, всякое удаление от Него есть усложнение сущности.
Человек в описании Фомы Аквинского есть психофизическое единство, у которого, согласно Аристотелю, душа является энтелехией тела. В нем сочетаются две «неполные» субстанции: тело и душа, соединение которых образует полную единичную природу: suppositumrationale (рациональная суппозитория). Поскольку душа человека сущностно не является интеллигенцией, то она неспособна к чистому восприятию умопостигаемого мира подобно ангелам, но интеллект человека – это то, что роднит его с ангелами. Согласно концепции Фомы Аквинского, человек есть природа рациональная: «“Ratio est potissima hominis natura”, “Разум есть могущественнейшая природа человека”. Назначение человека – понимать и действовать с пониманием. Это положение лежит в основании его этики и политики» [12, 144].
Как писал Фома Аквинский, «разум – причина свободы» [12, 144–145]. Свобода в интерпретации Фомы Аквинского есть способность выбора между благом и злом. Человек всегда стремится выбрать благо, насколько он способен оценить нечто в этом качестве, но он часто не понимает, что цель его стремлений есть Высшее Благо, т. е. Сам Бог. Соединение с Богом дает человеку высшую свободу, отсутствие обладания Богом ставит человека в необходимость постоянного выбора между различными возможностями, что ограничивает его свободу, заставляя желать одного или другого, страдать от неудовлетворения своих хотений. Приблизиться к Высшему Благу человек способен с помощью относительных благ: «Знать свои страсти и сдерживать их, искоренять свои пороки, приобретать и сохранять добродетели, искать счастья самыми благородными и достойными действиями, то есть в уважении к правде с помощью изучения умозрительных наук, – вот реальное, хотя и несовершенное, блаженство, на которое мы можем притязать в этой жизни» [6, 407]. Человек познаёт себя как индивид, как «я» – особый мир ощущений и мыслей, поскольку только человек способен к ауторефлексии, или к тому, что Фома Аквинский называет полным возвращением субъекта к самому себе.
Такая реверсия самосознания есть признак высшего интеллекта, в то время как с помощью ощущений самопознание невозможно, и, таким образом, реверсия есть признак духовного (интеллектуального) бытия человека. Фома Аквинский описывает личность как индивидуальную субстанцию, имеющую разумную природу. Таким образом, разум является в его концепции началом не только свободы, но и личности – уникального, особенного и одновременно неуловимого в человеческом бытии, т. е. того, что на православном Востоке отождествляли с образом Божиим в человеке. Фома Аквинский полагал, что личность есть самое совершенное в природе – то, что самостоятельно существует в своем разумном естестве. Таким образом, он давал высокую оценку интеллекту человека, который делает личность истинной субстанцией – несообщаемым и уникальным бытием.
Человек как психофизическое единство обладает бо́льшим достоинством, чем душа. Именно психофизическое единство определяется как личность, а не душа сама по себе. Поэтому после отделения души от тела уже невозможно говорить о личности человека, который имеет без тела неполноценное, ущербное бытие. Душа есть субстанциальная форма (энтелехия) тела, она наполняет его своим присутствием, одушевляя все уровни человеческого существования, вегетативный, чувственный и интеллектуальный. После смерти душа, избравшая истинное благо, способна приобщиться к миру духовных созерцаний, поскольку высшая цель человека – познание Бога как Истины, Блага и Любви. Посмертное блаженство человека у Фомы Аквинского носит интеллектуальный характер: человек приобщается к миру ангелов, но в полноте его блаженство откроется после воскресения тел, т. е. в момент полного обретения своей природы.
Однако рационализация природы человека – неокончательная стадия развития католической антропологии. Наиболее ярко антропологический идеал католичества утверждал Игнатий Лойола (1491–1556), организатор иезуитского монашеского ордена, одного из самых влиятельных в католичестве. На момент смерти Лойолы в рядах иезуитов состояло около тысячи человек. Как точно заметил историк П. М. Бицилли, «св. Игнатий Лойола может, подобно своему современнику Мартину Лютеру, рассматриваться как наиболее типичное воплощение католического духа, поскольку для обоих – и для создателя нового исповедания, как и возродителя Римской Церкви – исходной точкой был ужас перед своей греховностью и боязнь за судьбу своей души» [2, 70–71].
Переживание безысходности и ужаса от видения греховности человека, характерное для западного христианства, объясняется, по-видимому, психологическими особенностями романо-германских народов. Для восточного христианства нехарактерно и никогда не было центральным в духовном опыте переживание, на основе которого выстраивались бы дисциплинарные установления или догматические учения. Игнатий Лойола нашел выход своему ужасу в антропологической концепции всецелого послушания, которое способно избавить человека от греховной скверны и, что немаловажно, от переживаний обреченности на гибель вследствие непреодолимости греха.
Концепция «Sancta obedientia» («Святого послушания») стала отправной точкой иезуитского мировоззрения и дисциплинарных норм. Безусловный отказ от своей воли, полная преданность Церкви, подавление своей личности как путь преодоления греха и обретения умиротворения – вот к чему призывал И. Лойола. «У иезуита нет своей воли и своего разумения; или, вернее, воля и разумение его начальника должна быть для него его волей и его разумением; начальникам должно повиноваться с “удовольствием”, даже если они требуют чего-либо “отвратительного для наших ощущений”, памятуя, что “начальники поставлены вместо Господа нашего Христа”, должно ловить малейшее движение начальствующих, стараясь угадать их желания» [2, 72]. Таковы основные положения трактата Лойолы «О повиновении», в котором он сравнивает повиновение с костром, на котором весь человек без остатка должен сгореть огнем любви, с помощью своих начальников, уподобленных священнослужителям, приносящим жертву всесожжения Иисусу Христу. Антропологический идеал Лойолы – «образцовый подчиненный» или «примерный ученик», у которого как внутренне нет и тени сомнения или осуждения начальства, так и внешнее поведение должно соответствовать умонастроению.
«Образцовый подчиненный» должен следить за своим обликом: «…головой не болтать туда и сюда, но держать ее с выражением серьезности… когда надо; а когда не надо, – прямо с легким наклонением вниз, но не нагибая ни вправо, ни влево. <…> Беседуя с кем-либо, особливо с кем-либо из начальства, не вперяться взором в глаза собеседника, но скорее должно смотреть ниже глаз. Надлежит избегать морщин на лбу, а тем паче на носу… рот должен быть не слишком сжат и не слишком раскрыт» [2, 73] и т. д. Подчинение достигается при помощи духовных упражнений, иезуитской аскезы, изобретенной Игнатием Лойолой и основанной на развитии воображения и способности им управлять. Неофит, вступивший в орден, должен был под руководством опытного наставника с помощью психотехники вызывать в себе ряд представлений, близких по интенсивности переживания к галлюцинациям. В течение довольно продолжительного времени (несколько недель) он должен созерцать свою скверну, исполняясь ужаса от масштабов своего падения, трепеща перед лицом неумолимого Судьи Бога. Он должен воображать земную жизнь Иисуса Христа, представлять себя мучающимся в аду. Видения должны носить интенсивный характер и быть направлены на представления страданий, различных пыток и т. д. На заключительном этапе неофит созерцает Церковь, торжествующую вечную победу, ее славу и величие.
Воображение в духовных практиках иезуитов играет большое значение потому, что именно через него при соответствующей настройке происходит прямой доступ к воле подчиненного, который становится преданнейшим адептом ордена. Постоянно практикуя медитативные галлюцинации по предписанию ордена, неофит становится послушным орудием в руках начальства, а главным начальником и руководителем иезуитов был римский папа, повиновение которому входило, помимо обычных монашеских обетов, в формулу мироотречения и окончательного присоединения к ордену. По мнению И. Лойолы, Христос создал Церковь, которая ему должна быть абсолютно послушна, как рабыня без своей воли, как подданный своему монарху. Если Церковь в лице римского папы выскажется о некой белой вещи, что она черная, то истинный послушник должен верить папе, а не своему мнению. Требование абсолютного послушания, призыв к героическому отказу от своего «я», деятельная борьба с врагами Церкви – вот основные идеи Лойолы, которые являются не просто его самовольным изобретением, но выражают общий дух и самую сердцевину католической антропологии.
По мнению прот. Георгия Флоровского, католическая теория непогрешимости римского папы вытекает не из догмата fi lioque (примат папы существовал еще до того, как был выдвинут этот теологумен), но объяснима из неясности христологии, которая порождает и соответствующую антропологию. Примат Сущности Бога над ипостасным (личным) началом в католическом богословии рождается из ощущения разрыва мира и божественной сферы: «… смысл вознесения Христова был так воспринят, что “исторический” и “онтологический” планы разрывались и “историческое бывание” Церкви обособлялось в автономную сферу» [13, 80]. Христос выпадает из бытия мира, но оставляет Своего наместника и заместителя – папу, а Сам Он, как Бог и как Человек, принадлежит далекому высшему миру. Папа может «заместить» Христа, стать «непогрешимым» только в результате обезличивания, когда его человеческая природа поглощена его главной функцией наместничества. Папа есть медиум апостола Петра, который через папу вещает истину и управляет Церковью. Эта тенденция к упразднению личного начала, имеющая прямым следствием как примат папы, так и Filioque, коренится в антропологии, особом видении человека, характерном для Запада.
Как учение И. Лойолы, так и грандиозная система Фомы Аквинского совершенно не соотносятся с представлениями о природе человека и его познавательных способностях, которые утвердились на православном Востоке, где уже достаточно рано стали рассматривать центром познания и сущности человека его сердце. Это мнение можно обнаружить уже у отцов-каппадокийцев, а вся православная аскетическая литература практически не знает других вариантов. Узреть Бога, познать Его волю способно, однако, не всякое сердце, но преображенное, в котором соединились бы воедино душевные силы, распавшиеся на отдельные комплексы в момент грехопадения. Ум и сердце, разъединенные грехопадением, способны к соединению через аскетический подвиг, особенно через молитву и покаяние. В естественном состоянии ум человека направлен не к Богу, но к размышлению о чувственных предметах, а сердце исполнено различными страстями. Первый шаг на пути к обретению подлинного духовного умно-сердечного места, которое и будет центром преображенной, истинной личности человека, – это борьба с греховными и суетными помыслами.
Теорию о борьбе с помыслами развивал монах Евагрий Понтийский (ум. 399), основы аскетического мышления которого стали фундаментом аскетических практик на православном Востоке. Евагрий с его еретическими (в основе – оригенистскими) взглядами был осужден на Соборе 553 г., но его антропологические и аскетические учения не были отвергнуты. Евагрий разработал концепцию восьми страстей и страстных помыслов, а также учение об умной молитве, которое было подвергнуто корректировке дальнейшими отцами-аскетами. «Умная молитва», которую Евагрий понимал как направленность молящегося ума на созерцание Бога, у прп. Макария Египетского, прп. Иоанна Лествичника и далее во всей православной восточной традиции стала пониматься как «умно-сердечная». Это означало направленность внимания на сердце и ум, соединение двух сил души в едином покаянном порыве к Богу, отсечение всех приходящих помыслов с помощью «заключения» сознания в слова молитвы.
Если у Евагрия сущность человека есть его ум, интеллект (что роднит его концепцию с античной и с католической), то в дальнейшем святые отцы православного Востока ясно выразили мнение, что таким центром может быть только сердце, под которым подразумевали «просто внутреннюю личность человека, “я” в самой его сокровенной глубине» [9, 98]. «Сердце» здесь, в отличие от того, что под ним понимали на Западе, не является эмоциональной стороной человеческой природы, но центром духовных сил, оно есть и душа и ум (одухотворенный) одновременно. Скрепой ума и сердца служит божественная благодать, присутствие которой в человеке и рождает его как истинную личность-ипостась. Таким образом, без благодати человек является незаконченным, незавершенным и несовершенным творением, благодать является частью самой его природы, поэтому для восточного мышления никогда не стоял вопрос о «соотношении» или противостоянии природы человека и благодати.
Наиболее полно православную антропологию выразил прп. Максим Исповедник (VII в.), учение которого для Православной Церкви является столь же важным, как для Католической Церкви – доктрина томизма. Антропология прп. Максима теоцентрична, в отличие от психологической концепции Августина. прп. Максим Исповедник не занимался вопросом рассмотрения наличного и падшего греховного самоощущения личности, но обращался к анализу его должного состояния, чтобы прийти к аскетическим требованиям, предъявляемым к человеческой природе. Антропология прп. Максима покоится на центральной идее превечного замысла Божия о человеке и его конечной судьбе.
Согласно прп. Максиму, все бытие разделено на пять антиномий, или особых противоположных сфер: 1) Бог и тварное бытие; 2) чувственное и умозрительное (ангельский мир) бытие; 3) небо и земля; 4) земная реальность и рай; 5) женская и мужская природа. Бог сотворил Адама, для того чтобы все бытие сделать единым, разрушить антиномические противостояния, противоречия тварного бытия. Адам был уникальным существом, сопрягавшим все видимые и невидимые начала, и, таким образом, он имел предпосылки преодоления в самом себе и через себя антиномий бытия. Человек должен был преодолеть разделение полов истинной любовью к Богу и ближнему. Само создание двух полов, согласно прп. Максиму и толкованиям других восточных отцов, было допущено в предвидении грехопадения: «Половая поляризация давала человеческой природе известную защиту, не налагая на нее никакого принуждения; так дают спасательный круг путешествующим по водам, отчего он вовсе не обязан бросаться за борт. Эта возможность становится актуальной лишь с того момента, когда в результате греха, который сам по себе не имеет ничего общего с полом, человеческая природа пала и закрылась для благодати» [8, 301]. Пол должен был с момента грехопадения выполнять функции воспроизведения человеческого рода, для того чтобы сохранить человека как вид. Нужно помнить, что до момента падения человек не имел смертного физического тела. Согласно прп. Максиму, его тело было легким, не подверженным тлению, не нуждающимся в систематическом питании. В момент грехопадения Адам и Ева обнаружили, что «они наги», т. е. грех актуализировал тело в качестве плотского начала в человеке, а облачение в «кожаные ризы» означает приобретение смертной грубой телесности. Таким образом, до грехопадения пол был началом не физическим, но метафизическим, внутренним принципом организации Адама и Евы. После совершения греха он стал сродным животному началу, с чем также связывается наказание для преступивших заповедь.
Согласно цели своего творения, человек должен был распространить рай на весь Космос так, чтобы все бытие стало нетленным и прекрасным. Он должен был преодолеть границы неба и земли, утончив тело и сделав его неподвластным пространственно-временной детерминации, открыв тем самым себе путь на небо. Достигнув венца всех добродетелей, Адам должен был соединить ангельский и чувственный миры и, наконец, в полной самоотдаче любви соединиться с Богом: «Он самым существом своим был связан со всеми основными (общими) членами деления: с землей – телом, с чувственным бытием – чувствами, с мысленным – душой, а к Несозданному естеству он мог восходить своим умом. Все эти части он должен был подчинить одна другой, низшую высшей, и, таким образом, объединить в одном устремлении к Богу» [5, 74].
Конечный смысл бытия человека заключался в его способности к обожению, к тому, чтобы воспринять образ божественного бытия по благодати, которым Бог обладает по природе. Предназначение человека не созерцание (прославление) Бога, как утверждает католическая традиция, но соучастие в Божественном бытии посредством энергий. Человек есть существо энергийное, его ум и воля являются проявлениями его энергий, которые легко сообщаются с божественными энергиями. Цель его создания заключалась в том, чтобы посредством подвига человек достиг обожения, распространив это состояние на весь мир, на весь сотворенный Космос. Даже после падения эта возвышенная цель не отнята от него, но реализуется она теперь иными способами, уже не в Ветхом Адаме, но в Новом, который есть Воплощенный Логос.
Согласно учению прп. Максима, тело человека до падения не имело грубого состава, обусловившего впоследствии его смертность. Ум человека был естественно расположен к созерцанию Бога, Адам был мудр настолько, что мог познавать сущность творения. Однако сам Первый (ветхий) Адам был только образом Нового: «…предвечная мысль Божества предзрела в Своих определениях о человеке не столько ветхого Адама, сколько Нового, и уже только в Нем и через Него все новое человечество, всю Церковь спасаемых. В этом Новом Адаме фактически исполнилось все предназначение человека, объединен весь мир и даровано обожение. Идея человека, таким образом, находит себе питание и поддержку в другой, еще более глубокой и таинственной идее. Это… идея Христа» [5, 76].
Падение человека совершилось в области воли – в неправильном движении сил души, когда она отвращается от Бога к чувственному бытию, т. е. к запрещенному плоду, как к чему-то более реальному и вожделенному, чем Бог. Ум Адама забыл свое истинное назначение, поддавшись страсти и отступив от Бога, после чего человек подпал всем страстям, так как он обратился к чувственному бытию как к источнику наслаждений. Его ум утратил способность руководства над неразумными страстями души. Вслед за этим появляются страсти похоти, раздражительности, стремление к удовольствию или плотское самолюбие, страсти плотоугодия и насильничества, побуждающей к борьбе за телесные блага. Человек подчинился плотскому мудрствованию и стал смертным существом, т. е., вместо того чтобы стать богом, стал прахом. К этому состоянию человека присоединилось праведное наказание, заключающееся в страстности (болезненности), для уврачевания тяги к удовольствию он был одет в «кожаные ризы», которые обозначают смертность, осуждение на плотское рождение.
В отличие от католической традиции, которая утверждала окончательную неспособность человека после грехопадения к добру и бессилие его воли, православная традиция не столь пессимистична. Свобода воли не была уничтожена грехом у человека, у которого и после падения осталась свобода выбора. От человека зависит, что он выберет в своей жизни – добро или зло. Зло зависит от нерадения человека, поэтому оно ему вменяется в вину, а без свободы вменение зла не могло бы иметь места.
Прп. Максим обосновал наличие двух типов воли в природе человека. Он отличал свободу как неотчуждаемое свойство человеческой природы от воли, присущей каждой личности, которую он обозначает как гномическую волю (от греч. γνομη – мнение). В области гномической воли и происходит грехопадение, так как это личная воля, которая может направляться к бунту и даже саморазрушению. По мысли прп. Максима, наличие такой гномической воли есть свидетельство несовершенства человека. В этой воле проявляется нерешимость в выборе добра, незнание своего истинного блага и отступление от Бога. Грехопадение оставило свободу произволения человека, не уничтожив волю как принадлежность природы, но только актуализировав гномическую волю и поставив человека в состояние выбора и нерешительности в следовании добру.
Прп. Максим ясно различал первородный грех, грехи личные и страсти. По его мнению, есть различные виды благодати – общепромыслительная (для всей твари и каждого человека), евангельская, возрождающая, просвещающая и обожающая. Природа человека весьма динамична в ее взаимодействии с благодатью, которая может возрастать или умаляться по мере духовных трудов или нерадения человека. Духовное возрастание человека описано в терминах синергии: плод евангельской благодати – вера, которую человек сам должен принять и взрастить. Далее, получая благодать, человек постепенно восходит до очищения и обожения. Благодатная жизнь человека есть не интеллектуальная деятельность, но аскеза, смысл которой в восприятии благодати, дающей дальнейший рост в Боге для достижения конечной цели – обожения.
Аскеза приводит к постепенному оздоровлению сил души, что соответствует трем видам жизни – деятельной (πράξις), созерцательной (θεωρια) и мистической (μυστικη). Мистическая жизнь есть непосредственное единение с Богом, рождающее богословие, высшее блаженство, предвкушение жизни будущего века. Путь к мистической жизни открыт Христом, смысл же пути – от страдания к славе, от распятия к воскресению. Страдание и распятие – это понятия не интеллектуального порядка, а опыт преодоления греховности и страстей на путях самоограничения и самоумерщвления. Благодать действует по мере исполнения заповедей и дарует спасение, для достижения которого человек должен трудиться. Евангельский закон есть благовестие о любви и ее самых наивысших степенях: если естественный закон повелевает любить ближнего как себя, то евангельский закон повелевает любить ближнего больше себя.
Прп. Максим, описав грехопадение человека и его последствия, указал путь к преодолению страстей. Согласно его богословской системе, у человека есть три основные силы души – желательная (επιθυμια), раздражительная (θυμος) и разумная (λογος). Грехопадение вносит в каждую из сил дисгармонию: επιθυμια преобразуется в плотское самолюбие (плотоугодие); θυμος порождает общую установку, которую прп. Максим называет «насильничеством», т. е. склонностью удовлетворять свои интересы, прибегая к ущемлению интересов ближних; λογος омрачается неведением и забвением Бога. В таком состоянии каждая часть души подвергается наплыву страстей: επιθυμια страдает от чревоугодия, блуда, сребролюбия и печали, переходящей в уныние (эта печаль происходит от лишения плотских благ, к которым стремится человек, обращенный желательной частью души к вещественному миру); θυμος становится источником гнева и раздражения (эта сила души связана как с возможностью любви, так и при извращении ее к противоположности – ненависти); λογος связан с так называемыми «духовными страстями», из которых самые опасные для человека – тщеславие и гордость. Сила воображения, через которую входят в человека помыслы и мечтания, способные отвлечь человека от Бога к земным вещам, связывается обычно у св. отцов с λογος’ом. Однако есть мнения, что это «неразумная», низшая часть познавательной силы, существующая как бы на границе душевных сил. Современная психология отнесла бы силу воображения на границу сознательных и подсознательных пластов душевной жизни. В «Добротолюбии» воображение определено как «некий мост бесовский», оно «зело сопротивляется, проклятое… единственному и простому ума деланию» [7, 67], поэтому все восточные отцы-подвижники ставят вопрос об аскетической борьбе с воображением. Греховные помыслы возникают от разных внешних причин, главной же внутренней причиной выступает общая страстность души, привязанность к миру.
Первый комплекс страстей (сила επιθυμια) называется у прп. Максима «вольные страсти», что показывает их произвольный характер, так как в естестве человека нет потребности в чревоугодии или сребролюбии, но человек своей волей подвежен этим страстям. Именно с области «вольных страстей» подвижник начинает очищение души, противопоставляя греховным страстям воздержание, целомудрие, нестяжание и смирение. Борьба на этом этапе ведется не самая сложная, главное для человека – отказаться от привязанности к земным благам и со смирением переносить лишения, сознавая, что страдания очищают его душу. Второй комплекс страстей (сила θυμος) победить сложнее, они носят название «невольные страсти», поскольку не во власти падшего человека не раздражаться от неприятностей, так как сила θυμος есть самая пострадавшая в грехопадении часть души. Противостоит этим страстям кротость, которую человек приобретает многими трудами, молитвами, терпением и внимательностью к себе. Если человек достиг очищения двух первых страстей души, то следующим этапом становится борьба с тщеславием и гордостью, победив которые смирением он наконец получает истинное ведение. Для очищения души от страстей человек начинает изнурительную борьбу с помыслами, которые в системе прп. Максима имеют четыре стадии развития.
Всякий помысел вызван чувственным предметом, к которому человек имеет влечение. На первом этапе к человеку приходит простой помысел или прилог (προσβολη – внушение), который имеет нейтральный характер. На втором этапе он переходит уже в страстный помысел (επιθυμια), т. е. к помыслу примешивается желание, происходит вторжение помысла в область желательной части души. Однако и на этом этапе помысел еще негреховен, поскольку от воли человека зависит, принять его или отвергнуть. На третьем этапе, если человек задерживается вниманием на помысле, начинает размышлять и услаждаться им, возникает склонность, т. е. к помыслу склоняется произволение (εξις συγκαταθεσις). Наконец, если помысел полностью завладел человеком, тот исполняет его делом (κατ’ ενεργειαν), т. е. совершает грех, который есть завершение развития помысла. Подвижник, который сражается в умной сфере, не допускает развития помысла и, таким образом, охраняет свой разум от пленения. С помощью духовной борьбы человек постепенно переходит с одной ступени подвижнической жизни на другую, для достижения своей конечной цели – обожения.
Представления о том, что в человеке и после грехопадения остаются семена добра и от воли человека зависит уверовать, порождают богатую аскетическую традицию, мало известную на Западе. К их числу относится православное учение о борьбе с помыслами или внутреннее трезвение. Прп. Максим Исповедник, который развивал это учение, учил борьбе со страстями и с греховными помыслами, освобождению от плотолюбия и неведения, постепенному оздоровлению сил души, сочетанию со Христом, обожению. Особый пункт благодатного просвещения человека – его участие в Евхаристии, в которой, как в центре, сосредоточены дары благодати. В описании райского блаженства, к которому человек способен частично приобщиться, будучи еще в теле, открывается разница с западным антропологическим идеалом, в котором «по сравнению с православной святоотеческой традицией сохраняется большая дистанция между Богом и человеком, а конечное предназначение человека видится как ангелоподобное пребывание у престола Божия» [11, 705].
На православном Востоке конечная цель человека, смысл жизни – усыновление Богу, обожение, идея которого не была разработана на Западе, где изучали человека как статичное существо, с психологическими характеристиками и рациональной природой, устремленной к созерцанию. Православная антропология, как она представлена у прп. Максима Исповедника, описывает бытийственное, а не рациональное блаженство человеческой природы. На православном Востоке святые – друзья Божии, «боги» («вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы» – Пс 81. 6), они участвуют в промысле над миром вместе с Богом, получая блаженство, полнота которого откроется после воскресения мертвых. Католические святые – заслуженные деятели, сумевшие особыми сверхдолжными деяниями заработать дополнительную благодать, которой они и могут делиться с верующими. Согласно прп. Максиму, после Страшного суда праведники воспримут обожение, восстановленная природа (материальный мир) ради человека также получит вечное и нетленное бытие. Грешники же будут лишены всего этого, и в таком лишении и будет заключаться их мучение, бессильное раскаяние от осознания неверно выбранного в жизни пути. Мысль, что грешники в аду будут мучиться от раскаяния и мук совести, поражаемые «бичом любви Божией», которая праведникам будет доставлять радость, будучи одной и той же силой, является общей для отцов Православной Церкви.
Последнее, окончательное размежевание богословской и антропологической мысли католичества и православия приходится на XIV в. и связано с исихастскими спорами, имевшими различный результат: на Западе произошло осуждение исихазма как ереси, на Востоке – его догматическое утверждение. На католическом Западе и на православном Востоке XIII–XIV вв. ознаменовались мощным движением, получившим название Возрождения, но векторы направленности возрождающихся ценностей были противоположны. На Западе происходит возрождение ценностей языческого античного мира, попытка реставрации языческой образованности, на Востоке – возрождение духовно-аскетических практик молитвы и умного трезвения, связанные с именами прп. Григория Синаита и свт. Григория Паламы. XIII–XIV вв. на Западе знаменуют конец Средних веков и наступление Ренессанса. В это время происходит встреча Востока и Запада, «столкновение двух разнонаправленных индивидуалистических течений: рационалистического гуманизма и созерцательного исихазма» [10, 11]. Таким образом, происходит столкновение двух культурных направлений, в которых по-разному понималась роль человека в мире и цель его жизни.
Столкновение аскетического и гуманистического мировоззрений происходит во время исихастских споров. Состав основных участников и их позиции следующие. Центральной фигурой восточно-православной традиции выступил свт. Григорий Палама (ок. 1296–1359), архиепископ Фессалоникийский, один из самых ярких лидеров исихастского возрождения, отстаивающий идею реальности общения Бога и человека. В теологическом плане он выступил с несколькими положениями: «…в Боге в первую очередь надо всегда отличать Его сущность (ουςια) от Его проявления (ενεργεια). Энергия Божества нетварна, как и Его сущность. Различие между сущностью и проявлением Божества не вносит в понятие Бога сложности… Сущность выше своего проявления, как причина выше следствия. Сущность Божия трансцендентна тварному миру (вне мира), а потому недоступна для познания человеку, который может познать Бога только в Его проявлениях» [10, 22].
С точки зрения антропологии положения свт. Григория Паламы означают весомое подтверждение возможности достичь обожения; человек не разобщен со своим Творцом, он связан даже в состоянии падения с Ним через божественные энергии, благодаря которым в подвиге исихии (умного безмолвия) достигает цели своей жизни. Вступление на путь безмолвия не дозволялось тому, кто не победил страстей раздражительности, лицемерия и злопамятства, как наиболее препятствующих уединенным подвигам. Центром познавательных способностей выступает очищенное от страстей сердце, соединенное с умом. В состоянии сердечной чистоты человек способен видеть божественный нетварный Свет, подобный тому, который видели на Фаворе апостолы, когда лицезрели преображенного Христа. Познание Бога у прп. Григория – только практическое познание, возможное в результате аскетических подвигов, никакими книгами и философией недостижимое.
Против свт. Григория Паламы выступил итальянский грек, монах Варлаам (1290–1348), знаток Платона, Аристотеля, Евклида и Птолемея, весьма ученый, воспитанный в традициях западного гуманизма, ставящий философско-богословское знание превыше «невежественных» опытов нищих монахов. Монах Варлаам имел весьма претенциозную цель: он мечтал о соединении Восточной и Западной Церквей, рассматривая себя как примиряющую фигуру. Он выступил с учением о непознаваемости Бога конечным человеческим разумом, из чего следовал тезис относительности, вторичности догматов, в том числе и Filioque. Для Варлаама если Бог абсолютно непознаваем, то заявления о Его созерцании есть просто описание некоторых человеческих ощущений, которые возникают вследствие телесных упражнений и невежества. Он выдвигал свое видение правильного подвижничества: по его мнению, раздражительная, аффективная часть души (у прп. Максима Исповедника она носит название θυμος) должна быть умерщвлена, чтобы созерцать Бога очищенным, бесстрастным умом, истинным органом богообщения. Главное в человеке – это его разум, очищенный от аффектов, в чем Варлаам следует аристотелевской традиции.
Варлаам выступил с обвинением прп. Григория Паламы в двубожии и мессалианстве, в том, что тот, объявляя Фаворский Свет нетварным, вводит четвертую ипостась. Прочие противники Паламы – томисты Прохор Кидонис и Акиндин, – в сущности, повторяли те же обвинения, вооружившись наукообразным томистским категориальным аппаратом. На обвинения противников свт. Григорий Палама отвечал трактатами, в которых доказывал, что «Бога нельзя видеть и нельзя приобщаться к Его сущности, а ведь мы только Богом и живем; значит… Бог в какой-то Своей мере недоступен, а в какой-то другой Своей мере доступен, причем… меру Его действия на нас тоже надо считать Богом, вечным и несотворенным». На это его противник-томист возмущенно заявил: «…это не укладывается ни в природные понятия, ни в понятия научного знания» [4, 370]. Против антропологических возражений томистов свт. Григорий доказал, что аффективную, желательную часть души следует не умерщвлять, но преображать в подвиге аскетического делания, переходя от зла к добру, в чем и заключается смысл спасения человеческой природы во всей полноте ее личных, ипостасных свойств. На Соборе 1351 г. учение свт. Григория было принято и догматически утверждено, позиция его противников осуждена как еретическая. На Западе аскетическое и догматическое учения свт. Григория Паламы получили название «ересь исихазма». Так состоялось окончательное размежевание духовно-аскетической традиции и гуманистического Возрождения.
Основные различия католической и православной антропологических концепций представлены в следующей таблице.
Таблица 2
Продолжение табл. 2
Окончание табл. 2
Различие православной и протестантской антропологии
Появление протестантизма было обусловлено многими факторами – социально-политическими, экономическими, религиозными и психологическими. Протестантизм выявил не просто кризис католичества, но стал символом начала новой эры в истории Запада, когда на первый план вышла фигура отдельной личности, а Церковь уходит на второй план, подвергается деконструкции или отрицанию. Протестантизм открыл эпоху революции сознания, постепенно освобождающегося от власти сакрального начала, переходящего на позиции самоутверждения освобожденного индивида, противостоящего религиозной традиции. Протестантизм родился в недрах Католической Церкви, поэтому, несмотря на отрицание ценностей и традиции католичества, он являлся закономерным порождением системы католической религиозности, которая, несомненно, к XV в. вошла в полосу идеологического и морального кризиса. XV–XVI вв. для Католической Церкви были временем безнравственных пап и торжества ценностей гуманизма, под прикрытием которых совершали грехи представители иерархии – от пап до обычных пресвитеров, часто имевших нелегальных жен и использующих свое положение для удовлетворения личных и корыстных интересов.
Нужно отметить, что протестантский раскол в Западной Европе совпал в России с эпохой последнего духовного возрождения, связанной с именем прп. Нила Сорского и других заволжских старцев. Одновременно с расцветом северного пустынножительства (к этому времени относится, например, строительство каменного ансамбля Соловецкого монастыря) процветает общежительное монашество городского типа, представленное прп. Иосифом Волоцким. Спор иосифлян и нестяжателей, а затем победа иосифлян может служить отдаленной аналогией духовной катастрофы, постигшей католичество в начале XVI в.[19] Победа иосифлян, постепенное замирание пустынножительства на Руси и появление протестантизма в Западной Европе отделены друг от друга периодом около полувека. Половина столетия в религиозном смысле была той дистанцией, на которую отделилась от России Западная Европа, вырвавшись вперед на пути к секуляризации.
Отец протестантизма Мартин Лютер (1433–1508) начал кампанию против католичества 31 октября 1517 г. На первом этапе он выступил с критикой индульгенций, продававшихся в качестве документа о прощении грехов. Индульгенции во множестве распространялись в то время в Европе. Папа Лев X нуждался в средствах на строительство храма апостола Петра в Риме и благословил проповедников покаяния на традиционные сборы, во время которых продавались индульгенции. Особенным красноречием выделялся монах Иоаханн Тетцель, успешно торговавший индульгенциями. Тетцель призывал к покаянию, используя все доступные ему средства – театральные вопли, проклятия и угрозы грешникам. Проповеди Тетцеля вызвали гнев М. Лютера, переполнив его чашу терпения. Однако невозможно предположить, что обычная религиозная практика, которая не вызывала у Лютера нареканий в течение многих лет, вдруг стала отправной точкой для бунта против католичества, которому Лютер был обязан своим высоким положением известного богослова, аббата и настоятеля монастырей.
В борьбу М. Лютер вступил, имея непростой, во многом противоречивый религиозный опыт. В молодости он был довольно суеверный человек. Лютер получил прекрасное образование в Эрфуртском университете и готовился к светской карьере, которая должна была упрочить его положение и вызволить из бедности его семью. Один случай во время грозы, когда Лютер был едва не убит молнией, заставил его дать обет Богу. Не имея никакого расположения к духовной жизни, он вступил в монашеский орден св. Августина, о чем он позже писал: «Монахом я стал не по своей доброй воле. Я дал обет сгоряча, в состоянии ужаса перед неминуемой гибелью. Я покинул мир и удалился в монастырь, не переставая горько сожалеть об этом» [3, 49]. В монастыре Лютер долгие годы терзался ужасом перед жестоким и неумолимым Богом, боялся вечных мук, а страхи доводили его до отчаяния и болезненных состояний. Именно психологический конфликт, душевные мучения интеллектуально одаренного, страстного, крайне вспыльчивого человека, который в силу обстоятельств вынужден против своей воли жить в монастыре, породил мироощущение, получившее наименование протестантского и основанного на протесте против Католической Церкви, ее учения.
Поступив в монастырь, Лютер продолжил свои ученые занятия и одновременно пытался достичь «святости» или «безгрешности», причем быстро, в короткий срок, не имея понятия о правильном духовном пути и испытывая страх перед Богом. Через год после вступления в монастырь, в 1506 г., он принял постриг, еще через год был рукоположен в пресвитеры, в 1508 г. отправился в Виттенбергский университет, где получил по протекции степень доктора богословия и вскоре приступил к преподаванию. За год до разрыва с Римом, в 1516 г., он написал «Комментарий к Посланию к римлянам», что явилось знаковым событием: в Послании обсуждаются темы, ставшие камнем преткновения для западного богословия, – природа и благодать, закон и грех, избрание и отвержение Богом, спасение через веру и другие, ставшие центральными для протестантизма.
Антропологические и богословские идеи в учении Лютера заключаются в следующе М. Лютер отвергал долгий, аскетически трудный путь человека к Богу. По его мнению, Бог Сам прошел этот тернистый путь и открыл двери спасения, в которые нет необходимости ломиться аскетическими подвигами. Верующий напрямую связан с Христом, а благодать подается любому человеку через проповедь Слова Божия. Не нужны посредники в виде святых или священников, принцип священной иерархии, на котором основана была жизнь Католической Церкви в Средние века, был Лютером отвергнут. Утверждение примата веры в прямую личную связь с Христом и определяют четыре принципа (столпа) Реформации.
1. Sola Scriptura (Только Библия). В истинной Церкви правит только Священное Писание, а священное Предание, как авторитетный в религиозном отношении источник, отвергается. Священное Писание – высший источник Откровения, достаточно открыть книгу и прочитать, как тут же снисходит благодать на человека, который, разумея прямую волю Бога, будет правильно ее исполнять. Такая формулировка порождает сразу несколько сложных проблем. Во-первых, саму проблему понимания, так как если любое чтение есть интерпретация, то допускать прямое понимание Священного Писания – это упрощение проблемы. Если каждый верующий волен понимать Писание по-своему, а его понимание будет считаться истинным, то несомненно возникает ситуация религиозного релятивизма (когда пониманий может быть бесконечное множество), субъективизм в толковании Библии и соответственно лишение ее сакральности. У Лютера речь идет о таком Священном Писании, которое доступно широким массам верующих. Такая ситуация появилась только с изобретением книгопечатания и распространением грамотности, но в первое тысячелетие существования христианства книга была большой редкостью и очень дорогим удовольствием, которое могли себе позволить, например, богатые монастыри. Первое тысячелетие Священное Писание транслировалось через предание, а транслятором евангельских истин выступало священническое сословие. Появление другого принципа трансляции стало ярким признаком наступления технической эпохи, смены приоритетов, отвержение начала ученичества (послушания): теперь каждый грамотный человек мог взять Библию и прочитать ее, не прибегая к помощи другого человека, живого носителя церковного предания. Таким образом, можно констатировать, что протестантизм – это версия христианства в техническую эпоху, которая порождает особый тип восприятия и человеческой личности, приобщающейся к религии. Для восточного христианства вряд ли возможна религия при отрицании принципа Предания, ученичества и послушания, отказа от священно-сакрального авторитета Предания, основанного на опыте живых и конкретных личностей[20].
2. Sola gratia (Только благодать). Данный принцип означает утверждение, что спасение есть Божий дар, который человек принимает верой, но сам он не властен в его принятии. Об этом кратко говорит один из главных документов раннего протестантизма «Аугсбургское исповедание» (1530): «Прощение грехов и оправдание перед Богом недостижимо нашими заслугами, делами и умилостивляющими Бога действиями. Напротив, мы получаем прощение грехов и оправдание перед Богом по благодати Христа верою» [18, 379]. Утверждение, что человека спасает только благодать, переносит его активность, связанную с духовной сферой, в плоскость иных интересов, порождает особого рода деятельность, открывает новые пути, по которым устремляется энергия, ранее направленная на религиозную активность. Иначе говоря, происходит рождение особого рода человека – секуляризованного, область интересов которого не связана с религиозными потребностями.
3. Sola fi de (Только верой). Данный принцип тесно связан с предыдущим, являясь его дополнением, расширяющим смысловую значимость тезиса о благодати. Только действием Бога человек призван от греха к новой жизни, что порождает дары Святого Духа: любовь и добрые дела. Добрые дела, которым придают большое значение католики, у протестантов не считаются ни признаком спасения, ни способом его достижения. Только личная вера, осознанная уверенность в Боге и полное понимание религиозных истин способно привлечь к человеку Божию благодать.
4. Soli Deo gratia (Слава только Богу). Три вышеизложенных принципа определяют четвертый: воздавать славу и поклонение человек должен только Богу, поклонение мощам, иконам, таинствам, священническому сословию почитается греховным отступничеством и приравнивается к идолопоклонству. Отсутствие иерархии означает так называемое «священство всех верующих», которое на практике означает выборность пасторов. Однако принцип выборности пастора не всегда мог быть реализован в Западной Европе того времени, и часто пасторство в протестантских странах передавалось по наследству, покупалось и т. д. Данный признак означал десакрализацию религиозной жизни, когда, по словам Лютера, «труд монаха и священника в глазах Божиих ничуть не превыше труда крестьянина или домохозяйки» [18, 380]. Никакому внешнему рукотворному творению нельзя поклоняться, слава прилична только Богу. Данное утверждение, несмотря на видимую простоту и ясность, порождает несколько проблем. Дело в том, что человек не имеет непосредственного контакта с Богом, так что не может при всем своем желании поклоняться только Богу, Который не присутствует зримо в земной реальности. Поскольку все внешние признаки присутствия Бога отвергаются, то сам призыв «Славы только Богу» становится беспредметным, что означает постепенное размывание религиозных практик поклонения и отмирание благоговения, страха Божия, чувств святости и Божественного присутствия. Религиозная практика становится интеллектуальной, богообщение заменяется чтением, молитва – скандированием библейских стихов. В результате размываются сами основы религиозности, связанные с символическим культом, как они сложились за сотни лет существования христианства, и вводится понятие особого рода религии, функционирующей в рамках интеллектуального богословия и огромной активности, направленной на преобразование земной жизни.
На основе этих четырех принципов возник образ человека протестантского вероучения. Это человек грамотный, общающийся с Богом через книгу, причем такой способ богообщения считается непосредственным. На первый план религиозной жизни у протестанта выходит не молитва, а чтение священного текста, вокруг которого объединяются все практики, принципы и положения его религии. Человек в протестантизме не нуждается в священном, и, более того, он опасается священного пространства религиозных символов как того, что может увлечь его от Бога к идолопоклонству. Человек протестантизма воодушевлен и уверен в своем спасении, он не испытывает пустых религиозных страхов, а переживает радость, ликование от сознания того, что его ждет гарантированное блаженство после смерти, поскольку критерием его избранничества служит принятая им вера. Из этой картины должна возникать довольно оптимистическая антропология, но при обращении к классическому учению о человеке в протестантизме мы видим противоположное, а именно: колоссальный пессимизм в отношении человека, близкий к нигилизму и даже отчаянию.
Согласно Лютеру, в результате грехопадения образ Божий в человеке уничтожен полностью, поэтому человек есть не образ Божий, а только имеет к нему определенное отношение веры или неверия, принятия или отвержения Слова Божия. Образом Божиим в полноте является только воплощенный Господь Иисус Христос. Человек наделен двумя фундаментальными качествами – он тварен и грешник. Тварность и греховность – важнейшие антропологические категории в протестантизме. Классическое лютеранство, мыслящее по инерции в схоластических категориях, полагало субстанцией в человеке его богосотворенность, акциденцией – первозданный грех. Как творение Бога, человек получает Божию благодать (субстанциально), как грешник, наследует осуждение (акцидентально). Человек в свете двух фундаментальных категорий является венцом творения, но он же является частью мира, а как грешник ближе стоит к органическому и неорганическому миру, чем к Богу.
Во время земной жизни человек пребывает в падшем, греховном, поврежденном состоянии, избавиться от которого он сможет только в момент воскресения мертвых и прославления верных Богу. Никакого пути очищения и восстановления от грехопадения для человека в рамках земной жизни нет, и соответственно протестантизм не признаёт феномен святости и поклонения святым, отвергает монашество и с подозрением относится к девству. Лютер продемонстрировал свое неприятие монашества, отказавшись от монашеского обета и женившись на монахине. Понятие святости отвергается, так как природа человека испорчена и не подлежит освящению. «Формула согласия» на этот счет однозначно утверждает: «…конфликт и война плоти против Духа продолжается также в избранных и истинно перерожденных» [11, 703].
Осознание греха должно смирять гордость человека, вызывать особые ощущения покорности и смирения перед Богом, радость и благодарность Ему за избрание и обещание в будущем вечных благ. Согласно Лютеру, человек может обрести не святость, а праведность, т. е. быть избранным Богом и оправдан верою, причем такая праведность налагается внешне на человека как награда, почетная регалия, но не имеет внутренне сущностной связи с его природой, чтобы ее изменить. Кальвин полагал, что праведность способна внутренне преобразить верующего, мистически внутренне связанного актом веры со Христом. После смерти и разлучения души с телом человека не ожидают ни чистилище, ни мытарства, ни радость, ни страдания. Его душа, отделенная от тела, впадает в состояние забвения, анабиоза, не имеет памяти и восприятия до обретения своего тела в момент воскресения. Надежда на воскресение мертвых вносит положительный момент в протестантское вероисповедание, а практическое отрицание благодати, ее силы и даров в жизни Церкви – пессимизм. Однако сам Лютер не отрицал реальности преложения Святых Даров и выступал за причащение под двумя видами (Телом и Кровью Христа) для мирян. Цвингли, напротив, утверждал «символичность» Евхаристии, в чем у них с Лютером шли горячие споры, закончившиеся окончательным разрывом. «Аугсбургское исповедание» (1530), которое должно было примирить германских протестантов, принимает точку зрения Лютера. Однако Ж. Кальвин в своем «Наставлении» опять вернулся к формуле Цвингли, что является вообще характерным ходом для протестантизма, тяготеющего к отрицанию мистического и трансцендентного измерения Церкви и утверждающего радикальный разрыв между Богом и человеком.
Таким образом, в антропологии протестантизма возникает образ четырех состояний человека, или четыре временных промежутка, не имеющих реального соприкосновения: человек в раю до грехопадения, в состоянии первоначальной целостности; человек в земной жизни, в состоянии испорченности и греховности; человек после смерти – небытие; человек после воскресения – прославление, обретение потерянного образа Божия. В земной жизни человек не может исполнить замысла Бога о себе, он просто рождается, приходит в земной мир, проходя этап земной жизни как неизбежную стадию своего развития. Самое важное, что совершается в земной жизни, – это обретение веры, которое сопровождается узнаванием Слова Божия, воли Бога, как она изложена в Библии. Г. В. Флоровский пишет: «Реформация началась с испуга перед человеком, с отчаяния перед его немочью и ничтожеством, со страшливой переоценки Божией мощи… В протестантских кругозорах совершенно исчезала и исключалась человеческая свобода, но именно поэтому человек оказывался неким медиумом необоримой благодати. Все человеческие действия относились за счет Божией воли и силы» [17, 326]. Протестантская антропология неуклонно двигалась в русле отрицания свободы человека, начавшись как призыв к духовному раскрепощению, но закончилась провозглашением несостоятельности свободного произволения в религиозной перспективе.
Грех Адама изменил внутреннюю экзистенциальную природу человека. Отныне всякий человек есть, по сути, бунтарь, революционер, стремящийся преодолеть поставленные ему границы, разрушить и ниспровергнуть авторитеты. В этом он подобен Адаму, отвергнувшему заповедь Бога, проявившему неудовольствие своим положением и пожелавшему стать «как бог». Став на путь бунта, человек стал рабом твари и творцом идолов (fabricatores deorum), поэтому в религии он неизбежно идолопоклонник. Человек превращает христианство в некое подобие язычества, предполагающее поклонение твари, поэтому человеку опасно давать священство, культ, религию, поскольку он сотворит себе из этого кумира. Следует отнять у человека профанированное христианство, как у неразумного дикаря его фетиш, поскольку только в результате такого приема он способен обратиться непосредственно к Богу. Католицизм является рукотворным идолом, с помощью которого человек прячется от своей смертности, от самого себя, пребывая в области иллюзий и самообмана.
Правда протестантизма о человеке жестока и проста. Человеку следует мужественно принять свое состояние существа, лишенного благодати, исполненного грехами и бесконечно далекого от Бога, при этом отвергнув прежнюю иллюзию своей причастности Богу, своего священного статуса. Свобода воли человека простирается до пределов возможности внешне честной мирской жизни и разумного выбора некоторых частных возможностей. Свобода человека социальна, а не онтологична, она несущностно присутствует в нем, так как образ Божий отнят от него, но только позволяет как-то приспособиться в обществе к нормам общежития и исполнить минимум заповедей, по преимуществу ветхозаветных. Свобода человека не образ бесконечной свободы Бога, но чисто природное явление выбора возможностей.
Утверждение антииерархичности означает отвержение сакрально-общественного измерения: человек есть существо антицерковное, в какой-то мере и антиобщественное, скорее индивидуальное. Православное утверждение соборности человека чуждо протестантизму, сама постановка вопроса о Церкви приобретает измерение понятия о религиозной общине, поскольку после смерти общение верующих прекращается, а Церковь существует только в рамках земного мира в качестве места молитвенных собраний и конгрегации верующих. Проблема церковного единства не является темой протестантизма. Из-за отсутствия главного авторитетного источника в интерпретации Библии протестантизм не является единым движением. С XVI по XXI в. дробление его было столь значительным, что в настоящее время существует несколько тысяч деноминаций, что не смущает протестантов: если каждый свободен трактовать и по-своему понимать Священное Писание, то и деноменаций должно быть много.
Внесоборное предстояние человека перед лицом Бога открывало в протестантизме огромный пласт сильнейших личностных переживаний религиозного (или псевдорелигиозного) характера. Религия становится переживанием бесконечного мучения перед Богом (С. Кьеркегор), сомнения (П. Тиллих) или, наконец, безудержного оптимизма (Б. Грем). Кроме того, возникают школы непсихологического направления, связанного с «профессорской религиозностью», интересами Библии и ее комментарием, попытками осознания феномена Откровения, сверки подлинности текстов.
Вера протестантизма – это, с одной стороны, субъективный интерес к религиозным проблемам, связанным с Библией, а с другой – источник воодушевления и основа невероятной активности как проповеднической, так и социальной. Вера направлена не в «иные миры», не трансцендентна, но имманентна. Она не сущностная связь человека с Богом, но его аффектация в отношении Бога, как Он открывается сознанию в процессе чтения Библии и жизненных обстоятельств.
М. Лютер утверждал, что человек способен понять идею Бога, но знать Бога, иметь с Ним личное общение неспособен. Такой радикальный приговор богообщению в дальнейшем будет пересмотрен в рамках самого лютеранства, но симптоматично, что сам основоположник протестантизма мыслил именно так, задав определенные координаты мышления в богословском направлении. Поздний протестантизм классического типа (лютеранство, кальвинизм) признаёт, что образом Божиим в человеке можно назвать способность получить знание о Боге, которым в полноте обладал первозданный Адам. В падшем человечестве способность знания о Боге, принятия и осознания религиозной информации умалено, но не уничтожено до конца.
Каков антропологический идеал протестантизма? Классическое лютеранство отвергало саму постановку проблемы. М. Лютер настаивал, что цель теологии не проникать в замысел Творца о человеке, но развивать познание человеческой греховности и «теологии Креста». Можно сказать, что единственным антропологическим образцом выступает Иисус Христос, но никакой иной человек. Ни сам Лютер, ни Кальвин, ни Меланхтон не могут стать путеводной звездой к Богу. Их личный духовный опыт – это предельно индивидуальное знание, которое не может быть распространено на других. Протестантизм ориентируется на переживания личного опыта веры, которые не могут быть подведены под общие стандарты. Таким образом, не ставится и важнейший для православного Востока вопрос критериологии духовного опыта, отличие истины и лжи, прельщения или благодати.
Сфера, в которой реализует себя падший человек, – это труд, профессия, призвание (талант) к какому-либо творчеству. Человек призван служить Богу в сфере мирского призвания и труда, по мере успеха в котором он получает дополнительное подтверждение своей праведности и избранничества. Эта теория является одной из самых неприемлемых для восточного христианства. На Востоке успех в мирских делах ассоциируется скорее с Божиим отвержением, так как князь сего века помогает в мирских делах верно служащим его замыслам, а скорби и неудачи воспринимаются как знаки милости свыше, выводящие человека из суетных повседневных забот и призывающие его к молитве и духовному деланию.
Протестантское утверждение, что человек в сакральной сфере не ближе к Богу, но и не дальше, чем в сфере профанной, мирской, вызвал к жизни огромную активность протестантов в их повседневных делах и бизнесе (земельное дело, освоение новых пространств, организация фабричного производства), успех в которых был важным признаком угодности Богу, что особенно характерно для квакеров и кальвинистов. Стоит упомянуть, что США были основаны колонизаторами-протестантами, организовавшими в короткий срок не просто высокотехнологичную цивилизацию, но и сумевшими выработать особый тип мировосприятия, мировоззренческие установки, аксиологические предпочтения[21]. Сам М. Лютер резко отрицательно относился к постам, долгим молитвам и церковным службам, полагая, что энергию, затрачиваемую на «бесполезные» занятия, с успехом можно было бы использовать на конкретные дела.
Классические протестантские положения были значительно пересмотрены в XX в., после Первой мировой войны, такими теологами, как Пауль Тиллих (1886–1965) и Рудольф Бультман (1884–1976). Переосмысление протестантизма шло под сильным влиянием экзистенционализма и трагического опыта мировых войн, открывших бездну небытия в душе человека, которая прежде, как предполагали, была наполнена ценностями культуры и религии. Ни культура, ни религия не спасли европейские народы от жажды насилия и разрушения.
Бультман известен своим методом «демифологизации» библейского Откровения. Этот метод поставил лютеранское вероисповедание перед кризисом, выход из которого виделся Бультманом в принятии экзистенциальной интерпретации протестантизма с помощью развернутого толкования понятия «керигма»[22]. Керигма – провозвестие о Христе, которое человек должен принять на внутреннем экзистенциальном уровне, но главное в керигме не Сам Христос, а те истины о человеческом существовании (подлинном и неподлинном, греховном), которые Он выразил в Своем учении. Внимание переключается с воплотившегося Бога (вопрос о божественном происхождении Иисуса у Бультмана явно проблематичен) на Его проповедь, вернее, на то действие, которое она способна вызвать в сознании человека. Таким образом, теология у Бультмана превращается в антропологию, а центром всех богословских построений оказывается человек, а не Бог. Школа Бультмана надолго стала ведущей линией протестантских исследований об «историческом Иисусе», где показан эсхатологический смысл проповеди Христа, Его провозвестие «о Боге», которое ставит человека перед необходимостью принять решение – за или против. С точки зрения восточной православной религиозности проповедь Христа в первую очередь была о Нем Самом, а не просто «о Боге». Царство Небесное (эсхатологическое измерение Его проповеди, по терминологии протестантов) – это тоже Он Сам, вместе с Отцом и Духом Святым. Христос дает обещание, что Бог Сам придет и устроит обитель в человеке, что и будет Царством, которое (потенциально) есть внутри самого верующего.
Оставаясь в рамках классической протестантской модели, П. Тиллих переосмысливает такие антропологические категории, как призвание, оправдание верой, избрание или отвержение Богом, считая их скорее данью своему времени. По его мнению, существуют три вида тревоги как страха небытия: тревога судьбы и смерти (характерная для исхода античности), тревога вины и осуждения (исход Средневековья, появление протестантизма), тревога пустоты и отсутствия смысла (современность). Все виды тревоги угрожают духовному самоутверждению человека, входя непостижимым образом в состав его бытия, поскольку человек – существо конечное и его страхи тесно связаны с антиномией факта его конечности и личного самосознания. Мало того, само бытие чревато тревогой, поскольку оно чревато небытием.
Страх осуждения и чувство вины, терзавшие Лютера, преследовали людей XVI в. Тиллих считал, что в ХХ в. такие страхи и тревоги не столь актуальны, поэтому душевный ход избавления от них, предложенный Лютером, не поможет современным людям. Сущность современности – индивидуализация, которая есть «самоутверждение индивидуального Я как такового, независимо от соучастия Я в своем мире» [15, 81]. Самоутверждающееся «я» противостоит «мужеству быть частью коллектива», характерному для эпохи до мировых войн, предпочитая ему мужество быть самим собой. Согласно Тиллиху, протестантизм не вел непосредственно к индивидуализму: «протестантизм, при всем его внимании к индивидуальной совести, упрочился как строго авторитарная и конформистская система, во всем подобная своему противнику, Католической Церкви эпохи контрреформации» [15, 82].
Положительный аспект учения Лютера П. Тиллих видит в его открытии: бытие религиозной личности возможно только во встрече с Личным Богом. «Мужество доверия» у Лютера «достигает своей высшей точки в истории христианской мысли» [15, 113]. Ни Соборы, ни папа, ни святые, ни подсчет грехов и добродетелей неспособны были помочь Лютеру обрести это доверие и справиться с тревогой вины и осуждения, поэтому он их просто отрицает. Формула Лютера «неправедный – праведен» – это выражение мужества принять себя, приняв, таким образом, тревогу вины и осуждения. По мысли Тиллиха, формула Лютера адекватно выражает «учение» апостола Павла об «оправдании верой». Называя мысли апостола Павла, высказанные по конкретному случаю, «учением», Тиллих выражает общее для протестантов представление о том, что у апостола Павла имелась своя особая система осмысления понятий «вера», «избрание», «осуждение» и др., не тождественная интерпретации Евангелия других апостолов. Для восточных отцов Церкви характерно представление о том, что автором Писаний является Святой Дух, а истина вероучения возникает из общего согласия всех апостолов и святых отцов, так что голос апостола Павла в этом хоре невозможно рассматривать отдельно.
Можно констатировать, что в XVI в. произошел кризис коллективного (церковно-общественного) способа богообщения и на первый план вышла проблема личного богообщения. Антиномия «Церковь или личность» приводит к крушению средневековой религиозности, что знаменует появление протестантизма. Реформация – это в первую очередь кризис католической церковности, которая перестала адекватно передавать Евангельское благовестие и отвечать на запросы времени, что произошло не в последнюю очередь по причине слишком тесного слияния Церкви с миром, который во зле лежит. Погружаясь в него, подобно тонущему кораблю, Церковь утрачивала связь с духовной реальностью, благовестие о которой, о Боге и Его Царстве, должно быть первой обязанностью Церкви. Бунт против обмирщенной Церкви обернулся на деле не созданием Церкви более мироотреченной и аскетической, но отрицанием самой идеи Церкви и ее предания в наивной (для православного Востока) уверенности в том, что, убрав ее с дороги, будет уже гораздо легче встретить Бога, Которого в течение веков она скрывала. Трагедия Католической Церкви и ее блудных чад, ушедших и порвавших с ней всякое общение, достаточно безысходна. Протестантизм за несколько веков своего существования выработал стойкое неприятие церковности и религиозных традиций, а в XX в. прошел искус экзистенционализ-мом, который сделал его антропоцентричным учением, в котором уже не остается места воплотившемуся Богу.
Основные различия протестантской и православной антропологических концепций отражает следующая таблица.
Таблица 3
Продолжене табл. 3
Продолжене табл. 3
Литература
1. Ансельм Кентерберийский. Прослогион // Антология средневековой мысли. СПб., 2001.
2. Бицилли П. М. «Восток» и «Запад» в истории Старого Света // Россия и латинство. Берлин, 1923.
3. Гобри И. Лютер. М., 2000.
4. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. М., 1995.
5. Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М., 2003.
6. Жильсон Э. Философия в Средние века. М., 2004.
7. Кашменский С, прот. Святоотеческое учение о душе. Пермь, 2002.
8. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Мистическое богословие. Киев, 1991.
9. Мейендорф И., прот. Византийское богословие. Минск, 2007.
10. Петр (Пиголь), игум. прп. Григорий Синаит и его духовные преемники. М., 1999.
11. Шмалий В., свящ., Тайван Л. В. Антропология // Православная энциклопедия. М., 2001) Т. II.
12. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1997. Т. 2: Средневековье.
13. Софроний (Сахаров), архим. Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2008.
14. Столяров А. А. Свобода воли как проблема европейского морального сознания. М., 1999.
15. Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М., 1995.
16. Фаркашфалви Д. Послание к Римлянам. Комментарий к греческому тексту. М., 2005.
17. Флоровский Г. В. Из прошлого русской мысли. М., 1998.
18. Энциклопедия для детей. Религии мира. М., 2000. Т. 6. Ч. 2.
Глава 6. Антропология ислама
В мире насчитывается около 1,57 млрд мусульман, т. е. около 23 % всего населения Земли (по статистике 2009 г. [см.: 9, 3]). В России ислам является второй по численности религией после христианства (распространен среди татар, башкир, чеченцев, аварцев и других кавказских народов). Все эти факты заставляют с пристальным вниманием изучать ислам, который является значительным религиозным явлением. Кроме того, за последние десятилетия потоки мусульманских эмигрантов хлынули в Западную Европу, в результате чего произошла встреча и взаимодействие мусульманской культуры с западной постхристианской цивилизацией.
В результате современного религиозного развития в исламе происходят сложные процессы, которые имеют ряд существенных последствий. Прежде всего, ислам активно модернизируется, в нем появляются различные течения, в которых обсуждаются вопросы взаимодействия культур. Еще в 1804 г. внутри ислама возникло движение джадидизма, приверженцы которого ориентировались на европейский гуманизм и общечеловеческие ценности (свобода, образование, отказ от неприемлемых обычаев и т. д.)[23]. Ислам вестернизируется, растет поток апологетической литературы с ответами на острые вопросы, возникающие в результате взаимодействия ислама с современным миром. Одновременно происходит осознание того, что древний и средневековый ислам в современном мире неактуален, полон легенд и неприемлемых обычаев[24]. В исламских странах, отрицающих возможность модернизации, изоляция от общего течения современной жизни может вызвать социальный взрыв, зревший десятками лет под маской лояльного традиционализма.
Рождается новая версия ислама, которая стремится быть актуальной и жизнеспособной религией, отвечающей потребностям и запросам современного человека. Ситуация угрозы традиционным исламским ценностям со стороны модернизма порождает тревогу, экстремизм, терроризм и крайнюю нетерпимость на другом, антимодернистском полюсе религиозной жизни.
Самые значительные изменения происходят в антропологической области: меняются представления о человеке, его социальной позиции и моральной природе, о смысле его творчества и посмертной судьбе. Ислам, отвечая на вызовы европейской цивилизации, определенным образом христианизируется, так как пытается понять свою позицию с точки зрения традиционных христианских ценностей (личность, свобода, преодоление судьбы и др.), поэтому толкование ключевых антропологических категорий в современном исламе резко расходится с теми представлениями, которые были в Средневековье. Одним словом, современный ислам – это формирующаяся религиозная доктрина, выходящая впервые за много веков из замкнутого состояния.
С учетом названных фактов необходимо различать два пласта исламской религиозности – традиционный, восходящий к средневековым истокам, и современный с его новыми антропологическими идеями и установками на активную социальную и прозелитическую позицию в современном мире. Ниже будут рассмотрены по преимуществу современные философско-богословские представления о человеке, которые сформировались на протяжении последних десятилетий под влиянием встречи с Западом и отчасти в противостоянии христианскому гуманизму. Суфизм, мистическая религиозность традиционного ислама переживают значительный кризис, что в свою очередь меняет некоторые внутренние установки традиционного ислама. Несмотря на маргинальность своего существования, суфизм всегда имел большое влияние на исламскую религию и социальную позицию мусульман.
Ислам (буквально «примирение» с Аллахом, «покорность, предание, вверение себя Богу без всяких условий») означает особую психологическую установку, не тождественную понятию о смирении и покорности воле Божией в христианстве. В исламе путь духовного совершенствования связан с неуклонной покорностью прямым указаниям Аллаха, что предполагает отсутствие многосложного измерения личности, цельность, монолитность сознания, однонаправленность волевого акта и одновременно эмоциональную воодушевленность. Суть грехопадения – это уклонение от воли Аллаха, суть примирения с Ним – покорность Его велениям. Покорность в исламе есть акт, проистекающий скорее из волевой области. С покорности начинается путь к обретению психологической связи с Аллахом. Самыми значительными именами (атрибутами) Аллаха считаются такие, как Всемогущий, Вездесущий и Всеведущий, Единый, Премудрый и Благой, Жизнедатель, Отвергающий нечестие, Дарующий познание истины, Сокрытый и Явленный, Просвещающий, Близкий, Первый и Последний. Главное определение Бога в христианстве – «Бог есть Любовь», другие определения по отношению к Богу считаются прикладными, и только слово «Любовь» есть выраженное в языке понятие о сущности божественной жизни. Различие в именовании Бога в исламе и христианстве симптоматично. Любовь – это не сущность, а одно из имен Бога, причем не самое характерное. В суфизме существует представление, что Бог выше любви, поэт-суфий Джалал ад-Дин Руми (1207–1273) писал: «А за пределами разума приходит прекрасная Любовь, тряся юбками, с чашей вина в руке. А по ту сторону Любви – тот неописуемый Один, который может быть назван только “Тем”» [8, 96–97].
Творение мира в исламе антропоцентрично. Бог сотворил все вещи на Земле ради человека, чтобы тот благоденствовал и славил Творца. Населив земной мир, Аллах решил поставить в нем наместника, но не нашлось ни одного существа, которое бы решилось взять на себя эту ответственность, кроме человека. Аллах почтил человека, сотворенного из «звонкой глины», разумом и волей, «вдохнув» в него «от Своего Духа», даровал ему бессмертие и способность к размножению. Как считают современные комментаторы, в некоторой степени разум дал свободу человеку, способность решать, соблюдать заповеди Аллаха или нет («Истина – от вашего Господа: кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует» – 18: 29[25]). Адам назван в Коране первым в ряду пророков: «Поистине, Аллах избрал Адама и Нуха и род Ибрахима и род Имрана пред мирами» – 3: 30 (33). Однако человек возгордился и нарушил запрещение Аллаха, наученный сатаной (Иблисом), не оценил созданное ради него, поэтому описание сотворения человека в Коране есть своеобразное обличение человека, свидетельство его неблагодарности.
Человек сотворен как наместник, заместитель Бога на земле, о творении по образу и подобию в Коране не сказано. В итоге следуют важные антропологические последствия: между Богом и человеком нет внутренней, интимной и глубинной связи, как ее понимает христианская традиция. В Коране есть замечательное высказывание о связи человека с Аллахом: «Мы ближе к нему, чем шейная артерия» (50: 16), «Аллаху принадлежит и восток и запад; и куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха» – 2: 109 (115), которые свидетельствуют о вездеприсутствии Творца. Если в христианстве главная цель жизни – обожение, усыновление Богу, или, как в ослабленной версии католичества, «подражание Христу», то для ислама это «не только невыполнимо, но и безусловно греховно», т. е. «ширк», крайнее нечестие, поскольку человеку дана только лишь «возможность жить по Закону Божию» [4, 139]. Аллах «знает про то, что в груди!» (11: 7), однако человеку Аллах не открыт, не дан в опыте, как, например, происходит во время христианской Евхаристии, как и Бог Ветхого Завета, к которому стремится человек, но Его не достигает (ср. речь Моисея о том, что он хотел бы видеть Бога и ответ Бога: «…лица Моего не можно небе увидеть; потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых <…> ты увидишь Меня сзади, а лицо Мое не будет видимо» – Исх 33. 20, 23). В этом смысле «последнее» откровение ислама возвращается к ветхозаветному порядку богообщения, являясь с христианской точки зрения значительным шагом назад.
Человек, согласно Корану, – наместник, двойник Аллаха, т. е. то, что прилично Аллаху (честь, поклонение, слава) на Небе, должно в некоторой степени быть присуще и человеку: ему следует честь, слава, поклонение. Эту идею прекрасно иллюстрирует эпизод поклонения, по велению Аллаха, ангелов человеку, в результате которого выявляется противник (Иблис), враг человека, непокорный Богу, отказавшийся ему поклониться на основании того, что сделан из огня, более благородного материала, чем глина, из которой создан Адам. Если цель и смысл создания Адама и соответственно всего рода человеческого заключается в том, чтобы представлять (быть полномочным представителем) Аллаха на земле, то такая цель показывает весьма служебное, условное положение Адама. Согласно Корану, Адам был создан как и другие существа в земном мире, но отличался от них тем, что обладал сознанием и волей. В ХХ в. теологи ислама начинают подчеркивать значимость и самостоятельность человеческой личности: «…человек, в котором самость достигла своего относительного совершенства, занимает должное место в сердце Божественной творческой энергии и тем самым обладает гораздо большей степенью реальности, чем окружающие его вещи. Из всех творений Божьих он один способен сознательно участвовать в созидательной жизни Творца» [4, 115].
В мусульманской антропологической системе пол у человека – это скорее животное начало, чем, как были склонны понимать христианские авторы, изначально данное метафизическое начало, которое в результате грехопадения актуализировалось в физические различия. Гендерная проблема является весьма актуальной в современном исламе, имеется значительная апологическая литература по данному вопросу[26], что показывает озабоченность этим ислама. В современной апологетической исламской литературе много внимания уделено вопросу прав женщины, доказательству того, что в Коране мужчина и женщина имеют равное достоинство перед Аллахом; ислам охраняет женщину, предоставляет ей возможность реализации как матери, супруги и т. д. Однако основной поток литературы, адресованный непосредственно женщинам-мусульманкам, связан во многом с обсуждением ритуальной чистоты, омовений и физиологических особенностей женского организма. Мусульмане озабочены вопросом согласования между физиологией женщины и правилами религии. В частности, есть мнение, что соблюдение ритуальной чистоты – это уже половина веры, а путь к спасению – быть примерной, терпеливой женой и матерью.
Для того чтобы яснее понять позицию ислама в понимании женщины, интересно провести сравнение с христианством. Древнее и средневековое христианство ясно указывало на дифференциацию и иерархию мужского и женского начал, возникших после грехопадения: мужчина господствует над женщиной, женщина же «обращена» к нему, согласно Библии («и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» – Быт 3. 16). Соотношение и разницу полов демонстрировал древний венчальный обряд, который бытовал в России до конца XVII в., в конце которого муж кланялся жене в пояс, а жена делала перед ним земной поклон в присутствии священника. Данное положение констатировало социальное неравенство, вполне очевидное для древности: мужчина в семье – добытчик и охранитель, женщина – мать детей, не имеющая без мужа возможности их прокормить и воспитать. В духовном же смысле как муж, так и жена были равны, оба посещали Церковь, приступали к Таинствам, могли принять монашество, женщина в духовном смысле могла быть мудрее, терпеливее, выносливее мужчины, она также могла достичь святости (согласно ап. Павлу, «нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» – Гал 3. 28) и т. д. Духовное равенство при очевидном социальном неравенстве создавало особую гармонию мужского и женского начал в христианской культуре. Считалось, что такое положение дел способно порождать и на всю жизнь сохранять личную любовь, вопрос о которой в исламе, по сути дела, являлся до последнего времени слабо разработанным, о чем свидетельствует сохранившийся обычай многоженства в некоторых мусульманских странах.
В исламе понятие личности только начинает обсуждаться. В этом отношении существует скорее проблемное поле. С точки зрения реализации высшего, духовного метафизического начала (христианство полагает его основным в человеке) женщина в исламе неравноправна с мужчиной. Она не допускается в основное помещение мечети, где молятся только мужчины, при молитвенных собраниях она может присутствовать только в отгороженной от основной части помещения галерее. Если обычай допускает присутствие женщины в мечети, то она должна находиться в 10 локтях (около 5 метров) от последнего ряда молящихся мужчин. Женщины не занимаются религиозным воспитанием мальчиков, поскольку с достижением сознательного возраста отец берет сыновей с собой на молитву, обучая религиозным обычаям. Согласно мусульманскому средневековому преданию, женщина, не родившая детей, не может рассчитывать на получение райского блаженства.
Социальное положение женщин в исламе действительно организовано с учетом природных потребностей женщины в рождении детей, нахождении под опекой мужа, в строгом соблюдении ее прав, в том числе и имущественных, так, чтобы она могла в случае развода или смерти мужа не остаться без средств к существованию. Строгая одежда и жесткие нормы поведения должны охранять женщину от любых посягательств на ее достоинство и честь. Женщину подобно дорогой жемчужине прятали в раковине различных обычаев. Однако с точки зрения христианства дисбаланс духовного неравенства при четкой фиксации социальных гарантий является скорее ущемлением прав женщины, чем ее защитой, при которой не учитываются ее духовные и личные потребности. Однако в сравнении с доисламскими обычаями, бытовавшими в среде арабских народов, ислам является значительным шагом вперед, о чем говорит, например, запрет Корана на убийство новорожденных девочек, на упорядочивание семейного права и т. д. Женщины исламских стран в современном мире активно борются за свои права, мечтая добиться разрешения не только одеваться по-европейски, но и участвовать в политической жизни, что является несомненным влиянием западной культуры.
Функция богопредстояния и богообщения доверена мужчине, который является полномочным представителем рода человеческого. Стоит упомянуть, что вообще ислам – религия, ориентированная на логику, психическую организацию, поведенческие нормы и религиозные потребности мужчины, что ставит, с точки зрения христианства, знак сомнения на утверждении общечеловеческого значения ислама, его обращении «ан-нас» (ко всем людям). Понятие «ан-нас» традиционно понималось как «народные массы», противостоящие привилегированным слоям общества, из чего делали вывод, что ислам есть религия в первую очередь народных, угнетенных, эксплуатируемых слоев населения. Современная апологетика переосмысливает понятие «ан-нас» в русле общечеловеческой значимости ислама: «…ислам обращается ко “всем людям” (ан-нас), а не к особой социальной или иной общности. Ислам нашел себе поддержку практически во всех социальных группах, даже тех, с которыми он борется (по выражению Корана, с расточителями») [5, 62–63].
Общность человеческого рода, по исламским верованиям, в первую очередь основана на религиозных началах, даже общее происхождение всех людей от праотца Адама не является главным условием родства. Общность вторична по отношению к событию первого богообщения, имевшему место до рождения потомков Адама. Об этом повествует довольно таинственный аят Корана: «И вот, Господь твой извлек из сынов Адама, из спин их, их потомство и заставил их свидетельствовать о самих себе: “Разве не Господь ваш Я?” Они сказали: “Да, мы свидетельствуем…” Чтобы вы не сказали в день воскресения: “Мы были небрежны к этому”» (7: 171 (172). Далее в указанном отрывке объясняется, что в день Суда никто из людей не сможет оправдаться происхождением или иными условиями, препятствующими им веровать в Аллаха, поскольку еще до их рождения был заключен некий договор, который предполагает, что в человеке заложена монотеистическая религиозность: «“Душа по природе мусульманка”, – сказали бы мы, перефразируя Тертуллиана» [4, 114]. Суфии, а также ряд ответвлений шиизма (исмаилиты, друзы, алавиты и др.) толкуют указанное место из Корана и ряд других аятов в пользу исповедуемой ими теории переселения душ («тана́сух»)[27]. Официальные течения исповедуют однократность земной жизни человека, за которой последует смерть, воскресение и последний Суд.
Основная проблема современной исламской антропологии – разработка понятия личности. В исламе отсутствует идея о творении человека по образу и подобию Бога, поэтому обоснование уникальности человеческого существа утверждается с иных позиций, чем в христианстве. Современные публицисты, выступающие с точки зрения ислама, считают, что основными, исконными антропологическими категориями, данными человеку при творении, являются сознание, воля и совесть. Они создают антропологию личности с опорой в основном на два понятия – воля и сознание, которые отличают человека от животного, делают его способным к созданию культуры, преображению мира. Совесть, несмотря на признание ее в качестве общечеловеческого свойства, уходит скорее на второй план, потому что в исламе человек не моральное существо, как в китайской культуре, а в первую очередь разумное, волевое и созидающее (государство, правовые нормы, общину, технику, культуру и т. д.).
Воля и сознание – это важнейшие антропологические категории современного ислама, в отличие от средневекового и суфизма, в которых в первую очередь выделяется категория «сердце» как метафора эмоционально-психической и воспринимающей сущности человека. Кроме того, сердце («калб», духовный центр), по свидетельству Корана, является органом богообщения, восприятия мистической информации и связи с Аллахом: «Но “калб” – именно сердце, а не ум. Ислам и суфизм со всею определенностью утверждают примат сердца, ставят сердце выше ума, причем онтологически выше: как греческая и западная мысль приписывают онтологическую выделенность уму, так ислам утверждает, что прерогатива связи с Божественным дана сердцу, и только сердцу» [6, 231]. Кризис суфизма, а также потребность самоопределения в современном мире заставляют ислам переориентироваться в отношении того, что считать главным центром в личности человека, утверждая первенство разумного начала.
Для современного ислама человек характеризуется следующими чертами:
1. Человек есть существо уникальное и таинственное, не поддающееся описанию однозначными характеристиками, наполовину ангел и наполовину животное, что задает парадигму бесконечного развития: он может стать выше ангелов или упасть ниже зверей и демонов. Выбор, кем ему быть, принадлежит самому человеку. Эта позиция входит в противоречие с традиционным утверждением о предсказуемости человека, все поступки которого строго регламентированы и описаны однозначными определениями. С точки зрения норм шариата все поступки людей разделены на восемь категорий: фарз – действие, обязывающее в строгой форме выполнять нормы шариата; важиб – действие, за невыполнение которого человек, хотя считается великим грешником, не переходит в разряд неверных; суннат – менее строгое, хотя и обязательное предписание, не выполнявшие суннат в день Суда не будут иметь Мухаммада своим защитником; мустахаб – нейтральные действия; мухаб – за это нет ни наград, ни наказаний, это повседневные действия, не оговоренные шариатом (вставать, садиться, пить и т. д.); харам – категорически запрещенные действия; макрух – не делающие их получат награду, делающий согрешает, но не переходит в категорию неверных; мустакрух – действия, которыми человек показывает свою невоспитанность, от них он получает вред. Таким образом, поведение человека описываются как поступки обязательные (фарз), дозволенные (халяль), желательные (ваджиб), нейтральные (мубах), нежелательные (макрух) и запретные (харам). Более глубокое исследование мотивов, которыми руководствуются при совершении поступков (анализ помыслов, желаний, намерений), нехарактерно для шариата. Традиционная схоластическая концепция человека как предсказуемого существа, все действия которого строго регламентированы, входит в противоречие с потребностью понимания его как существа уникального, необъяснимого, с развитой душевной жизнью, с открытой программой действий.
2. Человек – динамичное, становящееся и развивающееся существо, он сам определяет свое положение в мироздании: «…человек должен решать за самого себя и определить свою окончательную судьбу» [5, 83]. Данная концепция, расширяя его свободу до границ самотворчества, вступает в противоречие с традиционным представлением о полной и безоговорочной зависимости человека от Аллаха. Классическая концепция утверждает доктрину предопределения: «Поистине, Мы ведь каждую вещь сотворили по мере» (54: 49) (в другом переводе «по предопределению»); «Не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах» (9: 51). Аллах сотворил людей, предопределенных к мукам: «Мы сотворили для геенны много джиннов и людей: у них сердца, которыми они не понимают» (7: 178 (179). Концепцию свободы можно считать самым существенным антропологическим завоеванием современного ислама. Главное определение человека в рамках этой концепции – «наместник Бога на земле», что подразумевает его господственное, привилегированное и недетерминированное положение.
3. Призвание человека – познание своей природной святости и благородства, которое состоит в возвышенном положении над миром животных, растений, минералов, в способности покорять и преобразовывать материальный мир. Человек способен к познанию своей природы, когда он осознаёт себя выше всех зависимостей, вожделений, низостей и коварств. Самопознание тождественно открытию в себе природной святости. Осознав свое благородство, человек возвысится над злом, будет творить добро и правду, как это и подобает благородному и святому существу. Как известно, в Коране не признаётся концепция первородного греха или наследственной порчи человеческого рода вследствие преступления Адама. После преступления заповеди Адам и Ева, согласно Корану, увидели свою наготу, потеряв одежду праведности, но тем не менее в результате не произошла катастрофа для всего человеческого рода. После случившегося Аллах принял его покаяние (согласно Корану, Адам покаялся, что противоречит Библии) и снова был возвращен в достоинство избранника.
4. Человек чист и свят при рождении, но слаб по природе, неустойчив в добре, неспособен самостоятельно разобраться в нравственных вопросах без следования заповедям Аллаха. Согласно одному из хадисов, Мухаммад говорил: «Всякий младенец рождается согласно своей [подлинной] природе. Это родители делают его иудеем, христианином или огнепоклонником. С детьми, как с животными, – вы разве видели животных с подрезанными ушами?» [4, 114]. Подлинная, врожденная природа человека – это устремленность к Аллаху, к единобожию. Человек удовлетворяется только в приобщении к Богу, но в отношении материальных благ он способен быть ненасытным или быстро пресыщаться, в чем проявляется его врожденная тяга к вечности, устремленность к бесконечному Творцу. Аллах создал человека для того, чтобы тот подчинялся и поклонялся Ему: «Я ведь создал джиннов и людей только, чтобы они Мне поклонялись» (51: 56). Забывая Аллаха, человек забывает самого себя, дезориентируется, не понимает смысла своей жизни, что ему следует делать и от чего уклоняться.
5. Человек – существо духовное, религиозное по природе. Духовность в исламе понимается иначе, чем в восточном христианстве, где под духовностью подразумевают в первую очередь возможность онтологической связи с Богом, освящение и спасение во Христе, преодоление своей греховной природы и вхождение в новый уровень ипостасного бытия[28]. В исламе существенными признаками духовности являются вера, наука и знание. Вера предполагает, что человек без веры есть ущербное существо, которое впадает в состояния, свойственные животным. Вера есть необходимый атрибут человека, признак его разумной природы. В данном случае особенно ярко видны различия с христианским пониманием веры. Христианская вера не есть необходимый атрибут природы человека, но, с одной стороны, сознательный выбор, ответ человека на Божий призыв, с другой – дар Бога, открывающегося человеку. Вера в христианстве носит всегда характер личного подвига, личного ответа на Божий призыв. В исламе человек, как архитектор своей личности, основываясь на вере, способен раскрыть свой потенциал, а главная сфера раскрытия потенциала – наука и знание. Чернила ученых Мухаммад приравнивал к крови мучеников за веру. Стремление к знанию есть существенная характеристика духовной природы человека: «Человек стремится к освоению наук не только для того, чтобы обеспечить свое господство над природой. В душе человека заложен инстинкт поиска истины и стремление к изысканиям… <…> Человек предпочитает быть осведомленным даже о тайнах галактик, знание или незнание которых на его жизненную ситуацию никак не влияет. Человек по зову своей природы избегает невежества и стремится к науке. Поэтому знание и информированность составляют один из духовных компонентов человеческого существования» [5, 93–94].
В отличие от восточного христианства, где четко разделяются божественная премудрость и земные знания («мудрость нисходящая свыше» и «земная, душевная, бесовская» – Иак 3. 15), не влияющие на духовное становление человека в положительном аспекте, ислам к любому достоверному, научному знанию относится равно благоговейно. Вопрос о возможности отрицательного отношения к мирским, «внешним», в том числе научным, знаниям в исламе отсутствует. Формула современной антропологии ислама такова: «Вера создает человека, а человек – силой науки преобразует мир» [5, 113]. Цели своей жизни человек достигает при правильном сочетании науки и веры.
Еще одной важной добродетелью, составляющей духовную природу человека, в исламе считается нравственность, существенным признаком которой является благодарность: «…реагирование совести людей, основанное на поощрении благодарности и осуждении неблагодарности, именуется нравственной добродетелью» [5, 95]. Четвертым признаком духовной природы человека выступает стремление к красоте, которое всеобъемлюще: от желания иметь красивое имя, одежду и жилище, до стремления к созданию религиозного искусства. Стремление к внешней красоте, которое в христианской аскетике рассматривается как возможная причина мирского тщеславия, в исламе относят к проявлениям человеческой духовности. Описывая красоту пророка Мухаммада, обращают внимание на его красивую гармоничную внешность (борода, глаза и т. д.), на его мудрость, решительность и другие качества, которые в христианстве могли бы считаться вполне мирскими, присущими любому хорошему полководцу или политику. Проблема личной, внутренней, религиозной красоты и гармонии в исламе на данный момент не разработана в достаточной мере, в отличие от христианской мысли, имеющей необозримую литературу по данному вопросу. Пятым, и самым важным, признаком духовности в исламе является поклонение Богу, способность к трансцендированию (собственно религиозная функция), возможность достичь мистического экстаза, выхода из границ материального мира.
Современная исламская антропология утверждает, что главным началом в человеке выступает разум, а воля занимает вторичное положение, т. е. разум дает распоряжение о действии, воля выполняет его. Разумом человек способен подчинить свои эмоции и желания и тем самым достичь духовной свободы (в христианском понимании – свободы от страстей), наивысшей формы свободы для разумного существа. Таким образом, человек является свободным, выбирающим и самостоятельным существом. Эти антропологические атрибуты человека основаны на разуме и воле, которые выступают в качестве реальных, конституирующих сил личности. Благодаря разуму и воле человек обретает свободу и становится самим собой, т. е. личностью. Достижение состояния личности является целью исламского воспитания, что возвышает человека до его реального, господствующего положения «наместника Бога на земле». Согласно современным шиитским представлениям, человек созидает самого себя, а это влияет и на посмертную судьбу. В день Суда в образе человеческом воскреснут лишь те, кто в земной жизни соответствовал нормам человечности, остальные восстанут в виде и теле тех существ, на которых они внутренне походили в земной жизни. Так, например, предающиеся страсти чревоугодия воскреснут в облике свиньи.
Современный ислам тем не менее далек от провозглашения абсолютной свободы и независимости человека, указывая на факторы, ограничивающие свободу в этом мире: наследственность, естественная и географическая среда, социальность, история, время и место рождения. Предопределение касается природного, материального мира и не стесняет свободы человека как духовного существа. Всем этим факторам человек может и должен противостоять. Божественное предопределение при этом трактуется как мировой порядок, определяющий законы природы, цепь следствий и причин. Предопределением считаются и те факторы, которые являются ограничительными для природы человека.
Провозглашение человека строителем своей личности открывает дорогу антропологическому релятивизму. М. Муттахари различает в человеке его кинетическую (индивидуальную) основу и потенциальную (личность). Это означает, что человек как индивид есть вполне природное существо, подобное флоре и фауне, и только его личность дана как проект, потенция, которую развивает сам человек. Отсюда следуют утверждения, что люди бывают как в состоянии чисто кинетическом (дикари, звероподобные, прельщенные святоши), так и подлинно личности. Люди могут достичь состояния, при котором будут иметь любовь друг к другу, ощущать себя частями единого целого, когда общей природой у них выступит человечность. Однако такого состояния могут достичь только правоверные, поскольку именно вера ислама является той сущностной характеристикой, которая созидает в человеке личность. М. Мутаххари пишет: «Следовательно, тем, что действительно объединяет людей в общее “мы”, является единый для них дух. А источником подобного нравственного чуда является общность веры, а не общее происхождение, общие корни и общность по рождению… <…> Взаимное благорасположение и любовь возможны только в обществе правоверных» [5, 150–151]. Свое мнение М. Мутаххари противопоставляет как идеям мистика Саади, который учил об общечеловеческом братстве, осуществляемом через общее происхождение от Адама, так и западной модели гуманизма, основанной на общечеловеческих ценностях. Отсутствие понятия творения человека по образу и подобию Божию в данном случае наиболее наглядно. В христианстве образ Божий – неизменное и неотъемлемое качество человека, основа общечеловеческого братства и взаимной любви. Даже падший до звероподобия человек имеет шанс на покаяние и, таким образом, достоин любви-сострадания, так как его природа, несмотря на искажение грехом, зиждется на образе Божием как на каркасе, не дающем ему полностью раствориться в зверином облике, а тем более обрести звериную сущность.
Прп. Исаак Сирин, выражая христианскую интуицию общечеловеческой и даже общекосмической сопричастности Богу, писал о плаче человека, просвещенного Духом Святым, за всю тварь: «“И что такое сердце милующее?” – и сказал “возгорание сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы, от великой и сильной жалости, объемлющей сердце… и не может он вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились; а также и об естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его по уподоблению в сем Богу”» [1, 206]. Жалость в данном случае является проявлением любви, которая отнюдь не тождественна сентиментализму и дешевому умилению. прп. Исаак Сирин подчеркивал, что «любовь есть порождение ведения, а ведение есть порождение душевного здравия, здравие же душевное есть сила, происшедшая от продолжительного терпения» [1, 160].
Попытки найти общечеловеческие основы нехарактерны для современного ислама, озабоченного проблемой противостояния с западной цивилизацией и утверждающего скорее пафос нахождения отличий. Говоря о любви ко всем людям, ислам имеет в виду не личную любовь-сострадание к людям как к совокупности различных личностей, но мистическое состояние сознания, когда весь мир постигается безлично, все его части видятся как материальные воплощения имен и атрибутов Аллаха.
В учении иранского мыслителя Мулла Садра (1572–1640) утверждалось: «Человек – не вид, а множество видов. Даже каждый индивид каждый день представляет собою иной вид, чем вчера» [5, 148]. Данное суждение открывает вторую сторону в концепции личности в исламе, тесно связанную со средневековыми и мистическими представлениями – с утверждением призрачности «я». Истинное ирфаническое (мистическое) познание заключается в том, что «я» есть дух, душа, простая ментальная установка, но по сути, бытийно, «я» не существует, поскольку истинное «Я», единственная подлинно реальная Личность в Бытии – только Аллах. Достигая предельного самопознания ирфан (мистик) осознаёт себя каплей, возвращающейся в море божественного Бытия. Ирфан достигает Истины, соединяется и растворяется в ней.
Более высокая ступень самосознания доступна, по учению ислама, лишь пророкам, которые после погружения сознанием в Аллаха возвращаются в мир, к людям, имея измененную природу. Пророки – единственные личности, которым доступно подлинное духовное перерождение, но они, в частности пророк Мухаммад, являясь антропологическим идеалом «совершенного человека», тем не менее в своем роде уникальны и опыт их богообщения и самопознания не может быть распространен на других. Правоверные могут им внешне подражать, ориентироваться на формы благочестия, о которых учит пророк, на его манеры, речь, образ жизни, но приобщение духовному опыту, подобному пророческому, невозможно. Сама мысль об этом рассматривается как дерзость и нечестие.
Таким образом, становится ясна парадоксальность исламской антропологии. Объявляя человека высшим существом, достойным поклонения ангелов, в конце концов на основании истин высшего познания утверждается тезис о призрачности личного начала. С точки зрения христианства это вполне закономерно: вне утверждения творения по образу Божию, вне понятия о вочеловечении Бога, человек предстает как существо эфемерное, его личность не имеет опоры и основы. Несмотря на стремление переосмыслить понятия о человеке с точки зрения западной философии или гуманизма, санкционированного христианством, ислам не может отказаться от своих исходных мистических интуиций и веками сложившихся представлений. Последнее слово в вопросе об антропологии остается за суфизмом, за мистическими и молитвенными практиками ислама.
Антропологические положения в суфизме
В исламе первоначально не предполагалось высшего духовного измерения, связанного с практиками личного богообщения. Шариат рассматривает брак как обязанность перед Аллахом: «… любой ресурс Творения, который может быть развит, приумножив тем самым общественное благо, должен быть развит, иное – грех перед Богом» [4, 44]. В Средние века в обязанности кади (судьи, отправляющего правосудие на основе шариата) входило наблюдение за тем, чтобы вдовы после траура вновь выходили замуж. Согласно хадисам, «худший из мертвых тот, кто умер холостым» [7, 476]. На фоне воинственной религии ислама, направленной на земное преуспение (Мухаммад в приписанном ему хадисе предостерегает: «Нищета – путь к неверию» [4, 40]), христианские аскеты-пустынники выглядели небожителями. Суфиями еще до возникновения ислама называли христианских аскетов. Суф – «шерсть», суфий – человек, облаченный в шерстяную одежду, власяницу. Такую одежду мусульмане-суфии переняли у христианских подвижников, взяв также и некоторые формы аскетической практики. Влияние христианского подвижничества на исламский суфизм не простиралось дальше подражания внешним формам. Первым аскетом-мусульманином, получившим имя «суфий», был Абу Хашим (ум. 776), живший около Куфы. Расцвет суфизма приходится на IX–X и XIII вв.
Как и христианское монашество, суфизм развивался от индивидуального подвижничества с формами крайнего аскетизма до оформления в отдельные школы-братства (тарикаты), в основе которых лежал институт наставничества с требованием безоговорочного подчинения наставнику (шейху) со стороны ученика (мюрида). Вторая разновидность организации суфизма в форме братств учитывала ошибки крайнего аскетизма, когда для некоторых подвижников духовный путь заканчивался впадением в гордыню или безумие. От крайностей индивидуального подвижничества предостерегает учебная суфийская литература.
Наставник суфиев (шейх) неукоснительно соблюдает шариат, не опровергает бывших прежде него шейхов, соблюдая принцип преемственности духовной традиции. Правила для общин были составлены в XI в. шейхом Абу Саидом ал-Майхани (967–1049). В частности, в них есть следующие предписания: члены сообщества «должны носить одежду и быть всегда в состоянии ритуальной чистоты. Они не должны сидеть в мечети, праздно болтая, равно и в другом святом месте. Молитвы им надлежит отправлять всем вместе, особенно начинающим. По ночам им следует многократно молиться. На рассвете они должны истово испрашивать прощения у Господа и взывать к Нему. По утру им надлежит читать Коран столько, сколько смогут, и до восхода солнца ни с кем не разговаривать. Между вечерней молитвой и отходом ко сну им надлежит отправлять особую молитву – совместный зикр» [7, 493].
Между тем тот же ал-Махайни не одобрял излишнего подвижничества. По его мнению, истинный суфий должен иметь жену, детей, жить среди людей, покупать и продавать. Фигуры неженатых суфиев-отшельников довольно немногочисленны и маргинальны. Этим, несомненно, суфизм в корне отличается от христианского монашества, смысл которого есть всецелая устремленность к Богу, предполагающая безбрачие (девство), нестяжание, отход от рода, исход из социальной среды ради обретения внутренней свободы и цельности теоцентрически ориентированного ума.
Центральное событие суфийской духовной практики – мистический экстаз, который давал опыт растворения «я» человека в океане божественности Аллаха. Данное состояние трактовалось как откровение и становилось обычно толчком для поэтического творчества. Широкую известность приобрели стихи суфия Омара Хайяма (1048–1131), в основе которых лежат вдохновения и откровения, полученные во время духовно-экстатических упражнений. Известны также поэты-суфии Умар ибн ал-Фарид (1181–1235), Махмуд Шабастари (ум. 1320) и другие, на примере которых можно понять, что в результате суфийских упражнений пробуждается особый поэтический дар, связанный с вдохновением, восторгом и ритмическим изложением мистического опыта.
Суфизм – это иерархическая система приближения верующего к Аллаху. На первой ступени стоит неукоснительное исполнение требований шариата. На второй ступени желающий стать суфием выбирает себе наставника и ступает на путь послушания, основной принцип которого гласит: «Ученик должен быть в руках своего наставника как труп в руках обмывателя мертвых» [7, 494]. Пройдя послушание, ученик ступает на путь мудрости (марифа), становясь «познающим» (арифом), т. е. обретает возможность экстатического опыта, цели своих усилий. На этой стадии суфий поднимается над миром добра и зла, религиозных различий и распрей между отдельными людьми. Крайняя веротерпимость суфиев, граничащая с религиозным релятивизмом, всегда вызывала неприязненное отношение со стороны традиционного ислама, что иногда заканчивалось гонениями и казнями. В этом неоднозначном соотношении традиционной и мистической версий ислама сказывается огромная разница с христианством, в котором монашество воспринималось в качестве хранителя предания и главного оплота вероучения. Наконец, на четвертой стадии (хакика – истина) суфий познавал эфемерность своего «я», которое растворялось в Высшем сознании Аллаха. Об этом, например, говорит один из самых известных мистиков суфизма Джалал ад-Дин Руми: «С Богом для двух я нет места. Ты говоришь я, и Он говорит Я. Либо ты умираешь перед Ним, либо позволь Ему умереть пред тобой, и тогда не будет дуальности. Но невозможно чтобы субъективно или объективно умер Он – это Живой Бог, Который не умирает (Коран. 25, 58). Он обладает таким мягкосердием, что, будь это возможно, Он бы умер за тебя, дабы могла исчезнуть раздвоенность, но так как невозможно, чтобы умер Он, умираешь ты, чтобы Он мог манифестировать Себя тебе, и могла бы исчезнуть дуальность» [3, 95].
Представление о мистическом растворении личности в Аллахе характерно, однако, не только для суфизма, но и для молитвенной практики ислама вообще. Так, например, Мухаммад Икбал, известный мусульманский философ, поэт и политик XX в., писал о молитве, что она есть «выражение внутренней тоски по ответу в страшной тишине вселенной. Это уникальный процесс открытия, посредством которого ищущее эго утверждает себя как раз в момент самоотрицания и тем самым открывает собственную ценность и свое оправдание как динамического фактора жизни вселенной… Молитва в исламе – уход эго от механи<ци>зма к свободе» [4, 117].
В четком делении всего духовного пути на четыре стадии (исполнение шариата, ученичество, мудрость, истина) ярко сказывается отличие от христианского подвижничества, в котором никогда не ставилось целью достижение мистических созерцаний (видений, откровений). Описывая путь покаяния, прп. Максим Исповедник констатировал факт, что на высших ступенях созерцания возможен опыт достижения созерцаний, но он обретается как дар свыше, а не как необходимая стадия духовной жизни. св. отцы предупреждали, что само желание созерцаний уже поставляет на первую ступень прельщения в духовной жизни. Всякое искусственно вызванное духовное состояние считается неправильным и недуховным, квалифицируется как проявление духовного сластолюбия (желание духовных услаждений) и гордости.
Однако цель суфизма – это именно искусственное вызывание экстатических состояний, дающих в итоге опыт растворения личного самосознания в Аллахе (фана – саморастворение, самоуничтожение). Покаяние суфий приносит публично, перед вступлением в суфийскую общину, далее покаяние уходит на второй план, а на первый выступает состояние «влюбленности» в Аллаха, а сами суфии именуются «ашиками» (влюбленными). Подобным духовным практикам также противоречат христианские, восточно-православные нормы аскетики. Основное требование христианского подвижничества – трезвение или «умное делание», хранение ума, сутью которого являются внимательное рассмотрение сердца и ума, отсечение плотских и греховных помыслов. К плотским страстям причисляется и вымышленная падшим естеством «влюбленность в Бога», открывающая врата прельщению человека.
Самое радикальное противоречие суфийских и христианских аскетических традиций сказывается в области молитвенных практик. В разных суфийских школах они сложились с некоторыми отличиями, но их суть сводилась к тому, чтобы посредством телесных упражнений, ритмов, танцев, смены частоты дыхания и призываний Аллаха ввести участников в состояние транса. Кроме того, молитвенная формула, повторяемая участниками собрания, постепенно превращается в неразличимый набор звуков: «…молитвенный текст обессмысливается в ходе рецитации, которая концентрируется не на смысле, а на физическом акте повторения, предельно наращивая его скорость и интенсивность и за счет этого генерируя психическое возбуждение. <…> Вхождение суфия в экстатический транс нередко сопровождается проявлениями исступления, бешенства и неистовства: конвульсиями, воплями, раздиранием одежд и нанесением себе ран» [6, 232].
Молитвенное собрание суфиев (зикр) могло сопровождаться музыкой, приемом тонизирующих средств (чай, кофе) и наркотиков. Дервишей (участников собрания) в школе (тарикате) рифайя называли «воющими», мавлавийа – «вертящимися», исавийа – «прыгающими», шуайбийа – «пляшущими». Названия показывают принятые в данном тарикате способы введения участников в экстаз. Современные дервиши тариката мавлавийа, кружась вокруг своей оси в белых развивающихся одеяниях с закрытыми глазами, двигаются по кругу, с каждым кругом ускоряя ритм движений. Ладонь правой руки они обращают к небу, левой руки – к земле, изображая, таким образом, планеты, вращающиеся вокруг центра мира – Аллаха.
Так, например, в изложении Пауля Кале, исследователя-исламоведа начала XX в., выглядел суфийский зикр: «Участники хадарата усаживаются по кругу. В центре садится халиф-сахиб ал-лайла (руководитель ночного бдения). По его знаку пакиб ал-маджалис открывает собрание молитвой… Еще сидя участники проговаривают первую часть шахады – «Ла илаха илла-л-лаху», – примерно 20–30 раз. При последующих словах «Хува, хува, хува, Аллах» (Он, Он, Он Аллах) халиф встает и дает знак всем подняться. Фраза «Хува, хува, хува, Аллах» превращается в «Аллах, хува, Аллах». При первом произнесении слова «аллах» тела дервишей наклоняются влево, при втором – вправо, а слово «хува» проговаривается между наклонами вбок. Все это длится около 20 минут. Определенный темп задает халиф. Затем словосочетание изменяется, следуют фразы «Хува Аллах, хайй вадаим» (Он Бог сущий и превечный) и «Йа азиз, йа азиз» (О Всевышний, о Всевышний). При произнесении первой фразы тело поворачивается налево, а второй – направо. Все говорят шепотом. При следующей фразе «Аллах кадир» (Бог Всемогущий) дервиши наклоняют голову вперед на первое слово и откидывают ее назад – на второе… Конец зикра образуют повторяемые все быстрее и быстрее непрерывные восклицания «Аллах», сопровождаемые наклонами влево и вправо. Затем все садятся. Накиб ал-маджалис читает молитву. После нее все участники целуют руку халифу и расходятся» [7, 495]. Описание зикра ясно показывает, что цель участников – войти с медитативное состояние транса: «У всей этой техники имеется общий знаменатель… все подобные элементы носят характер воздействий на сознание и поведение со стороны низших, а не высших функций и уровней организации человека: из сфер соматики и нейрофизиологии, подсознания и бессознательного. И мы заключаем, что в данной линии суфийскую практику составляют по преимуществу техники работы с паттернами бессознательного» [6, 232].
Восточнохристианское подвижничество, напротив, отличает работа с трезвенным сознанием. Для всех аскетических писаний характерно подчеркивание, что Бога человек способен достичь только на высоких уровнях своей психической и умственной организации, а низшие ступени, связанные в основном с телесными, эмоциональными, частично подсознательными пластами психики, являются вратами, через которые входят в человека страсти и различные демонические влияния. св. отцы много внимания уделяли разработке практик «трезвения», в чем сказывалась постоянная озабоченность трезвой оценкой духовного состояния подвижника, поскольку сфера духовного опыта как таковая сопряжена с опасностью впасть в ошибку и может закончиться даже духовной гибелью (ересью, безумием) при малом ослаблении внимания или совершении недолжных движений сознания.
Суфизм очень далек от осознания опасности духовного пути, что связано с концепцией «природной святости» человека и с довольно легкомысленным отношением к действиям злых сил. Напротив, суфизм на протяжении своей истории постоянно возвращался к теме сатаны как трагической фигуры мироздания: якобы Иблис является единственным и подлинным монотеистом, отказавшимся поклониться Адаму из благочестивых соображений. Проблема Иблиса в том, что он является бо́льшим монотеистом, чем сам Аллах, давший повеление о поклонении своему наместнику на земле, но его дерзкий, но благородный поступок достоин определенного рода восхищения и даже подражания (об этом писали ал-Халладж, Сана’и Ахмад Газали, шах Абд ал-Латиф и др.). Довольно двусмысленный отрывок из Корана, повествующий об этом событии, действительно определенным образом мотивирует неповиновение Иблиса Аллаху и способен вызвать сочувственное отношение к падшему ангелу, поскольку требования ислама о безусловном и бескомпромиссном монотеизме оправдывают его поведение.
В работах суфиев различается четыре формы познания, символами которых выступают четыре вещества: 1) вода – восприятие мира с помощью пяти органов чувств, доступное каждому; 2) молоко – интуитивное познание, где главной является сила воображения; с этой областью связано искусство, литература и философия; 3) мед – опыт святых и пророков суфизма, переживание реальности, не имеющей пространственно-временных или иных характеристик, но одновременно яркой и услаждающей; 4) вино – откровение, непосредственное переживание божественной реальности. Вино есть символ четвертой, и высшей, ступени, разрушающей границы обыденного восприятия, опьяняющей и нивелирующей границы индивидуального «я».
В состоянии экстаза дервиши, отождествляющие себя с Аллахом, выкрикивают различные слова (например, «я есть истина»), которые с точки зрения традиционного ислама считаются богохульными. Отношение традиционного ислама к дервишам было весьма неровным, достаточно упомянуть факт расправы (распятие в качестве казни за богохульство) над знаменитым суфием Хусайном ибн Мансуром ал-Халаджем (ок. 858–922), теоретически обосновавшим и распространившим суфийское учение. Ал-Халадж ввел важнейшие термины, которые до сих пор составляют теоретическую базу суфизма. Он же терминологически определил состояния сознания суфия на его пути к постижению Аллаха: вадж (экстаз), сукр (опьянение), джам (слияние), фана (умирание, исчезновение), бака (пребывание в божественной сущности).
Суфизм, утверждавший, вопреки официальной теологии ислама, возможность непосредственного богообщения вплоть до полного слияния с Аллахом, дал начало распространению культа святых. Раннему исламу почитание святых было вполне чуждо, но постепенно эта традиция распространилась среди простого народа, жаждавшего иметь конкретные святыни и заступников перед строгим и требовательным Аллахом. Постепенно сложился культ Мухаммада, его дочери Фатимы, ее мужа Али, их потомков, сподвижников, выдающихся суфиев и др. На Востоке, в частности на Святой Земле, мусульмане почитают христианских святых (например, святого великомученика Георгия Победоносца) как провозвестников единобожия, воздвигают в их честь мечети неподалеку от христианских храмов. Распространено почитание гробниц святых, их вещей, ковриков, различных реликвий. Мощи не почитаются, что вполне гармонирует с антропологическими утверждениями ислама, согласно которым тело считают субстанцией низшего порядка, не подлежащей освящению. После прикосновения к мертвому телу требуется ритуальное омовение от скверны.
В целом можно констатировать факт негласного противостояния официального ислама и суфизма, но именно их взаимодействие создает систему антропологических и теологических взглядов. Официальный ритуализированный ислам является в некотором смысле базисом для практического и аскетического воплощения в суфизме. Нового, по сути, суфизм не создает, но выявляет и наглядно раскрывает внутреннее содержание ислама, как это происходит в любой аскетической традиции, сопутствующей той или иной религии. Суфизм заполнил лакуну духовности, которая постепенно образовалась в нормативном исламе. Он наглядно показал, что в человеческой природе глубоко заложена жажда богообщения, которую не может заглушить никакая нормативная религия.
С точки зрения критериев восточноправославного подвижничества, суфизм является техникой введения человека в состояние самообмана. В суфизме отсутствуют четкие критерии различения ложного и истинного духовного опыта, априори признаётся истинность любого духовного опыта адептов ислама, что резко отличается от христианского подхода к истинности личного опыта, что подразумевает скрупулезную проверку любого духовного явления. Основные способы достижения высшей реальности – послушание, аскетизм, самоконтроль (мусахаба), т. е. изучение своих действий и мыслей, молитва (у суфиев – зикр и медитация, муракаба – отстранение от всего, что не есть Бог) – типологически во многом совпадают с христианскими аскетическими практиками. Однако конкретное воплощение этих практик приводит к потере, растворению своей личности в некой духовной реальности, именуемой Аллахом.
В нормативном исламе суфийский опыт с оговорками и различными комментариями был принят и квалифицирован как истинный, хотя предпочтение было сделано для учения суфия Абу-л-Касима Джунайда ал-Багдади (ум. 910), которое получило название «школы трезвения». Суть этого учения состояла в том, что состояние растворения личности понималось как промежуточное. На заключительном этапе суфий вновь возвращается к самотождественности своего «я», которое, окунувшись в Божественную пучину, возвращается на служение людям с обновленным и просветленным сознанием. Школа «трезвения» принимает терминологию и практику школ «опьянения» и, несмотря на провозглашение «возвращенной личности», в принципиальных вопросах недалеко уходит от антропологического учения традиционного ислама. Как бы ни был свят и велик человек, его несоизмеримость с Аллахом очевидна: он не сын, но раб Аллаха, и этим в конечном счете определяется его статус довольно ничтожного существа в мироздании.
Литература
1. Авва Исаак Сирин. Слова подвижнические. М., 1993.
2. Коран / Пер. и коммент. И. Ю. Крачковского. М., 1986.
3. Максимов Ю. В., Смоляр К. В. Православное религиоведение: Ислам, Буддизм, Иудаизм. М., 2008.
4. Михайлов Ю. А. Пора понимать Коран. М., 2008.
5. Муттахари М. Человек и вера: Человек с точки зрения Корана. М., 2009.
6. Хоружий С. С. О некоторых особенностях суфийской практики // Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. М., 2005.
7. Энциклопедия для детей. Религии мира. М., 2000. Т. 6. Ч. I.
8. Степанянц М. Т. Исламский мистицизм. М., 2009.
9. Рождественский М. Неожиданный шариат. М., 2010.
Глава 7. Антропологические взгляды в иудаизме
Иудаизм – одна из мировых религий, хотя формально считается религией одного еврейского народа. Вместе с тем иудаизм дал начало новозаветной религии, а ветхозаветные тексты в сильно измененном, но узнаваемом виде являются существенной частью Корана. Синайское Откровение дано всему человечеству, обращено ко всем народам, так как это Откровение Бога о Самом Себе, проявленное через пророков для спасения мира. У христиан и иудеев существуют разные точки зрения на сущность иудейской религии. Необходимо остановиться на основных антропологических положениях иудаизма, чтобы понять разницу между новозаветной и ветхозаветной религиями. В развитии иудейской религиозности явно выделяются два периода: первый период – от Синайского откровения до пришествия Христа, или, более конкретно, до разрушения в 70 г. Иерусалимского храма, который был центром культовой и религиозной жизни евреев; второй период – от последующего за разрушением храма рассеяния еврейского народа и до наших дней. Для второго периода характерно, что «в новых, изменившихся условиях пришлось настолько серьезно изменить и реформировать ветхозаветную религию, что образовавшийся… поздний иудаизм или новоиудейство настолько разительно отличалось от богооткровенной веры, что фактически стало новой, совершенно иной религией» [1, 263].
Еврейскому народу было невероятно сложно психологически расстаться с идеей избранности. Приход Мессии для спасения всех людей, без различия наций, сословий и вероисповеданий, был для евреев неприемлем. До сих пор евреи ожидают Машиаха (Мессию), деятельность которого будет главным образом направлена на благо, славу, всемирное могущество еврейского народа. Иногда в иудейской традиции под Машиахом подразумевается не конкретное лицо, а весь еврейский народ, который, по мысли талмудистов, призван установить царство добра и справедливости. По мере того как идеи Торы будут овладевать человечеством, оно будет становиться коллективным Мессией. Таким образом, в новоиудействе полагают, что дело Мессии – установить Царство Божие на земле, что радикально отличается от христианской концепции Царства Божия, которое понимается как Царство Небесное.
Идеи об установлении Царства Божия на земле (хилиазм) приравниваются в христианстве к ереси. В средневековой Европе носителями хилиастических идей были катары и альбигойцы. Если сейчас в новоиудействе говорится о Мессии как о конкретном лице, то предполагается, что он будет простым человеком, но необыкновенно гениальным, избавит мир от всех видов зла, при нем человечество достигнет вершины нравственного совершенства, наступит золотой век всеобщего материального благополучия. Все народы Земли будут обращены Машиахом к Единому Богу, и наступит всеобщее братство. Непонятно, каким образом простой, хотя и гениальный еврей сможет совершить такие невероятные дела, как и неясно, каким образом люди достигнут нравственного совершенства.
Для христианства, в котором дано наиболее полное Откровение о причинах и размерах грехопадения, о безграничности человеческой свободы в принятии или отвержении Бога, подобное достижение нравственного совершенства невозможно силами одного человека или всего человечества. Сам Бог не вмешивается в мировой процесс столь радикально. Ожидания евреев и христиан имеют существенную разницу: христиане ждут Апокалипсиса и Второго пришествия, иудеи – золотого века. Идеи современного иудаизма по сравнению со средневековым иудаизмом отличаются обращенностью ко всему человечеству, которое в совокупности вершит дело преобразования мира. Классическому иудаизму размышления о человечестве как совокупности всех сынов Адама были чужды, так как для иудаизма, сложившегося после рассеяния 70 г., слово «человек» было синонимом слова «еврей». Преодоление этнически узкой антропологии является большим достижением современной антропологии иудаизма.
Что такое иудаизм, каковы основные положения этой религии? История иудаизма насчитывает 33 века, на протяжении которых происходили его различные трансформации. Иудаизм – самая древняя из ныне живых религиозных традиций, во всяком случае старейшая из монотеистических религий в современном мире. Наиболее значительная трансформация иудаизма имела место после разрушения Иерусалимского храма в 70 г., когда иудеи лишились Земли Обетованной (Эрец-Израиль), храма, священства, жертвоприношения, после чего главную роль в иудаизме стали играть синагога и раввинат. Иудейство рационализировалось, культ и молитвенная практика были оттеснены интеллектуальностью, на первый план выходит изучение Торы и Талмуда. Учение о человеке, которое будет представлено ниже, как раз относится ко второму, «книжному» (в противоположность «культовому») периоду иудаизма. Можно с полным правом предположить, что в первый, «культовый», период иудаизма его антропология была иной, но к настоящему моменту сложно реставрировать первоначальный вариант учения о человеке в иудаизме.
Источниками знания об иудейской антропологии являются: 1) Письменная Тора – Танах, т. е. Пятикнижие Моисея (Торой в иудейской традиции также называют весь Ветхий Завет); 2) Устная Тора (Предание) – Талмуд, который делится на две части: Галаха (еврейское религиозное законодательство) и Агада, в которую включены притчи, истории, предания и другие свидетельства, относящиеся к религиозной традиции. Указания в Талмуде носят такой характер, что иногда неясно правильное поведение в том или ином случае, но предложен выбор стратегии, который должен подтолкнуть читающего к принятию верного решения. Если возникает противоречие между Торой и Талмудом, предпочтение отдается Талмуду. Талмуд был составлен книжниками-начетчиками, в чем яркое отличие от христианского предания, основная часть которого восходит к монашеской, аскетической практике.
Отличия христианского и иудейского представления о творении человека видны при сравнении соответствующих традиций в понимании первых глав книги Бытия. Первое упоминание о творении человека в Библии следующее: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему и да владычествуют они… над всею землею» (Быт 1. 26).
Человек создан по образу и подобию Божию. В еврейском языке «демут» происходит от глагола «дама» (уподобляться, быть ровным), и, как отмечают талмудисты, этот глагол сходен по звучанию с именем первого человека Адам, что свидетельствует о замысле Бога постепенно развивать и воспитывать человека. Для христиан же глагол «сотворим» указывает на Предвечный Совет Пресвятой Троицы, на котором с принятием решения о сотворении было решено и о воплощении Второй Ипостаси. Из этого следуют два фундаментальных вывода. Во-первых, образ и подобие означают онтологическую связь Бога и человека, что таинственным образом указывает на возможность Боговоплощения, а для человека это означает возможность обожения. Во-вторых, сотворение по образу Троицы предполагает неоднозначность в самом человеке, тройственный состав его естества (как, например, разум, чувство-инстинкт, воля, тело, душа, дух и т. д.)[29]. В христианской антропологии есть еще и представление о двусоставности природы человека, но для философов и богословов более привлекательным оказывалась концепция трихотомизма[30]. В еврейском предании онтологических значений в утверждении, что человек сотворен по образу и подобию Божию, не предполагается, так как считается, что это указание на эволюционность человеческого бытия. В еврейской традиции слово «сотворим» – это обращение Бога к ангелам, созданным также по образу и подобию Божию (в христианской традиции образ и подобие присущи только человеку), или к самому человеку: «сотворим вместе», что указывает на совместные усилия Бога и Адама, в результате которых совершается его богоуподобление.
Еврейское предание подчеркивает, что только после сотворения Адама Бог сказал о творении «хорошо весьма», т. е. оно получило полноту совершенства, указание на свою цель. Данный отрывок описывает первый вариант создания Адама. Во второй главе присутствует другое повествование о создании человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт 2. 7).
В этой же главе описывается создание Евы из ребра Адама и предшествующие этому события. Еврейское предание резко противопоставляет эти два варианта творения человека, согласно иудейской традиции здесь описано создание двух разных существ. Пер вый Адам – Адам Кадмон (Древний Адам), прообраз всех вещей, истинный микрокосм, возникший путем эманации из божественного света, а второй – Адам Афар, Адам их праха. Такое противопоставление имеет огромное значение для еврейской мистики и преданий каббалы, выстраивающих на этом противопоставлении мистические концепции.
В чем разница Первого и Второго Адама? Первый Адам является гермафродитом, имеет нерасторжимое единое женское и мужское начало, свободен от вещественных страстей, самодостаточен и символизирует дух человека. Он являет собой идеальное состояние человеческой природы. Адам Кадмон – это духовный человек, владеющий миром и подобный Богу. Он есть чисто духовное существо, явление Божественных сфирот (качеств) Бога. Будучи сотворенным, Адам Кадмон являет Бога и, таким образом, отражает Его Образ и Подобие, причем Бог в данной интерпретации выступает как явно антропоморфное существо. Человек, имеющий индивидуальное земное существование, стремится к предвечному идеалу Адама Кадмона, в котором видится разгадка бытия человека. Обходными путями в образе Адама Кадмона в иудейство проникает христианская интуиция о Предвечном Логосе, божественном образце для человека, в котором реализуется его истинная природа. В христианстве таким образцом, истинным Образом Божиим, выступает вочеловечившийся Христос. В иудействе ощущается смутная жажда и потребность в том, кто осуществил бы прямую связь между Богом и человеком, и такой фигурой выступает мифический Адам Кадмон. В каббале высшей задачей человека является восстановление извечного единства, возвращение к состоянию Адама Кадмона, в котором от начала творения содержались все души людей.
Адам Афар состоит из двух начал: «дыхания жизни» и «праха земного». Для иудейства характерно представление о полипсихизме (множественности душ), поскольку в еврейском тексте стоит «дыхание жизней» во множественном числе (в синодальном переводе – «и вдунул в лице его дыхание жизни» – Быт 2. 7). После грехопадения Адама произошло овеществление его природы, так что Адам Афар является уже падшим, производным от первичного Ветхого Адама существом. От Адама Афара исходят уже другие индивидуальные человеческие существа. Он тот самый Адам, который входит в историю, в то время как первосотворенный Адам Кадмон является прообразом человека в том смысле, в каком Платон говорит об идеях как о прообразе вещей. Подробности модификации Адама Кадмона в Адама Афара или их соотношения сложны и запутанны, исполнены различными мистическими и даже магическими рассуждениями, имеющими смысл в рамках каббалистической традиции.
В повседневной религиозной практике различают две души: животную и человеческую, духовную. В Ветхом Завете есть указание на три уровня душевной жизни: 1) не́феш – животная душа, 2) нешама́ – бессмертный дух, 3) ру́ах – дух, связующее звено между ними.
В бессмертном уровне «нешама» каббалистическое учение различает еще два уровня, связанных с богообщением и мистической жизнью: 1) хайя́ – «живая», 2) йехида́ – «единственная».
Наличие в человеке двух комплексов душ – животной и духовной (божественной) – современный иудаизм толкует как причину амбивалентности, внутренних конфликтов личности, в конечном счете греховности человека. Для христианской традиции человек обладает только одной душой, но как существо падшее он имеет душевные силы и саму телесность в искаженном виде. Именно в падшести и заключена греховность, основа конфликтов и внутренних противоречий. В современном иудаизме отсутствует развернутое учение о греховности человека, в отличие от христианской антропологии.
Если в талмудическом иудаизме нравственно-этический аспект грехопадения все-таки просматривается довольно ясно, то в каббале этический момент уходит на второй план и нивелируется на фоне гностических спекуляций. В учениях каббалы грехопадение приобретает мифологическое толкование: грехопадение разорвало прямую связь Бога и человека и не только повлияло на то, что эфирное тело его превратилось в телесность, но и вызвало некие необратимые процессы в самом Боге. Все творение было пронизано токами или каналами, через которые текла божественная жизнь. Древо познания и древо жизни представляли собой божественные сфирот (качества, сферы Бога), Адам Кадмон как существо духовное был достоен вкушать от них плоды, но его главная миссия состояла в том, чтобы соединить жизнь и знания, принести тем самым полноту и совершенство миру. Вместо этого он отделил познание от жизни и предался поклонению Шхине (Слава Божия), отделив ее от других сфирот и прервав циркуляцию божественных потоков, чем привнес в мир дисгармонию и смерть. Возник разрыв в жизни мира и в жизнедеятельности божественного организма. Заданием человека в мире является восстановление его гармонии, чем и занимаются евреи, выполняя предписания Торы, духовный смысл которых неясен в этом мировом эоне, но будет открыт в будущем: «Все, что совершает индивидуум или община в земной сфере, магически отражается в горнем мире, то есть в высшей реальности, просвечивающей в деяниях человека» [3, 292]. Каждый истинно религиозный еврей имеет огромную власть над небесными мирами и несет ответственность за гармонию в мире.
В современном иудействе грехопадение мыслится в этическом аспекте, его результатом явилось одеяние первых людей в кожаные ризы (грубую телесность), изгнание из рая, смерть. В мистических представлениях иудаизма о предвечном бытии души, о ее странствиях на земле, о возвращении к Богу, последующих трансформациях и переселениях в другие существа стирается важнейшая для христианства интуиция трагедии смерти, ее ненормальности для человеческой природы, стремлении к преодолению этого «последнего» и главного врага человека. Учение о потере человеком Святого Духа, впадении в «плотское мудрование» и полной духовной катастрофе в иудаизме неизвестно. Человек стал смертным существом, но он остался тем же, что и в момент сотворения, а основой зла и конфликтов являются две разнонаправленные души. Если человек склоняется свободной волей к стремлениям животной души, то еда, отдых, удовлетворение полового инстинкта, искание власти и комфорта становятся основным содержание человеческой жизни.
Проблема правильного соотношения двух душ, двух воль – это основное содержание в духовной борьбе иудея, который в идеале стремится достичь внутренней душевной гармонии, т. е. такого соотношения, когда ведущую роль играет божественная душа, направляющая животную душу. Если иерархия душ нарушена, то жизнь человека становится искаженной и бессмысленной, бесконечные потенции божественной души направляются на обслуживание животной души. Бессмертна лишь душа божественная, в то время как животная душа смертна, после смерти возвращается в землю и разлагается, подобно телу, на составные элементы.
В конце времен всех ожидает воскресение из мертвых, но конкретные детали этого события иудейская традиция не обсуждает. Мертвое тело считается нечистым (кара за грех – смерть), прикоснувшийся к нему сам становится нечистым и требует очищения. Тело создано из земли, но это представление не порождает в иудаизме проблему дуализма, противопоставления тела и души. Наоборот, возвеличивание телесной природы характерно для иудаизма. Талмудисты полагают, что образ Божий относится и к телу, поэтому забота о телесности приобретает характер религиозного служения. Один из еврейских талмудистов говорил, что, собираясь в баню, еврей выполняет заповедь о воздаянии чести образу Божию. Тело приобретает характер иконы, что, однако, не освобождает иудаизм от уклона в антропоморфизм (представление о человекоподобии Бога). Антропоморфизм в иудаизме преодолевается четкими заповедями единобожия и неизобразимости Бога, но каббала не свободна от него в полной мере.
Бог вдунул в человека дух нешама, и человек стал душой нефеш, т. е. дух иерархически влияет на состав душевной жизни человека, будучи укоренен в божественном истоке. Животная душа «нефеш» оживляет прочие твари, у которых она связана с телом через кровь. Отсюда и следует запрет на употребление крови (Лев 17. 11–14), чтобы не подпасть через это под влияние животных страстей.
В связи с творением Второго Адама в Библии появляется впервые непроизносимое имя Бога, которое заменяется при чтении на имя «Адонаи», в то время как Первого Адама творит «Элогим» – имя Бога, с которым Он создал прочие твари. Разница в подходах к этому эпизоду в том, что в христианской традиции человек мыслится как созданный сразу, а не поэтапно (сначала Первый, потом Второй Адам), а два сюжета о его сотворении рассматриваются как варианты одного повествования – краткий и пространный. Для современной еврейской традиции Адам Кадмон, созданный по образу и подобию Божию, был «вдунут», вселен в новое существо – Адам Афар – и составил с ним единую сущность. Разделение полов есть следующий этап в становлении человека. Со Вторым Адамом Бог и заключил первый завет (всего для иудейства было семь заветов), а после дарования заповедей творит женщину: «Нехорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт 2. 18).
Отсутствие жены есть для Бога «нехорошее» явление, т. е. впервые с момента сотворения звучит слово «нехорошо», что указывает на важную функцию разделения полов, необходимую, по мысли иудеев, человеку для достижения подобия Богу, реализации своей цели. Ева создается из ребра (по-еврейски ребро – «цела», грань, сторона), т. е. Ева есть эмоциональная сторона сущности Адама.
Слова из книги Бытия «оба были наги, Адам и жена его и не стыдились» (Быт 2. 25) в иудейской традиции понимаются как «открыты, обнажены Богу», что продолжалось до момента грехопадения, когда они начали стыдиться, прятаться от Бога (глагол «арум» – нагой – восходит к глаголу «арам» – быть проницательным, проницать). Перевод глагола «арам» как «нагой» не совсем точен, поскольку «нагой» передается словом «эйрум», поэтому, таким образом, по тексту оригинала Адам и Ева не «наги», но скорее «проницательны», «мудры» и одновременно «видимы насквозь», «открыты Богу». В этом смысле иудейская традиция толкования более точна, в то время как перевод со значением «нагой» породил массу вариантов художественного изображения Адама и Евы не всегда строго целомудренного характера в западноевропейском искусстве со времен Возрождения.
Толкование эпизода о грехопадении Адама особенно резко различно в иудейской и христианской традиции, так как «радикальный» вариант толкования грехопадения предполагает необходимость боговоплощения, неприемлемого для иудейства. Для христианской традиции Адам был создан непорочным и совершенным, имел Святого Духа, залог обожения. По еврейскому преданию, человек создан Богом с двумя противоположными стремлениями: 1) йе́цер ра – дурное стремление; 2) йе́цер тов – стремление к добру. По сути дела подразумевается единый йецер, в понятие которого включаются такие смыслы, как «устремленность», «страстность», «свобода» – человек в том себя и проявляет, что дает правильное направление своему йецер, делает выбор в пользу благого. Наличие йецер ра не следствие грехопадения, но наличная природа человека. В Агаде словом «йецер» назван и змей-искуситель. Человек, ослушавшись Бога и не покаявшись, изгоняется из Эдема и обрекается на труды и болезни. Для иудейской традиции характерно представление, что для душ умерших людей открыт рай, ад же представляет собой чистилище, где горят и очищаются от скверны грехов согрешившие. Иудеи полагают, что души людей, особенно тяжко согрешивших, могут сгореть и погибнуть совершенно. Каббала же утверждает учение о переселении душ: если человек не выполнил на земле свою задачу, ему дается еще один шанс и он рождается снова. Повторно могут родиться и праведники, но уже не для исправления или выполнения своей неудавшейся земной миссии, а для блага народа.
В современном иудаизме способы борьбы с йецер ра сводятся к следующему. Основным оружием в этой борьбе является изучение Торы. Если человек, несмотря на изучение Торы, пал, ему не следует отчаиваться, но снова принять твердое решение бороться с йецер ра. Духовной борьбе способствуют и размышления о причинах согрешений, самоанализ. Рекомендуется удаление от всех причин и поводов, влекущих удовлетворить дурную наклонность. Для успешной борьбы человек должен помнить не падения, но победы, не считать себя грешником, так как самое страшное поражение есть уныние, которое удаляет от борьбы. Наоборот, рекомендуется радоваться в случае победы и размышлять о наградах за добродетель.
Безусловно, духовная борьба в иудаизме не соответствует христианским представлениям о борьбе с грехом, в которой основную роль играет пост и молитва. Человек не может победить себя (в христианской терминологии – спасти себя) без Спасителя Бога. Борьба со страстями – это непрестанное действие, подвиг покаяния, цель которого есть соединение с Богом, обновление естества человека благодатью. Такой ход мысли несвойствен иудаизму, для которого характерен весьма оптимистический взгляд на человека и его возможности: человек вполне может победить сам себя, свои страсти. Главный путь к единению с Богом – творение 613 мицво́т (правил, заповедей), повелений, из которых 365 запретов и 248 предписаний. Каждый шаг, жест, поступок, все от рождения до смерти охватывается и регулируется 613 мицвот. Выполнять их и означает «ходить пред Богом и быть непорочным» (Быт 17. 1), что составляет религиозно-антропологический идеал иудаизма. Это идеал праведности, который наиболее полно воплощен в жизни Еноха, Ноя, Авраама, Моисея, ходивших перед Богом в непорочности.
В понятии цадик (праведник) не присутствует момент отделения мирского от священного и небесного. Праведник осуществляет свое хождение именно в условиях земной жизни. В понятии «святой» (кадош – отделенный, т. е. – отделенный для Бога) момент разделения мирского и небесного присутствует в полной мере. Понятие «святой» было характерно для эпохи существования Иерусалимского храма, служение в котором предполагало отделение святого от грешного, чистого от нечистого. В новоиудействе в качестве антропологического идеала выступает образ праведника, который связывается с неукоснительным и тщательным исполнением 613 мицвот. В связи со множеством заповедей и появился Талмуд, основная задача которого – ответить на вопросы по поводу мицвот, понять систему наград и наказаний за их выполнение или игнорирование, определить все юридические казусы, возникающие в связи с мицвот.
Покаяние в новоиудействе носит по внешнему своему проявлению формально-юридический и рациональный характер. На иврите покаяние – тшува, само понятие тесно связано с представлением о праведности. Святых современный иудаизм не знает, но почитает праведников. Праведность – хождение пред Богом, грех – сознательный или бессознательный уход от Него. Последствие первого грехопадения – уход людей от Бога, так же скрывается от Него всякий согрешающий. Тшува и есть возвращение к Богу, ответ Ему. Покаяние складывается из нескольких ступеней: 1) осознание греха, 2) решимость отвратиться от него, 3) принесение извинений или возмещение ущерба, 4) действие, противоположное греху. Образец совершения истинной тшувы в Новом Завете – бывший мытарь Закхей, действовавший в лучших традициях иудаизма.
Если провести сравнение между иудаизмом и христианством, то следует отметить, что христианская психология покаяния сложилась под влиянием монашества: христианин может каяться всю жизнь, даже если его поведение внешне безупречно. Христианское покаяние – это подвиг внутреннего делания, в результате которого человек выходит из узких границ земной внешней праведности и пытается пересечь границу тварного бытия, поскольку в покаянии открывается Бог, превышающий всякие понятия и земные представления. Для христианства главный грех лежит не в сфере взаимоотношений людей, но в сфере отношений с Богом. Характерно представление о том, что сущность любого грехопадения – гордость, стремление к самообожению («будете как боги» – Быт 3. 2–5). После грехопадения самообожение как некое прельщение вошло в сознание человека, и очиститься ему от него крайне сложно. Путь к смирению – долгие годы покаянного молитвенного подвига. Внешние проявления покаяния в христианстве – только начальная ступень великого подвига, которому, по выражению святых отцов, нет окончания на земле.
Отношение к семье и браку в иудаизме трепетное. Новоиудейство не знает монашества, так как вне семьи, с точки зрения евреев, угодить Богу почти невозможно. Большая часть 613 мицвот, через исполнение которых еврей может достичь праведности, относятся к повседневной, мирской, семейной жизни. В этом смысле на семью ложится основная религиозно-мистическая нагрузка. Семья есть не просто школа жизни, но единственно доступный, реальный путь к Богу, в семье воспроизводится еврейский род – богоизбранная часть человечества. Религиозного равенства между мужчиной и женщиной нет, так как им предписано исполнять разные заповеди. Религиозные требования к женщине мягче, чем к мужчине. В синагогах молятся мужчины, в то время как женщины находятся в отдельном огороженном помещении, не принимая участия в молитве. В иудаизме считается, что если во время молитвы мужчина увидит женщину, то будет думать не о Боге, а о женщине.
Сфера приложения сил женщины – ее дети и родственники. По материнской линии устанавливается принадлежность к еврейству: если мать является еврейкой, то независимо от национальности отца ее дети считаются евреями, и наоборот, по отцовской линии дети евреями не признаются. Развод в иудаизме не запрещен, а Талмуд, кроме того, не запрещает иметь и нескольких жен, что связано с так называемым левиратным браком (вдова должна выйти замуж за брата мужа, если у нее нет детей) и некоторыми другими обстоятельствами. Левиратный брак был отменен в 1871 г., хотя некоторые ортодоксальные еврейские общины ратуют за его возобновление.
Христианство принесло идею религиозного равенства между мужчиной и женщиной, равной для них возможности молитвенного предстояния Богу, хотя в исторической действительности это равенство не всегда имело место, что связано с традициями народов, принимавших христианство. Достаточно вспомнить, что еще в России XVIII в. не было принято, чтобы женщины пели на клиросе (кроме женских монастырей), для исполнения высоких звуковых партий привлекали мальчиков или стриженых и переодетых девушек-крепостных. Разница в подходах заключается в том, что иудаизм ценит женщину именно как воплощение родового начала, через которую осуществляется преемство поколений, транслируется еврейство как таковое. В христианстве этот момент совершенно несуществен, женщина – соучастница и сонаследница Царствия Небесного, как немощной сосуд она больше чем мужчина нуждается в руководстве, но путь святости для нее тот же. Христианство принесло идею преодоления тварной природы, преображения ее в новую тварь, где нет различия мужского и женского. Эта идея, обмирщаясь, стала основой современной эмансипации и даже в своем крайнем и достаточно уродливом искажении – феминизма. В изначальном иудаизме логика равенства между мужчиной и женщиной не присутствует.
Эсхатология иудейства весьма оптимистична, что объясняется взглядом на человека, в котором отсутствует представление о трагедии грехопадения в его подлинных размерах. В сущности, провозглашается возможность всеобщего спасения – апокастасис, приверженцем которого в истории христианства был Ориген. С точки зрения новоиудейства человеку для спасения необязательно менять веру или присоединяться к еврейству, ему достаточно исполнять так называемые «законы праотца Ноя» (Быт 9. 1–17), которые были даны Богом ему и его потомкам после потопа. Разделение евреев и неевреев[31], которые считаются сыновьями Ноя (предок евреев – Авраам), с точки зрения вечного спасения несущественно, но для земной действительности оно фундаментально. Существуют места отдыха для душ, покинувших тело, – рай (Эдемский Сад), многоуровневая структура неземного бытия. В Верхнем Саду Эдема души отдыхают в своей истинной сущности, их наслаждения носят духовный характер. В нижнем уровне находятся души в форме тела, в котором они пребывали на Земле, их наслаждения носят менее интенсивный, более чувственный характер. Ад – место очищения душ, но самое небольшое число евреев погибнет в нем в процессе очищения от скверны грехов. Данное учение противоречит христианской идее бессмертия души человека как духовной субстанции.
Таковы в кратком виде основные черты учения о человеке в современном иудаизме. Иудейство и каббала не соотносятся напрямую, несмотря на провозглашаемый мистической традицией богооткровенный характер каббалы. Из этого различия ясным становится соотношение закона и благодати, о котором богословствовал апостол Павел, а в России – митрополит Илларион Киевский[32]. Само появление псевдодуховности каббалы, насквозь пронизанной языческими идеями, говорит о неудовлетворенности иудейства духовной жизнью. Отсутствие святых вызвало к жизни такое явление, как движение хасидов, которое официальный иудаизм признает ересью. Евреи предпочитают оставаться в рамках Ветхого Завета, время которого прошло[33]. С этим, возможно, связаны многие наивные идеи иудейской антропологии, теологии и эсхатологии, в частности мечта о золотом веке на земле.
Однако мистическое учение каббалы трудно назвать наивным, так как оно имеет развитые, интеллектуально изощренные формы. Оно имеет все признаки гностических построений, а с христианской точки зрения носит характер опасного отклонения и даже отступления от богооткровенной религии (например, провозглашение каббалистами около 1300 г. учения о том, что источник зла находится в самом Боге). В рамках иудаизма раввинистическое и мистическое направления имели сложную историю взаимоотношений, которые не всегда были безоблачными: традиционный иудаизм с подозрением относился к мистическим откровениям, объявляя некоторых видных мистиков еретиками, но постепенно проникаясь каббалистическим духом и частично ассимилировав мистические положения. Современный иудаизм принимает среднюю позицию, полагая, что мистические концепции прошлого носят рядоположный характер, т. е. имеют некую самостоятельную ценность наряду с традиционным иудейством. В целом для современного иудейства характерно скептическое отношение к этому мистическому наследию наряду с признанием его одной из древнейших и известнейших мировых традиций.
Антропологические идеи Талмуда и мистика Меркавы
Мистическая традиция в иудейской религии – явление достаточно позднего происхождения. По крайней мере до первых веков новой эры она не получила отдельного литературного оформления, кроме тех откровений, которые зафиксированы в Ветхом Завете. Существовали пророки и так называемые «сыны пророческие», т. е. ученики пророков, или же их прямые потомки, которые, образуя определенного рода религиозный клан, являлись носителями мистического знания и религиозных практик. Однако эти знания и практики, насколько можно судить по скудным сообщениям Ветхого Завета, не выходили за рамки обычных ветхозаветных религиозных преданий. «Сыны пророческие» выполняли роль предсказателей, для чего вводили себя в искусственный экстаз.
Начиная с эпохи оформления иудаизма как раввинистической религии, параллельно появляются мистические практики, имеющие преемство с прежней иудейской (храмовой) религией. На протяжении последних двух тысяч лет еврейская мистика прошла несколько этапов развития, имела обширную литературу (только опубликованных текстов на настоящий момент имеется около трех тысяч, не считая рукописей). Первую тысячу лет мистическая школа, получившая название «мистика Меркавы», не имела специальной антропологической направленности, или развитого антропологического учения, опираясь на те представления, которые были выработаны в Талмуде.
Меркава (евр. Престол, Колесница) – это Трон, или Престол, несший Бога, как о том повествует книга пророка Иезекииля, видение которого стало основоположным для этой школы, имевшей практическую направленность. Мистика Меркавы вышла из фарисейских кругов, в которых тайное эзотерическое учение передавалось начиная с эпохи Второго Храма (от 515 г. до н. э., после Вавилонского пленения), что наводит на мысль о его нееврейском и, может быть, вавилонском происхождении. Речь идет не о содержании учения, а о самом интересе к эзотерике, попытках искать Бога не на путях личной религиозности, которая предполагает праведность, молитву и покаяние (религиозную практику), но на обходных путях мистического гнозиса. Центральными текстами ранней еврейской мистики были первая книга Бытия и Книга пророка Иезекииля, начало и конец которой даже в первые столетия нашей эры не разрешалось изучать евреям моложе тридцати лет.
Мистика Меркавы – это созерцание явления Бога на Престоле, олицетворяющем все формы творения. Явление Бога есть завершающий этап мистического восхождения, но существует целый ряд промежуточных ступеней, семь чертогов, через которые проходит визионер. Чертоги (евр. Хейхалот) – предмет описания книг «Большие Хейхалот» и «Малые Хейхалот». К тому же типу литературы примыкают «Апокалипсис Авраама» и третья книга Еноха, имеющие апокрифический и апокалиптический характер. Согласно традиционным сообщениям Библии, пророки, созерцавшие Бога в различных образах, не видели чертогов, не проходили различных степеней созерцания. Библейское Откровение носило характер диалога Бога и человека, а не странствия человеческой души по высшим лабиринтам. В новоиудействе появляются закрытые мистические школы, транслирующие скрытое знание, которое заключается в способах прохождения через семь чертогов, охраняемых стражами-архонтами.
Мистик-визионер должен был знать имена архонтов при восхождении и нисхождении в разные уровни мистической реальности. При приеме неофита в мистическую школу учитывались данные физиогномии и хиромантии, тайны которых также передавались в качестве эзотерического знания. Это косвенно указывает на халдейский (вавилонский) источник происхождения школы Меркавы, на которую позднее оказали сильное влияние гностические ереси. Неофит, выдержавший испытание, должен был поститься от 12 до 40 дней, далее принять определенную позу (эмбриональную, способствующую самовнушению, пограничному состоянию сознания) и, декламируя гимны и молитвы, начать странствие в мир Меркавы. Чтобы душа адепта беспрепятственно проходила чертоги, на каждой ступени она должна была предъявить магические печати-имена, которыми заполнены целые страницы мистических текстов. Большинство имен представляют собой бессмысленные звукосочетания, иногда калькированные греческие слова. В данном случае характерным является интерес к магическим именам, который в дальнейшем трансформируется в мистику имен-заклинаний каббалы.
В продвижении по чертогам каждый последующий уровень считался более опасным, чем предыдущий, т. е. адепт подвергался усиливающимся атакам архонтов и одновременно ему грозила опасность быть опаленным от своего тела, которое преобразовывалось в горящий пламень. Чем ближе к Престолу, тем более огненной становилась реальность. Наибольшую опасность представляли последние чертоги, в которых сияние мраморных плит было похоже на потоки вод, так что мистик мог сбиться с пути, приняв сияние за воды. В момент достижения им Престола и лицезрения Бога тем не менее не происходило экстатического слияния его личности с объектом лицезрения. Мотив растворения «я» в океане божества чужд еврейской мистике, в чем сказывается ее строго монотеистический характер. Мистик искал не любви к Богу, но тайн и созерцаний, гнозиса в широком смысле слова, что указывает на внеэмоциональный, довольно рационалистический характер учения. В сравнении с христианской мистикой, вырабатывающей на каждом этапе духовного продвижения к Богу четкие критерии истинности или ложности пройденного пути, еврейская мистика имела свои правила, которые заключались не в контроле состояния визионера, но в контроле его видений, так как, странствуя, тот должен узнавать дорогу и не поддаваться на многочисленные ловушки на пути.
Экстатический рационализм (при всей странности подобного словосочетания) составлял внутреннее ядро иудейской мистической традиции, основным переживанием которой стал страх Божий, интерпретируемый как мистический трепет перед святым, великим и непостижимым Богом, восседающим на таинственном Престоле и хранящим тайны мироздания. В школах мистики Меркавы были созданы многочисленные витиеватые молитвословия и гимны, которые, по преданию, воспевают ангелы и даже сам Престол. Некоторые из этих молитв до сих пор используются иудеями-хасидами в субботних собраниях. Талмудический традиционный иудаизм с подозрением относился к этим обильным и высокопарным молитвословиям, подходя к молитвенной практике с точки зрения здравого смысла и требований лаконичности, скромности в своих словоизлияниях перед Богом.
Для антропологии важно само восприятие Бога в мистической школе. Бог воспринимался всецело человекоподобным, по образу возлюбленного из Песни Песней, имеющим гигантское тело. Поздние интерпретаторы понимали антропоморфизм как явление Бога, отличное от Его скрытой сущности. Перед Престолом Бога находится огромное космическое покрывало, содержащее образы всех вещей, в ткань которого вплетены судьбы всех людей. Узреть космическое покрывало означает разгадать судьбы мира и тайны Мессии, кроме того, узнать о будущем любого человека. В рамках учения Меркавы создается литература, темами которой кроме описания мистического опыта, молитвословий, правил приемов для неофита становятся космогонические спекуляции по поводу букв еврейского алфавита, магических чисел, имен и их комбинаций, образующих все творение. Постепенно школа Меркавы выродилась в магические практики, элемент этического осмысления мистического опыта был представлен очень слабо. Так, например, требование покаяния перед восхождением к Богу появляется около VIII в., а в дальнейшем каждый чертог стал ассоциироваться с определенной стадией самосовершенствования.
По мысли ученого, исследователя еврейской мистики Г. Шолема, предметом интереса каббалы является не человек, а Бог: «Бог и Его аура, мир света Меркавы настолько завладевают его (визионера. – К. Е.) вниманием, что все остальное выпадает из его поля зрения. По той же причине эта мистика не внесла никакой лепты в создание нового нравственного идеала истинно благочестивого еврея. <…> Нравственные идеи, содержащиеся в литературе Хейхалот, бледны и бескровны» [3, 117]. Мистика Меркавы в антропологическом аспекте дает только некоторые штрихи к антропологии, основным элементом которой выступает элитарность, так как только еврей, прошедший этап изучения Торы и Талмуда, имеющий определенные физиогномические признаки, прошедший испытание на предмет соответствия требованиям хиромантии, может быть допущен к тайному знанию. О моральном облике визионера практически ничего не известно, главным критерием выступают мистические способности.
На протяжении всего существования школа Меркавы ориентировалась на классическую талмудическую антропологию, основным признаком которой выступает ее сугубо элитарный, антиуниверсальный характер: только евреи считались людьми как таковыми, только к ним обращено Откровение, только евреи являются носителями антропологического идеала как такового. Другие, не избранные, народы мало интересовали иудеев, как сказано в апокрифической третьей книге Ездры: «О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их Ты уподобил каплям, каплющим из сосуда» (3 Езд 6. 56).
В Талмуде содержатся многочисленные запреты на сообщение с иноплеменниками, запреты оказывать им гостеприимство, приглашать в дом, что-либо дарить или одалживать. Такая практика во многом не совпадала с ситуацией, имевшей место до второго разрушения Храма, когда иудеи стремились войти в тесное соприкосновение с другими народами, широко был распространен прозелитизм, о чем сообщает и Евангелие («Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас» – Мф 23. 15). Прозелитизм странным образом сочетался с высокомерным и презрительным отношением как к обращенным, так и к язычникам. Талмуд выработал строгие и четкие антропологические критерии: словом «человек» и «ближний» обозначается только еврей, и, таким образом, на других людей заповедь о любви к ближнему не распространялась.
Расцвет талмудического иудаизма приходится на Средние века, но элитарная антропология получает теоретическое оформление уже в текстах, примыкающих к традиции школы Меркавы, а также в установлениях, регулирующих жизнь еврейской общины (кагала). Самыми любопытными из кагальных правил представляются такие виды хозяйственных отношений, как Хезкат ишуб, который заключался в том, что «собственность окружающих христиан распределяется кагалом (продается) подчиненным ему евреям. Получаемое таким образом право собственности называется хазака. Иногда такой собственностью может оказаться определенный человек – это право называется меропие» [2, 62–63]. Право хазака означало, что виртуально приобретший чужую собственность еврей имеет право овладеть ею любым возможным способом, имеет право снимать ее, заключать торговые сделки на ее территории и т. д. Меропие означало, что «купивший» какого-либо человека еврей имел право проводить с ним любые торговые операции, в то время как другие евреи не смели в них вмешиваться. Закон о меропие гласил: «…если человек (еврей) имеет в своей эксплуатации нееврея, то в определенных местах запрещается другим евреям входить в сношения с этим субъектом и делать подрыв первому; но в других местах вольно каждому еврею иметь дело с этим субъектом: давать ему деньги в заем, подкупать и обирать его, ибо имущество нееврея все равно что гефкер (свободное), и кто им раньше овладеет, тому оно принадлежит» [2, 64].
Согласно талмудической антропологии, в мире имеется 17 народов, которыми управляют особые ангелы. Каждый ангел является объектом поклонения определенного народа, в то же время выступая в качестве ангела смерти или даже дьявола. Над 17 ангелами царствует главный ангел смерти Самаэль, который является «богом» сынов Эдома (христиан). Истинно живыми в этой пустыне являются только евреи, над которыми царствует Бог. Ситуация с элитарной антропологической моделью существовала в иудаизме, постепенно модифицируясь и гуманизируясь, из века в век, но еще в начале XIX в., уже в смягченном виде, она продолжала быть живой традицией. Новые черты были внесены только хасидским движением и мистикой каббалы, из которых первая традиция была вызвана влиянием христианства, вторая – продолжала развитие школы Меркавы, с включением гностических, антропологических и космогонических элементов.
Антропологические идеи хасидизма и мистики каббалы
Хасидское движение, в отличие от учения каббалы, вызвало самый резкий отпор талмудического традиционного иудаизма. В отличие от мистики, рожденной в недрах самого иудаизма и имеющей некоторые его предпосылки, в том числе и психологические, хасидизм можно рассматривать как своеобычное и новое явление, имеющее независимые от Талмуда истоки. Авторитетные исследователи, такие, как Г. Шолем, Ф. Бэр, М. Гюдеманн, полагают, что хасидское движение появилось как реакция на христианское монашество и имеет прямую от него зависимость.
Для объяснения феномена хасидизма еврейские исследователи допускают, что «мистика носилась в воздухе», т. е. таков был вообще характер эпохи, поэтому христианская и еврейская традиции усвоили «дух времени». Данное объяснение представляется совершенно ненаучным и малоубедительным, в то время как социальные и религиозные влияния со стороны христианского окружения на становление хасидизма вполне обозримы. Христианство оказало влияние на становление как исламской мистико-аскетической традиции, так и хасидизма, поскольку ни иудаизм, ни ислам не имели внутренних аскетических импульсов, которые могли бы оформиться в качестве религиозной субтрадиции, подобной монашеству, в то время как христианство аскетические постулаты имело в себе как часть вероучительной доктрины, и с самого начала развивалось как религия отречения от мирской жизни ради достижения Небесного Царствия.
Хасидское движение имело две волны развития: первая началась в Германии в XII в., вторая – в Польше, Подолии и на Волыни в XVIII и XIX вв. Второе движение имеет название «неохасидизм» и не имеет прямой связи с первым хасидским движением. Второй хасидизм повлиял на становление третьей волны хасидского движения уже в XX в. Еврейский исследователь Я. А. Бромберг полагал, что духовно благоприятными для еврейства могут быть только восточные территории (Восточная Европа, Польша, Россия), а вторую волну хасидизма он связал с влиянием русского монашества и расцветом старчества[34]. Первая волна связана с именами семьи Калонимидов, самыми известными представителями которой были Шмуэль Хасид (середины XII в.), Йегуда Хасид из Вормса (ум. 1217) и Элеазар бен Йегуда (ум. ок. 1232).
В довольно пестрой хасидской литературе сочетались элементы магии, оккультизма, веры в демонов и ведьм. Однако руководители хасидизма, такие, как, например, Йегуда Хасид, были противниками магии, апокалиптических вычислений срока конца света и пришествия Мессии. За счет потери интереса к апокалиптике и мистическим спекуляциям формируются антропологические, социальные и историософские доктрины. Антропологический идеал наряду с определенной молитвенной и аскетической практикой составил сердцевину хасидского учения. Антропологический идеал – это благочестивый хасид, выражающий морально-нравственные нормы и противостоящий традиционному талмудическому идеалу мудреца, знатока Торы, казуистически изощренного в многочисленных деталях Талмуда. Хасидизм провозгласил отказ от главенства интеллектуальных добродетелей. Благочестивый хасид обладает тремя главными качествами: он аскетически отрешен от мирской суеты, находится с самим собой в гармонии, которую неспособны нарушить внешние волнения, и стремится к добрым поступкам.
Аскетическое отрешение от сует мира обосновано теоретически. Так, например, Элеазар из Вормса в «Мидраше о сотворении младенца» объяснил предание о том, что новорожденного ангел-хранитель щелкает по носу, после чего тот забывает то знание, которое он имел до рождения в мир. Это происходит, «потому что, если бы он стал размышлять о том, что творится в мире, не забыв этой премудрости, то сошел бы с ума» [3, 133]. Мир, в который приходит человек, исполнен скорби, мрака и несправедливости, поэтому, даже не обладая бесконечными знаниями, лучше отрешаться от его дел и забот, ожидая будущего Избавления, когда все негативное упразднится. Элеазар уподобляет человека веревке, один конец которой тянет Бог, а другой – Сатана, но в конце концов побеждает Бог.
Истинный хасид отвращается даже от невинных развлечений и увеселений, игр с детьми или содержания птиц в клетке, не говоря уже о страстных взглядах на женщин или непристойных разговорах. Истинный хасид должен с достоинством и невозмутимостью сносить насмешки и оскорбления. Доказывая эти положения, хасиды указывали на тексты Торы, которые цитировались и христианскими подвижниками, например: «Долго молчал Я, терпел, удерживался» (Ис 42. 14), толкуя это как божественное поведение, пример для хасида.
Магические элементы тем не менее присутствовали и в хасидизме, – например, знаменитая легенда о големе, который может быть создан хасидом, получившим благодаря своему бесстрастию и благочестию неограниченные магические способности, в частности власть над стихиями. Хасидизм поощрял занятие гематрией (нахождение численного соответствия еврейским буквам в словах молитв), с помощью которой старались отгадать скрытый духовный смысл Торы и ее тайны. Суеверное отношение к молитвам, в которых усматривали скрытые тексты или послания, вызывало особую молитвенную практику, когда огромное внимание уделялось правильному произнесению и неукоснительному соблюдению последовательности слов молитв. Эта тщательность и почти суеверная педантичность аналогична древнерусскому отношению к молитвенному слову, которое нашло отражение в старообрядческом трепетном рвении не исказить ни одного «аз» в церковных текстах. Несмотря на видимую рационализацию, сама молитвенная практика нередко заканчивалась припадком наподобие эпилептического, во время которого человек терял сознание, падал недвижимым на землю, получал в состоянии транса откровения. Раввинистический иудаизм осуждал эту молитвенную практику в качестве еретической, но в рамках самого хасидизма, по-видимому, не существовало никакого критерия истинности или ложности духовного опыта.
Существенной особенностью молитвенной практики впервые в истории иудаизма становится требование покаяния и разработка соответствующих правил и канонов, тесно соприкасающихся с аналогичными в средневековом христианстве – от постов, отдания своего тела на съедение комарам или муравьям, сидения в снегу и даже добровольного изгнания как высшей меры наказания. Как отмечал Г. Шолем, система покаяния, разработанная Элеазаром из Вормса, «совпадает до мелочей с ритуалом покаяния, предписанным церковью эпохи раннего Средневековья, в частности в так называемых “Уложениях о наказаниях”» [3, 146]. Хасидские предания повествуют о праведниках, взявших на себя различные виды покаянного подвига, – например, лежать на пороге синагоги, чтобы каждый входящий и выходящий попирал грешника ногами. Хасиды каялись за различные виды прегрешений, в том числе и за повседневно мелкие, чтобы душа после смерти избегла наказания и была вознесена в Небесные чертоги. Мотивом покаяния служило даже подражание ожидаемому Мессии, который будет изъязвлен за грехи людей, как о том повествует текст пророка Исаии (53, 5).
Бог в представлении хасидов вездесущ и всеведущ, ближе к человеку, чем его собственная душа к телу, поэтому Он судит все его поступки и намерения. Награда за труды – видения и утешения свыше, но человек не может приобщиться самого божественного бытия (дистанция между Богом и человеком – непременное условие иудейской теологии). Человек приобщается к лицезрению славы Божества, не соприкасаясь с Его скрытой сущностью, которая отлична от Его явления. Из представления о таинственной сущности Бога расцветет постепенно каббалистическая идея сокрытого в Боге Эйн-соф (евр. Бесконечность), Бога-в-Себе, который таит уже над– и вне– человеческие измерения, включая некую бездну, в которой гнездится изначальное зло. Эйн-соф имеет свои атрибуты или стадии божественной жизни, доступные в некоторой степени мистическому познанию, способы которого разрабатывала каббала.
Несмотря на прорыв в области этики, хасидская антропология не вышла за рамки этнически ограниченной традиции. Хасид – духовный руководитель еврейской общины. Он сочетает в себе множество функций – от способности изгонять бесов до рассуждения о спорных местах Талмуда. В рамках хасидизма никогда не ставился вопрос о выходе на уровень универсальной антропологии, что характерно вообще для иудаизма вплоть до XX в., когда распространяется концепция неевреев как «сыновей Ноя». Ною и его потомкам были даны заповеди после потопа, знаком завета Бога с ним служит радуга, как указывает соответствующий текст Торы (Быт 9. 1–17). Для спасения в вечности людям достаточно выполнять немногие заповеди, данные Ною (запрет идолослужения, богохульства, кровопролития, воровства, разврата, жестокости по отношению к животным, требование справедливости в суде), о большем духовном совершенстве остальным народам задумываться не обязательно.
Второй хасидизм (XVIII–XIX вв.) не внес существенных дополнений в антропологию иудаизма, но в нем более детально был разработан антропологический идеал цадика (праведника), являющегося духовным вождем еврейской общины. Конкретные личности приобретают особый аспект значимости, возникает жажда индивидуального духовного руководства. Дух искания личной святости и личного руководства прекрасно передает известный афоризм одного из хасидских цадиков: «Я не для того пришел к Магиду из Межерича, чтобы учиться у него Торе, но чтобы посмотреть, как он завязывает шнурки на своих ботинках» [3, 422].
Каббала (евр. учение, предание, в том числе индивидуальное учение какого-либо мистика) рождается как сплав предшествующих традиций – мистики Меркавы и хасидизма примерно к 1200 г. на территориях Южной Франции и Италии. Самой известной книгой каббалистической традиции является «Зогар» (Книга Сияния), которая несколько веков признавалась каноническим текстом, наряду с Торой и Талмудом. Помимо «Зогар» существует обширная каббалистическая литература, многие памятники которой до сих пор не изданы. Не рассматривая всю безбрежную каббалистическую традицию, стоит упомянуть только новые идеи, которые каббала привнесла в антропологию.
Ярким и своеобычным представляется учение Авраама Абулафии (1240 – после 1291) о том, что душа человека связана особыми перегородками, ограждающими ее от потока космической жизни. Если разрушить их, то душа приобщится к знанию истины, в ней высветлится ее истинная духовная природа, залегающая где-то в ее глубинах, а над поверхностью душевной жизни течет поток повседневной суеты. Для достижения искомого состояния Абулафия находит специфическое средство погружения в экстаз – еврейский алфавит, с помощью которого ночью, в особой одежде белого цвета, при многочисленных свечах, мистик составляет различные комбинации букв, которые должны служить ключом к пониманию имени Бога. Буквы сами по себе не имеют значения, но, погружаясь в их созерцание как в лицезрение чистых форм, душа постепенно освобождает сознание и воспаряет в горний мир. В состоянии мистического преображения человек и Тора образуют непостижимое единство, человек предстает живой и разумной Торой, и, кроме того, во время мистического транса человек встречает свое подлинное чисто духовное «я», которое противостоит ему и даже вступает в диалог, предсказывает будущее. Душа человека в этом описании предстает как многослойное образование, низшим слоем которого являются чистые духовные формы, аналогичные чистым формам божественного мира, но этот слой закрыт, как покрывалом, слоями грубого восприятия земной реальности, включенными в повседневность.
Каббала вносит новые интересные черты в старое учение Талмуда об особой, привилегированной роли еврейского народа, придавая ему мистическое толкование. Каббалист Ицхак Лурия (ум. 1572) учил, что Тора имеет шесть тысяч ликов по числу душ, бывших в Израиле во время получения Откровения. Каждый еврей имеет некоторое сродство с Торой, позволяющее ему адекватно понимать и интерпретировать священный текст. Кроме того, еврейский святой народ в целом предстает как Шхина – явление Славы Божества – и имеет влияние на судьбы вселенной. Царство Божие – это одновременно Кнессет Израиль (мистический прообраз общины Израиля) и Шхина, один из десяти божественных сфирот (евр. сфера, область), по учению «Зогар». Таким образом, израильский народ предстает как укорененный в недрах самого Божества.
Союз Бога и Шхины образует истинное единство, как бы осуществляя самотождественность Бога, так что Бог нуждается в израильском народе ради восстановления полноценности в Своем чрезвычайно сложном и парадоксальном бытии. Евреи – это откровение Бога в мире, наряду с такими Его сфирот, как разум, сострадание, красота, любовь и др. Община Израиля, сотворенная по образу Небесной мистической общины, которая есть Шхина, посредством исполнения религиозных предписаний восстанавливает гармонию, разрушенную грехопадением Адама. Таким образом, мир обязан Израилю той гармонией, которая возможна в падшем материализованном бытии. Согласно «Зогар», Адам Кадмон есть Вышний Адам и прообраз Божественной жизни, с помощью которого божественный мир стал видимым. Таким образом, первозданный Адам – это овеществленный Бог, который стал через Адама видимым, подобно как в христианстве Христос является подлинным воплощением Бога. «Зогар» повествует, что только грехопадение Адама заставило Бога удалиться в обособленную сферу. Если бы грехопадения не произошло, то мир не принял бы материальной формы, поскольку изначально он был сотворен как духовная сущность. Брак не есть уступка плоти, но священнодействие, отражающее взаимоотношения Бога со Шхиной, которая названа Вечной Женственностью.
Центральный для антропологии этический вопрос о сущности зла решается в «Зогар» выдвижением своеобразной концепции, никак не соотносимой с христианством. Зло в христианстве есть следствие злоупотребления высшего дара, данного человеку и ангелам, т. е. дара свободы, и свободного уклонения воли тварных существ от Бога. «Зогар» и каббала не обсуждают важную для христианства тему свободы сотворенных существ, более склоняясь к констатации зависимости человека от судьбы, космических, мировых и божественных процессов. При отсутствии развитой концепции свободы естественным становится объяснение природы зла как побочного эффекта или даже «отходов» жизни Бога, предстающего как органическое существо. Адам только актуализировал скрытые в недрах Божества сфирот Строгости и Суда, которые уравновешивались сфирот Милосердия. Гнев Бога, отторгнутый от других уравновешивающих сфирот, в обособлении деградирует до оформления мира геенны и демонического мира зла. В современном традиционном иудаизме свобода человека понимается как дарованное Богом качество, для того чтобы человек мог проявить свои стремления и преодолеть внутреннее зло.
Сложные теологические спекуляции, в результате которых Бог предстает самозависимым и сложно организованным существом, вносят в концепцию свободы элемент безосновности и неукорененности в божественном бытии. Свобода человека предстает как проявление душевных сил, не имеющих онтологического значения. Душа человека, или, точнее, ее высший слой (нешама), согласно каббалистической традиции, является искрой Божества, появляющейся в результате эманации. Нешама, в отличие от нефеш, пребывает незапятнанной от греха, поскольку она, как часть божества, не способна грешить. Если человек упорно пребывает в грехе, то нешама его покидает, а ее место занимает нечистый дух, мучающий индивидуальную природную душу нефеш. Посмертное наказание может испытывать нефеш или руах, но нешама, как часть божества, не может попасть в места мучений.
Каббала выдвигает и разрабатывает учение о переселении душ (гилгул). Подобно исламскому учению о том, что прежде рождения в мир заключен завет между Богом и душами людей, каббала утверждает о той же предвечной встрече, с той только оговоркой, что, рассуждая о человеке, тем более о его премирном существовании, подразумевает не всех людей (категория «все люди» вообще нехарактерна для иудаизма), но евреев. В ранней каббале переселение душ считалось особым событием, отличным от обычной участи души, возвращающейся после смерти в горний мир. С помощью гилгул великому грешнику предоставлялся шанс исправиться, но считалось, что его душа может обрести только человеческое существование. Позднее, в конце эпохи Средневековья, гилгул стал мыслиться как общая участь человеческих душ, способных принимать самые разные формы (животного, растения).
Историческое становление мистической антропологии иудаизма было, в сущности, разворачиванием центральных мыслей об особой значимости и роли израильского народа, что обусловило ее антиуниверсальность. Центральной интуицией осталась уверенность, что человек имеет непосредственную связь с Богом, в силу того что душа его (высшая часть) произошла из недр божества, и человек должен стремиться к магическому познанию тайн Бога, предстающего загадочным, непредсказуемым, сложноорганизованным существом. По сути, иудейская мистическая теология стала вариантом гностической системы. Кроме того, существовала объективная жажда богообщения, нашедшая наиболее чистые формы выражения в хасидизме. В сравнении с восточнохристианской антропологией, опирающейся на прямые свидетельства Библии и не доверяющей полуоккультным «откровениям», иудейская антропология предстает как не защищенная от вторжения различных идей сомнительного гностического и языческого происхождения[35], так как в иудаизме, несмотря на длительную историю существования, не были выработаны критерии истинности или ложности духовного опыта.
Литература
1. Максимов Ю. В., Смоляр К. В. Православное религиоведение: Ислам, Буддизм, Иудаизм. М., 2008.
2. Шафаревич И. Р. Трехтысячелетняя загадка: История еврейства из перспективы современной России. СПб., 2002.
3. Шолем Г. О сновные течения в еврейской мистике. М.; Иерусалим, 2004.
Глава 8. Антропология эпохи Возрождения
Эпоха Возрождения – время, когда возник новый тип культуры, противостоящий Средневековью. Средневековая культура сформировалась в результате сплава трех основных «элементов»: христианства, варварских народов и культурного наследия Римской империи, погибшей в результате исторических катаклизмов. Сплав разнородных элементов породил мир Средневековья, в котором определяющее значение имели ценности иерархии, теоцентризм, аскетизм, отрицание светского, языческого образа жизни и ориентированность на духовные ценности. Средневековье нашло отражение в оригинальной культуре, письменности, поэзии, музыке и теологии. Одной из особенностей средневекового мироощущения было постоянное напряжение и направленность воли, внимания и воображения на память о смерти (осознание земной бренности), ожидание конца света и Второго пришествия. После того как перестали преобладать подобные настроения и ожидания, закончилась эпоха Средневековья. К XII–XIII вв. культурный и религиозный универсум Средневековой Европы стал неустойчивым, на смену духовной культуре приходит светская культура, рождаясь из ее недр.
Эпоха Возрождения была переходным периодом от Средневековья к Новому времени с его идеей технического прогресса. Привлекательность Возрождения для светской культуры состоит в новом понимании человека, когда после долгих веков Средневековья с его аскетизмом и теологией человек вдруг почувствовал себя свободным от церковного авторитета, у него появилась иллюзия его невероятного могущества. Личное раскрепощение воспринималось как чудо, вызывало колоссальный взрыв энтузиазма, неутомимости и больших надежд. Позднее эпоха научных революций и технического прогресса вновь поставила человека перед неразрешимыми проблемами, главной из которых были внутренние конфликты в личности, оторванной от общинной, народной жизни и религиозности. Мощный титанический взрыв человеческого энтузиазма, столкнувшись с этим препятствием, постепенно угас.
Для ответа на вопрос о сущности антропологической концепции Возрождения необходимо рассмотреть характер религиозности в тот период. Деятели Возрождения мыслили себя гражданами не средневековой Италии, но погибшей Римской империи. Неслучаен словесный оборот гуманиста Лоренцо Валла: «…мы, римляне… Мы потеряли Рим, потеряли царство, потеряли господство… и если постараемся, то быстро обновим язык Рима и с ним все науки и сам город» [3, 220]. Таким образом, гуманисты стремились обновить и возродить Римскую империю, ее интеллектуальное влияние и культуру как вечный образец для европейского человечества. В рамках гуманистической концепции возрождению подлежала римская синкретическая религия, а к традиционному католичеству практически все деятели Возрождения относились скептически или отрицательно.
Особым вниманием гуманистов пользовались религиозные трактаты Гермеса Трисмегиста, Зороастра и Орфея, в подлинность которых гуманисты верили, не подозревая, что эти сочинения были написаны не в древности, а в более позднее время (в период заката Римской империи, в II–IV вв. н. э.). Названные произведения служили мощным стимулом для пересмотра традиционного учения Католической Церкви. Они некритически воспринимались гуманистами, которые относили, например, тексты Гермеса Трисмегиста к временам библейских патриархов (от XX в. до н. э.). Свод записей Гермеса стал одним из основных текстов для мыслителей Возрождения. Поскольку все названные тексты содержали скрытые цитаты из Ветхого и Нового Заветов, перемешанные с гностическими, манихейскими и неоплатоническими положениями, то из этого гуманисты делали вывод, что божественное откровение человек может получить и вне Церкви, будучи язычником. Саму Церковь воспринимали как вредный, консервативный и полный заблуждений институт. Вместе с тем гуманисты стремились к возрождению «подлинного» христианства времени конца Римской империи, но возрождение хотели осуществить при помощи рациональных методов, в частности филологическими исследованиями Библии. В связи с подобными стремлениями и настроениями очень популярным стал термин humanitas (лат. гуманный, человечный). Гуманистические науки (studia humaniora) из всех других видов знания провозглашались наиболее пригодными для формирования истинной, духовной природы человека. Святоотеческий термин «человечный» утратил богословские и нравственно-этические смыслы, переосмысливался с позиций языческой образованности.
Основными антропологическими идеями корпуса Гермеса были следующие. Высший Свет и Разум рождает первородного Сына-Логоса, разумного Демиурга и Антропоса, человека бестелесного, имеющего образ Бога. Верховный бог эманирует Интеллект, высшую Сущность, приобщаясь к которому Антропос наиболее полно уподобляется богу, поскольку Интеллект и есть божественное в человеке. Логос и Демиург творят космос, а Антропос в подражание им также хочет творить. Получив санкцию Верховного Бога, пересекая семь небесных сфер, Антропос оказывается в подлунном мире. Его замысел творения не удался, так как, увидев свое отражение, он влюбляется в него и далее, стремясь к соединению с ним, падает, в результате чего появляется человек земной, соединение небесного Антропоса и земной материи. Спасение Антропоса состоит в том, чтобы освободиться от пут земной материи, а средством спасения выступает познание своей Божественной природы и приобщение к мудрости. В Корпусе Гермеса содержатся отрывки из Нагорной проповеди и намеки на воплощение Логоса. Гуманисты, изумленные такими «предсказаниями», принимали на веру астрологические и гностические идеи, оправдание так называемой «белой магии», которая практиковалась в образованных кругах вплоть до эпохи научных революций.
Из довольно обширного наследия антропологических идей Воз рождения выделяются своей популярностью, оригинальностью и смелостью идеи Пико делла Мирандола и Пьетро Помпонацци, представляющие два полюса антропологической мысли этой эпохи. Пикоделла Мирандола (1463–1494) кроме названных гностических трактатов использовал каббалу, так как владел, кроме латинского и греческого, еврейским и арабским языками. Главным образом, его внимание привлекло учение о сфирот, десяти именах власти и одновременно атрибутах (качествах, ипостасях) Бога, с помощью которых возможно воздействовать на материальный мир. Кроме того, для Пико делла Мирандолы было важным представление о 22 буквах еврейского алфавита, за которыми стоят скрытые силы и энергии, так как еврейский язык, согласно каббалистическим преданиям, есть исконный язык, на котором разговаривал Адам в раю, нарекая имена всем тварям.
Смешение идей каббалы, неоплатонизма, христианства, упомянутых мистических подложных книг легли в основу знаменитого произведения Пико делла Мирандолы «Философские, каббалистические и теологические выводы», содержащего 900 тезисов о строении мироздания. Открывались тезисы «Речью о достоинстве человека», которая стала самой известной декларацией гуманизма и одновременно ярчайшим и типичным сочинением, содержащим антропологические идеи. В этом небольшом трактате перемешаны цитаты из разнообразных источников (Евангелия, Корана, халдейских оракулов, Гермеса Трисмегиста, Платона, Эмпедокла), что показывает его чрезвычайно синкретический характер. Используя разнообразные источники, Пико делла Мирандола сумел создать на их основе довольно стройную, внутренне непротиворечивую систему. Основное положение его системы: самым великим существом в мироздании является человек, который есть величайшее чудо. Все творение имеет определенную природу и назначение, бытие каждой твари предопределено и ограничено физическими законами. Только человека Бог сотворил как существо «неопределенного образа», поставил в центре мира и обратился к нему со словами: «Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел по собственному желанию… <…> Ты же, не стесненный никакими пределами, определяешь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю» [3, 272].
Таким образом, согласно утверждению Пико делла Мирандолы, человеку дана такая свобода, которую ранее не провозглашало ни одно религиозно-философское учение. У Пико делла Мирандолы речь идет о том, что человек сам, своими силами может стать богоподобным и даже божественным существом. Человек – мастер самого себя, по словам А. Ф. Лосева, «человеческая личность берет на себя божественные функции, человеческая личность представляется творческой по преимуществу, и только человек мыслится как овладевающий природой» [2, 75]. Человек выступает уже не в роли мастера, копирующего образцы Великого Художника-Бога (смысл творчества в Средневековье), а он как таковой понимается как художник-творец самого себя.
Согласно концепции Пико делла Мирандолы, Бог вкладывает в человека семена самой разнообразной жизни, которые по воле самого человека могут вырастать и трансформировать его природу. Образ человека как чистой потенции, чреватой мощным творческим импульсом, дает идею бессубстанциональности и неопределенности его сущности. В природе человека нет твердой основы в виде образа и подобия Божиего, т. е. человек превращается в зеркало мироздания, в котором отражаются всевозможные лики. Пико делла Мирандола называет это свойство человека «хамелеонством», сама концепция изменчивости человеческой природы выстраивается на магическом понятии «превращения», когда одна субстанция полностью меняет свои свойства и превращается в другую. Человек в процессе становления своего облика проходит стадии возвышения, очищения (с помощью гуманитарных наук и философии), наполнения светом (естественной философии) и совершенства путем мистического постижения (самоочищение, экстаз) «божественных тайн» (мистическая теология). Выстраивая свою концепцию, Пико делла Мирандола обращается к неоплатоническому учению о теле как о темнице души, стремящейся вырваться из оков материи в свое небесное нематериальное отечество.
Пико делла Мирандола придерживался каббалистических толкований строения души. По его мнению, душа двусоставна, т. е. одна из ее «частей» имеет низшую, животную направленность, другая – божественную, и между двумя стремлениями души идет борьба за преобладание. Каббалистические идеи в антропологии Пико делла Мирандолы в контексте его доктрины «хамелеонства» требуют признания метемпсихоза, о чем есть намеки в его текстах, хотя это представление и не развивается подробно.
Пико делла Мирандола считал: счастье есть «возвращение всякой вещи к своему началу. Счастье есть высшее благо, а высшее благо есть то, чего все желают, есть само по себе начало всего» [2, 350]. Пико делла Мирандола определял счастье (и, таким образом, смысл жизни), используя известное высказывание на эту тему Аристотеля, намекая, что Начало всего сущего есть Бог. Он представлял тот полюс антропологической мысли, который возвышает человека, но одновременно не отказывается и от Бога. Разница со Средневековьем заключается в том, что Средневековье насквозь теоцентрично, в то время как Возрождение – антропоцентрично. Для Средневековья счастье как возвращение к Богу предполагает очищение от греха, покаяние и аскезу, духовное перерождение. Для Пико делла Мирандолы возвращение к Богу мыслится на интеллектуальных путях как гуманизация человека, приобщение его к миру культуры, утверждение не «по ту», а всецело «по эту» сторону земного бытия. Человек с его творчеством, самотворчеством, теургией и магией оказывается на первом месте в процессе самоутверждения и достижения своего счастья. Однако, доходя до крайней точки самоутверждения и достаточно далеко удалившись от Бога, человек Возрождения вдруг утратил всякую опору, и эта безосновность, порождая неуверенность, постепенно начинает разъедать его самоутверждение.
Антропоцентризм Возрождения имел два аспекта, характеризующих идею самоутверждения человека: во-первых, крайний аморализм, доходящий до небывалого в европейской истории зверства церковных и светских деятелей эпохи. А. Ф. Лосев пишет: «Едва ли все это, весь этот безграничный разгул страстей, пороков и преступлений, можно целиком отрывать от стихийного индивидуализма и от прославленного титанизма всего Ренессанса» [2, 135]. Известны своими зверствами такие деятели Возрождения, как Франческо Сфорца, отравительница Екатерина Медичи, Чезаре Борджа, папа Александр VI и многие другие.
С разгулом индивидуализма и самоутверждения человека в его природном, не контролируемом религиозными запретами состоянии, связано все более усиливающееся чувство потерянности человека, неукорененности основ его бытия в Боге. Не случайно в этот период становится популярной старая античная идея о смертности человеческой души, теоретическую разработку которой осуществил Пьетро Помпонацци (1462–1525). Идея смертности души построена на диалектике понятий общего (абсолютного) и единичного (индивидуального). Известно сочинение Помпонацци «Трактат о бессмертии души», в котором автор возродил аристотелевскую трактовку сущности и строения души.
Доказывая свои идеи, Помпонацци опирался на трех авторов: Аристотеля, Платона и Пико делла Мирандолу. Кроме того, он обращался к Ареопагитикам, которые воспринимал как неоплатонические сочинения. Душа есть форма (энтелехия) тела, и, следовательно, при разъединении с телом она, отягощенная страстями, должна погибнуть. В земной жизни человек редко возвышается над растительной и чувственной частями души и редко приобщается к разуму, высшей ее части: «Так как природа человеческая почти полностью погружена в материю и лишь в малой мере причастна разуму, человек дальше отстоит от интеллигенций, чем больной от здорового» [1, 322]. Поскольку только разумная часть души бессмертна, то и большинство людей, как погруженные в полуживотное состояние и не приобщенные разуму, не имеют иного существования, кроме земного бытия. Что касается разумных людей, возвышающихся своим разумом над толпой, то после смерти их разум соединится с Божественной сущностью, Высшим Интеллектом, теряя свое индивидуальное бытие, т. е. личность. Убежденность в бессмертии каждой души – это, согласно Помпонацци, предрассудок, ни на чем не утвержденная антирациональная вера. Религия есть институт политический, она существует для морального обуздания невежественных масс и является созданием «трех великих обманщиков» – Моисея, Христа и Магомета.
Для антропологии Помпонацци характерно различение трех уровней рациональности (интеллекта): 1) созерцательный (спекулятивный, speculativus); 2) практический (деятельный, operativus), связанный со способностью отличить зло и благо, хотя не всякий человек прибегает к такому виду разума; 3) действующий (factivus). Всякому человеку присущи три уровня интеллекта, но в разной степени. Все причастны к действующему разуму, способны ориентироваться в простейших вопросах жизнеобеспечения. Однако не всякий может делать жизнь созерцательного (философского) разума содержанием своей жизни. Нравственность не является отличительным, главным признаком человеческого бытия, поскольку она, по мнению Помпонацци, не санкционирована Богом, но сформирована под влиянием социальной среды. По убеждению Помпонацци, после смерти не будет наград и наказаний, но всякий уже в земной жизни получит то или другое, в соответствии с делами и душевным расположением. Помпонацци борется против идеи посмертных наград и наказаний во имя своеобразно понимаемой им свободы и достоинства человека: «Ведь и надежда на воздаяние и страх возмездия привносят в душу нечто рабское» [1, 323].
Таким образом, исходя из двух возвышенных по смыслу посылок: цельности человека (единства его души и тела) и свободной, возвышенной природы его личности, Помпонацци пришел к парадоксальному выводу о смертности человеческой души. Вывод Помпонацци можно считать безупречно логичным, так как у него личность не укоренена в Абсолюте, поэтому не имеет абсолютных измерений.
Еще одна важная и оригинальная идея Помпонацци – утверждение единства человеческого рода: «…весь человеческий род подобен одному телу, составленному из различных членов, которые обладают различным назначением» [1, 318]. Общая основа человеческого рода – интеллект трех уровней. Человек, умирая, как бы выпадает из единства рода человеческого и присоединяется к Интеллекту в качестве одного из моментов этого всеобщего безличного разума, который есть также великое надмирное Единство. Таким образом, отсутствие Абсолюта в виде личного Бога Помпонацци компенсирует введением двух его суррогатов: рода человеческого и его надмирного коррелята, мирового сверхличного интеллекта. Говоря о смысле существования человеческого рода, он обращается к своей теории трехуровневого интеллекта, благодаря которому человечество живет и действует. По убеждению Помпонацци, «от этой цели человек не может быть свободен» [1, 319].
В моральном отношении человеческий род делится Помпонацци на три категории: 1) те, кто принимает и разделяет его взгляды; 2) последователи трех мировых религий, строящие жизнь на низменных побуждениях страха наказаний и стремления к награде; 3) аморальные люди, преступники и грешники. Помпонацци утверждает, что «человек есть совершеннейшее животное» [1, 324], так как его душа возвышена и причастна надмирному Единству, тело же материально-животное. Человек есть существо всецело коллективное, как в аспекте его земного существования, так и в будущей загробной безличной жизни. В контексте идей Помпонацци душу следует понимать скорее как одушевляющую тело энергию.
Трактат Помпонацци очень близок к материалистическому направлению мысли. От материализма Помпонацци отличает то, что он еще не порывает с религиозными источниками Средневековья, его система подразумевает идею Абсолюта хотя бы в виде коллективного космического начала. Как и все трактаты Возрождения, его работы также пестрят словами «Бог», «божество», «Божественное». При ближайшем же рассмотрении становится ясно, что речь идет скорее об атрибутах самого человека или человеческого рода. Мыслители Возрождения не избегают еще при всяком удобном случае именовать человека «божественным», хотя и не в прямом смысле. Однако в эпоху Возрождения был мыслитель, который прямо обожествил человека и в этом смысле довел до логического завершения общее направление мысли, характерное для Возрождения.
Монах доминиканского монастыря Джордано Бруно (1546–1600) с редкой настойчивостью возвеличивал человека и обходился в своей системе без личного Бога, пытаясь изгнать из философских построений (впрочем, не вполне успешно) все следы смыслообразующего Абсолюта. Свои позиции Бруно отстаивал весьма последовательно: даже во время исполнения смертного приговора, сгорая на костре, он нашел в себе силы отвернуться от заботливо протянутого ему на шесте распятия. Такая непримиримость удивительна даже для эпохи Возрождения: ее деятели, возвеличивая и возвышая человека, все же в глубине души чувствовали некоторую неловкость и всегда стремились изобрести и утвердить некий Абсолют, а при случае искренне и публично каялись перед Церковью. Однако по большому счету деятелям Возрождения бояться было нечего: покровителями наук, гуманистами и практикующими астрологами были многие римские папы той эпохи (Лев X, Иннокентий VIII, Юлий II, Павел III и др.). В этом смысле Джордано Бруно был человеком переходного времени, отстаивающим идеи и ценности будущего, эпохи полного отказа от религиозных основ жизни.
Индивид, оторванный от Бога, все больше терял свои позиции, уверенность в незыблемой онтологической ценности человека, что стало особенно ясно после открытия гелиоцентризма, горячим поклонником которого был Бруно. Гелиоцентризм подрывал средневековую уверенность в том, что Земля является центром мира, а человек – центральным творением Бога. Бруно утверждал, что таких планет, как Земля, может быть много, как и населяющих эти планеты разумных существ. Это учение получило у него название «идея множественности миров». В качестве Абсолюта, организующего мировое целое, у Бруно выступает Высший принцип единства Природы. Бог и Природа сливаются в неразличимое целое, Бог имманентно присутствует во всех вещах и процессах, являясь безличным организующим принципом (мировая душа). Бруно горячо поддерживал и развивал идеи Помпонацци о смертности личности (души). В системе Бруно душа, являясь частью мироздания, в принципе не может быть уничтожена до конца, так как после смерти душа и тело растворяются в Природе, становясь ее составными элементами. Высшая часть души есть интеллект, который приобщается к мировой гармонии, исполняется героического энтузиазма, безличного исступления и экстаза, существуя как одна из составляющих гармонического принципа Природы. Еще будучи в теле, душа, преисполнившись героического энтузиазма, презирает страх смерти и страданий.
Особенность Бруно не в том, что он высказывал общие для Возрождения идеи о величии и призвании человека быть хозяином своей судьбы, сколько в той бескомпромиссности, с которой он за свои идеи боролся. Бруно призывал вернуться к единой универсальной мудрости, воплощенной в религиях и традициях Древнего Египта, Индии, Персии, Рима и Греции. Он утверждал, что человек имеет скрытые потенции, которые развиваются и пробуждаются через воображение и память. Воображение человека есть путь или канал связи между человеком, мировой душой и единой мудростью, память же есть главная основа всякого искусства. Антропологический идеал Бруно – человек, преисполненный героического энтузиазма, возвышенного и патетического состояния. Такой человек стремится к освобождению от пут земной материи и преходящих ценностей, его цель – стать проводником божественной мудрости, истинных идей, в чем ему помогает мечта о счастье и истинном достоинстве человека, о перспективах, когда-нибудь откроющихся перед его освобожденным сознанием. За мечту герой готов при необходимости умереть, в чем проявляется доказательство истинности идей. Человек должен избавиться от многих видов духовной слепоты, в которой он проводит жизнь обывателя, а отвергнув ложь, он оказывается уже выше суда толпы или Церкви.
Освобожденные от Бога, Церкви и других «суеверий» Средневековья, деятели Возрождения раскрывали свои возможности – от гениального творчества до выдающегося злодейства. Могучие силы, копившиеся веками под покровом христианства, вырвались на свободу, но затем они постепенно угасли, так как возникла задача строить новую систему ценностей, перед человеком появились многие проблемы, до того неизвестные. Одной из таких антропологических проблем был вопрос о происхождении человека и смысле его жизни на земле. Уже Помпонацци отрицал непосредственное творение человека Богом. Для многих мыслителей Возрождения вопрос о творении человека стал неразрешимой загадкой, поскольку Библия не принималась в расчет, другого же убедительного объяснения относительно происхождении человека не было. Научные открытия последующих столетий создали основание для нового решения проблемы, в контексте которого человек был радикально оторван от Бога, а смысл его жизни ограничен рамками земной действительности.
Литература
1. Антология мировой философии. Возрождение. М.; Минск, 2001.
2. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
3. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Средневековье. СПб., 1997. Т. 2.
Глава 9. Рождение вне теологической антропологии (антропогенез Ч. Дарвина, революционный материализм К. Маркса и пересмотр христианских ценностей Ф. Ницше)
В 1859 г. Чарльз Роберт Дарвин (1809–1882) выпустил книгу «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых рас в борьбе за жизнь», явившуюся эпохальным событием. Сначала значимость события для антропологических, политических, экономических и религиозных основ человеческого бытия не была осознана в Европе. Однако вскоре после выхода книги в свет дарвинизм как система мировоззрения начала победное шествие, и восторженные поклонники концепции появились во всех сферах науки. Довольно быстро вся европейская наука усваивает главнейшие принципы дарвинизма: эволюция, прогресс, естественный отбор, внетеистическое, а затем атеистическое мировоззрение. В 1871 г. Дарвин выпустил еще одну книгу «Происхождение человека и половой отбор», в которой дает естественнонаучное объяснение происхождения человека от животных. Сам Дарвин видел основу для философии в своей эволюционной концепции, в которой дано причинно-механистическое обоснование происхождения жизни на Земле, так что его теория имела не только философский, но и религиозно-богословский аспект.
На основе дарвинизма вскоре возникли три учения: марксизм, фрейдизм и ницшеанство. Марксизм объяснял жизнь человека с точки зрения его экономических и социальных связей, фрейдизм – с точки зрения скрытых психических основ личности, а ницшеанство пересматривало христианскую систему нравственных ценностей. По мнению философа-постмодерниста М. Фуко, интеллектуальную атмосферу XX в. создали К. Маркс, Ф. Ницше и З. Фрейд. Однако без Дарвина три названных мыслителя не смогли бы состояться, так как именно Дарвин сумел показать возможность нового, нетрадиционного и нехристианского мировоззрения.
Римский папа Пий XII в энциклике «Humani generis» (1950) высказал по отношению к дарвинизму официальную позицию Католической Церкви, которая сводится к тому, что католицизм допускает мысль о происхождении человеческого тела от животных, но в то же время душа есть творение Бога. В 1996 г. папа Иоанн Павел II подтвердил это мнение в обращении к Папской Академии наук. Официальных заявлений Православной Церкви по этому вопросу не было, но поток православной антидарвинистской литературы не иссякает, а компромиссная позиция Католической Церкви не находит сторонников среди православных христиан. Классической работой, отражающей взгляды Православной Церкви, можно считать книгу иеромонаха Серафима Роуза «Православное понимание книги Бытия» (1981), имеющую антидарвинистский характер[36].
Сущность учения Ч. Дарвина проста и сводится к следующему. Все виды живых существ изменчивы, в мире происходит постоянное воспроизведение потомства. Этот процесс связан с борьбой за существование, в результате которой сильнейшие особи выживают, слабые погибают. Выжившие образуют особый подвид и, размножаясь, передают приобретенные в процессе борьбы за существования качества потомству. Таким образом, путем естественного отбора образуется новый класс существ. Процесс естественного отбора Дарвин назвал эволюцией (происхождением) новых видов. На вопрос, что есть жизнь и каково ее происхождение, до середины XIX в. отвечала теология и богословие. Дарвин перевел эти богословские вопросы в сферу науки, показав, что для объяснения феномена жизни вполне достаточно разума и подкрепляющих его выводы экспериментальных данных. Влияние теории Дарвина было столь глубоким, что на Западе Католическая Церковь и протестанты не смогли противопоставить ей никакой значимой оппозиции. Обращение к Библии как к источнику достоверных знаний о происхождении мира и человека произошло внутри научного сообщества, когда накопилось довольно много фактов, необъяснимых с точки зрения дарвинизма.
Каковы религиозные и антропологические последствия теории Дарвина? До появления дарвинизма человек рассматривался как существо сотворенное, а мир – как бытие регрессирующее. Для христианской концепции мироздания характерен инволюционизм, т. е. представление о постепенной деградации мира начиная от райского состояния бессмертия до возможной полной гибели всех живых существ, указанной в Апокалипсисе. Дарвин, вооружившись эмпирическими и рациональными средствами, опровергает эти базовые религиозные предпосылки[37]. Он провозгласил эволюцию, т. е. представление о постепенном развитии жизни от простейших микроорганизмов до сложноорганизованных животных и разумного человека, доказывая, что этот процесс является естественным, не требующим вмешательства высших сил. Для протекания такого процесса необходимы огромные временные промежутки, поэтому провозглашалось, что Вселенная существует 4,5 млрд лет, в отличие от библейского утверждения о времени бытия мира 7 тыс. лет.
Существование не только человека, но и всего человечества предстает как малый, незначительный эпизод в истории Вселенной, а мир – как слепое и механически неумолимое течение времени, смысл которого в утверждении существования за счет смерти слабейших. К. Ясперс пишет об этом обстоятельстве: «По сравнению с миллиардами лет истории Земли 6000 лет человеческого существования подобны первой секунде нового периода в преобразовании планеты. <…> Однако человек может задаться вопросом, не составляет ли вся история человечества лишь преходящий эпизод в истории Земли; человек может погибнуть и вновь уступить место неизмеримой по своему времени истории Земли» [9, 412–413]. Данное утверждение является общим местом самоощущения человека в Новейшее время.
В системе Дарвина человек – часть животного мира, его непосредственный предок – обезьяна, отдаленный – грибы, микробы, плесень, простейшие бактерии. В богословском и антропологическим отношении это означает несколько важных последствий: опровергается библейское сообщение о грехопадении Адама, в результате которого в мир вошла смерть, и соответственно под вопросом оказывается возможность и необходимость искупления и спасения. Человек мыслится как существо внерелигиозное и внеморальное. Он включен в состав животного мира, в котором законом выступает не мораль, а инстинкт. Такое понимание открыло новые возможности в экспериментировании с человеком, его репродуктивными возможностями, его психикой и телом. Антропологический поворот, осуществленный Дарвином более 150 лет назад, положил начало цивилизации нового типа, открывшей небывалые перспективы и одновременно поставившей под угрозу само существование человека и планеты Земля.
Б. Рассел довольно точно охарактеризовал теорию Дарвина: «Эта всемирная свободная конкуренция, где победа достается животным, более всего напоминающим удачливого капиталиста. <…> Дарвиновская конкуренция лишена всяких ограничений. В ней не запрещены “удары ниже пояса”. В среде животных не существует ограничений, предписываемых законом. Не исключена и война как метод конкуренции» [6, 903]. Это значит, что сама теория Дарвина порождена его временем, когда в Европе произошел экономический переворот, сознание было готово воспринять рационалистическую и внеморальную, внерелигиозную антропологию, на базе которой было легче выстраивать новое мировоззрение, строить «новый мир», без оглядок на «средневековую Европу» с ее «предрассудками».
Карл Маркс (1818–1883) создал общую концепцию, тесно связанную с проблемами и идеями его времени. Например, зависимость Маркса от Дарвина состоит не только в том, что Маркс базируется на идеях прогресса, антиперсонализма, внетеологической философии, но существует другая, более сложная психологическая связь. Показателен факт, что первоначально Маркс хотел посвятить свой главный труд – «Капитал» – Дарвину, но потом снял посвящение, которое могло показаться одиозным, поскольку связь экономики и биологии не представлялась очевидной. Б. Рассел считал: «С исторической точки зрения интересно распространение дарвиновских взглядов на экономические взгляды в целом» [6, 845]. Маркс провозгласил не только новую экономическую теорию, но и новую антропологию. По его мнению, человек должен стать «разочарованным существом, которому надо прийти в чувство, чтобы он смог обращаться вокруг себя самого, то есть вокруг своего истинного солнца» [8, 102]. Человек должен разочароваться в прежних ценностях, составлявших его прежнее «солнце», т. е. в тех базовых нравственных ценностях, которые давали ответ на вопрос о смысле жизни. Прежние истины отсылали человека в духовный мир, теперь же человек, по мнению Маркса, должен обратиться к самому себе, к жизни здесь и сейчас. Марксизм есть попытка выстроить новые ценности, показать реальность, значимость и конечную истинность земной жизни вне религиозного измерения.
Антропология марксизма основана на идее прогресса, она в целом сводится к нескольким основным утверждениям: 1) мир развивается диалектически (стадиально, рационально и предсказуемо) и эволюционно, т. е. каждая последующая фаза развития в чем-то превосходит предыдущую; 2) движущей силой прогресса является материя, а не дух (организованная человеческим сознанием материя дает средства к существованию, направляя само сознание в сторону прогресса, совершенства форм организации материи); 3) движущей силой прогресса выступает способ производства (та или иная эпоха в истории человечества зависит от способа, каким в данный период осуществляется добыча средств пропитания). В истории был первобытно-общинный строй, затем – рабовладельческий, феодальный, капиталистический, но им противостоит будущий социально-антропологический идеал коммунизма, при котором продукты производства будут распределены «справедливо» между всеми членами общества. Все богатство и разнообразие жизни человечества умещается в марксистских схемах в перечисленные периоды, а сам человек понимается как существо по преимуществу экономическое (homo economicus), трудовое и коллективное. В Советской России провозглашалось, что начальной стадией коммунизма является социализм, который подготовит появление «нового человека», равнодушного к религии, собственности и освобожденного от низких «буржуазных» инстинктов. Марксизм западного образца постепенно эволюционировал в сторону отказа от идеи коммунизма, делая акцент на социализме, в котором подчеркивались идеи социальной справедливости и равенства, государственного регулирования рыночной экономики (идеи «шведской модели социализма»).
В марксизме религия, философия, искусство любой эпохи рассматриваются как «надстройка» над экономическим «базисом», т. е. как нечто вторичное и производное, зависящее от способа производства, господствующего в ту или иную эпоху. Основной единицей общества объявляется класс, т. е. экономически организованная группа людей. Не только отдельно взятая личность, но даже семья не считается достаточной социально значимой единицей общества. Семья есть порождение способа организации производства и «зла» частной собственности, при социализме она должна быть преодолена и упразднена как «буржуазный пережиток»: «На чем основана современная, буржуазная семья? На капитале, на частной наживе. <…> Буржуазная семья естественно отпадет вместе с отпадением этого ее дополнения» [2, 43].
Семья определяется как лицемерное прикрытие безнравственности, как установление, напрямую зависящее от собственности: «Коммунистам нет надобности вводить общность жен, она существовала почти всегда. <…> Буржуазный брак является в действительности общностью жен. Коммунистам можно было бы сделать упрек разве лишь в том, будто они хотят ввести вместо лицемерно-прикрытой общности жен официальную, открытую» [2, 44]. Более глубокие, нравственно-религиозные основы семьи марксизмом отрицаются. «Манифест коммунистической партии», написанный К. Марксом (вместе с Ф. Энгельсом) в 1848 г., открыто провозглашал то, что в новой идеологии «…речь идет об упразднении буржуазной личности, буржуазной самостоятельности и буржуазной свободы» [2, 41]. Ценности личности, свободы, собственности, семьи и другие нравственные ценности провозглашались лишенными содержания понятиями, с помощью которых «буржуазия» устанавливала свое господство над «пролетариатом» и прикрывала свою безнравственность.
Особое внимание марксизм уделял вопросу общественного воспитания детей, которое является наиболее важным элементом в утверждении новой идеологии. Ф. Энгельс писал в работе «Принципы коммунизма» (1847): «Отношения полов станут исключительно частным делом, которое будет касаться только заинтересованных лиц. <…> Это возможно благодаря устранению частной собственности и общественному воспитанию детей, вследствие чего уничтожаются обе основы современного брака, связанные с частной собственностью, – зависимость жены от мужа и детей от родителей» [3, 135]. Разобщение («независимость») членов семьи было важной целью новой идеологии, адепты которого понимали, что вне семьи человек будет зависим от государства, потеряет основу для формирования сильной волевой личности. Антиперсонализм марксизма логически вытекает из представления об экономической доминанте в природе человека. Человек как таковой становится человеком в качестве члена экономического сообщества (класса). Главным содержанием истории человечества, по марксизму, является борьба классов – угнетателей и угнетенных.
Яркой особенностью марксизма является выдвижение социально-экономического и антропологического идеала – коммунизма, т. е. бесклассового общества, в котором будут отсутствовать собственность, семья, все виды экономического принуждения. Это будет царство свободы, поскольку все вышеперечисленное является источником несвободы и страданий, которые должны быть преодолены. Каждая личность должна развить свой потенциал, который она не может реализовать в условиях несвободы и экономического рабства. В этом утверждении раскрывается гуманистическая идея марксизма, обеспечившая ему успех, – в частности, в России, традиционно ориентированной на сострадание к «униженным и оскорбленным».
Персоналистические элементы в марксизме выступают в одеянии апофатических определений: существует так называемая «отчужденная» личность (неистинное существование) и будущая личность, полностью реализующая себя при коммунизме, в благоприятных социально-экономических условиях. Идеал личности определяется скорее отрицательно (отсутствие ложных черт «отчужденной» личности), но предполагается, что при коммунизме личность будет свободна и счастлива. «Отчужденный» человек – это аномальная личность капитализма. Сущность явления заключается в том, что человек выполняет механическую работу, является частью общей фабричной организации, отчужден от самого себя. Выполняя работу, человек сам превращается в элемент слепого и безучастного к его судьбе процесса производства. Маркс выступил против насаждения искусственных потребностей: «…вместе с умножением предметов возрастает также область внешних соблазнов, к которым склонен человек. Каждый новый продукт есть новая потенциальная возможность для взаимного обмана и грабежа. <…> В результате… производство слишком большого количества полезных вещей создает слишком много бесполезных людей» [8, 95]. Капиталистическое общество порождает и культивирует основное социальное зло – алчность, страсть к накоплению богатств, корыстолюбие. Поскольку сознание является продуктом жизненной практики, то в капиталистическом обществе оно с неизбежностью ложно, а с разрушением классов, капиталистического строя воцарится истина и любовь между людьми: «…будет лишь единое человечество, общество, которое при справедливом строе в свободе всех будет заботиться о потребностях каждого» [9, 381].
Для принятия на веру марксистской схемы необходимо было отказаться от христианского представления о том, что Царствие Небесное (счастье «всех») невозможно на земле вследствие, с одной стороны, греховности человека, а с другой – его свободной воли («Свобода человека подлинно реальна и настолько велика, что ни жертва Самого Христа, ни жертва всех, пошедших вслед Христу, не может с необходимостью привести к победе» [7, 100]). Все с тревогой замеченные Марксом негативные явления капитализма были давно известны и изучены в христианстве под названием «страсти». В отличие от марксизма, христианство предлагало бороться с корнем зла, которым, по определению апостола Павла, является сребролюбие.
Фридрих Ницше (1844–1900) был еще одним значимым мыслителем, осуществившим, наряду с Дарвином и Марксом, антропологический поворот, последствия которого ярко проявились в XX в. Антропология Ницше является карикатурой на дарвинизм, тесно связана с последним и базируется на схожих философских основаниях. Ф. Ницше с величайшим презрением относился к Дарвину, считая, что тот ошибся в главном. Ницше пытался исправить ошибку Дарвина, создав собственную оригинальную трактовку открытых Дарвином биологических закономерностей. Как и Дарвин, Ницше рассматривал человека как эволюционировавшее животное, но он несогласен с трактовкой закона борьбы за существование, в результате которого, по Дарвину, выживают сильнейшие. По Ницше, выживают худшие, серая толпа, в то время как все великое, гениальное и святое быстро погибает в жестоком мире.
По мысли Ницше, человек еще не возник, и только философы, художники и святые есть люди в истинном смысле этого слова, остальные люди толпы представляют собой просто супершимпанзе. Человек есть лишь ступень к сверхчеловеку, достигнув уровня которого он вырвется из оков природного мира, достигнет гармонии, перестанет мучиться комплексами и угрызениями совести. Антропологический идеал Ницше – сверхчеловек, который полностью воплотит в себе волю к жизни, подавит болезненную рабскую мораль (христианство) и станет существом богоподобным, дающим самому себе внутренний закон свободы. Ницшеанская модель сверхчеловека апеллирует к образу человека-титана Возрождения с раскрепощенной совестью и творческим порывом к самореализации.
Для антропологии Ницше характерны следующие идеи. Человек есть существо биологическое, поэтому для него естественно стремиться к жизни в ее биологически радостном и торжествующем аспекте. Все ограничивающие его жизненную энергию идеологии, особенно христианство с его «смирением», «послушанием» и прочими нравственными нормами, необходимо отбросить. Для демонстрации новых истин Ницше пользуется аллюзиями на Евангелие, искажая первоначальный смысл: «Если есть враг у вас, не платите ему за зло добром: ибо это пристыдило бы его. Напротив, докажите ему, что он сделал для вас нечто доброе. И лучше сердитесь, но не стыдите! И когда проклинают вас, мне не нравится, что вы хотите благословить проклинающих. Лучше прокляните и вы немного» [4, 48–49] и т. д. В данном случае Ницше ссылается на заповеди «любите врагов ваших» (Мф 5. 44) и «благословляйте, а не проклинайте» (Рим 12. 14). Человек как таковой есть сверхчеловек, но годные на роль сверхчеловека составляют аристократическое меньшинство, а большинство, толпа, есть лишь средство к его достижению, они есть «недоделанные» и «неполноценные» существа. Если для создания грядущего сверхчеловека нужно, чтобы они страдали и мучились, то они должны страдать.
Главными свойствами сверхчеловека становятся «любовь к дальнему», гордость, свобода, поэтическое вдохновение, благородство, мудрость. О «жалких» людях Ницше писал много, противопоставляя их идеалу сверхчеловека: «Ты жил слишком близко к маленьким, жалким людям. <…> Не поднимай руки против них! Они – бесчисленны, и не твое назначение быть махалкой для мух» [4, 38]. Идеал сверхчеловека апеллирует к волевому мужскому началу. Женщина для Ницше есть «опасная игрушка», приманивающая героя, но она неспособна к благородной дружбе: «Слишком долго в женщине были скрыты раб и тиран. Поэтому женщина неспособна еще к дружбе: она знает только любовь. <…> Еще неспособна женщина к дружбе: женщины все еще кошки и птицы. Или, в лучшем случае, коровы» [4, 41]. Одним словом: «Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!» [4, 48].
Завоеватели и покорители народов, такие, как римляне в эпоху расцвета Римской империи, биологически выше ими покоренных и завоеванных, поскольку в завоевателях больше мужества, отсутствует расслабляющая жалость и т. д. Ницше открыл тему, которая стала востребована в XX в., – философия тела и телесности[38]. В «Воле к власти» Ницше утверждал, что тело гораздо интереснее, чем «старая» душа, так как в нем отражается вся мудрость эволюции. Тело есть ближайшая и доступная человеку реальность, оно ближе сознания и разума. Христианский аскетизм, по мнению Ницше, вселял недоверие и вражду к телу, а это означало умаление духа, которым питается биологическая энергия тела. Именно это вызывает раздвоение и уничтожение цельной природы человека. По Ницше, сущность человека больше относится к его телу, чем к духу. Стоит заметить, что «дух» и «духовность» поняты Ницше в своеобразном аспекте, не соответствующем христианскому пониманию. Дух у Ницше – это скорее витальность, «воля к власти», жизненные и природно-инстинктивные импульсы. Безусловно, христианский аскетизм направлен на обуздание природных импульсов ради освобождения духовного пространства, которое связывается в христианстве со свободой. Однако дух и духовность в традиционно-христианской интерпретации Ницше не приемлет. Для Ницше важнее оппозиция «здорового» и «больного», аскетический идеал в конце концов у него предстает как кульминация больного сознания, тяга к Ничто, усталость от жизни, опасная деградация.
Антропология Ницше построена на переоценке традиционных христианских определений «добра» и «зла» (теория «переоценки всех ценностей»). Ницше выдвинул идею нового гуманизма, идею homo hominis, т. е. человека человечного, который бы понимался не из соотношений с Богом (христианство), обществом (марксизм), этносом (римское язычество), но из самого себя, из воли к жизни. Человек должен быть освобожден от эмоции сострадания, вредной для витального и психологического благополучия, так как, сострадая слабому и больному, предназначенному природой к ликвидации, человек утверждает деградацию. Подавление желаний есть главная опасность для человека, который пытается дать моральную санкцию этому действию, изобретая понятия «совести», «долга», и в результате утрачивает здоровый инстинкт жизни.
Вместе с тем гибель христианства на Западе и измельчание человека, его идеалов воспринималось Ницше как величайшая трагедия: «…погибло христианство в качестве догмы – от собственной своей морали; так именно должно теперь погибнуть и христианство в качестве морали – мы стоим на пороге этого события» [5, 523]. Ницше хочет верить, что событие гибели обветшавшего христианства принесет избавление, это «великая драма» Европы, но она «наиболее чреватая надеждами из всех драм» [5, 523]. Вопросы, поставленные Ницше, чрезвычайно важны для понимания религиозного смысла тех процессов, которые определили превращение христианских ценностей в буржуазную мораль.
Радикальный антропоцентризм Ницше является трагической попыткой противостоять современному для него разложению морали и религии, заявить радикальный бунт против зла и общественной неправды. Однако для самого Ницше бунт закончился трагически. Вскоре после завершения книги «Esse Homo» (само ее название вызывающе апеллирует к словам Пилата «Се Человек» об Иисусе Христе) Ницше сошел с ума. 3 января 1889 г. на городской площади он увидел старую лошадь, которую бичом извозчик понуждал сдвинуть тяжелую повозку. Увидев эту тяжелую сцену, Ницше обнял лошадь, заплакал, лишился чувств. После этого он до смерти находился в сумасшедшем состоянии. Его сознание коллапсировало под влиянием двух противоречивых импульсов – рационально выстроенной новой системы ценностей и внутренней жажды любви и признания, в которых он нуждался, страдая от одиночества.
Западноевропейские мыслители по-разному оценили восстание Ницше против христианства. Писатель Андре Жид считал, что Ницше завидовал Христу и выстраивал свою систему, особенно начиная с книги «Так говорил Заратустра», как сознательное противопоставление Евангелию. Того же мнения о Ницше и Христе придерживался К. Ясперс[39]. Теолог Эрнст Бенц высказывал противоположное мнение, что Ницше стремился утвердить истинное христианство и найти подлинного Христа: «Враг Церкви становится пророком новой возможности христианства, той возможности, которую сама Церковь предпочла замолчать и скрыть из страха перед ее неумолимыми и неудобными последствиями» [1, 274]. Автор книги «О Ницше» философ Жорж Батай скорее склонялся к мнению Э. Бенца, но в менее радикальной формулировке. Он подчеркивал, что, по признанию самого Ницше, «им руководило стремление спасти сферу божественного или суверенную область мышления от низведения их к морали» [1, 266].
Идеи Ницше легли в основу экзистенциального понимания человека. Экзистенциализм и феноменология – реакция на новое понимание человека как части животного мира, попытка понять внутреннюю сущность человека и глубины его психики, исходя из опыта «преодоленного» христианства. Философия Ницше, являясь «мостом» к экзистенциализму, причудливо сочетает мотивы эволюционной антропологии и возвышенно-поэтический романтизм.
Литература
1. Батай Ж. О Ницше. М., 2010.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М., 1980.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: В 9 т. М., 1985. Т. 3.
4. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2.
5. Ницше Ф. Генеалогия морали // Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2.
6. Рассел Б. История западной философии. СПб., 2001.
7. Софроний (Сахаров), архим. Старец Силуан. Жизнь и поучения. М., 1991.
8. Фромм Э. Кризис психоанализа. М., 2009.
9. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.
Глава 10. Антропологические идеи религиозного и атеистического экзистенциализма
Западное христианское богословие к концу XIX в. постепенно свелось к рациональной системе моральных предписаний и мало ориентировалось на мистический опыт, аскетическую практику. В XX в. религиозная антропология в трудах западных философов стала последним этапом перед наступлением эпохи постмодернистской и внерелигиозной антропологии. В XX в. человек ощутил себя в ситуации, для которой характерна потеря веры и религиозной связи с Богом. Ведущие философские направления ХХ в. радикально отошли от религиозных проблем, а затем их итогом стало появление постмодернизма.
В начале ХХ в. Западную Европу охватил масштабный кризис (гуманистический, религиозный и политический). Реакцией на европейский кризис явился экзистенциализм, возникший во время и после Первой мировой войны. Экзистенциалисты пытались по-новому понять человека. Одним из первых философов, давшим ответ на вопрос, кто есть человек и какие задачи перед ним стоят, был Карл Ясперс (1883–1969). На первый план в исследовании человека К. Ясперс выдвинул идею существования (existentia), которую еще во времена схоластики противопоставляли сущности (essentia). Различая сущность и существование, экзистенциалисты порвали с идеалами Возрождения, согласно которым человек всесилен и может выбрать любую сущность – от божественной до животной (теория «хамелеонства» Пико делла Мирандола). В сущности, экзистенциалисты увидели в жизни детерминацию, которая угрожает свободе индивида. В довоенной Европе человек понимался как разумное, социальное, классовое животное, сознание которого определяют экономические интересы (по К. Марксу) или всепоглощающая сексуальность (по З. Фрейду). Ясперс же говорил, что если бытие человека свести только к сущности, то человек лишается свободы, которая отличает его от мира животных. Главное в человеке не сущность, данная от рождения или навязанная как социальная роль, а существование, способ реализации своей личности.
Антропология Ясперса базируется на следующих основных положениях.
1. Духовная ситуация его времени такова, что человек призван помочь себе сам, нет больше помощи от высшей инстанции: «Бога нет – таков все растущий возглас масс; тем самым и человек теряет свою ценность, людей уничтожают в любом количестве, поскольку человек – ничто» [7, 377]. Наступило время антропологического кризиса, когда человек оказывается перед выбором: он может выбрать себя как личность или раствориться в толпе, стать сырьем для реализации чужих целей.
2. Ясперс враждебно относится к Марксу и Фрейду, которые научно обосновали свои идеи, превратив человека в объект познания. Они объяснили сущность человека, исходя из элементарных объективных фактов. Вывод Ясперса: «Человек как таковой всегда исчезает в подобном мнимом знании» [7, 381]. Социолог-марксист и фрейдист полагают, что видят бытие самого человека, на самом же деле они редуцируют его к своим теоретическим схемам. Однако истинное самопознание возникает в пограничных ситуациях, обнажающих сущность человека и ставящих его перед необходимостью выбора своей экзистенции. Самой значительной пограничной ситуацией являются смерть, любые сильные страдания, принятие на себя вины и ответственности. Смыслом переживания пограничной ситуации является трансцендентность, преодоление себя, выход за границы повседневного мира, в котором человек существует как объект, как средство. Смысл марксизма, фрейдизма и подобных идеологий – упростить бытие человека, а смысл экзистенциализма – познать себя.
3. Не может быть однозначного определения, что такое человек. Если бы экзистенциализм заявил о нахождении антропологической формулы, то он оказался бы в разряде упрощающих человека идеологий. Человек как таковой – еще не ставший вид, но путь к подлинному человеку. Человек возникает на границе бытия и небытия. Выпадая из этой границы, он опредмечивается и лишается свободы, становится вещью среди других предметов. Идея пограничной ситуации была актуальной для Европы, пережившей две мировые войны, но во второй половине XX в. при относительной социальной стабильности эта идея стала восприниматься скорее как оригинальное суждение и перешла в разряд риторики. Утверждению Ясперса соответствует в восточном христианстве понятие «памяти смертной», которая способна вывести из пленения ложными ценностями («мирскими благами») и ориентировать на духовное делание, способствовать ответственному отношению к земной кратковременной жизни.
4. Человек как экзистенция есть подлинная и безграничная свобода. Он обладает самобытием, что дает ему силу противостоять суете, деловистости, пошлой интеллектуальной болтливости и т. д. Ясперс, описывая экзистенцию, намеренно избегает употребления термина «личность», противопоставляя ему понятие «самобытие». Для Ясперса определить человека как личность – значит ограничить его свободу, связать с христианской традицией, так как личность в смысловом и терминологическом отношении есть отражение Лика Божия в человеке, т. е. личность есть рабочий термин христианского персонализма. Цель Ясперса – понять человека вне христианской традиции, которая является, по его мнению, внешним авторитетом, обезличивающей силой. По Ясперсу, Церковь не заинтересована в свободе человека. Самобытие человека спасает его от одиночества, поскольку через самобытие он способен установить подлинный контакт с самобытием другого человека.
5. Сущностью человека является свобода, а не любовь, как утверждает христианство. Данное утверждение дает ответ на вопрос о смысле жизни человека: это реализация внутренней свободы, через которую человек достигает подлинности. Ясперс борется с альтернативой теологии: Христос или нигилизм. По Ясперсу, жесткость альтернативы неоправданна. Необязательно тот, кто не идет за Христом, обречен на нигилизм. Бог открывается для Ясперса в моменты трансцендентального самопреодоления и выхода к самому себе. Философская вера в Бога дает Ясперсу уверенность в преодоление главных антиномий жизни для мыслящих людей. Эта вера противостоит нигилизму, являясь плодом зрелой мысли и самостоятельного поиска истины. Примерами и образцами философской веры являются Сократ, Бруно и Боэций, «как бы святые в истории философии», «подтвердившие своим мученичеством философскую веру образы, на которые мы взираем с благоговением» [7, 422]. Философская вера является кульминацией самопознания, утверждения человечности.
Религиозному экзистенциализму Ясперса противостоит атеистический экзистенциализм, утверждающий проблематичность ответа на вопрос о смысле жизни и отрицающий гарантию благополучного исхода для трагедии человека. Переходом от религиозного к атеистическому экзистенциализму явилась ранняя философия М. Хайдеггера (1889–1976). В работе «Бытие и время» (1927) Хайдеггер задается вопросом: «Что есть бытие человека само по себе?» Решая поставленную проблему, Хайдеггер отказался от понятия «личность» и заменил его термином «Dasein» (здесь – бытие, присутствие). Человек в философии Хайдеггера назван Dasein, что означает собирательный образ человека и одновременно идею человека. Dasein – это «они», безличное бытие человека.
Чтобы отличить человека, вывести его за границы фактической реальности, Хайдеггер постулировал свойства, или качества, Dasein, которые он назвал экзистенциалами. Экзистенция обладает первенством по отношению к сознанию, сущность человека не сводится к ментальным структурам. Основной характеристикой Dasein выступает ее временность или конечность, так как кроме человека ни одно существо в мире не знает о своей конечности и существует так, как если бы оно было вечно. Наиболее существенная характеристика человека – бытие-к-смерти, и в этом смысле Хайдеггер интерпретирует понятие экзистенции как выхождение (экс-тазис), направленное к смерти. Второй важнейшей характеристикой бытия человека является забота в широком смысле слова, что означает озабоченность, тревогу о бытии, постоянное понуждение к действию, тягу к преодолению границ.
Структура Dasein является единством трех моментов: 1) бытие-в-мире (экзистенциал соответствует прошлому), которое означает неотделимость бытия человека от мира и других людей (прошлое не исчезает, но присутствует, определяя настоящее и будущее; время теряет линеарность, образуя круг присутствия заботы человека); 2) забегание вперед (экзистенциал соответствует будущему) означает радикальное отличие Dasein от другого бытия: человек всегда есть то, что он еще не есть, но возможность себя или проект; 3) бытие-при-внутримировом-сущем (экзистенциал соответствует модусу настоящего), или специфический способ отношения к вещам (наличным и сподручным, т. е. вещам, которые присутствуют как сырье, материал, техника). Три модуса бытия Dasein образуют единый феномен заботы.
Модус прошлого порождает экзистенциал фактичности, заброшенности в мир, модус настоящего – обреченность вещам, модус будущего – проект, постоянно воздействующий на бытие человека. По сравнению с традиционным, или христианским, восприятием поток времени идет в обратном направлении, направлен от будущего (проекты, планы, мечты) через настоящее к прошлому. В зависимости от того, какой пласт времени оказывается на первом месте, бытие Dasein определяется как подлинное и не подлинное. Обреченность вещам, постоянная ими озабоченность заслоняет от человека его конечность. Человек поглощен внешним, что порождает феномен отчужденного бытия, при котором бытие заменяется сущим, фактичностью. Подлинное существование есть осознание своей конечности, историчности и свободы, что соответствует понятию о бытии личности. Ложное бытие безлично (das Man, люди), оно не знает смерти, которая есть исключительно личный акт. Если человек останавливает бег от самого себя и в осознании своей конечности испытывает ужас, страх (Angst), он ставит человека лицом к лицу с Ничто, в свете которого человек познает истину бытия.
Одним из важнейших экзистенциалов Dasein является мирность (мирскость) мира, которая показывает профанное существование человека, его обращенность к вещам. Мир есть черта самого Dasein, часть его заботы, которая относится к внутримировому сущему. В мире есть вещи (в терминах Хайдеггера «сподручное»), обладающие огромной властью над Dasein и имеющие свойства навязчивости (если вещь потерялась, ее отсутствие навязчиво), заметности, назойливости. Кроме вещей в мире существуют другие люди, те, «от которых человек сам себя большей частью не отличает, среди которых и он тоже» [6, 118]. Всегда присутствуя и находя себя с другими, человек может быть одинок. Это не есть состояние самого с собою пребывания, но отсутствие интереса со стороны других, модус безразличия и отчужденности. Одиночеству противостоит модус заботливости, соотношения с другими, которые озабочены Dasein или нет.
Заботливость о других имеет три измерения: 1) замена другого и его проблем с собой, взятие бремени другого на себя, что дает власть над другими; 2) забота не о внешнем «что», а об экзистенции другого, заступничество, которое оставляет другого свободным, что возможно истолковать как «привязанность» или даже «любовь»; 3) среднеповседневная заботливость, повседневное со-пребывание с другими Dasein. Совместно присутствуя, Dasein втайне от самого себя постоянно озабочен проблемой дистанции, отличия от других, т. е. попытками сохранить свою индивидуальность. В этом смысле «люди» также являются экзистенциалом, образующим повседневность Dasein. Люди – социальные маски, под которыми прячется уникальность каждой личности. Хайдеггер описывает Dasein, которое стремится раствориться в толпе, вещах, заботе, людях. Довольно интересен экзистенциал расположения, под которым подразумеваются мотивы и эмоции. Обычные модусы расположения Dasein – это повседневная и непоколебимая уверенность в себе или подавленное уныние. Хайдеггер пишет: «Часто затяжная, равномерная и вялая ненастроенность, которую нельзя смешивать с расстройством, настолько не ничто, что именно в ней присутствие [Dasein] становится себе самому в тягость» [6, 134].
Описывая Dasein, Хайдеггер преследовал цель разоблачить неподлинное бытие, но то, что он понимал и чувствовал как подлинное бытие, им самим в ранний период еще не было продумано до конца, поэтому истинное существование практически не находит себе описания. Труд «Бытие и время» призван показать безличный аспект бытия человека в обезбоженном мире, вне трансценденции, привести человека к страху перед Ничто и тем самым поставить его перед необходимостью выбора самого себя. Текст написан сложным и своеобразным языком так, как если бы Хайдеггер выполнял сакральную миссию. В целом Хайдеггер имеет цель открыть перед человеком размеры неподлинного бытия и указать выход к поиску подлинного бытия. Несмотря на то что Хайдеггер пытался уйти от эссенциального (сущностного) описания человека, связанного с христианством, он еще оставался в рамках христианского мировоззрения, опираясь на критерии истинности и ложности в понимании существования. Вместе с тем он показал путь к рассмотрению человека как безличного бытия, открыв дорогу тем постмодернистам, которые в конце концов провозгласили о «смерти автора», дополнив тем самым известный тезис Ницше о смерти Бога.
Для религиозного экзистенциализма основой является философия С. Кьеркегора, для атеистического экзистенциализма – философия Ф. Ницше. Например, Д. Пассмор пишет: «Мышление Кьеркегора по своей сути является христианским; Ницше, напротив, начинает с презумпции: “Бог умер”. Если проблемой Кьеркегора было: “Как я могу стать христианином”, то у Ницше она выглядит иначе: “Как я могу жить атеистом”?» [2, 365]. Это рассуждение показывает главнейшие предпосылки атеистического экзистенциализма, главными представителями которого были Жан Поль Сартр (1905–1980) и Альбер Камю (1913–1960). Сущность атеистического экзистенциализма выражена в словах А. Камю: «Я продолжаю думать, что мир этот не имеет высшего смысла. Но я знаю также, что есть в нем нечто, имеющее смысл, и это человек, ибо человек – единственное существо, претендующее на постижение смысла жизни» [1, 83]. Из утверждения о небытии Бога следует признание абсурдности и бессмысленности существования.
Экзистенциалисты тяготели к литературно-эссеистической форме изложения. Центральные книги атеистического экзистенциализма – это романы, пьесы, философские эссе. Переживание мировой бессмыслицы, отраженное в художественной форме, противостоит научным трактатам философов и теологов, предполагающих наличие в мире высшего смысла, постигаемого разумом.
Сартр ощущал существование человека как внутренне мучительную ношу. Главными спутниками человека он считал одиночество, страх, трагедию, безосновность, замкнутость в мире вещей. Сущность мира, противостоящего человеку, – тошнота, скука, серость, расплывчатость и безымянность. Мир без Бога утрачивает скрепляющие словесные, рациональные смысловые структуры и предстает в виде огромного трупа. Таким образом, Сартр ввел одну из главных оппозиций человеку – мир искусственных, обезличивающих вещей. Мир природы прекрасен, способен возбудить возвышенные чувства или навеять иллюзию смысла и красоты. Чувство воодушевления (по терминологии Сартра «предчувствие приключения») возвращает человеку себя самого: «…я чувствую себя собой и чувствую, что я здесь, это я прорезаю темноту, и я счастлив, точно герой романа» [3, 41]. Однако, быстро отрезвившись от возвышенных переживаний, человек осознаёт, что у него нет религиозной или основанной на традиции связи с природой. Человек ушел из природы и ощутил себя в обезбоженном мире, но ему дан только мир вещей, вызывающий тошноту своей навязчивой пошлостью.
Человек сталкивается с миром коммуникации, человеческого общения. Человек, живущий поверхностно, ощущает радость общения, теплоту присутствия Другого. Однако стоит ему задуматься, и он обнаружит свое глубинное одиночество. Человек заброшен в толпу равнодушных к нему людей. Дан ли человек самому себе? Для ответа на этот вопрос Сартр в романе «Тошнота» (1938) многократно описывал телесное самоощущение, чтобы доказать чуждость человеку своего собственного тела: «Существую. <…> Я вижу кисть моей руки. Она разлеглась на столе. Она живет – это я. Она раскрылась, пальцы разогнулись и торчат. Рука лежит на спине. Она демонстрирует мне свое жирное брюхо. Она похожа на опрокинувшегося на спину зверька. Пальцы – это лапы. Забавы ради я быстро перебираю ими – это лапки опрокинувшегося на спину краба. Вот краб сдох, лапки скрючились, сошлись на брюхе моей кисти. <…> В конце концов это невыносимо… Я убираю руку, сую ее в карман. Но тут же сквозь ткань начинаю чувствовать тепло моего бедра. Я тотчас выбрасываю руку из кармана, вешаю ее на спинку стула. <…> Я сдаюсь – куда бы я ее ни положил, она будет продолжать существовать, а я буду продолжать чувствовать, что она существует; я не могу от нее избавиться, как не могу избавиться от остального моего тела» [3, 72–73]. Тело не дано человеку, оно не есть часть его и не он сам, но противостоящая ему чуждая реальность.
Дана ли человеку его душа, сознание или мышление? По Сартру, сознание «я мыслю» является мучительным, преследующим человека внутренним диктатором: «Моя мысль – это я: вот почему я не могу перестать мыслить. Я существую, потому что мыслю, и я не могу помешать себе мыслить. Вот даже в эту минуту – это чудовищно – я существую потому, что меня приводит в ужас, что я существую. Это я, я сам извлекаю себя из небытия, к которому стремлюсь: моя ненависть, мое отвращение к существованию – это все разные способы принудить меня существовать, ввергнуть меня в существование» [3, 73]. Из этого безнадежного состояния есть один выход, нахождение подлинного себя. Человек несводим к природе, социуму, к своему телу или мышлению. В самой глубине его сущности лежит бездна Ничто (небытия), являющаяся безосновной основой человека. Экзистенция человека есть ничто или свобода, опираясь на которую он находит в себе мужество противостоять ужасу существования.
Систематическое изложение антропологических взглядов было дано Сартром в книге «Бытие и ничто» (1943). Развивая в этом философском труде идеи романа «Тошнота», Сартр вводит понятия «бытия-в-себе» (противостоящий человеку мир) и «бытия-для-себя» (экзистенция человека), в котором коренится бездна Ничто. Все зло, происходящее в мире, проистекает из внутренней основы Ничто в человеке, который, как свободное существо, несет личную ответственность. Делая выбор свободы, человек освобождается от власти Ничто и преодолевает его. Свобода является смыслом и целью человеческого существования. Человек обречен быть свободным, поскольку он и есть воплощенная свобода.
Трагедия между человеком и другими людьми состоит в том, что каждый человек подобен другому, поэтому в основе их взаимодействия лежит конфликт. Любовь – это тоже конфликт, даже взгляд на другого есть некоторого рода «воровство» бытия другого, сам человек никогда не может увидеть себя со стороны. Человек беззащитен перед другим. Как полагал Сартр, «именно свободу другого как таковую мы хотим захватить» [4, 382]. Трагедия любви состоит в том, что в момент достижения цели она исчезает, исчерпывается: «Случается, что полное порабощение любимого существа убивает любовь любящего. Цель пройдена, любящий вновь остается один, если любимый превращается в автомат. Следовательно, любящий не желает владеть любимым, как владеют вещью; он требует особого типа владения. Он хочет владеть свободой как свободой» [4, 382]. По Сартру, любовь невозможна, поскольку человек есть воплощенная свобода, и любящие остаются в своей субъективности, которой они ограничены как клеткой. Именно поэтому Сартр, заявив о невозможности любви, подробно описывает феномены мазохизма, садизма, безразличия и ненависти.
Если Бог существует, то, согласно Сартру и Камю, не существует человек, так как бытие и сущность человека есть свобода, которая не может быть ничем и никем ограничена. Если есть Бог, то существуют любовь и жертва, причем любовь возникает в момент пожертвования тем, что у Сартра называется свободой, а в христианстве – самостью. Для христианского мировоззрения характерно различие греховной самости и богоданной свободы. Свобода для христианства невозможна вне идеи бессмертия.
Идеи атеистического экзистенциализма были характерны для западного мышления XX в. Довольно точную их мировоззренческую характеристику дал архим. Софроний (Сахаров), который обозначил состояние неверия в свое бессмертие понятием «отчаяние»: «…мы родились и оставлены жить в громоздкой массе индивидов, которым свойственен эгоизм и самолюбие. <…> Современная цивилизация индивидуалистическая по своему роду. <…> Но собрание индивидов, по существу своему, есть состояние падения с его безысходным трагизмом» [5, 194]. Оставаясь в рамках непреображенного, тварного мира, человек обречен на трагедию: «В основе нашего существа лежит печать тварности из “ничто”… <…> Помимо сего – мы несем в себе последствия “падения Адама”, выражающегося в тенденции к самообожению. Опыт свободы нашего самоопределения, конечно, свидетельствует о нашей абсолютности, и мы легко можем утерять сознание, что мы сотворены, “по образу Абсолютного Бога” и что наша “абсолютность” есть не более чем отражение Перво-Абсолюта. Аберрация в этом пункте возможна для нас и интеллектуально и психологически» [5, 101]. Искание Сартром абсолютной свободы, т. е. такой свободы, как если бы человек не был сотворен или рожден, но сам бы являлся первобытием и абсолютом, как нельзя лучше иллюстрируется словами архимандрита Софрония.
Логически можно сделать возражение против абсолютной свободы человека: все-таки человек не выбирает свою сущность и имеет свою границу в смерти. Однако и это возражение Сартр предвидел и дал ответ, убедительный в рамках его мировоззрения. Он высказал мысль, что сама сущность выбирается человеком и должна быть, таким образом, нетварной. Что касается смерти, ставящей границу абсолютной свободе человека, то Сартр объявляет абсурдной ее кажущуюся необходимость: «Абсурдно, что мы были рождены, абсурдно, что мы умрем» [4, 551]. Однако абсурдность бытия человека не отменяет его свободы. По мнению Сартра, смерть является абсолютно уникальным событием (никто не может умереть за другого). Сартр доказывал, что смерть не имеет никакого смысла, так как к ней невозможно подготовиться, имея в виду неизвестность ее часа. Смерть есть чистый факт, она подобна факту рождения, зависящего от слепого случая.
Для доказательства того, что смерть не имеет принуждающего смысла, Сартр провел разграничение между понятиями смертности и конечности. Если смерть есть случайный факт в ряду таких же случайностей, происходящих в мироздании, то конечность – это онтологическая структура, определяющая бытие человека. В самом определении «человек» заложено представление о его конечности, поэтому сущность человека, даже оставаясь бессмертной, была бы конечной, поскольку человек, выбирая себя, полагает некую границу, а тем самым выбирает свою конечность. Сартр выступал против равноценности всех личностей и возмущался христианским представлением о ценности любого человека перед Богом. В этом он продолжал аристократическую традицию Ницше. По мнению Сартра, только человек, истинно осуществивший самого себя, обладает самобытием, в противном случае – жизнь человека случайна, в ней царствует пошлость и скука.
Экзистенциалисты, признавая бессмысленность смерти и жизни, утверждая смысл в самом человеке и его свободе, тем самым создали учение, во многом противоположное христианской антропологии. После Хайдеггера и Сартра христианская антропология стала невозможна в рамках западноевропейской парадигмы мышления. Экзистенциалисты показали иные возможности в понимании человека, который предстал как деперсонализированная сущность, что явилось основой для будущего развития постмодернизма, открыто порвавшего с христианством.
Литература
1. История философии. Запад – Россия – Восток. М., 2000. Кн. 4.
2. Пассмор Дж. Сто лет философии. М., 1998.
3. Сартр Ж. П. Тошнота // Иностранная литература. 1989. № 7.
4. Сартр Ж. П. Бытие и Ничто. М., 2000.
5. Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. М., 2000.
6. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
7. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.
Глава 11. Представления о человеке в Древней Руси (XI–XVII вв.)
Культура Древней Руси – одна из самых сложных тем для изучения и интерпретации, что обусловлено рядом причин. В конце XVII в. произошел культурный разрыв между Древней Русью и созданной Петром I Российской империей. Вновь Древняя Русь была открыта в 1910 г., когда из небытия воскресла древнерусская икона, так как научились возвращать ее первоначальные краски. Второе рождение Древняя Русь пережила уже в 60–70-е гг. XX в. в момент «открытия» знаменного роспева. Тем не менее, разрыв конца XVII в. породил множество мифов о культурной отсталости Древней Руси («ленивое восточное варварство», «невегласие», по определению Г. Г. Шпета[40]), о том, что только с началом модернизации возникает культура, искусство, наука, философия. Негативизм в отношении Древней Руси свидетельствует о глубоком антагонизме между ее духовной культурой и ценностями эпохи Просвещения, на которых базируется современное сознание. Духовный облик древнерусского человека при реконструкции обнаруживает специфичность, несоотносимость с современными представлениями.
Древняя Русь, охватывая период с XI по XVII в., является сложным и многообразным явлением, имеющим разные, подчас не совпадающие по содержанию элементы, так что представления о человеке XI–XII вв. будут радикально отличаться от представлений XIV в. и последующих веков. В настоящей главе речь пойдет об общих элементах антропологического мировоззрения в древнерусский период. Вопрос об эволюции антропологических взглядов не будет рассмотрен сколько-нибудь значительно, поскольку это тема требует большого исследования. Для ориентации в границах времени и пространства рассматриваемого периода служит следующая таблица.
Таблица 4
Как видно из приведенной таблицы, Древняя Русь была неоднозначным феноменом, имеющим не только различные временные, но и пространственные границы месторазвития. Объединительными силами всех этих эпох и территорий, позволяющими говорить о феномене Древней Руси как целостном явлении, являются русский, этнически однородный народ, христианская вера и Церковь. Для решения вопроса об образе человека в древнерусский период нужно обратиться к рассмотрению основ древнерусской культуры, которых оказывается две – языческое прошлое (этнос, обычаи, традиции) и христианство, принятое из Византии. В отличие от западноевропейской средневековой культуры, имеющей трехсоставную основу (римская языческая культура, варварство, христианство), древнерусская культура двусоставна, и, помимо отсутствия развитой языческой образованности, важным фактором был тот, что само христианство оказалось на Руси, уже пройдя тысячелетний путь исторического развития.
Язычников на Руси не просто обращали в христианство, но воцерковляли, приобщая к высокоразвитой, передовой для того времени христианской культуре. На Руси постепенно получили распространение Евангелие, Типикон, Октай, Часовник, иноческие уставы, толковые Палеи и другие книги христианской традиции[41]. Римское христианство начиналось с катакомб, русское – с роскошных, наполненных болгарскими и византийскими иконами храмов и монастырей. Это предопределило особое отношение русских к Церкви. Христианство не мыслилось вне церковного, очень развитого, утонченного, продуманного лучшими византийскими богословами церковного культа. Догмат и обряд сливались в гармоническом единстве, человек новой христианской культуры на Руси был озабочен согласованием своего образа жизни с догматической и обрядовой церковностью.
Язычество Древней Руси было довольно развито, но не на уровне интеллектуального осмысления (аллегорические толкования древних мифов), но в плане бытовой и обрядовой практики, обычаев, суеверий, повседневного уклада. Как показал Б. А. Рыбаков, накануне крещения Руси сложилось влиятельное сословие жрецов (волхвов), «руководившее обрядами, сохранившее давнюю мифологию и разработавшее продуманную аграрно-заклинательную символику» [7, 5]. Он утверждал, что «греческое христианство застало в 980-е годы на Руси не простое деревенское знахарство, а значительно развитую языческую культуру со своей мифологией, пантеоном главных божеств, жрецами и, по всей вероятности, со своим языческим летописанием 912–980 гг.» [7, 5]. В некоторых областях (Новгород Великий) волхвы имели значительное политическое влияние вплоть до XIII в., и только к XVI в. потомки прежних волхвов вырождаются в примитивных деревенских колдунов и ворожей.
Замена языческого обрядоверия на христианство породило на Руси феномен «бытового исповедничества» (термин П. П. Сувчинского), при котором общество на уровне всех социальных связей было проникнуто сакральной обрядовостью, что нашло отражение в облике храмов (во многих ранних русских храмах в качестве декора использовалась языческая символика), одежде, жилищах, в обычаях, жестах, нормах поведения. Приобщение Руси к христианству в первом поколении сопровождалось болезненным разрывом с прошлым, так как христианизация народа была проектом, идущим сверху, от князя Владимира и его окружения.
По свидетельству летописей, князь Владимир повелел у знатных русичей брать детей для обучения грамоте и церковным установлениям: «…послав, нача поимати у нарочитой чади дети и даяти на учение книжное. А матери же чад своих плакахуся по них, и еще бо си бяху не утвердили верою, но аки по мертвеце плакахуся» [6, 93]. Этот плач означал отсутствие взаимодействия между двумя культурами – «между ориентированной на Прошлое родоплеменной и ориентированной на вечное небесное Царство Божие христианской» [6, 93]. Представления о человеке в Древней Руси складывались как сплав двух представлений – языческого о человеке как члене рода, ритуально и сакрально в него включенного, и идей, привнесенных христианской книжной культурой в XI–XIII вв.
Языческое представление заключалось в том, что человек воспринимался как существо родовое: вне рода он не существует, не реализует себя. На языческом (дохристианском) Западе человек очень рано, уже у Аристотеля, определялся по отношению к социуму, а не к роду, так как общество уже довлело над родовыми связями. На Руси само общество (общественность), социальные институты тонули в кровно-родовых установлениях, что было связано не только с обычаями, но и с особенностями географическими и климатическими, требовавшими мощной консолидации общества в более суровых, по сравнению с балканскими и западноевропейскими странами, условиях.
Человек связан с родом через традицию, которая включает в себя механизм передачи родовой памяти через сакральную практику: обряды, ритуалы, устные легенды, одежда, предметы быта с сакральной символикой, танец (хороводы, или короводы), стиль жизни и нормы поведения. Сакральная практика противоречит современным представлениям об эмансипации человека. О. Шпенглер, когда писал о свойствах современного человека, особо подчеркивал присущее ему «непонимание традиций, борьба с которыми есть борьба против культуры, против знати, церкви, привилегий, династий, преданий в искусстве, границ познаваемого в науке» [5, 12]. Современный человек воспитан в контексте революционного и инновационного мировоззрения, в то время как древний – в контексте традиционной культуры. Традиционалистская антропологическая доминанта Древней Руси органически входит в христианскую антропологию.
Древнерусская христианская антропология является органической частью эсхатологической историософии. Как для Киевской, так и для Московской Руси нехарактерны представления об отдельном индивиде и его судьбе, основное внимание приковано к судьбе нации, всей Руси, предстоящей перед Богом. Киево-Печерский патерик дает новый образец антропологических рассуждений, смысл которых заключается в том, что, освободившись от родоплеменных связей, человек обретает духовную свободу, будучи включен («вчинен») в монашество, где он обретает новую социальную нишу. Характерно, что первые монастыри на Руси строятся в столице и больших городах, а феномен отшельничества, жизни «в пустыне» остается редким, единичным явлением. Монахи становятся новым социальным чином (сословием), духовно укрепляющим молодое христианство, что соотносится с концепцией монашества как духовного руководителя народа, выработанного в Византии в период иконоборческих гонений и окончательно утвержденного к X в., ко времени крещения Руси[42].
Древнерусская эсхатологическая историософия сложилась как книжная и интеллектуальная традиция под влиянием переводной христианской литературы и народного религиозного мироощущения. Что касается переводной литературы, то на протяжении многих веков переводились разнообразные тексты в соответствии с потребностями новой паствы. В первый поток переводной литературы (так называемое «первое болгарское влияние») попали сочинения отцов-каппадокийцев (свт. Иоанн Златоуст, свт. Григорий Богослов, свт. Василий Великий), «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского, исторические «Хроники» Иоанна Малалы и Георгия Амартола, полумифическая «Александрия» и другие произведения, которые должны были способствовать приобщению к истории Церкви и усвоению русичами догматических основ христианства.
Во второй поток переводной литературы («второе болгарское влияние») входит большое количество аскетической и мистической литературы, книги исихастской монашеской школы (авва Дорофей, прп. Симеон Новый Богослов, прп. Григорий Синаит, Дионисий Ареопагит, прп. Исаак Сирин, прп. Иоанн Лествичник, «Диоптра» Филиппа Пустынника и др.)[43]. Это литературное влияние начинается с середины XIV в. и продолжается около 100 лет. Идеи святых отцов-исихастов принадлежат к восточной общехристианской антропологической традиции. Через них открывается внутреннее пространство личности и возвышенная цель жизни человека (идея обожения), показывается путь к ней (борьба со страстями, прилоги и помыслы, практика молитвы, критерии истинности и ложности духовного пути и др.), вводятся понятия о мистических созерцаниях огня и света (духовный опыт прп. Сергия Радонежского)[44]. Святоотеческая антропология стала органической частью древнерусских представлений о человеке, получив наибольшее распространение в монашеской культуре, которая рано стала передовым и просветительским авангардом Древней Руси. Ответом на приток новых антропологических идей мистического направления было формирование нового образа человека, выходящего из родового уклада и приобщающегося к культуре углубленного психологического и мистического направления.
С потоками нормативной христианской литературы на Русь постоянно попадали апокрифы, их число было весьма велико, так что само христианство на Руси, особенно в низовых народных слоях, приобрело дуалистические, богомильские черты, что нашло отражение во многих песнях, сказаниях и народных легендах. Наиболее популярным апокрифическим памятником, содержащим антропологические идеи, является «Беседа трех святителей» и «Сказание о том, как Бог сотворил Адама». В апокрифах человек предстает как существо видовое, а не индивидуальное, что во многом имеет параллели с нормативной (догматической) литературой, однако не соотносится с идеями, пришедшими через «второе болгарское влияние». Так, например, одним из самых популярных определений нормативной литературы было систематическое описание прп. Иоанна Дамаскина: человек есть существо телесное, одушевленное, словесное, смертное. Душа имеет три начала – словесное, яростное, похотное, есть мир видимый, частью которого является человек, и невидимый, к которому принадлежат ангелы, однако «сугуб есть человек, от души бо и тела сложен. <…> И сея ради вины и человек может нарещися видимый мир и невидимый» [3, 282].
Где святоотеческая антропология заканчивается, там апокрифическая антропология начинается, продолжая развивать тему «состава» человека, его видовых свойств: человек создан из восьми частей, от Красного моря – кровь, от Солнца – глаза, от облаков – мысли, от дыхания – волосы, от света – душа. Восьмой элемент – действо Божие, соединившее все в один состав. Тема человеческого тела как микрокосма есть составная часть древнеиндийских (первочеловек Пуруша) и древнекитайских (первочеловек Паньгу) мифов, специфически христианских мотивов это представление не имеет. В апокрифической литературе подчеркивается противостояние души и тела, которое находится в постоянной опасности «распряжения» от души и разрушения смертью. Мотивы прения или разговора души и тела или человека со смертью есть распространенный сюжет древ нерусских песен и сказаний, их можно обнаружить и в популярной на Руси церковной литературе («Диоптра» Филиппа Пустынника).
В апокрифах человек описывается с точки зрения его числового состава – у него 295 костей и столько же суставов, его жизнь – четко просчитанные сроки: «И был Адам в раю семь дней, чем предсказал Господь Бог человеческую жизнь: десять лет – это ребенок, двадцать лет – юноша, тридцать лет – зрелость, сорок лет – средовечие, пятьдесят лет – середина, шестьдесят лет – старость, семьдесят лет – смерть» [8, 20]. Согласно русским азбуковникам, “колород-ство” (колесо жизни) человека определяется похожим образом: 1) Младенец – до 7 (лет); 2) Отроча – до 14; 3) Детище – до 21; 4) Юноша – до 28; 5) Муж – до 35; 6) Средовечие – от 42 до 49; 7) Старец – от 49 до 56, по сем матерство» [3, 281] (т. е. глубокая старость). Старание увидеть человека «по частям», расписать его временные сроки, четко определить его социальную и родовую нишу было одним из важнейших способов познания человека в Древней Руси.
Возможно, именно классификаторский подход к человеку определил популярность иерархической системы Дионисия Ареопагита. Из века в век русские книжники переписывали следующую схему христианского неоплатоника, находя в ней неисчерпаемый источник вдохновения в идее иерархии.
Таблица 5
Девять чинов ангельских и земных
Девять чинов ангельских и земных
В эту византийскую схему Древняя Русь сумела привнести одно важное новшество, которое можно считать древнерусским изобретением. У Дионисия Ареопагита в схему чинов не вписаны миряне, т. е. они как будто вне Церкви, прикладное, обслуживающее Церковь сословие, не достойное святого иерархического места. Миряне в Древней Руси в бытовой организации довольно рано начинают мало чем отличаться от монашества. Святцы ранней Русской Церкви буквально пестрят святыми мирянами, начиная от равноапостольных Владимира и Ольги, св. благоверных князей Бориса и Глеба и других, почитаемых наряду с подвижниками и иноками, прославившимися аскетическими подвигами. Святые миряне, благоверные князья, крестьяне и духовенство, живущие по иноческому уставу, – это явление вызывало недоумение и восхищение иностранцев (например, у инока Павла Алеппского, прибывшего в Россию в середине XVII в.[45]). Канонизация святых мирян была привычной практикой уже в Киевской Руси (по преимуществу канонизировали святых князей, заступников и покровителей русской земли), ко времени возвышения Москвы в святцы попадали благочестивые жены, святые дети и отроки, юродивые и нищелюбцы.
Получила распространение тенденция канонизации семейных пар (Владимир и Агрипина Ржевские, благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские, праведные Иоанн Устюжский и Мария, преподобные Кирилл и Мария Радонежские и др.). Во множестве были прославлены жены-мирянки (Феодосия – Евфросиния, мать благоверного князя Александра Невского, Евфросиния Полоцкая, княгиня Иулиания Тверская и преподобная Иулиания Лазаревская, праведная Гликерия Новгородская и др.), в подвиге которых особенно подчеркивалось милосердие, нищелюбие, трудолюбие, супружеская верность, рассудительность и любовь к Церкви. Брак на Руси рассматривался не просто как, по выражению ап. Павла, «ложе нескверное» (Евр 13. 4) с неизбежными «скорбями по плоти» (1 Кор 7. 28), а понимался как путь к святости, полумонашество, которое в идеале и должно было заканчиваться принятием иноческого пострига. Идея послушания в браке, освещенность всех процессов, включая физиологические, поклоны и посты, довольно распространенная практика ночных молитв и домашних семейных бдений – все это делало брак путем к подвижничеству и святости. Иночество почиталось как «беспечальное», «легкое» спасение, свободное от семейных забот. Оправдание «легкости» выбранного пути для иноков заключалось в суровом подвижничестве и тех социальных функциях, которые брали на себя монастыри.
Полного развития идея освященного быта достигла ко времени расцвета Московской Руси начиная с XIV в. Эпоха татаро-монгольского ига (Русское средневековье) было временем не угасания подвижничества, но расцвета русского исихазма, который стремительно проникал в народные слои, порождая систему мирского аскетизма, довольно сурового и методичного в предписаниях о постах, церковных и домашних молитвах, взаимоотношениях между людьми. Представление об иночестве как сакральном, отдельном от мирской жизни явлении, характерное для Египта, Палестины, частично Византии, не прижилось на Руси, в которой монастыри выполняли общественные и хозяйственные функции, имели общегосударственное значение (монастырь есть крепость, житница, тюрьма, дом милосердия, библиотека, больница и др.).
Миряне несли тяготы подвижнического жития, повинуясь строгому уставу Церкви. Московское царство строилось как сакральное государство, в котором все, от царя до странствующего нищего, соблюдают единый монастырский устав. Одежда, вкушение пищи, праздники, хождения в гости, свадьбы и похороны – все сферы жизни постепенно унифицировались, а упорядоченность и унификация были естественными векторами, к которым тяготела Древняя Русь. Тенденция к унификации нашла отражение в таком литературном памятнике, как «Домострой» (середина XVI в.). По словам Д. С. Лихачева, «Домострой» – это «унификация, идеализация и поэтизация быта, доведенные до предела возможного. <…> Идеал “Домостроя” – это идеал чистоты, порядка, бережливости, почти скупости, и вместе с тем гостеприимства, взаимного уважения, а одновременно и семейной строгости – запасливости и нищелюбия. <…> Упорядоченность быта оказывалась почти обрядовой, даже приготовление пищи – почти церковным таинством, послушание – почти монастырским, любовь к родному дому и хозяйствование в нем – настоящим религиозным служением» [4, 199].
Высокий уровень церковного благочестия был обусловлен несколькими факторами. Произошло распространение монашеского устава на все слои населения, включая женщин, детей и стариков. Так, например, для Древней Руси в числе постящихся должны были быть и грудные младенцы, которым уже начиная с третьего после их рождения поста вводились ограничения в питании. Для беременных женщин в качестве послабления Великим постом могло быть разрешено вкушение пищи с растительным маслом. Человек для Древней Руси – это по преимуществу аскет и подвижник, причем степень аскетизма для мирян могла превосходить монастырские уставы Запада и Ближнего Востока в соответствующее время. В молитвенное правило для мирян входили поясные и земные поклоны (в день около 100, для иноков 1000), которые не подлежали отмене даже на Пасху. Церковный устав не воспринимался как суровое бремя, он был частью повседневной жизни, организации освященного быта, невыполнение которого могло вызвать недоумение благочестивых мирян. Человек по смыслу и призванию есть существо аскетическое – вот одно из значимых антропологических положений Древней, затем и Московской Руси, обеспечившее огромный запас государствостроительной мощи, которую затем в петербургский период использовали как первый резерв для созидания Российской империи.
Другая основа аскетического устава Древней Руси – особое, присущее русскому менталитету отношение к красоте. Попытки упорядочить жизнь христианина, ввести ее в некую систему координат есть сознательная эстетизация образа человека. Человек есть существо эстетически прекрасное, соразмерно созданное, нуждающееся в обрядовом оформлении – еще одно значимое антропологическое положение Древней Руси. Антропологическая эстетика проявляется в обрядовой размерности, соотнесенности с каноном, образцом, типиконом, причем каждая деталь жизни должна быть учтена так, чтобы человек прожил свою жизнь максимально прекрасно и канонически богоподобно. Эстетическая направленность русской религиозности ярко проявляется уже в «Повести временных лет», в эпизоде выбора веры князем Владимиром, который посылал своих послов для оценки разных богослужебных обрядов. Мусульманская молитва показалась послам безрадостной («несть веселия в них»), католический обряд не доставил эстетического удовлетворения («красоты не видехом ни коеяже»), но, увидев «красоту церковную» в Константинополе, послы были вне себя от религиозно-эстетических переживаний: «не можем забыть красоты той» [2, 24]. Русские были чувствительны не к внешней красивости, их привлекла онтологическая, апеллирующая к божественной сфере внутренняя духовная Красота.
С. С. Аверинцев связывал Красоту (как одно из имен Божиих, наряду с Истиной и Добром) с подвижничеством: «Красота и подвижничество очень тесно связаны в русской народной психологии. Русский фольклор предлагает множество “духовных стихов” на одну и ту же тему – о царевиче Иоасафе, уходящем от роскошной жизни в пустыню… Кажется, нигде в русской народной поэзии теме красоты природы не дано столько места, как в этих заунывных пронзительных песнях об отречении царевича от мирских соблазнов» [2, 24]. Основные черты канонической Красоты как святости – ее строгость, мироотреченность, внеэмоциональность, цельность религиозного восприятия, смысловая направленность к небесной, идеальной сфере. В Древней Руси еще не произошел распад единой душевной сферы на эмоциональную, интеллектуальную, этическую и эстетическую части (в Западной Европе, для сравнения, схоластика обращалась к сфере интеллекта, а искусство – к эмоции), но все было слито в едином порыве восприятия и трансляции Красоты как Святости. Такое переживание, уходящее от мирской красоты, может существовать только на эсхатологической грани, не дающей соскользнуть религиозному чувству в раздробленность готического, западновозрожденческого образца.
Эсхатологизм есть движущая сила древнерусской религиозности. Эсхатологическими становятся не только обрядовое благочестие и бытовой уклад, но и государственные устои. Государственный идеал Московской Руси «Москва – Третий Рим» имел эсхатологическое звучание: два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать. Человек Московской Руси остро ощущал свою эсхатологическую причастность к судьбам мировой истории через Красоту-Святость религиозного, бытового и государственного уклада. Говоря об эстетической доминанте древнерусской эсхатологии, невозможно не вспомнить о древнегреческой культуре с ее эстетизмом. Такие исследователи, как В. Ф. Эрн, Е. Н. Трубецкой, свящ. Павел Флоренский, подчеркивали эллинский характер и преемство древнерусского мироощущения. Русь – законная наследница Византии, «а через посредство ее – но также – и непосредственно, – древней Эллады» [10, 353]. Для свящ. Павла Флоренского метафизически вся Древняя Русь сродни эллинству, но существует выразитель этого античного, классического начала в полноте – прп. Сергий Радонежский. Это сходство, безусловно, не буквальное, но именно эстетическое. Эстетизм прп. Сергия не носит интеллектуального характера, но скорее имеет этическую направленность, в чем сказывается отличие древнерусской эстетики от всякой другой эстетики. С точки зрения древнерусского человека, «красота была способна не только спасти мир, но, будучи почитаема как одно из Имен Божиих, являлась самой причиной бытия мира, вне которой мир был попросту немыслим» [5, 21]. По мысли В. И. Мартынова, приобщение к Красоте как таковой порождает формы аскетической самореализации человека, в то время как приобщение к красивому порождает формы художественной самореализации.
Третий столп антропологии Древней Руси – эсхатологизм. Человек есть существо катастрофическое и эсхатологическое, так как живет в последние дни, в ожидании Второго пришествия Христа. Общехристианский эсхатологизм имел на Руси особенное значение, что проявилось с наибольшей силой в XVII в., в период церковного раскола. В старообрядческих самосожжениях («гарях») иногда погибало на Урале и в Сибири до трети населения, в то время как в Западной Европе с ее практикой сжигать ведьм и еретиков не были известны факты массовых самосожжений. Русская реакция на эсхатологию показывает, что упорядоченный до мельчайших деталей быт есть мощная защита, которой древнерусский человек закрывает свое сознание от эсхатологического ужаса. Кроме того, проявляется определенная стратегия социального поведения – пассивное сопротивление злу, когда человек в качестве протеста против насилия государства предпочитает добровольную смерть гражданской войне. Гибель первых русских святых, благоверных князей Бориса и Глеба, которые имели все шансы спастись бегством или организовать вооруженное сопротивление убийце, также демонстрирует эту оригинальную черту русской интерпретации христианства – добровольную смерть в подражание Христу. Эту особенность характера русских позднее Л. Н. Толстой назвал «непротивлением злу», положив ее в основу свой «новой» нравственности. До сих пор остается дискуссионным вопрос, насколько непротивление злу в своих крайних выражениях соотносится с евангельским христианством. На высших ступенях христианского подвижничества и святости непротивление злу почитается естественным выражением настроенности души на следование Христу, но массовые практики непротивленчества гораздо сложнее осмыслить с нравственной и богословской точки зрения. В феномене русского непротивленчества открывается важное антропологическое измерение: человек на Руси в момент нравственного выбора предпочитает отдать себя на волю Божию, умереть и таким образом «сораспяться Христу». Эта стратегия поведения противоположна характерной для западного христианства социальной и моральной активности, для которой «подражание Христу» означает активное действие, высшим выражением которой становится вселенская («кафолическая») проповедь.
Языческая ипостась народного духа находила себе выход не только в традиционных пирах и увеселениях, неистовых драках («деревня на деревню»), танцах с элементами кружения, но и в свойственных русским состояниях сознания, когда все земное теряет всякую ценность и человек может быть охвачен жаждой разрушения культурных ценностей. Исследователь Г. П. Федотов писал о феномене русского дионисийства: «Суровая христианская и социальная дисциплина, особенно в Московский период, подавила или отодвинула его на задний план. Однако всякий раз, когда какой-либо политический или культурный взрыв высвобождал скованный цепями хаос русской души, он снова выходил на поверхность» [9, 315]. Эсхатологизм на Руси имеет тесную связь с дионисийством, поскольку также показывал эфемерность всех земных ценностей, «маловременность» и «суетность» земной жизни. Эсхатологизм (жажда грядущего преображенного бытия), являясь положительным полюсом дионисийства (как жажды чистого разрушения и опьянения сознания), давал особое напряжение религиозности в Древней Руси. В год церковных реформ (1666) эсхатологические ожидания населения достигли пика, а реакцией на разрушение религиозного и бытового образа жизни были самосожжения и массовый исход, когда люди тысячами бежали как на окраины России, так и за границу, в Польшу и Румынию. В XVII в., в период церковного раскола, происходил распад древнерусского миросозерцания, в результате которого рождалось индивидуалистическое сознание, менялся образ человека, переосмысливались основные мировоззренческие установки.
Эсхатологизм русского Средневековья не был схож с эсхатологизмом средневекового Запада, где не ставили цель построить сакральное государство, главной задачей которого было бы сохранение религиозной истины. Ватикан был политически ориентирован на земные интересы, поддерживая которые римские папы утверждали и евангельские (как они их понимали) принципы. Московская Русь в качестве теократического государства мыслилась как последний оплот истинного благочестия, которое уже невозможно будет воспроизвести заново в «последние времена». Механизмом передачи «последнего» благочестия выступала церковная традиция как святая и нерушимая, раз и навсегда установленная дисциплина ума, воли и тела.
Человек Московской Руси есть глубоко традиционное существо, за традицию в ее самых мельчайших деталях он готов был умереть. Разрушение церковной традиции, совпавшее со временем трансформации социальности в самом Московском государстве (от Руси к Российской империи), для традиционного сознания означало уже наступление царства антихриста. Участвующий в антихристовых делах получает соответствующую «печать»: «…тысяща тысящими положено под меч нехотящих принять печати антихристовы (протопоп Аввакум имел в виду троеперстие. – К. Е.). А иные ревнители закона суть, уразумевше лесть отступления, да не погибнут зле духом своим, собирающеся во дворы с женами и детьми, и сожигахуся огнем своею волею» [1, 78]. Таковы были трагические последствия рождения индивидуалистического сознания. Человек перестал быть существом родовым, коллективным, соборным или церковным, теперь перед каждым встал выбор, в результате которого человек мог бы обрести себя, взамен на исключение себя из соборной общности. Коллапсирующее сознание воспринимало эту ситуацию как эсхатологическую, реакцией на которую может быть только добровольная смерть.
Рождение индивидуалистического сознания на Руси приходится на трагические периоды истории – Смутное время и церковный раскол. В первой половине XVII в. уже возникает целая плеяда деятелей-личностей, середина века ознаменована появлением индивидуального авторства не только в литературе, но даже в таких традиционно анонимных сферах искусства, как иконопись и церковная музыка. Однако еще в XVI в. не записывали, например, имена творцов-песнотворцев в певческих книгах. Первые фиксации имен песнотворцев (Федор Христианин, Савва и Василий Роговы, Исайа Лукошко, Александр Мезенец и др.) относятся к первой трети XVII в. Схожие процессы с появлением авторства в Западной Европе (композиторы Худбальд, Гвидо Аретинский и др.) относятся к концу XI в. Авторство, индивидуализация, деформация и постепенное нивелирование общества традиционного типа, несомненно, являются взаимосвязанными процессами.
За семь веков существования Древней Руси постепенно был накоплен исторический опыт (народная память), что повлекло усложнение душевной структуры человека. До XVII в. в литературных памятниках Древней Руси люди четко делятся на добрых и злых, грешных и святых, добродетельных и порочных. Уже события Смутного времени, вызвавшие процессы усложнения душевной структуры, порождают новый литературный образ человека, противоречивый, не сводимый однозначно к категориям добра или зла. Наглядный пример рождения нового типа личности демонстрирует «Хронограф» редакции 1617 г., в котором сделан «первый и крупный шаг на пути секуляризации русской хронографии» [4, 233]. Д. С. Лихачев писал о новизне «Хронографа»: «В нем нет ссылок на Священное Писание, нет религиозного объяснения событий. Автор не приписывает “Смуту” наказанию Божию за грехи всех русских людей… <…> …Нет резкого противопоставления добрых и злых, грешных и безгрешных, нет строгого осуждения грешников, нет “абсолютизации” человека, столь свойственной идеалистической системе мировоззрения Средневековья» [4, 235]. В начале XVII в. появляется представление о противоречивости в характере человека, о том, что человек формируется под влиянием среды, условий жизни, окружения. Появление авторства, характеров и личности как таковой тесно связано с процессами секуляризации: «Новое отношение к человеческому характеру отразило общее накопление общественного опыта и отход от теологической точки зрения на человека» [4, 243]. В произведениях начала XVII в. (Авраама Палицына, Ивана Хворостинина, Семена Шаховского) появляется элемент автобиографичности.
Во второй половине XVII в. появляются уже настоящие биографии с ярко выраженной авторской позицией. Протопоп Аввакум, инок Епифаний, игумен Игнатий Иевлевский создали три автобиографии, в которых самосознание авторов приближается к современному уровню. Личности, появившиеся в литературе XVII в., рождаются на грани каких-либо серьезных внутренних конфликтов. Основным конфликтом для личности начиная с XVII в. становится противостояние человека и социума. Корпоративная этика и традиция вступают в противоречие с личными установками, основанными на внутренней свободе и ситуации выбора. Символом борьбы и противостояния личности и социума стала фигура протопопа Аввакума, погибающего на костре за свои убеждения. Его ответ восточным патриархам и всему Собору Православной Церкви, собравшемуся в 1666 г., красноречиво свидетельствует о торжестве идеи личного самосознания: «Лутче един творяй волю Божию, нежели тьмы беззаконных» [1, 56].
Взрыв личностного самосознания порождает целую гамму творческих порывов и достижений. Появляется личное иконописание (школа Симона Ушакова) и личное композиторское творчество (школа Н. Дилецкого). Литургическое, соборное и церковное предание (иконописание, песнопение) приобретает измерение свободных, независимых от церковной традиции искусств. Несколько запаздывает за ними богословие и философия, поскольку в связи с событиями церковного раскола самобытное богословское творчество было искусственно прервано, отступило перед идейной экспансией Запада, осуществлявшейся в основном через недавно присоединенную Украину. В Московской Руси импорт западной культуры приобрел интенсивный характер заимствований, что довольно агрессивно подавляло сакральные, освященные Церковью искусства, предания, обычаи, которые подпали под подозрение «ереси» (раскола) или элементарной недоброкачественности, «отсталости» в сравнении с передовыми достижениями Запада. Русскому национальному самосознанию был нанесен серьезный удар, породивший комплекс неполноценности, вражды и неприятия в народе новой светской культуры. На вызов западной культуры Россия смогла ответить достойно в XIX в., с появлением плеяды русских мыслителей, сочетавших религиозную традицию и западную образованность.
Литература
1. Аввакум Петров, протопоп. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Архангельск, 1990.
2. Аверинцев С. С. Красота как святость // Церковь. 1992. № 2.
3. Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль X–XVII веков. М., 1990.
4. Лихачев Д. С. Введение к чтению памятников древнерусской литературы. М., 2004.
5. Мартынов В. И. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси. М., 2000.
6. Прохоров Г. М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. СПб., 2010.
7. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1988.
8. Сказание как сотворил Бог Адама // Библиотека русской фантастики. Сказание о чудесах. М., 1990. Т. 1.
9. Федотов Г. П. Собр. соч.: В 12 т. М., 2001. Т. 10.
10. Флоренский П., свящ. Троице-Сергиева лавра и Россия // Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2.
Глава 12. Русская религиозно-философская антропология конца XIX – начала XX в.
В России XVIII в. целиком прошел под знаком западноевропейского влияния, поэтому трудно говорить об оригинальной антропологии в этот период. Культура и философия в России долгое время развивались путем заимствований, что можно обозначить общим термином «ученичество». Только в XIX в. появляются первые самостоятельные теоретические разработки в области религиозной философии. Например, славянофилы, хотя и не дали законченной и обоснованной системы религиозной антропологии, обозначили идею целостной личности, преодолевающей разрыв между верой и разумом. Затем наступил период господства позитивизма и материализма. В конце XIX в. появляются концепции, имеющие непосредственное отношение к религиозной антропологии.
Одним из самых оригинальных русских религиозных мыслителей был Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900), философ, публицист, поэт и мистик. Среди его многочисленных работ можно выделить одну главную, в которой он описывал новый в русской культуре образ человека. Речь идет о цикле лекций «Чтения о Богочеловечестве», которые были написаны и прочитаны в 1877–1881 гг. В лекциях Соловьев развил идею Богочеловечества как сущности исторического развития, пытаясь приблизить современное ему христианство к тому пониманию религии, которое ему представлялось истинным.
По мысли Соловьева, история развивается как постоянное взаимодействие Бога и человека. Субъектом исторического процесса является не отдельный человек, но человечество, которое обозначено термином «Богочеловечество». Вместе с тем отдельные люди входят в состав Богочеловечества и действуют согласно присущей им свободе, хотя в идеале они должны стремиться к общей солидарности и братству. Идея человечества как конкретного субъекта истории является одной из ключевых для русского религиозного самосознания. Путь, который, по мнению Соловьева, должен привести к общечеловеческому братству, состоит в отказе каждой отдельной личности от эгоизма – личного, корпоративного и национального. Этот путь, ведущий к преодолению самоутверждения и чувства личной исключительности, Соловьев называл «самоотрицанием», вкладывая в это слово положительное содержание. Самоотрицание в системе Соловьева противостоит самоутверждению, являясь, таким образом, положительным волевым актом.
В «Чтениях о Богочеловечестве» речь идет о трех основных сущностях – Боге, человеке и Богочеловечестве. Соловьев полагал, что в его время религия находится в жалком и упадочном положении, не отвечающем потребностям современного общества. По утверждению Соловьева, религия должна быть безусловным центром всей жизни и деятельности человека. Однако центрального положения религия в современности не занимает, являясь далекой периферией сознания, отчего, по мнению Соловьева, проистекают все общественные бедствия, главным из которых является эгоизм, противоположный любви. Вместо понятия «любовь» Соловьев предпочитает использовать термин «самоотрицание», подчеркивая жертвенную и волевую направленность сознания.
Самоотрицание возможно только во имя Бога, а не отдельного человека или «всех» людей (идеал социализма). В настоящем мире люди не равны, следовательно, подчинены друг другу и не свободны, поэтому чужды и даже враждебны. Для преодоления этого негативного положения природный мир должен быть преобразован в Царство Свободы и Благодати. В рассуждениях Соловьева постоянно присутствует крен в сторону умаления индивидуальной личности. Он подчеркивал, что «отдельная данная воля не представляет сама по себе никакого добра, никакой правды, а становится праведной только через нормальное отношение или согласие со всеобщей волей» [3, 17], которую Соловьев отождествлял с волей Божией. В истории христианства мнение Соловьева имеет аналогию в рассуждениях блж. Аврелия Августина о свободе воли в его второй, антипеллагианский период творчества. Вместе с тем сущность греха рассматривалась Соловьевым в большей степени с позиций первого периода в творчестве Августина, когда его идеи оказались созвучны оптимизму Пелагия в отношении человека. Можно отметить, что в философском осмыслении Соловьева человеческая личность представляется малой и незначительной.
Стремление к цельной религиозности и умаление индивида приводят Соловьева к формулированию его антропологического идеала: всеобщее братство, или Богочеловечество. Это антропологический идеал не красоты индивидуальной (преображенной) личности, но гармонии целого. По мнению Соловьева, общество на Западе демонстрирует отпадение человека от Бога. Однако даже этот факт не умаляет энтузиазма и оптимизма Соловьева в отношении всего человечества, которому в «Чтениях о Богочеловечестве» предсказывается лучшее будущее на путях нравственного прогресса. Только в последние годы жизни, в период написания «Трех разговоров о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1899–1900) Соловьев начал сомневаться в возможности нравственного совершенствования человека своими силами и увидел человеческую трагедию, которая стала в его изображении апокалиптической драмой мирового масштаба. В «Чтениях о Богочеловечестве», в которых доминируют идеи прогресса и эволюции, даже апостасийное западное общество в изображении Соловьева являет положительный этап на пути всеобщей гармонии. Преодолев эгоизм и разобщение, западное общество окажется на новом, положительном витке социального и соответственно богочеловеческого становления. Мнение Соловьева базировалось на вере в разумную упорядоченность бытия, которую выражают диалектические законы синтеза и перехода количественных изменений в качественные. Как и весь мир, человек развивается прогрессивно и диалектически, так что, достигнув определенной стадии (неверие и разобщение), общество может перейти на иную ступень (вера и Откровение).
Человек совершил грехопадение, но грех, по мнению Соловьева, не настолько исказил его природу, чтобы своими силами он не смог бы достичь всеобщей гармонии. Апокалипсис – не неизбежный сценарий (иначе не было бы и свободы человека), но один из возможных, так как человек призван явить свою свободу и предотвратить печальный конец истории. Эта идея русского космиста Н. Ф. Федорова (1829–1903) стала сокровенной мечтой для русской религиозно-философской мысли – от Вл. Соловьева до Н. А. Бердяева. Мир, по Соловьеву, развивается диалектически, и человек существует в мире как в школе жизни. С каждым столетием человечество получает опыт, который все больше приближает его к Богу. Человек проходит путь от язычества до христианства, а далее идет к общечеловеческому братству и гармонии. Вера в прогресс, которая была характерна для XIX в., является реликтом того механистического и материалистического мировоззрения, которым переболел в юности Соловьев. Оптимизм сказывается у него, в частности, в учении о строении и подобии Богу человеческой личности.
Соловьев предложил оригинальное учение о тройственной природе человеческого сознания. Первый пласт человеческого сознания соответствует декартовскому «Cogito ergo sum» (мыслю, следовательно, существую): именно здесь обнаруживается «ряд переживаемых нами состояний – желаний, мыслей, чувств, в которых или которыми так или иначе выражается наш внутренний характер, проявляется качественное содержание нашего духа. Все эти состояния, непосредственно нами наблюдаемые, переживаются нами сознательно (ибо в противном случае они очевидно не были бы доступны для прямого наблюдения), и в этом смысле они могут быть названы состояниями нашего сознания» [3, 87]. Однако сознательный пласт психики есть только первая фаза светлого, воспринимающего состояния, за которым следует темная – вторая – основа личности человека. Дух человека осознаёт нечто из реальности, но восприятие бытия является только проявлениями, всплесками глубин психики, которые дают себя знать в таких состояниях, как сон, обморок, гипноз, когда дух не исчезает, но перестает себя рационально осознавать. Таким образом, человек кроме сознания «имеет первоначальное субстанциальное бытие независимо от своего частного обнаружения или проявления в ряде раздельных актов и состояний… он существует глубже всей той внутренней действительности, которая составляет нашу текущую, наличную жизнь» [3, 87–88]. Человеческое «я» обнаруживается в этой первоначальной глубине, которая первичнее сознательной жизни (нельзя одновременно мыслить и думать о своей мысли).
Третий пласт сознания человека есть возвращение к самому себе, саморефлексия и самосознание, устанавливающее тождество первого и второго пластов психики. Этот план сознания ответственен за самотождество личности, которая утверждает свои мысли и переживания. Однако субстанция, исток человеческого сознания – срединное состояние покоя, нерационального и нерефлектирующего пласта психики, в то время как два других состояния есть проявления субстанции. Различие между Богом и трехсоставным бытием человека заключается в том, что у человека три фазы сознания сменяют друг друга во времени, а в Боге они вечно присутствуют как Ипостаси, неотделимые от Отца. Антропологическая теория Соловьева дает рационалистический ответ на вопрос, что есть образ и подобие Божие в человеке.
Соловьев попытался соединить элементы христианства, неоплатонизма и славянофильских идей. Кроме того, он вообще стремился в познании к синтезу с целью преодоления примитивного позитивизма и материализма. Общий идейный вектор Соловьева направлен на преодоление индивидуализма и рационализма, что привело его к оригинальным представлениям о человеке и его месте в истории, одновременно делая Соловьева ярким представителем и выразителем русской национальной мысли.
Как показал пример философии В. С. Соловьева, важнейшей апорией для русской религиозной философии становится соотношение частного и общего, индивида и общества, личности и коллектива. Проблемой соотношения частного и общего в человеке занимался Сергей Николаевич Трубецкой (1862–1905) в работе «О природе человеческого сознания» (1889–1891). Как и Соловьев, С. Н. Трубецкой входил в кружок «московских идеалистов» и одновременно в редколлегию журнала «Вопросы философии и психологии», в которой работа «О природе человеческого сознания» была впервые опубликована. Трубецкой подошел к вопросу о человеке и познании истины с точки зрения соотношения индивида и рода. По его мнению, этот вопрос еще ни разу не был удовлетворительно разрешен в истории философии. Трубецкой задал вопрос: «Что прежде, что существенно: род или индивид – в природе вещей, в сознании человека, в его личной и общественной жизни?» [5, 486]. На этот вопрос он дает первоначальный ответ: «В действительности нет ни рода без индивида, ни индивида без родовых свойств» [5, 486].
По мнению С. Н. Трубецкого, философы Нового времени пошли по пути абсолютизации личности и игнорировали родовые свойства человека, что привело к повсеместному утверждению протестантского субъективизма. Сам Трубецкой указывал на близкие ему философские позиции, – в частности, на представления Сократа о Вселенском Разуме и Аристотеля о Всеобщем Уме: «…самая душа, индивидуализированная в каждом живом существе, есть по существу своему нечто универсальное» [5, 492].
Главным идеалом и образцом соборного универсального начала для Трубецкого была Церковь, которая включает в себя авторитет всеобщности, поэтому для Трубецкого соборность сознания выше индивидуального человеческого сознания. Только в совместной церковности, во всечеловеческом процессе люди сообща достигают Бога: «Конечный рассудок не может вместить идеи высшего блага, конечное существо не может понять и вместить блага бесконечного. Но все бесчисленные, конечные существа, соединенные между собою свободно и абсолютно и составляя таким образом Церковь, вмещают и воспринимают в себе бесконечного Бога и его Идею» [4, 134–135]. Церковь понимается Трубецким как предвечное установление, союз Бога и человечества в лице Адама, поэтому порвать с ней по определению невозможно, не вырвав себя из человеческого рода. Трубецкой, говоря о Церкви, использовал близкое В. С. Соловьеву определение «церковный богочеловеческий организм». Можно отрицать Церковь, враждовать с ней, но невозможно порвать с общечеловеческими корнями, связывающими индивида с Церковью: «Человек не развивается вне общества. В детстве своем он беспомощен во всех отношениях и воспитывается родителями и обществом, среди которого он родился, среда эта его перерабатывает совершенно… <…> От нее научивается он языку и с ним тем преданиям, тем “опытам веков”, при помощи которых его племя достигло настоящей степени своего состояния… из нее черпает он все правила для поведения, сущность своего миросозерцания, большинство своих чувств, все свои верования. Представьте себе человека, мгновенно утратившего все то, что он приобрел от общения с другими людьми, и он превратится в беспомощного, помешанного идиота, который умрет через несколько часов как брошенный новорожденный ребенок» [4, 135–136].
Со своей стороны Трубецкой призывал искать гармонию между индивидуальным и всеобщим. Он считал, что сознание человека нельзя свести ни к личному сознанию, ни к родовому универсальному началу. Личное сознание предполагает общее и коллективное. Своей целью Трубецкой считал доказать органическую соборность человеческого сознания. Он полагал, что «человеческое сознание не есть мое личное отправление только, но что оно есть коллективная функция человеческого рода» [5, 495]. Таким образом, сознание человека не безлично и не единично, но соборно, поскольку оно есть главное условие взаимодействия людей друг с другом. Соборность сознания является условием взаимопонимания. Даже творчество носит родовой, общечеловеческий характер: творец пользуется языком и методом, которые уже находит в обществе, а продукты его деятельности воспринимаются на уровне общепонятного, близкого всем мироощущения.
В результате анализа различных аспектов сознания Трубецкой сделал вывод, что «индивид воспроизводит, представляет свой род в своем собственном лице» [5, 555], а это означает, что сознание человека заключает в себе потенциально смутный общий образ его рода. Точку зрения Трубецкого можно понять как попытку найти философские основания для понимания Церкви и ее значения в человеческой жизни. Испытав влияние славянофилов (идея соборного или цельного разума) и В. С. Соловьева, Трубецкой, тем не менее, ярко выразил собственные философско-богословские интуиции и предпочтения. Для него в центре философии и богословия стоит экклесиология, которая приобретает универсальный характер учения об общечеловеческих основах жизни и сознания. Через понятие Церкви Трубецкой стремился примирить все противоречия человеческой природы. В Церкви человек обретает благодать и освобождается от греха, находит путь от своей ограниченной субъективности к объективной реальности. Вместе с тем Трубецкой оставил антропологическую концепцию незавершенной, остановившись на границе богословия и религиозного откровения. Существенным изъяном концепции можно считать то, что Трубецкой не разработал проблему зла, сознательно отказался от разработки проблем святости и благодати: «Мы не можем и не хотим доказывать эту благодать умозрением: она не принимает внешнего свидетельства» [5, 591]. Проблема, поднятая С. Н. Трубецким, была весьма значительна, и в дальнейшем русские религиозные философы решали ее на основе своих мировоззренческих представлений.
Среди русских философов конца XIX – начала XX в., безусловно, значимое место занимает Сергей Николаевич Булгаков (1870–1944), с 1918 г. священник. В книге «Свет Невечерний. Созерцания и умозрения» (1917) он обратился к проблеме человека с точки зрения софиологии. В отличие от С. Н. Трубецкого, Булгаков уверенно работал на стыке философии и богословия. В качестве основы для своей общей концепции он использовал множество различных источников от Платона до Канта, но особое внимание он уделил различным религиозным мыслителям, таким, как Дионисий Ареопагит, свт. Григорий Палама, Ориген и Климент Александрийский.
Проблему человека Булгаков раскрывал через толкование Священного Писания и его философскую интерпретацию. В качестве основного источника для толкования он использовал библейский сюжет о сотворении Адама и на основании его философской интерпретации создал свой вариант религиозной антропологии. Для Булгакова основным вопросом антропологии являлось выяснение соотношения образа Божия в человеке и Бога: «В каком же отношении находится образ Божий в человеке к Своему Первообразу?» [2, 246]. Он подчеркивал, что человек есть тайна, а религиозная метафизика не может дать окончательного ответа на вопрос о сущности человека. Прежде всего, человек есть живая антиномия («воплощенное противоречие»). Поскольку Бог-Творец абсолютен, то и человек как образ Божий представляет собой абсолютное в относительном. Одновременно человек как образ Божий имеет формальную природу божества, есть бог in potentia.
В человеке как образе Троицы есть своя трехипостасность. Булгаков указывал на ум, волю и чувство, которые выступают как свидетели о Троице в человеческой природе. Одновременно трехипостасность проявляется в человеке в виде смутной жажды и поиска истины, добра и красоты. Человек есть личность, но понятие личности неопределимо, так как она абсолютна в потенциальной значимости. Одно из основных противоречий человеческой природы состоит в неутолимой жажде, бессильной трансцендентности. Трагедия человека в том, что он после грехопадения сохранил образ Божий, но утратил в себе способность осуществлять Подобие. Эта тоска может быть утолена через подвиг любви и смирения, т. е. через приобщение к Христу. Христос есть небесный человек, что дает возможность причастия Ему, поскольку Христос объемлет все мироздание в положительном всеединстве, соответственно и человек по образу Христа есть «всеорганизм».
Вышеперечисленные идеи не противоречат общехристианским представлениям о человеке. Однако Булгаков развивал и оригинальные антропологические взгляды, так как начиная уже с книги «Свет Невечерний» он обращался к теме софиологии, с точки зрения которой пытался осмыслить проблему человека. В главе, посвященной сотворению и грехопадению, Булгаков приводил различные свидетельства, которые обнаруживают истоки его софиологической богословской мысли. Он многократно ссылался на каббалу и на «откровения» теософки А. Шмидт, причем количественно цитирование и отсылки к неправославной духовности многократно превосходят цитирование святых отцов и свидетельства христианской традиции.
С большим сочувствием он пишет и о язычестве: «По своему объему оно многомотивнее, а по заданию шире не только Ветхого, но и Нового Завета, поскольку и этот последний содержит еще обетования о грядущем Утешителе. Язычество имеет в себе живые предчувствия о “святой плоти” и откровении св. Духа. <…> …И этим, быть может, объясняется то непонятное и загадочное обаяние, которое оно сохраняет над душами и в христианскую эпоху» [2, 285]. Поиски духовного пространства, в котором сочетались бы мистика и рационализм, откровения и философская традиция, приводят Булгакова к разработке идеи Софии как связи Бога и мира. Язычество в данном случае выступает символом религиозной традиции, в которой, согласно мифологическому предположению некоторых деятелей Серебряного века, преодолена пропасть между земным миром, природой, хозяйством, культурой и духовным, мистическим миром. В этой интерпретации язычество есть идеализированная религия радости, гармонии, забвения о грехе и открытости мирозданию.
По мнению Булгакова, в человеке как образе Божием заложена тяга к абсолютному творчеству, которая оборачивается трагедией в поиске шедевра, невозможностью реализовать свою потенциальную абсолютность. Трагедию творчества Булгаков ощущал настолько глубоко, что готов был и ад рассматривать как вечно длящееся содержание этой трагедии. Ад – оборотная сторона человеческой свободы, тайна будущего века, о которой невозможно положительно утверждать, предсказав его неминуемость или вечность.
Булгаков утверждал множественность слоев бессознательной душевной жизни человека, хотя и не делал это утверждение основой своей антропологии. Для Булгакова исток человеческого «я» не в бессознательных пластах психики, которые указывают на неопределимость личности: «Состояние внеипостасности или бессознательности просто не может быть по-настоящему ни помышлено, ни почувствовано человеком» [2, 245]. Эмпирическая личность «развивается во времени, ибо есть вневременная точка ипостасности, “зритель”, который не из времени смотрит вовремя» [2, 246]. Откуда возникают новые тварные ипостаси, если исток личности лежит во вневременном вечном бытии? По мнению Булгакова, можно утверждать, что множество ипостасей созданы, рождены и эманированы, но одновременно они и не созданы, поскольку им присущ образ вечности. О личностях-ипостасях можно мыслить как о рожденных от Бога, поскольку они исходят из недр Божества, а глагол «вдунул» («и вдунул в лице его дыхание жизни» – Быт 1. 7) косвенно указывает на эманацию. Таким образом, в антропологии Булгакова произошло размывание границ человеческой тварности. В отношении к животному миру человек является «всеживотным»: «Вопреки дарвинизму, человек не произошел от низших видов, но сам их в себе имеет: человек есть всеживотное и в себе содержит как бы всю программу творения» [2, 249]. С этим Булгаков связывал такие явления, как тотемизм, любовь человека к животным, образы полузверей и полулюдей в качестве богов у древних египтян и многое другое.
Основная тема софиологической антропологии Булгакова – пол в человеке. Булгаков полемизировал с мнениями прп. Максима Исповедника и свт. Григория Нисского, утверждавших, что разделение полов было совершено Богом в предвидении грехопадения. Для Булгакова создание жены есть завершение творения человека и, таким образом, реализация замысла Божия в полноте. Перед этим событием Бог, согласно Библии, привел к Адаму всех животных, для того чтобы тот, видя парность твари, почувствовал свое одиночество и некоторого рода ущербность. Создание Евы было необходимо еще потому, что жена есть воплощение чувственных, земных, софийных черт мира. Через Еву Адам приобщился к миру, что явилось необходимым этапом самопознания и миропознания. Ева выполняла функции Софии, т. е. Души Мира, связывающей небесный и земной миры. Без софийной функции Евы мир Адаму был чужд, что делало проблематичной саму возможность творчества и познания.
В состоянии грехопадения очень сложно выстроить правильные, гармоничные отношения между мужчиной и женщиной, поэтому перед человеком появился соблазн «упрощения задачи», которая заключается в крайностях аскетизма или женоненавистничества. Этот бунт природы человека против пола свидетельствует, по Булгакову, о серьезной поврежденности духа. Булгаков считал, что отдельный человек есть получеловек, обретающий свою цельность только в общении со своей второй половиной. Ее ненахождение или сочетание с несвойственной половиной Булгаковым связывается с некоторой аномалией, объясняемой через греховность, с врожденными свойствами или с тайной, корни которой в трагедии, происходящей в духовном мире. Объясняя надмирную трагедию, Булгаков отсылает к свидетельству каббалы, в которой предполагается, что каждая душа приходит на землю в определенном порядке, если же он нарушается, например вследствие грехов родителей, то душа подвергается опасности сочетания в браке с несвойственной ей половиной.
Религиозный идеал брака аскетичен у Булгакова, который делает мало различий между браком и девством. В идеале брак должен быть школой воздержания и аскетических подвигов. В этом утверждении Булгаков следует религиозной традиции, корни которой уходят в древнерусское благочестие. С другой стороны, Булгаков в некотором роде подспудно воюет с идеалом «равноангельского жития», обозначенного в Евангелии и, в частности, реализованного в монашестве.
После книги «Свет Невечерний», исходя из общих антропологических предпосылок, Булгаков продолжил развивать софийную антропологию, в которую ввел много новых богословских идей, связанных с Софией. Подробно останавливаться на поздней софиологической концепции Булгакова нет необходимости, поскольку в дальнейшем он, оставаясь в круге тех же антропологических идей, идет к такому развитию концепции Софии, что в результате антропология тонет в софиологии, становясь частью последней и утрачивая самостоятельное значение. В целом антропология Булгакова делает сильный акцент на свободу и независимость человека, так что граница его тварности едва ли не становится преодоленной. В понимании Булгакова человек «не только рождается тем или иным, но он становится самим собой лишь чрез свободное свое произволение, как бы изъявляя согласие на самого себя, определяя свое собственное существо», т. е. «человек есть свободный выполнитель своей темы» [2, 303]. Для Булгакова было характерно мнение, что даже приход в земной мир всех людей является добровольным, так как Бог непостижимым образом вопрошает каждого человека о желании рождения. Творчество и самотворчество составляет сущность как жизни человека, так и смысла истории. Антропология Булгакова может быть охарактеризована как мистико-теургическая, философско-богословская концепция, ставящая в центр рассмотрения вопросы пола, творчества и свободного самоопределения человека.
Одним из самых ярких и интересных философов русского религиозного возрождения начала XX в. был священник Павел Александрович Флоренский (1882–1937). В его обширном философском и богословском наследии особенно выделяются труды «Столп и утверждение Истины» (1914) и «Философия культа» (1918–1922). В первом труде раскрыта идея теодицеи, во втором труде осуществлен опыт православной антроподицеи. Термин «антроподицея» (от греч. ανθρωπος – человек и δικη – справедливость), или оправдание человека, Флоренский впервые употребил в 1906 г. в докладе «Догматизм и догматика». Он выстраивал религиозную антропологию как антроподицею, оправдание человека перед Богом и самим собой. Основной вопрос антроподицеи заключается в том, откуда в человеке зло, если по своей сущности он свят и сотворен благим Богом. Почему избавление от внутреннего зла является столь сложным процессом и каков путь его осуществления – вот круг вопросов, на которые дает ответ антропоцидея свящ. Павла Флоренского. Исследователь творчества Флоренского игумен Андроник (Трубачев) пишет: «Идея антроподицеи, хотя и гораздо менее разработанная, чем идея теодицеи, также постулируется всякой религией, как противостоящая идее утвердить наличную греховность человека в качестве высшей и непреходящей ценности, как противостоящая самообожествлению греховного Я человека» [1, 60].
Важнейшая интуиция Флоренского в отношении мира и человека – это переживание падшести, неистинности, безблагодатности тварного бытия. Человек имеет антиномичную природу, искаженную грехопадением, что приводит его не к раскаянию, но к гневу на своего Создателя, допустившего трагедию человека. В падении природа человека расколота на две стихии: ипостась (личное, индивидуальное начало) и усию (родовое, общее и природное начало). Человек как личность бунтует против греховного повреждения природного начала, будучи существом природо-родовым. Он восстает на свою ипостась, которая требует жизни не по страстям, но согласно высшим нравственно-этическим требованиям. Темную основу личности, те инстинкты, которые таятся в глубине сознания, Флоренский называл титаническим началом в человеке. Он указывал на возможность для человека обрести гармонию, которая осуществима через церковный культ. По выражению Флоренского, «культом жизнь благодатствуется – т. е. движения ее, дотоле порывистые, страстные, негармоничные, приходят в единство, своим многообразием не отрицая, но утверждая единство личности» [7, 155].
Важно отметить, что, согласно Флоренскому, оба начала в человеке (ипостась и усия) являются благими, и нельзя жертвовать одним ради другого, в идеале должна быть спасена вся природа человека. Как ипостась, так и усия несут важную жизненную функцию, только в признании безусловного значения за каждой природой возможно их взаимное примирение. Гармония двух начал в человеке через культ указывает на его важнейшее значение, так как именно религиозный культ является истоком культуры, из которой впоследствии рождаются наука, искусство, философия, государственные и социальные установления и т. д. С оскудением культа и питающей его религиозной энергии веры происходит размывание и оскудение культуры, вырождение того или иного культурно-исторического типа.
Основу церковного культа составляют семь Таинств, возвышающих и возводящих на уровень божественного бытия обычные человеческие потребности. Так, Таинство Крещения соответствует возведенному на божественную высоту умыванию, Миропомазание – украшению и одеянию, Причащение – питанию, покаяние – говорению, Венчание – общению и деторождению, Елео священие – врачеванию, Священство – утверждению власти и истинного авторитета. Отказ или пренебрежение каким-либо таинством приводит к дисгармонии, ненормальности жизни, высвобождает темные инстинкты, таящиеся в подоснове человеческого бытия (титаническое начало).
Таким образом, церковное христианство есть не пережиток варварского прошлого, но само средоточие жизненных энергий, центр мировой жизни, отходя от которого человечество вовлекается в процесс саморазрушения. Культ не только антропоцентричен, но и космичен, является экологическим покровом человека, условием для нормального существования всякого смысла и действия, исходящего от человека. Человек оправдывается святостью, к которой приобщается через культ. Вне освящения, в естественном состоянии он безобразен и безответен перед Богом. Святость есть категория не этическая, а онтологическая. Она есть гармония и красота человеческого естества, преображенного благодатью. Средоточие культа – Христос, к Которому человек приходит не непосредственно (как полагают протестанты), но входя через врата культа, иначе он будет низвергнут, как не имеющий брачного одеяния, но дерзко вступивший в брачный чертог (Мф 22. 12).
Особое внимание Флоренский уделил вопросу рода, семьи, ее корней (что соответствует началу «усии»). Он составлял длинные ряды известных ему предков и завещал своим потомкам (у него было пятеро детей) поддерживать это начинание, чтобы ни один, даже самый дальний родственник не был забыт, не выпал из родовой памяти. Свою биографию Флоренский написал не в качестве автобиографии, но как память потомству («Детям моим»), вписав себя в ряд бывших до него и имеющих быть впоследствии по колений.
Важной антропологической идеей свящ. Павла Флоренского была типология личностей. Для него было очевидно, что личность не является отдельным атомом, но связана с людьми общечеловеческой природной связью. Личность укоренена в роде, что удостоверяется через ее тело (национальные, типологические, физиологические особенности); у нее есть имя, лик (явленность духовного образа через лицо). Все эти особенности дают возможность классификации, построения типологии личностей. Инварианты типов личности имеют три предела (+, 0, –), т. е. человек способен через свой тип выявить его наилучшие возможности (святость, гениальность, созидательная деятельность на благо ближних), или остаться обывателем, не реализующим благие потенции личности, но не уклоняясь в произвол и злоупотребление, или он может явить темные стороны своего типа, став злодеем или преступником.
Идея предопределенности человека к заданному свыше жизненному пути в язычестве именовалась Роком, неумолимой Судьбой, но для христианства это является благословением, поскольку отражает иерархию, данную Богом для конкретного совершенствования личности. Особенно наглядно типология личности находит отражение в работе Флоренского «Имена» (1923–1926). Флоренский утверждал, что в имени сказывается выразимость личного начала в слове. В имени наиболее прозрачно выступает духовное устроение личности, не скрытое за фактами конкретной биографии. Имя определяет жизненный путь той или иной личности, выступая в качестве ангела-путеводителя, направляющего жизненный поток в определенное русло. Сама личность в жизненном потоке определяет себя в первую очередь в нравственном отношении. Энергия имени намечает границы самоопределения (+, 0, –), однако при этом оно не выступает в качестве магического детерминирующего начала. В самом имени существует целый спектр различных возможностей для их реализации. Однако имена, хотя и имеют схожую духовную структуру, семантически не сливаются с границами других имен, несущих в себе другую духовную информацию.
Идеи свящ. Павла Флоренского несут на себе яркий отпечаток мистических интуиций, их трудно отождествить с традиционными богословскими системами Нового времени, созданными на основе логической рациональности. Сам Флоренский отмечал свою особенную внутреннюю близость древним, даже архаическим эпохам, но наибольшее совпадение со своим мировоззрением находил в эпохе Русского средневековья. Он писал о себе: «Свое собственное мировоззрение Ф[лоренский] считает соответствующим по складу стилю XIV–XV вв. Русского средневековья, но предвидит и желает другие построения, соответствующие более глубокому возврату к средневековью» [6, 39]. Таким образом, можно предположить, что Древняя Русь с ее эстетизмом, эсхатологическим романтизмом, аскетическим и культовым благочестием именно в трудах свящ. Павла Флоренского обрела выражение, когда ее основные идеи и интуиции были изложены философским языком.
Литература
1. Андроник (Трубачев), иером. Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского. Томск, 1998.
2. Булгаков С. Н. Свет Невечерний. М., 1994.
3. Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соч.: В 15 т. М., 2011. Т. 4.
4. Трубецкой С. Н. Trouver que dans L’Eglise // Ермишин О. Т. Русская историко-философская мысль кон. XIX – первая треть XX в. М., 2004.
5. Трубецкой С. Н. Соч. М., 1994.
6. Флоренский П., свящ. [Автореферат] // Собр. соч.: В 4 т. М., 1994. Т. 1.
7. Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2004.
Глава 13. Персоналистическая антропология: Н. А. Бердяев и Б. П. Вышеславцев
Все мыслители персоналистического направления (Н. А. Бердяев, Б. П. Вышеславцев, С. Л. Франк, Н. О. Лосский, В. В. Зеньковский, Л. Шестов и др.), безусловно, отличались индивидуальностью, неповторимостью идей, но их объединяло и нечто общее. Для них общим был опыт личности, глубокий антропологический анализ, подход к философским проблемам с точки зрения человека. Персоналисты предлагали своеобразные методы и подходы, которые по-разному раскрывали проблему личности. Например, В. В. Зеньковский с самого начала был персоналистом, связывающим идею личности с православной культурой и психологией. Персонализм, несмотря на то что развивался оригинальными мыслителями, тем не менее имел общие тенденции, которые можно описать как определенную традицию антропологической мысли. В данном случае наибольший интерес представляют самые значимые для русского персонализма мыслители.
Одним из самых оригинальных русских философов-персоналистов был Николай Александрович Бердяев (1874–1948). Определяя место Бердяева в истории философии, его традиционно относят к экзистенционализму или персонализму. Если принадлежность к первой философской традиции Бердяев в целом отрицал, поскольку его философия сложилась гораздо раньше появления западного экзистенционализма, то со вторым определением он вполне соглашался. В его философской системе понятие личности было ключевым, а термин «экзистенция» был только указанием на отдельный момент в жизни личности. В целом антропологические взгляды Бердяев развивал на основе христианских идей, интерпретированных с точки зрения позиции своей философской системы. Бердяева можно считать олицетворением философской традиции, ориентированной на опыт личного самосознания и самопознания.
Бердяев испытал много различных влияний, из которых он сам признавал Ф. М. Достоевского, А. Шопенгауэра, И. Гете, Т. Карлейля, И. Канта. В более поздний период жизни на Бердяева оказали влияние немецкие мистики, особенно Я. Беме. Однако внешние влияния никогда не были для Бердяева определяющими, так как в основе его творчества всегда было личное миропонимание. Антропология Бердяева сложилась под воздействием двух идей – свободы и творчества, которые были центральными для его мировоззрения. Развитию этих двух идей посвящены известные книги Бердяева «Философия свободы» (1911) и «Смысл творчества» (1916). Вторая книга имеет подзаголовок «Опыт оправдания человека», т. е. главной темой книги является антроподицея. Из антроподицеи, под которой имелось в виду оправдание человека через творчество, вытекают и взгляды Бердяева на отношения между Богом и человеком. По мнению Бердяева, религиозное Откровение исходит от Бога, но получает его человек и своим ответом влияет на раскрытие того послания, которое исходит от Бога.
В кратком очерке «Мое философское миросозерцание» (1937) Бердяев кратко и схематично описал контуры своей антропологии. Основной проблемой философии является человек, который есть микрокосм и микротеос (малый бог), точка пересечения высшего и низшего миров. Как образ и подобие Бога человек является личностью, а понятие личности не тождественно понятию индивид: «Личность есть категория духовно-религиозная, индивид же есть категория натуралистически-биологическая. Индивид есть часть природы и общества. Личность не может быть частью чего-то: она есть единое целое, она соотносительна обществу, природе и Богу» [1, 21].
Человек как плотское существо связан с круговоротом мировой жизни, как духовное – с Богом. Присущая человеку свобода не сотворена, она иррациональна, не зависит от природных или социальных факторов. Свобода человека как нетварная не укоренена в бытии, поэтому и природа зла объяснима не обусловленной ничем свободой. Будучи основной причиной зла, свобода одновременно открывает в мире возможность творчества. По Бердяеву, человек создан, чтобы стать творцом, продолжать творение мира. Творчество ex nihil (из ничто) есть творчество свободы, поэтому человеческая свобода ограничена этим обстоятельством: только Бог может творить ex nihil, для человека этот вид творчества невозможен.
Бердяев утверждал, что цель и смысл жизни человека на земле невозможно свести только к спасению. Мир не перестал обновляться, творческий процесс продолжается, а человек, включенный в этот процесс, призван реализовать свой творческий потенциал. Следствием грехопадения стало появление идеи о различии добра и зла, но райское состояние выше этого различия, оно есть свобода как таковая. Творчество и свобода – вот цель и назначение человека, через них на пути творческой активности человек преодолевает грехопадение.
Темы Богочеловечества, Богочеловека и подобия человека Богу Бердяев считал очень значимыми. Он писал в одной из лучших своих книг «Философия свободного духа» (1927–1928): «Начинать философствовать и богословствовать следовало бы не с Бога и не с человека, ибо оба эти начала оставляют разорванность неопределенной, а с Богочеловека» [2, 129]. Бердяев провозгласил три вида этики: этику закона, искупления и творчества. Если творческий акт есть наивысшее проявление человека, то он имеет нравственно-этическое измерение, поэтому этика творчества и есть подлинно антропологическая, истинная этика. Представление Бердяева о том, что в творчестве человек достигает наивысшего подобия Богу, противостоит святоотеческому представлению об обожении как богочеловеческом идеале и цели христианской жизни. Бердяев размышлял о человеке так, как если бы не было препятствия к богоуподоблению в виде греха, рассматривая природу человека как потенциально безгрешную.
В философии Бердяева есть и другие отличия от классической святоотеческой антропологии. Так, Бердяев писал о грядущем Третьем Завете, что связывает его с Серебряным веком русской культуры и «новым религиозным сознанием» начала ХХ в. По мнению Бердяева, эпохи Ветхого и Нового Заветов миновали, так и не раскрыв истинной антропологии свободы и творчества. Основной мотив Ветхого Завета – чувство падшести и греховности, – умаляет свободу, подавляет личность, а в классической святоотеческой литературе, по мнению Бердяева, слишком много заимствовано из ветхозаветной психологии. Вместо человека в святоотеческой литературе представлены и описаны его грехи и страсти. Даже в идее обожения человека сам человек исчезает, растворяясь в океане божественной благодати. Бердяев ищет нераздельного и неслиянного единения богочеловеческих начал. Относительно Нового Завета Бердяев замечал, что в нем нет ничего о творчестве человека, но это не фатальный недостаток, но мудрое и естественное умолчание: если бы творчество было предписано в Евангелии, то оно лишилось бы свободы и превратилось в послушание. Евангельское умолчание о творчестве есть воззвание к свободе человека.
Бердяев провозгласил грядущую эпоху религиозного творчества, когда личность, творчество и свобода станут играть главную роль, а рабская подавленность перед грехами и страстями окажется преодоленной. Первые два откровения (Ветхого и Нового Заветов) были даны Богом, а третье откровение должно стать делом самого человека. Творчество не допускается и не оправдывается религией, но есть сущность религии. Новое грядущее творчество будет творением из небытия, тогда как старое творчество эпохи двух Заветов порождало культурные артефакты (книги, статуи, картины и т. д.), которые были лишь болезненным и трагичным результатом творческого порыва. Бердяев верил в возможность творчества ex nihil, в котором раскроется сущность Третьего Завета. Для Бердяева доказательством творческой способности человека являлся факт его сотворения: если человек сотворен Творцом по образу и подобию, следовательно, способен творить подобно Богу.
Для доказательства независимости человека от мира Бердяев утверждал идею предсуществования душ, которая для него представляется абсолютной метафизической истиной, доказывающей божественность, недетерминированность человека. Для Бердяева свобода человека есть необъяснимая реальность и тайна. С точки зрения свободы рассматривал он и проблему греха. Грех есть стремление к свободе как свободе, т. е. к «свободе от», а не к «свободе для». Второй вид свободы есть цель, к которой человек призван стремиться и ее достигать, преодолев искушения на пути «свободы от» (от Бога, творчества, добра, бытия и т. д.). Необходимость есть падшая свобода, свобода вражды и распада, в то время как подлинная свобода содержанием имеет творчество и любовь.
В контексте рассуждений Бердяева христианство выступает в роли педагога (путеводителя) к религии свободы. По Бердяеву, аскетизм есть путь, ведущий к совершенству в христианстве, но сам аскетизм выступает как отрицательный идеал, не указывая положительного содержания для жизни человека. В связи с такой концепцией вполне органично выглядит в философии Бердяева глубоко трагичное ощущение исторического процесса, когда история понимается как конфликт судьбы и личности. Бердяев не смирялся с историческим пессимизмом Апокалипсиса апостола Иоанна Богослова. По мнению Бердяева, если история будет иметь конец, то необязательно тот, который описан в Апокалипсисе. Бердяев защищал свою идею «творчески активного эсхатологизма»: человек в силах как приблизить Апокалипсис, так и сделать так, чтобы его пророчество никогда бы не реализовалось. Апокалиптическая драма не фатальное событие, так как будущее зависит от самого человека. Для Бердяева идеалом эсхатологической мысли была «Философия общего дела» Н. Ф. Федорова, мечтавшего о достижении в будущем такой степени нравственного и научного прогресса, что человек сможет воскресить всех умерших. Для Бердяева Федоров не идеал, но ориентир возможного подхода к пониманию истории.
Для Бердяева характерна вера в то, что ад не соотносится с любовью Бога, поэтому возможно только бытие Царства Спасенных. Для Бердяева невыносимо думать о гибели даже одной человеческой души, для него неприемлема трагедия мировой жизни. Для того чтобы утвердить свою антропологию, ему приходится умалить Бога: «Творец возникает вместе с творением, Бог возникает вместе с человеком. Это есть теогонический процесс в божественной Бездонности» [2, 132]. Бог нуждается в творении, в Нем идет становление (теогонический процесс), как и в личности человека. Бердяев с симпатией относился к идеям Я. Беме и каббалы о темной бездне, которая лежит глубже Бога (или даже в Нем Самом) и является источником зла и страданий в мире. Возлагая ответственность за зло на Бога, Бердяев открывает для человека возможность богоподного творчества.
Христианская риторика Бердяева с постоянными упоминаниями на страницах его книг о Христе, Адаме, грехопадении и Богочеловечестве тем не менее не приближают его философию к христианскому вероучению, так как все христианские понятия переосмыслены с точки зрения оригинальных философских идей. Человек в философии Бердяева предстает существом несколько надуманным, похожим на сверхчеловека Ницше, т. е. выступает в качестве идеала и мало соотносится с реальным человеком, его положением в мире. Бердяев выстраивал антропологию, предписывающую, каким должно быть человеку, но слабо и поверхностно описывающую его реальное, фактическое положение. Требования Бердяева к человеку невероятно велики – фактически человек должен взять на себя функции Бога. Титанизм в антропологии Бердяева смягчается и гуманизируется чувством трагического в истории и самом человеке. Бердяев видел торжество зла в мире, но мужественно противопоставлял ему идеи свободы и творчества. Таким образом, формально антропология Бердяева во многом соотносится с идеями, высказанными в свое время гностиками, каббалистами и Оригеном. Фактически же его антропология – это красивая и возвышенная мечта о грядущем человеке, основанная на вере в его творческие способности и обожествленную свободу.
Вместе с тем Бердяев не провозглашал отрыв человека от Бога, так как без Бога человек не существует. Бог сильно необходим человеку, как и человек Богу: «Бог есть живая личность. Человек есть живая личность. Отношения между Богом и человеком в высшей степени живые и интимные отношения, конкретная драма любви и свободы» [2, 133]. Характеризуя антропологию Бердяева, нужно еще раз подчеркнуть, что она есть теория должного бытия, а не фактического существования, возвышающая человека и утверждающая его божественные возможности.
Одним из ближайших сподвижников Бердяева, его соредактором по журналу «Путь» (1925–1940) был философ Борис Петрович Вышеславцев(1877–1954). Как мыслитель он сформировался в московской философской школе права П. И. Новгородцева, в которой ведущее место занимал анализ немецкого идеализма. Под руководством Новгородцева Вышеславцев написал и защитил магистерскую диссертацию «Этика Фихте» (1914). Он был по своей натуре творческой личностью и эстетом в области мысли. Высланный из Советской России в 1922 г., Вышеславцев стал единомышленником и сторонником Н. А. Бердяева, начал активно заниматься религиозной тематикой. Он написал множество статей, но самым обобщающим его сочинением в эмиграции стала книга «Этика преображенного Эроса (проблемы закона и благодати)» (1931).
В книге «Этика преображенного Эроса» Вышеславцев рассмотрел психоанализ, но не в узкодогматических рамках школы З. Фрейда, но как антропологический феномен, имеющий отношение к религиозности человека. По его мнению, проблему психоанализа в истории христианской мысли впервые заявил апостол Павел в своих апостольских посланиях. Вышеславцев пытался показать, что процесс сублимации (от лат. sublimare – возносить; у Фрейда – преобразование вытесненного полового инстинкта в духовную деятельность) можно понимать как путь к преображению личности. Если апостол Павел обосновывал переход от закона к благодати, то Вышеславцев предлагал разработку этой идеи как этики преображенного Эроса.
Для Вышеславцева было важно, что антропология апостола Павла предполагает в человеке наличие внутреннего закона противоборства, который выражается в сопротивлении плоти закону Божию: «…это сопротивление всей подсознательной сферы инстинктов и влечений, связанных с чувственно-телесным миром (“плотские помышления”), которые не подчиняются сознательной воле и закону ума» [3, 42]. Как доказывает Вышеславцев, подсознание закрыто для ума, но нужно уметь в него проникать, для чего подходит и психоанализ. В изобретении психоаналитических методов Вышеславцев признавал заслугу Фрейда, но не принимал интерпретацию Эроса, ограниченную узкими рамками либидо. Вышеславцеву близко понимание Эроса у Фихте (Эрос есть аффект бытия) или Платона (жажда полноты, устремленность к вечности). По мнению Вышеславцева, Эрос есть «жажда воплощения, преображения и воскресения, бого-человеческая жажда, жажда рождения Богочеловека» [3, 46]. Таким образом, вся сфера духовной жизни человека есть сублимация, т. е. направленность на высшие ценности.
В преображении человека, которое есть восстановление образа и подобия Божия, важную роль играет воображение, которое есть сила, схватывающая это представление. Человек не мог бы вообразить никакого образа Божия, если бы не было боговоплощения, поэтому главной силой преображения является образ Христа. В зависимости от предмета, на который устремлено воображение, оно может быть добрым или злым. Вышеславцев выстраивал концепцию воображения, которая у него играет роль ведущей религиозной силы. Воображение может проникать в подсознание, так как оно органически связано с Эросом. Подсознательное есть источник, из которого проистекает фантазия и возвращается туда же.
Существует дурное воображение, которое не сублимирует, но профанирует: это эрос злой радости. Оно есть наслаждение низким, является творческой энергией, направленной на разрушение. Однако над силами воображения есть свобода человека, которая является главным арбитром в противоборстве сил творчества и разрушения. Извращенный эрос – это стремление к негативным ценностям и отвращение к позитивным ценностям. Благой Эрос в потенции всегда обращен к Христу, в Котором заключена полнота жизни.
Вышеславцев предложил классификацию видов воображения: 1) научно-техническим и изобретающим, 2) социально-политическим, 3) эстетическим, этическим и религиозным. Сложилось три отношения к воображению: 1) воображение как метафизическая, космическая и магическая сила (так относились к нему в Древней Индии: мир есть сон, иллюзия, Майа, разворачивающая образы вещей, а потом возвращающаяся в свое единство; воображение – источник страдания (в буддизме), но оно же созидает миры и самих богов); 2) воображение есть низший род познания, источник заблуждений (рационализм и позитивизм XVIII–XIX вв. – Спиноза, Мальбранш, Декарт); 3) воображение есть творческая сила духа, без которой не существует культура – именно так воображение понимал сам Вышеславцев.
По мнению Вышеславцева, восточная христианская аскетика борется не вообще с помыслами, а с дурными помыслами. Вышеславцев интерпретировал аскетические тексты так, что, согласно их требованиям, необходимо опустошить сознание, чтобы запечатлеть в нем образ Христа. Существует неложное воображение, в то время как прельщение в аскетическом подвиге есть неудача сублимации, введение в сознание образов, которые не возвышают, а профанируют. Последовательная борьба с воображением, по Вышеславцеву, есть иконоборчество. Своеобразная интерпретация Вышеславцевым аскетического подвига не соотносится с утверждением святых отцов о необходимости борьбы с любым видом воображения ради достижения тишины безмолвия.
В трактовке Вышеславцева человек иерархичен и состоит из трех ступеней бытия, по апостолу Павлу: тела, души и духа. При внимательном изучении у Вышеславцева три ступени бытия делятся еще на семь частей. Тело включает: 1) физико-химическую энергию, 2) органические процессы. Душа имеет в составе: 1) коллективное бессознательное как основу индивидуальной души, 2) лично-бессознательное. Дух имеет три ступени жизни: 1) сознание, эгоцентрический центр, которым руководят расчет и личные интересы; 2) духовная личность как строитель культуры (эта часть у святых отцов носит название «словесной», в отличие от «бессловесной», самостно-эгоистической); 3) глубочайшая сущность человека, его центр, самость, человек в себе (этот уровень метапсихичен и метафизичен, он есть сознательное, мыслящее «я»).
Для обозначения центра личности Вышеславцев использовал термин «самость», который нельзя признать вполне удачным с богословской точки зрения, так как у святых отцов это слово имеет негативный смысл со значением «эгоизм», «самолюбие». Однако у Вышеславцева это слово вполне нейтрально, оно подразумевает основание бытия человека, которое познаётся лишь через самопознание, в то время как в практической жизни, в познании мира и даже в творчестве самость может оставаться совершенно незамеченной.
Открытие иррациональной и сверхсознательной самости есть особенность антропологии Вышеславцева. Самость – это понятие, с помощью которого Вышеславцев пытался выразить невыразимое богоподобие личности, понять ее сверхсознательную ценность, поскольку сознательное «я» почти всегда имеет дело с видимым миром объектов, в то время как подлинная сущность человека имеет отношение к вечности и Абсолюту.
Размышляя о самости с точки зрения библейской и святоотеческой терминологии, Вышеславцев пришел к понятию «сердца», центра познавательных, волевых, эмоциональных сил и способностей человека. Самость как философская категория есть сверхсознательное, сверх-«я»; как религиозная категория – «сокровенный сердца человек» (1 Петр 3. 4). Понять, что такое самость, означает, по Вышеславцеву, познать свое богоподобие. Вышеславцев противопоставлял понятия самости в индийской мистике (Атман есть Брахман) и личности в христианстве, показывая, как индийское сведение сущности человека к неразличимому тождеству с Богом приводит к атеизму или апориям нравственной сферы (невозможность любить другого, если он есть иллюзия, эпифеномен Абсолютного). Он показывал высокое превосходство христианского понимания нетождественности и различия Бога и человека и вместе с тем нераздельности и неслиянности (антиномичности) их взаимоотношения как условие свободы, творчества, любви.
Образ Божий в человеке при ближайшем рассмотрении теряет определенность, разрастаясь до бесконечности – он есть и дух, и свобода, и творчество, и вечность, и любовь. Беспредельность, охватываемая определением «создан по образу и подобию Божию», является залогом его истинности, несводимости к однозначным определениям, так как центр человека, его «сердце», или самость, богоподобно, непознаваемо до конца: «Существует негативная теология, указывающая на последнюю тайну Божества; должна существовать и негативная антропология, указывающая на тайну самого человека» [3, 290].
Антропология Вышеславцева – это попытка создания «негативного», апофатического учения о человеке, в котором раскрывалась бы его непознаваемость и таинственная сущность. Вышеславцев обращался к психоанализу, переосмысливая его в свете христианских категорий, помещая в контекст своей религиозной антропологии. Антропологию Вышеславцев строил как апофатическое учение для утверждения главной своей интуиции: человек есть богоподобное, непознаваемое и таинственное существо.
Литература
1. Бердяев Н. А. О русской философии. Свердловск, 1991. Ч. 1.
2. Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М., 1994.
3. Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994.
Глава 14. Персоналистическая антропология: С. Л. Франк и Н. О. Лосский
Семен Людвигович Франк (1877–1950), один из выдающихся отечественных мыслителей, первым проложил путь от философии всеединства, основным источником которой были идеи В. С. Соловьева, к обоснованию персоналистической метафизики. Проблема человека и понятие личности были одним из истоков его философского творчества. Так, еще в 1908 г. Франк опубликовал статью «Личность и вещь», в которой писал: «Личность не может мыслиться иначе, как в виде единства множественного» [5, 173]. В дальнейшем он все больше отходил от проблематики философии всеединства и выдвинул в центр своих построений личность. Для раннего периода творчества С. Л. Франка характерна разработка преимущественно философской антропологии, что нашло отражение в наиболее законченном виде в книге «Душа человека» (1917).
В дальнейшем Франк перешел от проблем философской антропологии к разработке системы религиозной антропологии. Его взгляды позднего периода систематически изложены в последней, опубликованной посмертно книге «Реальность и человек» (1956). Франк создал стройную религиозно-философскую концепцию, в которой раскрыты понятия свободы, благодати, греха, творчества, душевной жизни. Книгу «Реальность и человек» можно считать органичным сплавом предыдущей философской антропологической концепции и личного жизненного, духовного опыта. Франк утверждал, что старые богословские концепции о человеке несостоятельны перед судом современной философской мысли, учитывающей всю сложность пройденного человечеством пути и усложнившуюся структуру душевной жизни.
Для анализа новых антропологических идей Франк прибегал к свидетельству христианского богословия, которое у него ограничивалось в основном западными и католическими отцами Церкви, такими, как блаженный Аврелий Августин и Фома Аквинский. Если он и был знаком с восточной патристикой, то, видимо, не считал нужным защищать или опровергать ее положения, поскольку у восточных отцов Церкви отсутствует рациональное, систематическое изложение мысли, которое могло бы привлечь внимание Франка. Источники мистического откровения о Боге и человеке Франк находил в западной мистике, в сочинениях Якоба Бёме, Франциска Сальского, Бернарда Клервосского, Ангелуса Силезиуса. Метод идеального богопознания он видел в трудах Николая Кузанского. Таким образом, антропологическая система Франка относится скорее к западному типу, что вполне объяснимо условиями жизни Франка, который ко времени начала работы над книгой уже долгие годы прожил на Западе. Тем не менее его выводы вполне приложимы и к восточной христианской антропологии, опирающейся на православную патристику.
Согласно Франку, человек разделен не просто на душу и тело, но гораздо важнее разделение душевных уровней внутри самой разумно-духовной субстанции. Душа человека имеет два уровня. Первый уровень непосредственно соприкасается с объективной реальностью и составляет, так сказать, поверхностный слой души. Он укоренен во внутреннем пространстве, сокровенном и глубинном слое, крайняя точка которого таинственно соприкасается с Богом.
Бог есть основа, корень всякой души. По утверждению Франка, с Богом «я встречаюсь только в уединенных, отрешенных от внешнего мира, внутренних глубинах моего “я” – в том последнем, по существу одиноком слое моего “я”» [4, 207]. С Богом человек встречается в том предельном одиночестве, в котором он встретится со смертью. Бог отличается от человека тем, что Он самообоснован, Сам полагает свою свободу, в то время как человек обретает свою личность и свободу только в соприкосновении с Богом. Рассматривая взаимоотношения Бога и человека, Франк предлагал блестящее решение сложного богословского вопроса о соотнесении воли человека и Божественной благодати. Имманентное присутствие Бога есть условие «момента, конституирующего собственное, глубочайшее, наиболее подлинное существо человеческой личности» [4, 225]. Из этого положения следует, что действие Бога в человеке не уничтожает и не ограничивает его свободу, но впервые порождает ее, поскольку именно в синергии воль она находит впервые свое выражение.
В отношении к Богу глубинный слой души имеет два уровня. Человек как существо автономное отличен от своих глубин, через которые он связан с Богом. По утверждению Франка, первое глубинное «я» способно уходить и прятаться от второго, поскольку есть различие между тем, что человек называет «моя душа», и «я» как чистым субъектом. Франк писал: «То, что я сознаю как мое “я”, есть по существу не что иное, как производное отражение, проецированный во мне образ моей глубины – как бы луч, бросаемый в сферу природного, “объективного” бытия глубинной богочеловеческой реальностью “моей души”» [4, 260–261]. Личность есть проекция глубинной богочеловеческой души, того сокровенного слоя, в котором осуществляется встреча с Богом. Божественная сила, проходя сквозь глубины личности, совпадает со свободой человека и конституирует его как личность.
В связи с этими утверждениями нужно отметить терминологические несовпадения, в первую очередь со святоотеческой антропологией. В Боге, согласно исихастскому умозрению, различимы Сущность и нетварные Энергии. Человеческая душа связана с Богом через божественные энергии, а не сущностно. Не вводя этого важного для восточного христианства различия, легко впасть в крайности мистицизма, утверждая, например, вместе с Мейстером Экхартом, что душа в себе имеет божественную искру, сама божественна по существу. Такая идея появляется у Франка, задающегося вопросом о том, можно ли считать душу всецело тварной, раз в ее глубинах проявляется Бог Своим присутствием. Ценным моментом учения Франка является наглядная демонстрация того, что свобода и благодать не противостоят друг другу, способны к общению в синергии.
Франк понимал свою позицию как примиряющую и гармоничную, находящуюся между двумя крайностями, символизируемыми для него фигурами блаженного Аврелия Августина (второго, антипелагианского периода) и Пелагия. Из второго, односторонне понятого учения Августина с утверждением о потере свободы воли и способности к добру вырастает рабское мировоззрение, в котором человек провозглашается немощной тварью перед лицом деспотического, всемогущего Бога. Из учения Пелагия, утверждавшего способность человека самостоятельно творить добро и осуществить свое спасение, вырастает богоборческий гуманизм, возвеличивающий автономного человека. И первое, и второе учения парадоксальным образом совпадают в том, что отрывают человека от Бога, противопоставляя их как несоизмеримые сущности. Идеал Франка – Богочеловечество, т. е. внутреннее единство Бога и человека. По убеждению Франка, в этом состоит сущность христианства. Христос есть не просто непостижимое, недоступное, уникальное Существо, но живой образ Богочеловечества. В душу каждого человека может вселиться Святой Дух и породить новое богоподобное существо. По убеждению Франка, это вовсе не значит обожествлять человека, поскольку он всегда должен чувствовать границу в отношениях с Богом, которую проводит падшесть и греховность человека.
По Франку, из всех религиозных категорий греховность есть нечто, что невозможно отрицать даже неверующему человеку. Грех всецело проникает в существо человека и вместе с тем «необъясним в категориях действительности, принадлежа совсем к иному измерению бытия» [4, 294]. Грех есть обнаружение того «поверхностного» слоя души, соприкасающегося с реальностью. Для того чтобы разобраться с сущностью греховности и ее причинами, Франк ввел важное различие: свобода воли и свобода выбора. Смешение этих двух категорий, характерное, по убеждению Франка, для традиционного богословия, порождает путаницу в этом важнейшем вопросе, искажая учение о грехопадении. Человек не хочет греха, но влечется к нему. Грех человеком «овладевает», человек в него «впадает». Таким образом, грех есть выражение не свободы, но плененности воли. Свобода самоопределения, бытия личности как «я» всегда есть свобода самопреодоления. Теряя себя как личность, человек выпадает из подлинной свободы и впадает в состояние свободы выбора, при котором свобода воли порабощена. Подлинная Божественная свобода есть абсолютный творческий динамизм, состояние, прямо противоположное греху. Утрачивая связь с Богом, человеческое «я» оказывается чистой потенцией, бесформенностью; оно уподобляется пылинке, носимой ветром, в нем самом образуется пустота бессодержательности. Такое состояние дает иллюзию мнимой свободы, сущность которой состоит в безосновной спонтанности. Истинная свобода есть самоосуществление, самоопределение личности как «я», рожденной через встречу с Богом.
Таким образом, Франк выдвинул две формулы самоопределения: 1) волевой процесс «мне хочется» (что-то хочет во мне) – формула греха и рабства; 2) «я сам хочу» – формула свободы. Состояние свободы выбора состоит в том, что нечто хочет в человеке так сильно, что «я» не в состоянии подавить желание, теряет под напором хотения самое себя. Аскетизм и самоограничение являются нормой бытия человека. Личность в этой интерпретации является глубочайшей центральной точкой человеческого бытия, через которую она связана с Богом. Теряя связь с Богом, «я» размывается под напором природного динамизма, который прорывает преграды, отделяющие человека от реальности, и охватывает внутреннее бытие личности.
Вместе с тем грех, связанный с динамизмом природного бытия, не есть просто «лишенность добра», как учит нормативное богословие (в частности, блаженный Августин), но огромная сила, неучтение которой есть признак греха. По утверждению Франка, «грех и зло имеют некую внутреннюю, духовную сущность, не поддающуюся вообще внешнему воздействию» [4, 329]. Исходя из этого положения, никакая человеческая организация – ни монашество, ни секта «истинно духовных христиан» – не может быть спасающей и непогрешимой. От духовной катастрофы может спасти только Бог, действуя во внутренних глубинах души.
Человек как творческое существо и его безмерность через связь с космосом – важнейшие антропологические темы Франка. Традиционное богословие, по убеждению Франка, утверждает, что слово «творец» приложимо только к Богу. Согласно Франку, величие Бога проявляется в том, что Он творец творцов. Творческое начало в человеке предстает как одна из главных (если не основная) его характеристик. Искусство есть выражение себя, воплощение духовной внутренней идеи вовне и облечение ее в плоть образов, понятий и т. д. Вся жизнь человека есть творческое воплощение его внутренней идеи, истоки которой в невыразимой глубине бытия, через которую он связан с Богом. Внутреннее вдохновение, идущее от Бога, подвигает человека к воплощению идеи. В способности к творчеству наиболее ярко проявляется образ и подобие Божие, поскольку человек как таковой есть творец.
Взаимодействие человека с реальностью носит двойственный характер. С одной стороны, человек есть пленник реальности. Трагедия человека состоит в сопряжении его с равнодушным природным и детерминированным миром. С другой стороны, реальность, имеющая связь с Богом, наделена мощной жизненной силой, богатством идейного содержания: «…степень глубины человеческой личности совпадает с степенью ее широты и солидарности с окружающим ее бытием» [4, 373]. Человеческий дух уподобляется конусу, основание которого уходит в бесконечность мировых пространств. Вселенская отзывчивость есть особое преимущество гениев и святых, преодолевших грех и возвысившихся над эмпирической действительностью.
Антропология С. Л. Франка достаточно антиномична, в чем сам автор усматривал залог ее правильности, так как он пытался преодолеть односторонности как схоластики, так и безрелигиозного гуманизма. Антропологическую концепцию Франка можно считать психологической и мистической потому, что она построена на методе внутренней интуиции человеческого сознания и его связи с Богом. В концепции Франка человек и весь мировой процесс предстает в трагическом свете, что, конечно, отличается от простого пессимизма, лишенного христианской надежды. Все названные особенности придают религиозной антропологии Франка основательность и внутреннюю убедительность.
Николай Онуфриевич Лосский (1870–1965) в истории русской философии известен прежде всего как интуитивист, автор книги «Обоснование интуитивизма». Вместе с тем Лосский для своей метафизической системы использовал определение «иерархический персонализм», что означало в первую очередь, что он рассматривал личность в контексте мирового целого, в ее отношениях с миром и другими людьми. Впервые идеи иерархического персонализма Лосский развил в книге «Мир как органическое целое» (1917). Ко времени написания этой книги Лосский все более приближался к Церкви и становился религиозным мыслителем, о чем он сам написал в воспоминаниях[46]. Одним из сильных импульсов возвращения к христианской вере стало прочтение книги свящ. Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины». В целом персонализм Лосского сложился под влиянием философии Лейбница и неолейбницианства.
Лосский исходил из идеи целостности и органичности мира, в котором человек занимает место в качестве «субстанциального деятеля». Личность человека обладает единством, неизменной сущностью и деятельным началом. Мир, по мнению Лосского, есть множественность субстанций, между которыми существует индивидуализирующая противоположность. Лосский не был согласен с Лейбницем, утверждавшим, что монады не имеют окон, не могут познавать друг друга. По мнению Лосского, субстанции способны вступать во взаимодействие, стремиться к единству и образовывать разные метафизические структуры. Все системы в понимании Лосского подчинены мировому верховному началу и благодаря этому образуют единую надсистему. Абсолютное, или Верховный субстанциальный деятель (он же и Творец всех субстанций), есть главное условие единства мира, состоящего из множества субстанций.
В дальнейшем Лосский обратился к разработке отдельных проблем, возникших при создании системы иерархического персонализма. Так, проблеме свободы он посвятил книгу «Свобода воли» (1927), проблеме этики – книгу «Условия абсолютного добра» (1949). Важнейшей работой Лосского можно считать книгу «Достоевский и его христианское миропонимание» (1953). В целом Лосский проделал философскую эволюцию, которая состояла в том, что интуитивизм и персонализм сближались с христианским мировоззрением.
В системе Лосского Бог сотворил мир, в котором присутствуют только такие структуры, как личности. Эти метафизические структуры имеют иерархический ряд последовательных воплощений, начиная с уровня протонов и электронов и кончая жизнью человеческой личности, способной к высшему переживанию любви. В процессе непрестанной, морально-органической эволюции совершается всемирный катарсис. С этим связан оптимизм Лосского в отношении проблемы зла: все субстанциальные деятели способны постепенно развиться до уровня морально-возвышенной личности и войти в Царство Божие. Сущность зла Лосский усматривал в обращенности субстанционального деятеля на себя: всякий член Царства духа, утвердивший свою самость, вырывает себя из сложной и многообразной жизни других деятелей. О царстве вражды Лосский писал: «Такая жизнь сравнительно бедна содержанием; она не соответствует задаче, поставленной отпадшим членом Царства Духа, и потому ни одно проявление ее не дает ему полного удовлетворения, каждое из них, едва возникнув, отменяется, отмирает и замещается новым проявлением. Отсюда получается ряд изменений не чисто положительных, как в Царстве Духа, а положительно-отрицательных, образующих такой временной процесс, в котором есть отпадение пережитых содержаний в бездну прошлого, т. е. смерть» [1, 413].
Таким образом, обращенность на себя, эгоизм есть первопричина смерти, поскольку все субстанциональные деятели единосущны друг другу и вплетены в сложный узор единой мировой ткани бытия. Выпадая из нее, деятель разрывает эту ткань и ставит себя в смертельно опасное положение. Цель отпавшего деятеля состоит в том, чтобы вернуться в общее, мировое гармоническое целое, когда жизнь каждого станет содержанием его жизни, т. е. бытие отдельного деятеля станет безгранично богато разными содержаниями бытия других. Мир земной есть душевно-материальное царство вражды, в котором деятели, воспользовавшись своей свободой, обособились в эгоизме. Падший мир путем страданий постепенно эволюционирует в Царство любви, что и нужно считать смыслом, содержанием и целью каждой личности и мира в целом. Цель бытия мира состоит в обретении абсолютной полноты жизни через любовь. Отпадение деятеля есть результат ложно понятой задачи в поиске абсолютной полноты жизни только для себя.
Лосский утверждал: «Каждый субстанциальный деятель в этом мире есть отпадший член Царства Духа» [1, 421]. До отпадения субстанциальный деятель был первозданной сущностью, продуктом божественного творчества. По мнению Лосского, «первозданное ядро личности есть сверхкачественное “я” как носитель сверхкачественной силы» [3, 565]. Первозданное «я» сотворено свободным, но, делая неправильный эгоистический выбор, оно обретает эмпирический характер и имеет слабую связь со свободой. Эмпирический характер подчинен условиям материального бытия, привычкам, склонностям и т. д. Несвобода «я» есть искаженная реальность, т. е. созданная не Богом, а самим деятелем. Лосский отмечал: «Задавать вопрос, почему же Бог не сотворил таким (наилучшим. – К. Е.) мир свободных деятелей, – это значит несерьезно относиться к идее свободы и воображать, будто можно создать существа свободными и вместе с тем определить для них одну-единственную линию поведения» [3, 569].
Сам Лосский с глубочайшей серьезностью относился к проблеме свободы. Он утверждал, что Бог создал мир таким, что поставил свободу как некую грань, «благодаря которой, с одной стороны, каждая тварь оказывается отпущенной Богом на свободу, а с другой стороны, и Бог свободен от твари и от участия в ее злых деяниях» [3, 574]. Парадоксальным образом Лосский доказывал, что человек свободен «от внешнего мира, от своего тела, от всех законов, кроме определенной группы их, не предопределяющей конкретных содержаний хотения; он свободен от отдельных мотивов, от своего эмпирического характера, от своего прошлого, и, наконец, он свободен даже от своего Творца, Господа Бога» [3, 576]. Все это возможно потому, что человек не исчерпывается своим эмпирическим характером, но есть субстанция, конкретно-идеальное начало, принадлежащее к более высокому и свободному Царству бытия. Сверхкачественное ядро личности может усваивать черты эмпирического характера, но может и отвергать их, как это наблюдается в акте покаяния, в результате которого возможно подлинно глубокое перерождение личности.
Субстанция личности принадлежит к области металогического, не подчиненного законам нашего мира бытия, к которому относится и Абсолют, Творец бытия. «Я» человека есть единственное незаменимое, неповторимое звено мира, имеющее значение для всего мира, «я» как образ Божий. Оно является сверхвременным существом, что обусловливает возможность для человека свободы от прошлого. Доказывая, что «я» есть существо сверхпространственное, Лосский доказывал свободу человека как отражение абсолютной свободы Бога. Каким образом такое свободное существо может быть спасено воплощенным Богом? Когда Лосский пытался построить логически непротиворечивую модель мирового целого, Христу не находилось в этой системе достойного, онтологически значимого места. Каждая личность, сотворенная Богом, должна достичь наивысшего совершенства. Однако онтологическая связь с Христом, необходимость которой утверждает восточная святоотеческая традиция, полноценно не раскрыта в философии Лосского. Для Лосского важнее момент психологической связи с Христом (идеал, моральный образец), что сближает его идеи с католическими и отчасти протестантскими взглядами.
Учение Лосского имеет отличия от русской религиозной философии, в которой, как правило, исследовалась онтологическая связь Бога и человека. Для Лосского главной философской проблемой стал вопрос о свободном, сверхпространственном и сверхвременном субстанциальном деятеле. Систему Лосского можно назвать идеальной моделью мира, подобно тому как в физике существуют идеальные модели, искусственно сконструированные для сложных математических расчетов.
К более позднему периоду творчества Лосского относятся его работы, в которых он продолжал изучать проблему субстанциального деятеля. Например, в статье «О воскресении во плоти» (1931) Лосский писал, что человеческое «я» «не может быть названо ни словом душа, ни словом материя: я есть существо мета-психофизическое» [2, 64]. Субстанциональные деятели, из которых состоит мир, обладают качеством самостоятельности, и одновременно они частично единосущны. В результате падения мира в обособленность начинается процесс его спасения, а именно эволюция, в ходе которой достигается конкретное единосущие. Так возникают атомы, организмы, сообщества, вплоть до формирования человека как целостной духовной и материальной личности. После падения, низведения деятеля на уровень электрона начинается процесс его духовной эволюции. Однако возможна и обратная эволюция, т. е. возрастание во зле, так как сама эволюция есть ряд свободных актов, не предопределенных одним движением.
Рассматривая вопрос грехопадения, Лосский подчеркивал, что главным мотивом эгоистического обособления является стремление к относительным ценностям, не согласным с интересами других деятелей, а не вражда против Бога. В классическом святоотеческом толковании грехопадение связывается с противлением Богу и Его заповедям, но Лосский считал это вторичным. В системе Лосского рассматриваются взаимоотношения субстанциальных деятелей, как если бы Бог стоял в стороне, наблюдая за процессом отпадения в эгоизм бесстрастно, если не сказать – безучастно.
Тело человека, согласно Лосскому, есть результат грехопадения, поскольку оно создается в результате процессов вражды и отталкивания, обособления от других деятелей. В результате эгоистического отталкивания субстанциальный деятель выпадает из Царства Духа и попадает в царство вражды, земной материи. Члены Царства Божиего не вступают в противоборство, не имеют материального тела. Их преображенные тела имеют световые, тепловые и звуковые проявления, пространственно не исключают и не противоречат друг другу. В теле человека различимы две сферы: 1) центральное тело, которое состоит из актов главного деятеля («я» человека); 2) периферическое тело, состоящее из актов, осуществленных как деятелем, так и входящими в него низшими деятелями. В момент смерти периферическое тело погибает, но центральное тело сохраняется, так как имеет идеальное содержание. Центральное тело способно образовывать вокруг себя новое периферическое тело. Такая идея могла бы лежать в основе религиозной мистической системы, по духу близкой скорее к антропологическому архетипу восточных культур, поскольку ее соотношение с христианством проблематично.
Царство материи несовершенно, в нем не реализуется полноценно идеальное содержание, недостижима полнота бытия. В царстве материи царствует смерть, которая присутствует в виде 1) забвения – отпадения переживаний в прошлое, 2) разрыва главного деятеля с подчиненными ему низшими деятелями (разрыв центрального и периферического тел). Значение смерти состоит в том, что отрыв деятеля от материального тела открывает перспективы «построения тела более высокого, под руководством опыта, приобретенного им в предыдущей жизни» [2, 69]. Центральное тело как совокупность стремлений и опыта личности остается нетронутым смертью, так как оно есть проявление самого деятеля.
Лосский утверждал: «Полное освобождение от телесной смерти возможно для деятеля, проникнутого совершенной любовью к Богу и всем творениям Его» [2, 71]. Непреображенное, земное тело, по убеждению Лосского, неизбежно связано со злом, с борьбой за существование, направленной против других деятелей и природы, поэтому воскрешение этого тела в его эмпирическом виде не представляется возможным. Лосский развивал идею о вселенском теле всех воскресших и преображенных членов Царства духа: «Вселенское тело члена Царства Божия заключает в себе всех субстанциальных деятелей всего мира» [2, 80]. Однако такое положение не означает слияние всех в неразличимое тождество. Вселенское тело есть высшее выражение любви и единения, поэтому оно не будет препятствовать индивидуации. Первозданные частицы мира (индивидуальные личности) абсолютно ценны и предназначены к Вечной Жизни. Мнение о неизбежности адских мучений и утверждение о всеобщем спасении для Лосского представляются двумя крайностями. Лосский был убежден, что православным христианам, получившим заповедь о любви, более естественно верить и надеяться на возможность свободного обращения к Богу всех сотворенных существ. Вера, учитывающая незыблемую ценность свободы и возможность нравственной эволюции, придавала мировоззрению Лосского сильный оптимистический импульс доверия Богу. Лосский считал, что даже крайние проявления зла в мире являются не конечным продуктом личностей, а лишь этапом на пути становления и возвращения в Царство Божие.
Антропологию Лосского можно охарактеризовать как идеальную модель мира, основанную на идее человека как субстанциального деятеля. В системе Лосского провозглашалась актуальная свобода человека, на чем строилась концепция всемирной эволюции и самоспасения субстанций. Вместе с тем, человек не рассматривался как цельное душевно-духовное существо, его сущность всецело «не от мира сего» и обладает качествами, не присущими материальному миру (сверхвременность и сверхпространственность). По мысли Лосского, тело есть результат грехопадения, не выражающее содержания личности, но скорее скрывающее его потенциальную духовность и свободу. Такие представления можно считать яркими, оригинальными и идейно содержательными, но по духу и основным направлениям мысли они ближе не христианству, а восточным антропологическим учениям.
Литература
1. Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Избр. М., 1991.
2. Лосский Н. О. О воскресении во плоти // Путь. 1931) № 26.
3. Лосский Н. О. Свобода воли // Избр. М., 1991.
4. Франк С. Л. Реальность и человек. СПб., 1997.
5. Франк С. Л. Философия и жизнь. СПб., 1910.
Глава 15. Антропология и персонология евразийства: Н. С. Трубецкой и Л. П. Карсавин
Евразийское движение возникло в 1921 г. и объединило талантливых молодых людей, оказавшихся в эмиграции, на основе общего мировоззрения. Основоположниками евразийства были Николай Сергеевич Трубецкой (1890–1938), Петр Николаевич Савицкий (1895–1968), Петр Петрович Сувчинский (1892–1985), Георгий Васильевич Флоровский (1893–1979). Н. С. Трубецкого можно считать главным основоположником евразийского движения, одной из самых ярких и интересных личностей русской эмиграции 1920-х гг. Он первым высказал те идеи, которые стали основой евразийства, в своей книге «Европа и человечество» (1920). Позднее к евразийству присоединилось довольно много известных деятелей русского зарубежья: философы Л. П. Карсавин, В. Э. Сеземан, В. Н. Ильин, историки Г. В. Вернадский, В. П. Никитин, Я. А. Бромберг, П. М. Бицилли, М. В. Шахматов, С. Г. Пушкарев, экономист и правовед Н. Н. Алексеев, юрист Я. Д. Садовский, литератор Д. П. Святополк-Мирский и др. В сферу влияния евразийцев попали многие представители Православной Церкви, историки, экономисты, литераторы, публицисты, представители широких кругов русской интеллигенции. Одним из последователей евразийства (уже в СССР) был историк и этнограф Л. Н. Гумилев.
История евразийства до сих пор еще недостаточно изучена[47], т. к. евразийское движение имело большое число участников, некоторые из которых на протяжении всего времени его существования[48] по разным причинам уходили из евразийства и даже выступали с его критикой (Г. В. Флоровский, П. М. Бицилли, М. В. Шахматов). Следует отметить, что до сих пор евразийское направление мысли является идейно значимым и востребованным, поэтому актуальным является вопрос об антропологических взглядах евразийцев, послуживших основой для общей евразийской идейной платформы. В евразийстве было две наиболее законченные, последовательные и философски значимые антропологические концепции, одна из которых принадлежит Н. С. Трубецкому, вторая – Л. П. Карсавину. Концепция Трубецкого определяется идеей персоналистической соборности. Персонализм Л. П. Карсавина носит богословский характер и ориентирован на идею соборного мышления. Антропология евразийства парадоксальна, т. к. ее философской основой является христианский персонализм, но вместе с тем евразийцы утверждают ценность не отдельного индивида, а соборной личности, в чем следуют традиции русской философии всеединства. В этом они существенно отличаются от русских персоналистов (Н. А. Бердяева, Б. П. Вышеславцева, С. Л. Франка, Н. О. Лосского), развивавших идею отдельной личности, ее индивидуального и неповторимого пути к Богу. Оригинальность евразийцев состояла в том, что, оставаясь в русле философии всеединства, они выходят к обоснованию персонализма.
В первой книге Н. С. Трубецкого «Европа и человечество» исследуется проблема национализма. Трубецкой утверждал, что в Европе есть два типа отношений к национальному вопросу. Первый высказывают европейцы-шовинисты, сторонники своей нации или европейской культуры в целом, второй – космополиты, отрицающие выступающих за единую культуру всего человечества. Представители обоих типов признают, что высшей расой выступают европейцы, а Западная Европа является источником самой передовой культуры. По мнению шовинистов и космополитов, западная культура должна распространиться и охватить все человечество.
По утверждению Трубецкого, европейская культура является не общечеловеческой, но отдельной культурой романо-германской расы. Основной признак европейского типа цивилизации – эгоцентризм, признание Европы центром и высшим достижением человечества. Несомненно, что крайние проявления эгоцентризма редки и вызывают отпор и насмешки: «Человек, уверенный в том, что он всех умнее, всех лучше и что все у него хорошо, подвергается насмешкам окружающих, а если он при этом агрессивен, получает и заслуженные щелчки» [3, 61]. Гораздо труднее дать отпор агрессии, освободиться от чужого эгоцентризма, если он охватывает общества, классы и целые нации.
Несмотря на воинствующий эгоцентризм, мировоззрение западноевропейских народов не встречает недоверия, насмешек или отпора среди других народов, что Трубецкой считал парадоксальной ситуацией, требующей глубокого осмысления: «Всякому ясно, как бы он отнесся к своему соплеменнику, если бы тот стал проповедовать, что его народу следует отречься от родной веры, языка, культуры и постараться ассимилироваться с соседним народом – скажем, с народом Х. Всякий, конечно, отнесся бы к такому человеку либо как к сумасшедшему, либо как к одураченному народом Х типу, утратившему всякое национальное самолюбие» [3, 63]. В реальности проповедь подобных «сумасшедших» торжествует в мире, о чем свидетельствует история России, Турции, Индии, Китая. Торжество подобной проповеди Трубецкой связывал с гипнозом слов «человечество», «общечеловеческий», «цивилизация», «мировой прогресс» и т. д. Для исследования принципов эгоцентризма и более подробного рассмотрения феномена самого человека и «человечества» Трубецкой обращался к анализу психического склада человека.
Психика, по утверждению Трубецкого, многослойна и состоит из элементов врожденных и благоприобретенных. Среди врожденных черт различаются следующие: 1) индивидуальные, 2) семейные, 3) племенные, 4) расовые, 5) общечеловеческие, 6) общеживотные. Благоприобретенные черты зависят от традиции, семьи, социальной группы, культуры и народа, к которому принадлежит индивид. В основе взаимопонимания лежит механизм узнавания схожих черт, т. е. в психике человека нам понятны те черты, которые схожи. Если в силу отсутствия схожего опыта черты другого индивида остаются непонятными, то они неадекватно воспринимаются как низшие в психическом, социальном или культурном отношении. В этом механизме восприятия Другого заложен парадокс непонимания, который многие столетия определял взаимоотношения различных культур.
Трубецкой задает вопрос, является ли приобщение к западной культуре добром или злом. Он показал, что народ, приобщившийся к западной культуре, начинает ставить свою культуру и нацию на второе место, оценивая себя с точки зрения романо-германского эгоцентризма. Это приводит к уничтожению национального единства, поскольку не все представители народа согласны с уничижением национального достоинства. Расчленение нации вызывает острую внутриклассовую борьбу, затрудняет переход из низшего класса в высший класс, в котором, как правило, идут процессы модернизации. Данное обстоятельство обусловливает низкую культурную продуктивность народа, увлеченного внешними заимствованиями, упадок патриотизма, отсутствие национальной гордости, потерю веры в себя. В результате нация легко попадает в подчинение к романо-германским народам и превращается в этнографический материал. Трубецкой считал, что многие народы находятся под игом романо-германских наций, добывая сырье для европейских фабрик. Он призывал угнетенные народы объединиться для общей борьбы за свою самобытность. Для того чтобы борьба была успешной, как все народы, так и каждый их представитель должны следовать двум максимам: «Познай самого себя» и «Будь самим собой».
Религиозные основания для концепции уникальности культур и наций Трубецкой исследовал в статье «Вавилонская башня и смешение языков» (1923). Он указывал на то, что Священное Писание знает два вида общечеловеческих наказаний – изгнание из Рая и смешение языков, что означает установление физических законов, против которых человечество бессильно. Закон множественности культур, установленный Богом в момент смешения языков, «служит препятствием для осуществления многих человеческих намерений и “идеалов”, влечет за собой часто войны, национальную вражду, притеснение одних народов другими, но сам по себе в чистом виде не связан со страданием» [3, 328]. Это не столько кара Божия, сколько ответ Бога на столпотворение (создание Вавилонской башни) и предупреждение на будущее.
Смысл библейского предупреждения состоит в том, что однородное (лингвистически и культурно) человечество при развитии техники оказывается духовно бессодержательным, что влечет за собой нравственное одичание. Страсти, проявившиеся как гордыня и самодовольство, выразились в бессмысленной и безбожной попытке построения Вавилонской башни, символа вызова Богу. По утверждению Трубецкого, Библия свидетельствует, что техника есть не случайное явление, но неизбежное следствие единообразной общечеловеческой культуры, в которой рациональность и техника будут преобладать над религией, этикой и эстетикой.
Современная европейская цивилизация стремится насадить во всем мире свою культуру, нивелировав и упразднив все индивидуальные и национальные отличия, производя небывалое опустошение в душах не романо-германских народов, возбуждая одновременно жадность и непомерную гордыню – верные признаки своей цивилизации[49]. Христианство, имея общечеловеческую значимость, стремится к всемирной проповеди, но, в отличие от романо-германской цивилизации, не приводит к нивелированию национальной культуры, так как оно не продукт какой-либо культуры, но Откровение, дар, данный свыше. Нет единой христианской культуры, но есть множество христианских культур. На основании этих утверждений Трубецкой в 1926–1927 гг. попытался создать персонологию – науку (учение) о личности (сборник статей «К проблеме русского самопознания», 1927).
Трубецкой полагал, что личность иррациональна, неразложима и неповторима, поэтому не может быть познаваема человеческим рассудком. Он предложил типологию личностей: 1) частночеловеческая, 2) многочеловеческая, или симфоническая (хоровая). Подвидами хоровой личности являются: а) частнонародная, б) многонародная (славянская, романо-германская группы наций). Человечество само по себе не является живой личностью, не имеет индивидуального бытия, не есть субъект истории. Общечеловеческая культура ведет к нивелированию личности и к богоборчеству. Личностью являются отдельный человек, нация, Россия – Евразия, которые имеют дух и плоть (например, духовное, историческое, идейное содержание и месторазвитие, ландшафт, пространство). Во взаимоотношениях личностей действуют притяжения и отталкивания, культура и быт каждого народа есть сложное переплетение подражаний, сходств или отличий от других культур. Государство не является в системе Трубецкого личностью, не имеет души и не обладает бессмертием. Оно отличается психологической односторонностью, имея только волю или волевую направленность к осуществлению своих целей.
Личность проявляет себя в индивидуациях или ликах, не совпадая ни с одним из них, но выступая в качестве их связи. Так, например, существуют индивидуации «я» – дома и на работе, юноша и старик и т. д. Однако связью бесчисленных ликов выступает сама личность, образующая единство всех ее вариаций и проявлений. Отдельный человек является индивидуацией нации-личности, поскольку каждая личность есть индивидуация другой, более объемной личности. Определяющей и соединяющей всех представителей в единый народ выступает духовная культура, в основе которой лежит культ, поэтому евразийство всегда выступало с требованием распространения православия на все сферы жизни (концепция «бытового исповедничества» П. П. Сувчинского).
На основании персонологии, как ее понимал Н. С. Трубецкой, невозможны ни атеистическая, ни общечеловеческая культуры. Как индивид, так и нация должны прийти к самопознанию как к пути осуществления личности: «И только в этом установлении гармонии и целостности личности на основании ясного и полного знания природы этой личности и состоит высшее достижимое на земле счастие. Вместе с тем в этом состоит и суть нравственности, ибо при истинном самопознании прежде всего с необычайной ясностью познается голос совести» [3, 115]. Внешне истинное самопознание выражается в гармоничной, самобытной жизни и деятельности (творчестве) любой личности в масштабах национального самопознания. Только через самопознание преодолеваются как эгоцентризм, так и эксцентризм (презрение к своей отсталой родине и нации, ориентация на «передовые» культуры). Таким образом, Трубецкой строил антропологию как персонологию, ориентируясь на религиозные идеалы и принципы самопознания. Персонология Трубецкого в первую очередь ориентирована на социальные и национальные проблемы, но в ней мало внимания уделяется «частно-человеческой» личности.
Лев Платонович Карсавин (1882–1952) примкнул к евразийцам в 1924 г. и привнес в евразийство богословскую проблематику, утонченную диалектику и внимание к отдельным частным проблемам, в том числе к антропологии. Религиозную антропологию Карсавин отождествлял с персонологией, но, несмотря на некоторое сходство с теорией Трубецкого и общую терминологию, он имел свою точку зрения на проблемы личности, Церкви и государства[50]. Самой значительной работой Карсавина, посвященной проблеме религиозной антропологии и персонологии, была книга «О личности» (1929). Она написана уже после того, как Карсавин покинул Париж, центр кламарской группы евразийцев, и переехал в Ковно (совр. Каунас, Литва), где подвел итог своим размышлениям о личности. В книге «О личности» Карсавин частично полемизировал с Трубецким, отталкиваясь от его персонологии, частично продолжил общее направление мысли, намеченное в своей небольшой работе, выпущенной Евразийским книгоиздательством, «Церковь, личность и государство» (1927). Однако самый значительный пласт его идей принадлежит к концепции, которая соединяет догматику, богословие, психологию в форме средневекового трактата.
В книге «О личности» Карсавин утверждал, что личность есть конкретно-духовное или телесно-духовное существо, определенное, неповторимо своеобразное и многовидное. Она есть единство множества своих моментов во времени и пространстве. Следовательно, личность есть всеединство. Синонимом всеединства является «дух», следовательно, единство личности есть ее духовность, а ее множественность относится к сфере телесности. На основании этих общих утверждений Карсавин создал первую триаду в характеристике личности: единство – свобода – духовность есть начало и конец личности, а множество – необходимость – телесность есть ее середина.
Личность всевременна (обладая одновременно своими «снова», «сначала», «потом» и т. д.) и самодвижна, осуществляет движение и покой самой себя, поэтому она есть самоопределение и самосознание. Однако любая индивидуальная личность, в чем Карсавин был согласен с Трубецким, является моментом высшей или симфонической личности. Истинная личность не есть личина (persona), но ипостась, или Божья личность. Так, например, у Богочеловека два естества (божественное и человеческое), две усии, но одна личность, объединяющая все эти моменты: Личность – Ипостась Логоса. Строго говоря, не может быть человеческой или тварной ипостаси (или личности), если только она непричастна Божией Личности. Сам же по себе человек «тварный безличный субстрат, неопределимостью и непостижимостью своею подобный Богу и вполне самодвижный» [2, 26]. Смысл бытия человека заключается в его обожении или лицетворении. Лик наиболее близок Богу, а личина – наиболее удалена. Лик есть истинное существо человека, его цель и задание, без лика личность неосуществима. Лик можно определить как образ Божий или идеальное содержание человеческой жизни.
Человек как «я», личность познает себя только в соотнесении с инобытием, другими (людьми, вещами), поэтому самопознание означает и познание инобытия. Инобытие не внешнее «я» (иначе бы оно «я» ограничивало, «я» не было бы свободно), но соотносится с «я» как его другая сущность или даже его иная часть. Индивидуальное «я» несовершенно, оно раскрывается во множестве, не сохраняя своего единства. Однако интуитивно человек знает о существовании совершенного многоединства, смутно догадывается или предчувствует существование своей совершенной личности, из соотнесения с которой личность познаёт свое несовершенство и ставит задачу – осуществить идеальное многоединство.
Согласно Л. П. Карсавину, личность предстает в трех фазах бытия: самоединство – саморазъединение – самовоссоединение. Раскрывая эту формулу, Карсавин рассматривал экзистенциальное мироощущение центра самосознания человека (личности) перед лицом исчезновения и смерти. Поскольку самоощущение личности говорит о ее бесконечности и бессмертии, то представить, пережить свою конечность человеку невероятно сложно. Человеку в гораздо большей степени дан опыт бесконечности личного начала. Однако опыт бессмертия – иллюзия, поскольку личность реально и периодически погибает как единство. Разъединение (с опытом своих чувств, направления внимания, мысли, памяти, смены впечатлений и т. д.) означает осуществление конечности, которое есть исчезновение единства личности. Разъединение существует краткий момент времени, далее оно погибает, уступая место новому единству. Таким образом, личность – постоянно погибающее, но не погибшее существо.
Разъединение противостоит единству личности, как движение – покою. В своих тройственных импульсах бытия личность аналогична Святой Троице, но это есть только аналогия, а не сходство или подобие. Определенному первоединству соответствует ипостась Отца, саморазъединяющемуся единству – Ипостась Сына, самовоссоединяющемуся – Ипостась Святого Духа. Первоединство соответствует единой природе, в богословской терминологии – усии Бога Троицы. Качество единства моментов человеческой личности (первоединство) и единая природа Бога Троицы (усия) – это то общее между Богом и человеком, что открывает их глубокое сходство. Первоединство, усия не есть нечто четвертое, добавочное над тремя Ипостасями или модусами существования личности, но именно в нем триединство становится единством. По утверждению Карсавина, личность или вообще не существует или является подобием Святой Троицы. В богословском понимании личности коренится стремление Карсавина выстраивать довольно четкие триединые схемы подобия, в которых, однако, нет момента искусственного вымысла. Тонкая интуиция Карсавина, внимательный и проникновенный анализ бытия личности, изощренная богословская диалектика создают триединые схемы, логически и экзистенциально обоснованные в рамках его концепции.
Смысл триединого бытия личности – в достижении апогея, высшего расцвета духовных, познавательных, жизненных сил человека. С телеологической (смысловой) точки зрения личность осуществляет свое бытие в трех модусах: зарождение – апогей – погибание, после чего личность возвращается в небытие, чтобы вновь из него воскреснуть.
Индивидуальная личность в своей постоянной смене модусов – это театр личностей (или даже личин), поэтому она неопределима и несоотносима в ситуации искусственной изоляции от других личностей. В этом утверждении Карсавин открывал большую и сложную тему, которая обсуждалась в православной аскетике. Так, например, прп. Исаак Сирин полагал, что человек находит самого себя, только удалившись от людей, от суеты, от многословия: «Как невозможно ясно видеть человека, которого заслоняет дым, пока он не удалится и не отойдет оттуда, точно так же невозможно приобрести чистоту сердца и безмолвие от помыслов без одиночества, далекого от дыма мира сего, поднимающегося перед чувствами и ослепляющего душевные очи» [1, 131]. Многие другие святые отцы полагают, что истинная сущность человека открывается ему в тишине уединения, на людях же человек действительно склонен надевать разнообразные маски (театр личности).
Размышляя о понятии симфонической личности, Карсавин писал, что семья является ее классическим примером, в которой мать соответствует определенному первоединству (ипостась Отца), отец – разъединенному первоединству (ипостась Сына), ребенок – воссоединенному первоединству (ипостась Святого Духа). Семью Карсавин ставил невероятно высоко, утверждая, что она есть основание человечески-личного бытия, тварный образ Божиего Триединства. Полное и совершенное отображение Триединства Троицы возможно, по Карсавину, в симфонической личности, в то время как индивидуальная личность отображает в полноте ипостась Логоса. С Богом личность связана через Божие саморазъединение (ипостась Сына), к другим ипостасям она причастна через единство с Сыном.
Мир, по утверждению Карсавина, похож на пасхальное яйцо, так как согласно его законам одна личность меньшего масштаба включена в другую как ее индивидуация. Так, существует такой вид симфонической личности, как социальная личность, основным признаком которой является непостоянство. Например, есть периодическая социальная личность (ученое сообщество, съезд и т. д.) и постоянная социальная личность (семья, народ, правительство). Даже случайно встретившиеся люди, обмениваясь опытом, эмоциями и впечатлениями, образуют на короткое время единую временную личность, о существовании которой тем не менее можно достаточно условно мыслить. Можно констатировать существование общего тела народа и семьи, поскольку эмпирический опыт подсказывает нам, что они дышат одним воздухом, пьют одну и ту же воду, едят одну и ту же пищу, разделяют одни и те же убеждения и т. д. Всякая личность конкретна в составляющих ее индивидах, и одновременно отдельный индивид способен, например, в акте реализации знания актуализировать семью, род, человечество. Утверждая симфоническую личность и ее индивидуации, Карсавин боролся с представлением о существовании замкнутого в себе индивида. Идея индивида, по убеждению Карсавина, является ложной, несовместимой с признанием развития и динамики личного бытия. Индивид есть место перехода и скрещения многих социальных личностей.
Важную тему несовершенства личности Карсавин рассматривал подробно, так как на этом строился идейный каркас его религиозной антропологии. Несовершенство личности проявляется, по Карсавину, не только в недостаточном соединении всех ее моментов, модусов и ликов, но и в недостаточном разъединении ее. Смерть – это не перерыв личного существования, но его глубочайший надрыв, несовершенный предел. Смерть как акт несовершенной личности становится и сама несовершенной, до нее и после нее личность удаляется от небытия, в то время как в ней личность наиболее близка небытию.
Несовершенную смерть можно победить только совершенной смертью, которая есть акт совершенного Существа – Бога. Разъединение личности в совершенстве (совершенное разъединение) и оказывается ее свободой. Следуя логике Карсавина, можно сказать, что через Совершенную Смерть Бога (совершенное разъединение всех моментов личности) человек, приобщаясь к ней, в мире или за гранью эмпирического существования обретает свободу. Этот богословский и одновременно рациональный вывод Карсавина можно считать вполне согласующимся с православным отношением к проблеме спасения, но язык и стиль изложения в книге «О личности» настолько экзотичен и сложен, что его трудно однозначно соотнести с какой-либо богословской традицией.
Размышляя о смерти личности, Карсавин обосновывал бессмысленность самоубийства, одновременно утверждая ценность жизни (самоубийца мнит, что смерть принесет ему желанный покой небытия, но это пустая надежда). В несовершенном существе ничего не может быть совершенного, даже смерть. Через самоубийство человек не отрекается от своего несовершенства (источника страданий), но заново его утверждает, отвергая, таким образом, смысл жизни. Гимн жизни в книге «О личности» Карсавина стройно перекликается с его «Поэмой о смерти» (1931), написанной в тот же период, образуя единый круг размышлений Карсавина о человеке и его судьбе.
Литература
1. Иларин (Алфеев), архиеп. Духовный мир преподобного Исаака Сирина. СПб., 2010.
2. Карсавин Л. П. Религиозно-философские сочинения. М., 1992. Т. 1.
3. Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995.
Глава 16. Антропология в религиозно-богословской системе архим. Софрония (Сахарова)
Схиархимандрит Софроний (Сахаров) (1896–1993) – один из самых известных православных богословов XX в. Его имя стоит в одном ряду с митрополитом Антонием (Блумом), архиепископом Василием (Кривошеиным), архиепископом Иоанном (Шаховским), епископом Кассианом (Безобразовым). Однако архим. Софроний известен не просто в качестве духовного писателя, но как один из самых авторитетных духовников и подвижников, к опыту и мнению которого прислушивались в монашеской республике на горе Афон, где вообще очень критически и осторожно относятся ко всякого рода духовным писаниям. Высочайшее признание духовного опыта архим. Софрония было засвидетельствовано в 2007 г. на международной конференции «Старец Софроний – богослов нетварного Света», на которую направили свои послания Патриархи Московский и всея Руси Алексий II, Константинопольский Варфоломей, Александрийский Феодор, Сербский Павел, Румынский Даниил, архиепископы Кипрский Хризостом и Афинский Христодул. Благодаря трудам архим. Софрония, в 1988 г. его учитель старец Силуан был прославлен в Греции, а позже причислен к лику святых Русской Православной Церковью. Последний период жизни архим. Софроний провел в основанном им монастыре в графстве Эссекс (Великобритания), собрав вокруг себя многочисленных учеников и почитателей[51].
Помимо своего духовного служения архим. Софроний (Сахаров) был представителем русской эмиграции XX в. Он близко общался с самыми известными деятелями русского зарубежья, как духовными лицами (митрополит Антоний (Блум), прот. Сергий Булгаков, прот. Василий Зеньковский, прот. Георгий Флоровский[52], прот. Борис Старк[53]), так и светскими (В. Н. Лосский, семья адмирала А. В. Колчака, кн. А. Л. Мещерская и многие другие). Круг его общения был весьма широк, его идеи стали для многих последователей и собеседников авторитетным источником духовного знания.
Помимо самой известной книги архим. Софрония «Старец Силуан»[54] вторая по значимости его книга – «Видеть Бога как Он есть». Значимое место в наследии архим. Софрония занимают книги «О молитве», «Рождение в Царство непоколебимое», статьи «Единство Церкви», «Об основах православного подвижничества». Важным добавлением к его богословским трудам является его эпистолярное наследие[55]. Если попытаться кратко обобщить идеи его трудов, то можно сказать, что все его книги, письма и беседы были посвящены двум основным темам – Богу и человеку. В развитии этих тем архим. Софроний, с одной стороны, вполне традиционен и принадлежит к определенному аскетическому направлению, известному под названием «исихазм» (наиболее близок архим. Софронию был прп. Симеон Новый Богослов). С другой стороны, архим. Софроний подчеркивал, что обращается к современному человеку, имеющему сложное сознание, особый личный и социальный опыт. Современный человек прошел этап становления и развития индивидуации, что сопровождалось внутренним кризисом и надрывом. Он находится в состоянии растерянности, потери всех нравственных, духовных и социальных ориентиров. Сочетание приверженности святоотеческой традиции и обращенности к современности делают сочинения архим. Софрония оригинальными и актуальными.
С философской точки зрения сочинения архим. Софрония можно отнести к таким направлениям, как экзистенционализм и христианский персонализм. Необходимо выявить наиболее яркие антропологические идеи архим. Софрония для демонстрации их, с одной стороны, традиционности, согласованности со святоотеческой традицией, с другой – обращенности к современному сознанию. Антропология архим. Софрония значима для демонстрации большого идейного потенциала христианского персонализма, что важно для современного мира, в котором наблюдаются тенденции к забвению христианской антропологии.
Архим. Софроний учитывал, что со времен Средневековья мир вокруг радикально изменился. Христианская проповедь о человеке и Боге убедительна тогда, когда обращается к людям, учитывая особенности современной ситуации. В современном мире, особенно на Западе, существует убеждение, что христианство в святоотеческой интерпретации малоприменимо к жизни. Особенности современности состоят в том, что открылись границы, человечество стало общепланетарным явлением. Архим. Софроний считал, что современному человеку легче постичь идею всеобщего, всечеловеческого Адама. Согласно его убеждению, человечество сотворено как многоипостасное, многомиллионное существо, но тем не менее оно есть единый организм, происходящий от праотца Адама. Сотворен не просто первочеловек Адам, но человечество – в Адаме. Задача христианина – научиться понимать это всечеловеческое откровение, понять жизнь многоипостасного Адама, поскольку таково мышление Самого Христа, пострадавшего за все человечество, за каждого человека. Молитва обо всем мире, обо всем человечестве, об уже ушедших поколениях и грядущих в мир и есть Гефсиманская молитва Христа. Подвижник, приобщающийся к молитве за мир, входит в образ мышления Бога о человеке.
Вместе с тем современный человек, о котором пишет архим. Софроний, предстает наиболее удаленным от Бога. Состояние современных людей архим. Софроний определял как отчаяние, сущность которого составляет неверие в вечную жизнь. Еще при жизни человек обрекает себя на вечную смерть, а краткую земную жизнь считает единственным своим достоянием. Современный человек, развитый во всех душевных планах, особенно рациональном и психологическом, походит на водоворот страстей и сомнений, склонен отчаиваться в любой сложной жизненной ситуации. В молодости чувство отчаяния было знакомо самому архим. Софронию, но это отчаяние было не душевного, но духовного характера: это было отчаяние покаяния, рожденное памятью смертной, т. е. состояние христианина, осознающего глубину своего падения. Тем не менее архим. Софроний сравнивал духовное и психологическое отчаяние: «…я не боюсь серьезно ошибиться, предполагая, что в наше время миллионы людей самых различных пластов и национальностей живут в трагическом круге противоречий, в той или иной мере аналогичных моим» [7, 58]. Именно к этим людям обращает свое послание архим. Софроний в духовной автобиографии, надеясь привлечь ко Христу.
Автобиографический жанр не является распространенным в ранней святоотеческой литературе, но многие самые авторитетные духовные писатели (прп. Иоанн Лествичник, авва Дорофей Газский) включали элементы биографического описания в свои книги. Побуждения прп. Симеона Нового Богослова к описанию своего духовного опыта имеют сходство с теми, о которых говорил и архим. Софроний. Так, например, прп. Симеон Новый Богослов пишет: «Вот что нашел я в Божественных Писаниях и чему научился в них, и теперь для убеждения и вас в том же не отложил написать то по любви моей к вам! Я все изложил вам, не скрыл таланта, не позавидовал спасению вашему. <…> Я исполнил долг мой в отношении к вам» [5, 244–245]. прп. Симеон ярко обличал тех, которые не верят в возможность обожения в «наше время», указывая, что скепсис в отношении современных святых имеет скрытой причиной вообще неверие и самомнение. Мало того, по мысли прп. Симеона, тот, кто не желает в смирении «соединиться» (почтить с любовью) с последними по времени святыми, тот не может соединиться и с древними, поскольку все святые связаны особым незримым преемством. Одной из самых важных идей, вдохновлявшей все творчество прп. Симеона, было то, что «Сын Божий для того сделался сыном человеческим, чтобы нас, человеков, соделать сынами Божиими» [6, 547]. Пафос этой возвышенной идеи божественного предназначения человека свойственен и архим. Софронию, что роднит его с прп. Симеоном Новым Богословом.
Указанную тенденцию можно обозначить как святоотеческую антропологию обожения, в отличие от более распространенной антропологической традиции, описывающей падшее состояние человека, его страсти и способы борьбы с ними. Вместе с тем, по слову прп. Исаака Сирина, если подвижник будет размышлять только о падении и страстях, то его духовный опыт будет недостаточен: «… он только сосредоточен на страстях и упражняет ум свой. Но если он размышляет о Боге и изумляется свойствам Его и исследует одного лишь Бога, он просветляется… <…> Ни красота служения, ни знание состязаний и борений, ни мысленное противостояние страстям не составляет цели надежды, которая нам проповедана… <…> Как можем мы умудриться и ощутить это, если мы только в противостоянии и противоборстве страстным помыслам, в спорах с ними и постоянной заботе о них пребываем ночью и днем?» [4, 305]. В данном случае прп. Исаак вовсе не отрицал пользы размышления о негативной стороне аскетического подвига, он только указывал на одностороннюю сосредоточенность на негативной антропологии, на то, что духовный опыт, основанный исключительно на ней, может утратить подлинно евангельское измерение «благовестия надежды», направленной на преображение и воскресение человека. Именно сосредоточенность на грехе, вплоть до утверждения, что в падении человек утратил образ и подобие Божие, составляет сущность традиционной протестантской антропологии, в рамках которой утверждается невозможность освящения природы человека в земной жизни. Протестантская антропология с ее смиренным мужеством в признании невозможности достичь Бога является логическим завершением и доведением до крайних степеней негативной антропологии. Протестантской интерпретации евангельского благовестия противоречит наследие прп. Симеона Нового Богослова с ее защитой идеи обожения. Для познания полноты православной антропологии необходимо учитывать и гармонически соединять негативную и позитивную антропологические тенденции.
Архим. Софроний проводил различие двух планов бытия: психологического и онтологического. Первый связан с уровнем падшего человека, живущего в тех бытийных планах, где ему комфортнее всего, т. е. чисто внешний и умозрительный, рационалистический пласт восприятия. Психологический уровень жизни – это существование человека природными, не преображенными благодатью душевными силами. Часто случается, что, даже приходя к вере, человек остается на психологическом уровне восприятия и переживания бытия, неспособен к глубокому перерождению своего сознания: «Наш собственный опыт приводит к констатации того факта, что человечество в массе своей даже до сего дня не доросло до евангельского христианства» [9, 77]. По мысли архим. Софрония, «христианство в его подлинных измерениях еще никогда не было воспринято широкими массами как должно» [9, 78].
Подлинное христианство, т. е. богообщение, полнота любви, осуществимо только в онтологическом плане бытия, которому человек приобщается покаянием и страданием. Формальная исповедь с перечислением грехов (психологический уровень) не вводит человека в онтологический уровень реальности, для достижения которого необходимо отречение от всего временного и тварного, переход в состояние, когда любовь к Богу становится выше любви к самому себе. На онтологическом уровне человек встречает Бога как Реальность, а не в качестве отвлеченного знания или факта богословия. Люди находятся на разных уровнях перехода от психологического уровня к онтологическому в зависимости от обретения благодати, поэтому душевный человек отличается от духовного, а разные уровни перехода или пути человека к истинному состоянию дают разнообразие его духовной жизни.
По мысли архим. Софрония, Бог при сотворении человека таинственным образом повторил Самого Себя. Человек как образ Предвечного Света также имеет световую природу. Адепты восточных религий (индуизм, буддизм, кришнаизм), отрешаясь от всего земного, способны видеть тварный свет ума, который есть отблеск Первоначального Света. Нехристианская мистика останавливается на этом, приписывая тварный свет божеству, поскольку свет ума имеет аналогию с животворящим нетварным Светом. Тварный свет разума способен принести при его созерцании удовлетворение и умиротворение от земных страстей. Однако, оставаясь в плане тварного бытия и предполагая при этом достижение Нетварного, человек может впасть в заблуждение самообожествления, что есть повторение греха праотца Адама. Истинное покаяние показывает, что человек совершает тот же самый акт грехопадения, что и Адам, суть которого заключается в отвержении Бога, поэтому первородный грех и может быть отождествлен с личным грехом каждого. Различение между светом Божественной сущности и светом человеческого разума вполне традиционно в святоотеческом богословии. Впервые достаточно четко сформулировал это различение Евагрий Понтийский, в дальнейшем о свете человеческой души писали прп. Исаак Сирин и другие отцы Церкви. Тема созерцания божественного и нетварного Света является ведущей в исихастской традиции начиная с прп. Григория Синаита.
По мысли архим. Софрония, покаяние открывает подлинные размеры падения, с одной стороны, показывая предвечный замысел Бога о человеке, с другой – являя человеку его единосущность с праотцем Адамом. Христос-Богочеловек явил предвечный замысел Бога о человеке, который был задуман Богом по Образу и Подобию Единородного Сына Божия: «Христос явил нам совершенство образа Божия в человеке и возможность для нашей природы освоить полноту обожения настолько, что Он, Христос, по вознесении Своем посадил “одесную Отца” естество наше. <…> Во Христе, воплощенном Сыне Отчем, созерцаем мы предвечную идею Бога о человеке» [7, 183]. Адам не смог выполнить своего призвания об обожении, но теперь христиане получают возможность выполнения Божиего замысла, поскольку человек призван к тому, чтобы вместить в себя всю полноту бытия человеческого и Божественного. Таким образом, создание по образу и подобию Божию означает способность воспринять полноту богочеловеческой жизни: «Наша природа сотворена логически необъяснимым образом: мы приведены в бытие как потенция, а не как уже реализованные существа. <…> Для сотворения такого “бога” необходимо, чтобы наше существование начиналось в материальном теле» [8, 160]. Начинает свой путь человек в материальном теле, а предел его жизни – бытие ипостасное, по образу бытия Бога.
Понятию греха архим. Софроний придавал глубокое значение, считая, что грех есть не нарушение этической нормы (восприятие на психологическом уровне), но метафизическое явление в душе человека. Смысл греховного процесса в том, что человек отходит от божественной жизни и таким образом извращает замысел Божий о себе. Грех, совершенный в глубинах души, не остается в человеке, а проявляется наружу, отражаясь во внешности человека, на его судьбе. Кроме того, он выйдет за пределы индивидуального существования и отразится на судьбах мира: «Не только грех Праотца Адама имел последствия космического значения, но и всякий грех, явный ли, тайный ли, каждого из нас отражается на судьбах всего мира» [10, 31]. Это значит, что человек есть существо метакосмичное, разум и смысл мира. Даже в проявлении эгоизма и попытке утвердить свою единичную индивидуальность человек отпечатлевает на плоти мира свои дела, мысли, намерения. Кроме того, ощутить последствия греха может духовный человек, у которого после совершения греха и умаления благодати изменяется духовное состояние, в то время как плотский человек не ощущает перемены, поскольку всегда находится в состоянии душевной смерти.
Понятие «персона» противопоставляется архим. Софронием понятию «индивидуум». Понятие «персона» аналогично понятию «личность», но архим. Софроний предпочитал использовать богословский термин, для того чтобы различить уже сильно обмирщенное и наполненное социально-политическими смыслами слово «личность» от теологического термина «персона». Бытие Бога есть бытие Персональное, Он един в трех Лицах. Человек может унаследовать вечность только в персональном аспекте бытия, а не в качестве индивидуума, как отдельного члена общества, ущербного в своих отдельных, эгоистических стремлениях. Архим. Софроний утверждал, что «персона в нас рождается в вышеестественной молитве лицом к Лицу Живого Бога» [7, 186]. Ипостасный образ бытия актуализируется в человеке при выполнении евангельских заповедей, через которые преодолевается ограниченное и ущербное бытие индивидуума. Согласно терминологии архим. Софрония, индивидуальный уровень бытия является психологическим, ипостасный – бытийным. Любовь есть наилучшее выражение внутренней жизни Бога, следовательно, ипостасный образ бытия – это жизнь в любви. Архим. Софроний указывал: «Живой опыт персоны редко дается людям в этом мире: он приходит чрез христоподобную молитву за весь мир… <…> Вводимый действием Духа Святого в такую молитву – человек бытийно живет образ Триединства» [7, 191].
Ипостасная форма бытия постепенно возрастает в человеке, по мере вхождения в богообщение. Признаками ипостасной формы бытия, на которые указывал старец, следующие: 1) молитва за весь мир, за всего Адама как за самого себя; 2) живое ощущение всего человечества как многоипостасного единого существа, молитвенное сострадание каждому, горячее желание спасения всем; 3) любовь к Богу до отвержения самого себя; 4) любовь к врагам. Ипостасная форма бытия, по терминологии отцов Церкви, носит название «обожение», при котором, по описанию архим. Софрония, человек теряет чувство земного происхождения и ощущение своей временности, становясь «безначальным» по причастию к Богу. Это есть воскресение из мертвых и победа над смертью еще в земной жизни.
Молитва за весь мир есть квинтэссенция христианского духовного опыта, наиболее зрелый и ответственный акт из всех аскетических подвигов христианина-подвижника. Так, например, прп. Исаак Сирин, который также является представителем внутреннего делания в христианской аскетике, находит самые проникновенные слова о молитве за мир: «Осени, Господи, святую Церковь Твою, искупленную Кровью Твоею; пусть живет в ней Твой истинный мир, который ты дал святым Твоим апостолам; свяжи чад ее святыми узами нерушимой любви… <…> Умоляю я и прошу Тебя, Господи, удостой всех заблуждающихся истинного познания Тебя, чтобы они познали славу Твою. Для тех же, кто перешел из этого мира лишенным добродетельной жизни и не имевшим веры, будь для них защитником, ради тела, которое Ты взял у них, чтобы от единого соединенного тела мира мы вознесли славу Отцу, Сыну и Святому Духу в Царстве Небесном» [4, 301–302]. прп. Исаак писал: «Со страданием должны мы молиться и с болью докучать Богу обо всем этом. И такое отношение должны мы иметь ко всем людям: со страданием молиться о них, как о самих себе» [4, 303]. Созвучие учения прп. Исаака Сирина и архим. Софрония (Сахарова) представляется несомненным. Стоит отметить, что прп. Исаак является как наиболее авторитетным, так и наиболее оригинальным духовным писателем. Обоих представителей христианского подвижничества роднит особое поэтическое вдохновение в изображении аскетического опыта и его плодов, яркий индивидуализм и описание любви к человеку, ко всему миру.
Несмотря на Воскресение Христа, смерть не отнята у человека. В смерти человек должен до конца уподобиться страдавшему и умершему Христу. Смерть есть последнее, «огненное» испытание для человека, в котором должна испепелиться его греховная гордыня. Страх смерти, присущий человеку, преобразуется в «память смертную», которая дана для достижения всецелого покаяния. Таким образом, по мысли архим. Софрония, смерть является благодеянием для человека, в переживании которой он наиболее полно может пережить уподобление страдающему Христу.
В связи с антропологической интерпретацией аскетического подвига архим. Софроний рассматривал виды воображения, которые всегда привлекали внимание христианских аскетов и мыслителей. Первый вид воображения как функции ума связан с действием грубых плотских страстей, каждая страсть имеет свой мысленный образ, которым прельщает человека. Это план тварного бытия, которым ум человека был пленен в грехопадении. Ум принимает мысленный, мечтательный образ страсти, пленяется и в состоянии пленения может дойти до одержимости, пытаясь воплотить в реальность свою мечту.
Второй вид воображения носит название мечтательности. В этом состоянии человек не живет в объективной реальности, но в мире воображения. Мечтательность заключена в рамках тварного мира, т. е. черпает образы для построения мысленных конструкций, опираясь на впечатления окружающего мира. Мечтательность действует духовно нездоровым образом, поскольку при направленности на религиозную сферу преподносит уму «духовное» знание, заключая его в земные, плотские образы и искажая духовную истину. К этому виду воображения архим. Софроний относил католическую молитву-медитацию. Используя воображение, человек создает зримые картины, например из жизни Христа. Он приковывает свое внимание к воображаемым образам, приходит в нервное возбуждение, при этом сердце, из которого и должна исходить молитва покаяния, остается безучастным.
Третий вид воображения имеет логический характер, основан на воспоминании и процессах мышления. Он ценен при решении практических, математических или технических задач, находит свое применение в творчестве, но не имеет духовного измерения, с его помощью для ума человека не открывается выход за границы земной реальности.
Четвертый вид воображения может быть назван религиозным. Он наиболее опасен для духовного состояния и молитвы, так как на нем основано так называемое богословское творчество, которое рождается не как плод покаяния и истинного духовного просвещения, но в виде логической, философской догадки о Боге. Этот вид воображения может приводить к созданию еретических богословских систем, он «переворачивает первоначальный порядок творения человека Богом и создает Бога по образу и подобию человека» [2, 234]. Состояние, при котором знание о Боге подается как плод духовного подвига, названо архим. Софронием истинным богословием. В связи с этим возникает вопрос о духовной норме, в которой ум соединен с сердцем при помощи и ограждении внимания. Если страсть гордыни усугубляет действие воображения, то смирение и благодарность Богу связывают его действие.
Особенно интересно сравнить размышления архим. Софрония с аскетическим учением свт. Игнатия (Брянчанинова), которое исполнено многочисленных предостережений: «Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение своих нервов, не горячи крови» [3, 164]; «Брат! Неполезно тебе преждевременное получение сердечной, благодатной молитвы! Неполезно тебе преждевременное ощущение духовной сладости!» [3, 202]. свт. Игнатий многократно предупреждал, что его слово обращено к инокам, в то время как мирские люди не должны приступать ни к молитве, ни к духовному деланию: «Пусть добрыми делами в недре Православной Церкви, особливо милостынею и целомудрием, он (мирянин. – К. Е.) израбатывает свое спасение. Мы беседуем с иноками» [3, 368]. свт. Игнатий изумлялся тому, что мирские люди вообще дерзают приступать к возвышенному деланию, в то время как даже истинные подвижники «всегда находятся в страхе и трепете, боясь и трепеща, чтоб не пострадать в этой молитве какой-нибудь прелести» [3, 260]. свт. Игнатия предостерегал против гордости, тщеславия, мечтательности и мнения (особого рода духовного заблуждения), указывая на то, что после грехопадения природа человека находится в плену у диавола.
Необходимо учитывать, в какой исторической ситуации свт. Игнатий создавал свои работы. Он писал в то время, которое можно считать одним из самых сложных периодов в истории Русской Церкви. После раскола XVII в. Русская Церковь при Петре I получила неканоническое синодальное управление, были закрыты многие монастыри, упразднен институт старчества, оставшиеся монастыри часто выполняли роль богаделен, приютов для вдов, отставных солдат и инвалидов. Особенно суровым мерам «упорядочивания» в XIX в. подверглась Церковь в правление Николая I. Время деятельности свт. Игнатия совпало с самой сильной волной католического и протестантского влияния. Наиболее читаемыми авторами были Ж. де Местр, Ю. Штиллинг, Л. Сен-Мартен, Э. Сведенборг, И. Лойола. Повсеместно были распространены масонские ложи, знатные люди увлекались сектантством и религиозным синкретизмом. Характеризуя мистические увлечения начала XIX в., прот. Георгий Флоровский писал: «Для всей этой мистики очень характерно резкое различение ступеней или степеней, и эта несдержанная стремительность и торопливость в искании или приобретении каких-то “высших” степеней или посвящений. <…> В этой мистике мечтательность и рассудочность странно сплетаются, есть в ней прекраснодушное упрощение всех вопросов» [11, 137]. Даже православные храмы имели католическое убранство: древние иконописные традиции были забыты, активно импортировался западный художественный стиль, вплоть до живоподобных изображений обнаженного тела или «страстей» Христа. В семинариях занимались изучением не святоотеческого наследия, а учебников, составленных на основе католических или протестантских авторов.
Можно вспомнить и случай из жизни молодого свт. Игнатия, тогда юноши Дмитрия, который в своей жажде духовной жизни стал исповедовать духовнику инженерного училища греховные помыслы. Духовник, «не делая различия между “греховными помыслами” и “политическими замыслами” <…> счел своею обязанностью донести об этом обстоятельстве до сведения училищного начальства» [1, 14]. В результате юноша был строго допрошен начальством, за ним была установлена слежка. Эпизод доносительства (нарушение тайны исповеди) и полного духовного невежества священников николаевской поры был распространенным явлением. Перед свт. Игнатием стояла задача борьбы с мощнейшим католическим влиянием, задача возрождения православного учения о спасении. В России постсоветской, потерявшей духовное преемство и подвергшейся мощному влиянию оккультизма, теософии и сектантства, учение свт. Игнатия пользуется особенной популярностью. Люди находят в нем многие ответы на вопросы, часто не замечая многочисленных предупреждений святителя, что его слово обращено к инокам.
Важной темой архим. Софрония является рассмотрение этапов духовной жизни христианина. Аналог этого учения мы находим у разных отцов Церкви, – в частности, у прп. Иоанна Лествичника, прп. Макария Египетского и других подвижников. Архим. Софроний уделял этой теме большое внимание, считая, что знание духовного пути может предохранить от многих ошибок. Первый этап он обозначил как период призывающей благодати, которая является чистым даром от Бога, когда человек получает дар верить, молиться, поститься, утешаться духовными состояниями и пребывать в духовной радости единения с Богом. Духовная борьба и победы над собой легко даются человеку, который получает благодать, но это «неправедное» и «чужое» богатство, как оригинально толкует архим. Софроний притчу о неверном домоправителе (Лк 16. 10–12). Благодать дается «взаймы», она не принадлежит природе самого человека, является залогом будущего Царства, для усвоения которого человеку необходимо будет изрядно потрудиться.
Наступает второй этап духовной жизни, период отнятия благодати, который может переживаться как полная богооставленность и даже опыт переживания адских мучений. Если человек проявит мужество и верность и не свернет с указанного благодатью пути, то может достичь состояния возвращения первой благодати как уже своего вечного, неотъемлемого достояния. Однако скорби и испытания на этом пути могут быть чрезвычайно велики, и у многих является соблазн думать, что верный путь утерян, или что первоначальное делание, те или иные жизненные условия, само место, где была получена благодать, были вершиной духовной жизни, за которой последовало «падение». На самом деле второй этап больше способствует получению духовного опыта и приближает к спасению. Если человек не испытал периода богооставленности, то это, по мысли архим. Софрония, есть признак несовершенства и даже неверия. Смысл второго периода в том, что через скорби человек сообразуется с благодатью, возрастает в меру ипостасного бытия, проявляя свою волю к богоугождению. В этот период христианин более всего уподобляется Христу, носит свой крест скорбей, так что «чем полнее было сие последнее (истощание), тем совершеннее вхождение духа нашего в светоносную область Предвечного Божества» [2, 156].
В третий период происходит возвращение благодати. В этот период благодать усваивается естеством человека как вторая природа, признаком которой является постоянство в любви. Человек возрождается к Вечной Жизни, становится способным к ее восприятию. Такое состояние может прийти к концу жизни, после десятилетий подвига, или перед смертью, или в середине жизни, или довольно рано после начала подвижнической жизни, в зависимости от воли Божией и душевного устроения и покаяния человека. Тем не менее полнота совершенства недоступна на земле, но составляет таинство будущего века.
Рассматривая второй этап духовной жизни, архим. Софроний не утверждал, что он полностью наполнен переживаниями богооставленности. Скорее для второго этапа, когда испытывается воля подвижника, характерно чередование периодов света и мрака: «Стран на и непонятна жизнь христианского подвижника; мы видим в ней сплетение поражающих противоположностей: демонические нападения, богооставленность, мрак смерти и муки ада, с одной стороны, и богоявление и свет безначального бытия – с другой» [10, 26]. Непостоянство духовного состояния означает, что человек вступил в духовную школу, проходит испытание своей свободы. О том же писал, например, прп. Исаак Сирин: «Бывает, что воздвигаются в нем бури против целомудрия; бывает, что сменяются состояния радости и уныния. По временам бывают у человека светоносные и радостные состояния, но вдруг опять появляются туча и мрак… Такие же перемены переживает и тот человек, который пребывает в служении Богу» [4, 172]. По мысли прп. Исаака, данные состояния необходимы для достижения смирения и самопознания. По мысли архим. Софрония, периоды богооставленности или смены духовных состояний, характерные для второго периода духовной жизни, особенно важны для становления личности, испытания ее свободы, выявления ее любви к Богу.
Личность есть великая тайна, так как человек создан по образу Бесконечного Бога. Духовная жизнь складывается из двух не поддающихся определению факторов – свободы человека и действия благодати Божией. По мысли архим. Софрония, люди в соответствии с устроением и направлением своей воли условно могут делиться на три группы. Первая группа, которую составляет большинство людей, – это те, кто привлекся к вере малой благодатью, всю жизнь пребывает в умеренном подвиге и только в конце жизни может познать благодать в несколько большей мере. Для второй, немногочисленной группы характерен путь, при котором в начале есть малая благодать, но благодаря трудам и ревности к концу жизни достигается высокая степень совершенства. К третьей, самой малочисленной группе относятся те, кто в начале пути получил великую благодать и великие дары, за которыми последовали искушения, самое большое из которых есть отнятие на время духовных даров.
Духовная жизнь, ее ритмы и закономерности определяются свободой человека, т. е. неопределимым фактором, поэтому жесткие и до конца однозначные формулировки в христианской антропологии невозможны. Всегда остается неуловимым опыт духовного просвещения, который не охватывается рациональным описанием. Рассуждения архим. Софрония о человеке и его судьбе имеют одну особенность: даже там, где говорится о возможности классификаций или схематических описаний душевной жизни, подчеркивается некоторая условность и возможность других подходов к проблеме человека. Это, конечно, не случайно, так как для архим. Софрония высшим определением для Бога и человека служили свобода и любовь. Разговор о вечности, духовном опыте страдания и покаяния открывает особое пространство познания, говоря о котором архим. Софроний любил вспоминать слова апостола: «…я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели» (Флп 3. 13–14). Бесконечность постижения и полнота духовного опыта возводят Евангелие и христианство на степень не просто высочайшей мудрости, но единственного пути к Вечной Жизни, возможности преодоления смерти.
Литература
1. Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова // Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Аскетические опыты. М., 1998. Т. 1.
2. Захария (Захару), архим. Христос как путь нашей жизни. Введение в богословие старца Софрония (Сахарова). М., 2003.
3. Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Аскетические опыты. М., 1998. Т. 2.
4. Иларион (Алфеев), архиеп. Духовный мир преподобного Исаака Сирина. СПб., 2010.
5. Симеон Новый Богослов, прп. Творения. [Сергиев Посад], 1993. Т. 1.
6. Симеон Новый Богослов, прп. Творения. [Сергиев Посад], 1993. Т. 2.
7. Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. М., 2000.
8. Софроний (Сахаров), архим. Духовные беседы. Эссекс; М., 2007. Т. 2.
9. Софроний (Сахаров), архим. О молитве. [Сергиев Посад], 2003.
10. Софроний (Сахаров), архим. Старец Силуан. Жизнь и поучения. М., 1991.
11. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
Заключение
В XX в. интерес к проблеме человека стал одним из устойчивых признаков современной цивилизации. Объяснить феномен человека как единственного разумного существа на Земле, обладающего мощным творческим потенциалом, пытались психология, генетика, социология, философия, политология и другие науки. Однако человек не может быть до конца объяснен, исходя только из данных науки или опытных исследований. Более того, в современном мире с наибольшей остротой возникает вопрос о человеке как существе творческом, свободном, духовно и метафизически ориентированном, что подрывает основы его биологического существования. По словам известного сербского религиозного мыслителя и психолога Владеты Еротича, «…человек горделиво убежден, что никогда в истории человечества он не достигал более высокой степени творчества, чем сегодня, когда он мыслит, что овладел законами и энергиями природы, когда он стоит на пути к тому, чтобы изменить состав человеческого тела… <….> С другой стороны, тот же самый гордый человек в смятении, недоумении и страхе все яснее и точнее наблюдает приближение экологической катастрофы Земли, с участившимися землетрясениями, извержениями вулканов (закономерностями, которыми он так и не сумел овладеть), с эпидемиями, голодом и новым раздуванием войн, немощный и слабый, именно “мыслящий тростник” (по словам французского философа Блеза Паскаля) податливо и трагично незрелый, в большой степени под влиянием политики, как мировой, так и национальной» [1, 131]. Именно светское, секулярное мировоззрение, которое сформировалось в результате кризиса христианской культуры и борьбы человека за свою автономную свободу, привело человечество в XX в. к глубокому антропологическому и нравственному кризису. Для религиозной антропологии очень важно проследить процесс зарождения внетеологического мировоззрения, распознать его истоки и предсказать дальнейшие последствия его развития. Следует осознать, что во все эпохи, кроме последних трех веков европейской истории, человек мыслил себя как богоподобное или божественное существо, имеющее продолжение своего бытия за границей смерти. Теоцентрическое мировоззрение ставило перед человеком проблему ответственности за свои поступки и творческую деятельность с чрезвычайной остротой.
В период дохристианской религиозности в человеке не находили важнейшую антропологическую характеристику – свободу, на основе которой могло бы сформироваться понятие личности как уникального и неповторимого существа. Для религий Древнего Востока (Индия, Китай) и Древней Греции характерно представление о преобладании над человеком высшей и неумолимой силы (кармы, судьбы, рока, нравственных и социальных императивов). Однако и в древних культурах феномен человека был осмыслен на довольно высоком уровне, рассмотрены его внутренние психологические и энергетические характеристики, открыты пути к осознанию его свободы и ответственности. Христианство принесло новое антропологическое учение и изменило судьбы средиземноморской цивилизации и в дальнейшем – всего мира. Христианство поставило человека перед лицом Бога-Личности и таким образом указало на значение его личностных характеристик. В наибольшей мере изменение представлений о человеке продемонстрировало раннее монашество, в котором был сделан вызов социальному пониманию человека, предпринята попытка преодолеть определение Аристотеля о том, что человек есть общественное существо (политическое животное). Наедине с Богом человек открывал свой личностный потенциал, в то время как отшельничество Древнего Востока (в частности, буддизм) приводило к развоплощению личности, размыванию границ индивидуальности. Таким образом, христианство можно считать уникальным феноменом, открывшим новую антропологическую перспективу. Иудаизм с его национально ориентированной антропологией и теологией, несмотря на высокие понятия о Боге как личности, не смог стать универсальным мировоззрением, а ислам, появившись позднее христианства, возвращается в антропологических положениях к дохристианскому представлению о личности, не имеющей вечной ценности перед лицом единственно подлинной личности Аллаха.
Религиозная антропология по-новому ставит вопросы о сложности и неоднозначности человека, открывает в нем мощную стихию религиозности, нередко загнанную в подсознание и существующую в потенциальном виде. Такая неосознанная и не просветленная сознательным волевым решением религиозность может стать разрушительной и деструктивной силой, что особенно ярко показал XX в. с его восстанием масс и исканием вождей, приносивших в жертву своим безумным амбициям миллионы человеческих жизней. Кризис христианского мировоззрения ставит человечество перед множеством проблем в современном мире и открывает двери торжеству безрелигиозности, которой не знали древние цивилизации и культуры. В сочетании с теми средствами, которые предоставляет современная наука и техника, человек рискует утратить свободу и превратиться в бездушную и управляемую вещь в сложноорганизованном технотронном мире.
Современная христианская антропология не является отжившей архаической или чисто описательной дисциплиной. Христианские мыслители ХХ в. (например, священник Александр Шмеман) предостерегали от опасного разделения религиозного сознания на сферу частных религиозных интересов и внешний мир, в котором реально живет современный человек. Для религиозности древнего мира было характерно целостное сознание, воспринимающее божественную сферу (в святоотеческой терминологии – целомудрие, цельность ума). Для современного человека, погруженного в секулярную действительность, такая целостность представляется проблематичной и малодостижимой. Одной из задач религиозной антропологии является вернуть цельность религиозного переживания человеку, очистить его восприятие, для чего необходимо осмыслить в теологическом и персоналистическом направлении все антропологические феномены современной цивилизации. Кроме антропологии, основанной на святоотеческом наследии (в ХХ в. ее разрабатывали прот. Георгий Флоровский, архиеп. Василий (Кривошеин), архим. Киприан (Керн), архим. Софроний (Сахаров) и др.), существует несколько альтернативных и активно развивающихся направлений. Психологический подход в религиозной антропологии представляют Владета Еротич и священник Андрей Лоргус, богословский – митрополит Иоанн (Зизиулас), богословско-философский – Христос Яннарас. Оригинальностью отличается синергийная антропология, активно развиваемая С. С. Хоружим. Как и раньше, христианская антропология отстаивает важнейшие религиозные понятия свободы, ответственности, творчества, личности, богообщения и метафизической сущности человека, не сводимой к его инстинктам и примитивным потребностям. Религиозная антропология, освещающая развитие антропологических идей в культуре и истории, является актуальной дисциплиной, способной дать ответы на сложные вопросы человеческого бытия.
Литература
1. Еротич В. Христианство и психологические проблемы человека. М., 2009.
2. Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение: Очерки о личности и Церкви. М., 2006.
3. Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. М., 2005.
4. Яннарас Х. Избранное: Личность и Эрос. М., 2005.
Примечания
1
Блж. Аврелий Августин был автором первой в христианской истории автобиографии («Исповедь»), протопоп Аввакум Петров – первого в истории русской словесности автобиографического сочинения («Житие протопопа Аввакума»). Первый жил в эпоху крушения Римской империи, второй – в эпоху крушения древнерусского типа религиозности и церковного раскола.
(обратно)2
Например, А. Е. Лукьянов пишет: «В теоретическом рассуждении философа Ом и Дао стоят “выше”, “первичнее” остальных категорий и образов, выражая телесные и духовные пределы бытия. Ом и Дао знаменуют начало познавательного и философского творчества» (Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М., 1992. С. 170).
(обратно)3
Релятивизм (от лат. relativus – относительный) – учение, представляющее собой раскрытие принципа «все относительно» и отрицающее абсолютные утверждения в области познания и морали.
(обратно)4
См.: Игнатий (Брянчанинов), еп. Слово о человеке. М., 1997.
(обратно)5
См. подробнее: Ратхакришнан С. История индийской философии. М., 1994.
(обратно)6
См.: Лосский Н. О. О воскресении во плоти // Путь. 1931. № 26.
(обратно)7
См.: Сафронов М. В. Китайский язык и китайское общество. М., 1975.
(обратно)8
Изначальным импульсом человеческой природы С. С. Хоружий называет Первоимпульс неприятия смерти: «…первичная негативная реакция сознания и организма, всего человека на собственное уничтожение: глубинный, органический и непроизвольный импульс отталкивания, неприятия смерти как собственного абсолютного небытия, конца-уничтожения, тотальной аннигиляции субъективного мира» (Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. М., 2005. С. 24). Подобное переживание характерно для развитого субъективного сознания, появление которого может быть зафиксировано уже на стыке тысячелетий (ок. I в.) или даже спустя несколько веков после Рождества Христова.
(обратно)9
«Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2 Кор 4. 7); «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие ли скажет сделавшему (его): “зачем ты меня так сделал?” Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе» (Рим 9. 20–23).
(обратно)10
См. книгу об истории православной миссии в Китае и особенностях китайского религиозного мировосприятия: Damascen, hieromonk. Christ the eternal Tao. Platina (California), 2002.
(обратно)11
См. подробное исследование на эту тему: Ахутин А. В. Античные начала философии. СПб., 2007.
(обратно)12
Сам А. Ф. Лосев дал сокращенное изложение своего огромного много томного труда в небольшой книге: Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изложении. М., 1998.
(обратно)13
Как пример еще одной целостной и убедительной концепции древнегреческой культуры в отечественной науке необходимо указать на книгу: Флоренский П., свящ. Из истории античной философии. М., 2007.
(обратно)14
Греч. τέλος – конец, завершение, исполнение.
(обратно)15
Сравните, например, Псалтирь, сразу принятую в христианстве за основной образец молитвословий с его многочисленными упоминаниями о внутреннем пространстве, в котором совершается богообщение, указаниями на полноту естества человека, приобщающегося к молитве: «Из глубины воззвах к Тебе Господи, Господи, услыши глас мой» (Пс 129. 1), «Воздех к Тебе руце мои, душа моя яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, яко исчезе дух мой» (Пс 142. 6–7), «Имже образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя к Тебе, Боже. Возжада душа моя к Богу Крепкому, Живому» (Пс 42. 1–3), «Желает и скончавается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе» (Пс 83. 3), «Испытаяй сердца и утробы, Боже» (Пс 7. 10) и т. д.
(обратно)16
См., например: Мейендорф И., прот. Византийское богословие. Минск, 2007.
(обратно)17
См.: Кураев А., диакон. Протестантам о православии. Клин, 2006.
(обратно)18
См., например, интересную попытку философско-богословского анализа Filioque и католической мистики в книге: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 877–890.
(обратно)19
Об этом см.: Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Париж, 1989.
(обратно)20
Обсуждение проблем, касающихся этого сложного вопроса, см. в кн.: Мартынов В. Конец времени композиторов. М., 2005; Он же. Зона opus post, или Рождение новой реальности. М., 2005.
(обратно)21
Об американском менталитете с религиозной точки зрения см.: Шмеман А., прот. Дневники 1973–1983. М., 2007. С. 242–244, 289, 500, 510, 558, 613 и др.
(обратно)22
См.: Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. М., 2004.
(обратно)23
См.: Хакимов Р. Джадидизм (реформированный ислам). Казань, 2010.
(обратно)24
О традиционном исламе, его богословии и обычаях см.: Хайдар Али. Курс лекций по основам ислама. Казань, 1997; Рождественский М. Неожиданный шариат. М., 2010; Прозоров С. М. Хрестоматия по исламу. М., 1994; Он же. Ислам как идеологическая система. М., 2004; Максимов Ю. В., Смоляр К. В. Православное религиоведение: Ислам, Буддизм, Иудаизм. М., 2008; Геримов Г. М. Шариат. Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности. СПб., 2007.
(обратно)25
Коран / Пер. и коммент. И. Ю. Крачковского. М., 1986 (Здесь и далее цитаты даны по указанному изданию).
(обратно)26
См., например: Муттахари М. Правовой статус женщины в исламе. СПб., 2010; Нуруллина Г. Женщина в исламе. М., 2003; Худа Хаттаб. Справочник мусульманской женщины. М., 2010.
(обратно)27
См.: Щедровицкий Д. В. Сияющий Коран: Взгляд библеиста. М., 2005.
(обратно)28
Об этом подробно см. в главе 16.
(обратно)29
Наиболее последовательно идея трихотомии развивается в книге: Позов А. Основы древнецерковной антропологии. СПб., 2008.
(обратно)30
На эту тему см. статью: Зенько Ю. М. Целостность как основной методологический принцип в христианской антропологии (и пример его применения к проблеме состава человеческого существа) // Вестник ПСТГУ. IV. Психология. Педагогика. 2006. Вып. 2.
(обратно)31
Официально принятое в этой традиции обозначение для неевреев – «не евреи», т. е. все остальное человечество, отличное от евреев.
(обратно)32
См.: «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона Киевского // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1: XI–XII вв.; Илларион Киевский, митр. Слово о Законе и благодати / Пер. на рус. и коммент. А. Белицкой // Богословские труды. М., 1987. Вып. 28.
(обратно)33
Об этом пророчествовал еще пророк Иеремия: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет… Вот Завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу Закон Мой во внутренность их и на сердца их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» Иер 31. 31–33).
(обратно)34
См.: Бромберг Я. А. Еврейское восточничество в прошлом и будущем // Тридцатые годы. Утверждение евразийцев. Париж, 1931. Кн. VII.
(обратно)35
В книге С. Н. Булгакова «Свет Невечерний» (1917) предпринята попытка рассмотрения антропологических положений каббалы, из которых становится понятен не монотеистический, а оккультный духовный опыт, легший в основу каббалистической мистики.
(обратно)36
См. также литуратуру о согласовании православного и научного мировоззрений: Солуха М. Шестоднев о прахе земном. СПб., 2011; «Вся премудростию сотворил еси» // Труды семинара ПСТГУ «Наука и вера». М., 2011. Вып. 1.
(обратно)37
В этой главе я не касаюсь вопроса о личной религиозности Ч. Дарвина, но рассматриваю только конкретные выводы и следствия из его системы.
(обратно)38
Например, см.: Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М., 1999; Фуко М. Надзирать и наказывать. М., 1999; Он же. Забота о себе. М., 1998.
(обратно)39
См.: Ясперс К. Ницше и христианство. М., 1994.
(обратно)40
См.: Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. М., 2009.
(обратно)41
См.: Громов М. Н., Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001; Полянский С. М. Никифор – выдающийся мыслитель Древней Руси // Творения митрополита Никифора. М., 2006.
(обратно)42
О византийском и западном влиянии в Древней Руси см.: Пустарнаков В. Ф. Философская мысль в Древней Руси. М., 2005.
(обратно)43
О литературных влияниях см.: Абрамов А. И. Первое и второе болгарские влияния в философской мысли Русского средневековья // Абрамов А. И. Сборник научных трудов по истории русской философии. М., 2005.
(обратно)44
О параллелях духовного опыта прп. Сергия Радонежского, других русских святых и прп. Симеона Нового Богослова см.: Иларион (Алфеев), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание. СПб., 2010. С. 379–390.
(обратно)45
См.: Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию. М., 2010.
(обратно)46
См.: Лосский Н. О. Воспоминания: Жизнь и философский путь. М., 2008.
(обратно)47
Среди последних исследований, посвященных различным аспектам истории евразийства, возможно выделить как наиболее значимые: Антощенко А. В. «Евразия» или «Святая Русь»? Российские эмигранты в поисках самосознания на путях истории. Петрозаводск, 2003; Быстрюков В. Ю. В поисках Евразии: Общественно-политическая и научная деятельность П. Н. Савицкого в годы эмиграции (1920–1938). Самара, 2007; Глебов С. Евразийство между империей и модерном: История в документах. М., 2010.
(обратно)48
Основной активный период деятельности – 1921–1929 гг., второй период, когда продолжала действовать пражская группа евразийцев, – 1930–1939 гг.
(обратно)49
Весьма выразительно пишет о современной европейской цивилизации Л. Н. Гумилев: «…современная промышленная цивилизация обречена. Она не исчезает лишь благодаря беспрецедентным темпам ограбления накопленных биосферой миллиардами лет природных ресурсов и осквернения неповторимых ландшафтов. Ее ждет судьба Мохеджо-Даро и Вавилона. Только экологическая катастрофа произойдет в более крупных масштабах» (Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. М., 1993. С. 168).
(обратно)50
О дискуссиях евразийцев см. публикацию: Степанов Б. Спор евразийцев о Церкви, личности и государстве // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник 2001/2002. М., 2002. С. 74–174.
(обратно)51
Наиболее полное жизнеописание архим. Софрония см. в издании: Видевшие Свет. Преподобный Силуан Афонский и старец Софроний (Сахаров). СПб., 2009.
(обратно)52
См.: Софроний (Сахаров), архим. Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2008.
(обратно)53
Софроний (Сахаров), архим. Письма близким людям: Переписка с семьей протоиерея Бориса Старка. М., 1997.
(обратно)54
Софроний (Сахаров), архим. Старец Силуан. Жизнь и поучения. М., 1991.
(обратно)55
См.: Софроний (Сахаров), архим. Письма близким людям. М., 1997; Он же. Письма в Россию. Эссекс; М., 1997; он же. Подвиг Богопознания: Письма с Афона (к Д. Бальфуру). Эссекс; М., 2003.
(обратно)



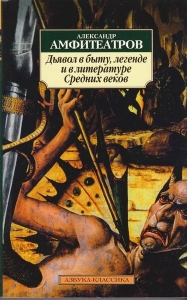

Комментарии к книге «Религиозная антропология», Ксения Борисовна Ермишина
Всего 0 комментариев