Станислав Венгловский Рассказы об античном театре
© С. А. Венгловский, 2015
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015
Вместо предисловия, или загадка древней Ольвии
… И, взвившись, занавес шумит…
Александр ПушкинВ античном театре впервые мне довелось побывать летом 1961 года. Правда, оказался он вроде бы не совсем настоящим, а все же – вполне античным. Впрочем, это было лишь подходящее место, где театр размещался. Даже – функционировал. Разумеется, при сопутствующих вспомогательных средствах и обстоятельствах.
Однако – лучше обо всем по порядку…
На исходе того уже очень далекого лета прибыл я в Николаев, расположенный на берегах Бугско-Днепровского лимана. Судостроительный город оказался переполненным многочисленными бассейнами, специализированными доками, затонами и разными прочими заведениями в том же роде. И все же, в силу разного рода причин, мной был избран вовсе не водный маршрут. В конечный населенный пункт, под названием Парутино, доставил меня автобус, разбухший от зноя и пыли. За стеклами его окон неустанно мелькали белыми стенами хаты, серо-зеленые кукурузные поля и жидкие лесозащитные полосы.
Необходимо заметить, что дело это происходило на пике пресловутых реформ Никиты Сергеевича Хрущева и прочих его же партийно-коммунистических нововведений. Август был почти на исходе, однако в благодатных южных краях совершенно не пахло осенью. Повсеместно царило щедро-знойное лето, синело чистое небо и ярко сияло солнце.
Прибыв на место, погрузившись ногами в раскаленный жарою песок, я огляделся вокруг. Подхватив свой армейский еще чемодан, с которым сравнительно недавно был демобилизован из армии ради поступления в вуз, поинтересовался у первого встречного, где здесь находится «Ольвия». Признаться, у меня не было твердой надежды получить вразумительный ответ. Однако на лице у спрошенного не отпечаталось ни малейших следов удивления.
– Вот там! – ответил он совершенно спокойно, чуть-чуть шевельнув плечом, на котором покоилось лезвие сверкающей блеском косы. Он вел себя так, как если б меня интересовал ближайший продовольственный магазин.
Вторично подхватив свой нехитрый багаж, основную часть которого составлял небольшой этюдник и несколько альбомных блокнотов, спрятанных на дне чемодана, я продолжил свой путь в указанном им направлении. Вскоре, действительно, мне посчастливилось наткнуться на некое подобие триумфальной арки, какие часто встречались тогда в украинских и прочих советских селениях.
Табличка у подножия арки однозначно гласила: это и есть искомая мною Ольвия. Мне сразу же стало как-то не по себе. Из прочитанных книг и статей я твердо усвоил, что Ольвия, некогда богатейший эллинский город-полис, была настоящей жемчужиной на безбрежных скифских просторах. Само слово «Ολβία в переводе с древнегреческого означает «счастливая», отчего и деревня Парутино, думалось мне, представляет собою счастливейший населенный пункт.
Вместе с прилегающим к ней причалом-портом, древнюю Ольвию окаймляли мощные крепостные стены, остатки которых мог запросто видеть еще седоусый малороссийский гетман Иван Степанович Мазепа, проплывавший вдоль берегов Буга в зафрахтованном им турецком судне, рядом с покрытой гербами каретой шведского короля Карла ХII, которого, по случаю ранения его царским стрелком, везли по степям во вместительном экипаже. Оба они, король и гетман, спасались от преследований петровской армии, добившейся судьбоносной виктории в знаменитой Полтавской баталии. В оборонительных сооружениях, окружавших некогда греческую твердыню, наверняка еще можно было выделить места укрепленных ворот, упомянутых Геродотом и отмеченных первыми русскими исследователями (полковником Херсонского полка А.Мейером, П.Сумароковым, академиком П.Палласом и другими). Над воротами, равно и на всем протяжении каменных стен, возносились когда-то внушительные башни. Город-крепость в древности окружали глубокие балки-овраги, высокие насыпи и всякое прочее.
Теперь же за аркой и неким подобием сооруженного из камней заборчика высились две повидавшие виды туристские палатки. Перед одной из них двое юношей, с обнаженными до пояса торсами, передвигали едва различимые издали шахматные фигурки.
Рядом с палатками выделялась своей неуместностью скважина артезианского колодца. Чуть дальше, на побуревшем от солнца пригорке, угадывалось пустое пространство, очевидно – обрыв к реке. Под сенью мощных деревьев сверкала крыша аккуратного домика под ослепительно яркой крышей.
Незнакомые мне ребята (их оказалось в палатках несколько человек) считали себя уже чуть ли не членами археологической экспедиции. Они надеялись быть зачисленными в полевые рабочие.
Не успел я, кажется, перекинуться словом со своими будущими коллегами, выяснить, чем предстоит нам питаться в этих сходу понравившихся мне местах, где проживать, – как вдруг из транзитного автобуса, в облаках красноватой пыли подкатившего к парадному входу в Ольвию, вывалились знакомые мне университетские ребята. Был среди них и мой однокурсник (в честь знаменитого македонского царя назовем его условным именем Александр).
В тот же день, но поближе к вечеру, приехала основная команда будущей экспедиции, ее административная головка. И мы, точнее – мужская часть практикантов, одновременно полевых рабочих, – оказались постояльцами упомянутого выше домика в тени вековых деревьев.
Это строение, как потом мне стало известно, служило пристанищем для пограничников. Дозорный пост их был ликвидирован в связи с реформаторским зудом того же неугомонного Никиты Хрущева. Нам пришлось лишь самым бесцеремонным образом изгнать прижившихся в нем гостей, так называемых «желтопузиков» – совершенно безвредных упитанных змей. Особенно обожали они почивать на раскаленной под солнцем железной крыше. Я сам стал свидетелем, как спешно, шлепаясь тучными брюхами, «сваливают» они с привычно «належанных» мест.
С пригорка, на котором стоял наш дом, открывался неповторимый вид на обширный речной лиман. Берега его, более чем высокие, обрывались весомо, решительно. Песчаная дорога к ним извивалась зигзагами, а полоска земли на другом берегу проступала еле заметным, рваным пунктиром. Там, говорили, находится заречное крупное поселение, названия которого никто здесь не помнил, а то и не знал…
На следующий день, с утра, на ожившие вдруг раскопки явилось много местных, парутинских жителей, в основном жительниц, знакомых всей прибывшей ленинградской экспедиции. Фронт работ запестрел ослепительно белыми платками, кофточками, засверкал острейшими лезвиями пока еще абсолютно праздных лопат. Появилось немало вместительных носилок, предназначенных для уже обработанной почвы.
То была довольно интересная публика, забавлявшая себя мелодичными украинскими песнями, прибаутками, певучей славянской речью. Вдобавок, по раскопкам стал расхаживать местный дворовый пес, по кличке Брут[1]. Пес сохранял в своем облике что-то от загрустившей, а то и просто вечно печальной овчарки. Перед каждым известным и неизвестным ему человеком он помахивал пыльным, в репьях, хвостом, призывая нас жить с ним дружно, делиться всем, что только удастся достать. В первую очередь – съестными припасами.
И вот, наконец, после ознакомления с территорией заповедника, с его историей, с проводимыми в нем раскопками, – перед моими глазами предстало воронкообразное природное образование. Крутые склоны его устилала светло-бурая растительность, что-то вроде жесткой мечевидной травы. Пространство, открытое с противоположной от нас стороны, показалось бескрайним. За ним простиралась безбрежная водная гладь лимана, по которой скользило множество парусов, похожих на ловкие быстрые блюдца. Где-то вдали, в синевато-прозрачной дымке, скорее угадывались, чем проступали, пределы речного раздолья.
– Обратите внимание, друзья мои, – продолжал звучать все тот же приятный голос, – на площадку вон там внизу, в эпицентре гигантского полукруга… Там, безусловно, располагалась сцена, известная вам «орхестра». Возвышались декорации и размещались разного рода театральные приспособления, вплоть до известного вам журавля, при помощи которого мог явиться dеus ex machin[2]. Актеры здесь выступали непременно в ярчайших масках, расписанных искуснейшими изографами. На плечах у всех действующих лиц развевались одежды, покрытые драгоценными камнями, узорами и прочими украшениями. Все участники театрального действия передвигались на высоких котурнах. Там, внизу, на ограниченной этой площадке, в диаметре 20 нынешних метров, звучали тексты Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана, Менандра… Каждое слово, произнесенное ими, слышалось в любом ряду гигантского амфитеатра… Это был первый театр на территории древней Скифии, а, значит, и на территории нашего государства (имелся в виду тогдашний Советский Союз). Чтобы окончательно доказать все это, необходимо провести раскопки. И тогда все уляжется на свои места. Никто не сомневается, что город такого масштаба, как Ольвия, располагал собственными зрелищами. Следов подобных театров обнаружено в мире в достаточном количестве… В пользу моей гипотезы говорит рельеф этой местности, близость порта-причала, перед которым каждой весною распускались все цвета радуги… Вы, друзья мои, могли бы посодействовать этому своим внимательным отношением к находкам. Иногда ведь случается так, что какая-нибудь безделушка оказывается слишком существенной… Пусть и не такой это был театр, как афинский, посвященный богу Дионису, вмещавший семнадцать тысяч зрителей, или театр в Эпидавре, куда ежегодно стекались массы людей в поисках оздоровления, а все же – театр не из самых последних!
Высокий человек, с благородно очерченным крупным носом, формой своей головы напоминавший генерала де Голля, французского президента, неспешным движением длинной руки указывал на крутые склоны, убегавшие из-под наших ног. Там, по его убеждениям, располагалась чаша амфитеатра, роились ряды всевозможных сидений и кресел. Сам он, накрытый широкополой соломенной шляпой, в белой, свободного кроя одежде, вроде пиджака, казался мне не от мира сего.
Увязавшийся за компанию Брут, внимательно следивший за взмахами рук, прилег у его сандалий, ударил по земле своим тощим хвостом в репьях…
Что-то такое, чересчур убедительное, выстраданное, продуманное улавливалось в этом голосе, что ему невозможно было не верить. Не знаю, как реагировали остальные мои сотоварищи, но сам я вдруг властно почувствовал, как сквозь толщу веков, даже нескольких тысячелетий, до моих ушей дотекают слова уцелевших античных текстов, к которым мне, как и моим однокурсникам, каким-нибудь боком удалось уже прикоснуться. Я вспомнил рассказы преподавателей, побывавших на Балканском полуострове, о посещении ими отреставрированных античных театров, и представил себе внизу, на этой сцене-орхестре, знаменитых «Персов» Эсхила. Основным мотивом драмы являлось твердое убеждение, что греки – не рабы. Увидел софокловского царя Эдипа, жаждущего жить в спокойном, размеренном мире, в кругу друзей и близких, но узнавшего жесткую правду о себе самом. Лишив себя зрения, с окровавленными глазницами, он все же не стал осквернять себя ложью, сохранил в себе мудрость и человеческое достоинство. Увидел также гордого Прометея, прикованного к скале, ставшего жертвой любви к человеческим особям. Увидел Ореста, движимого чувством мести за подло сраженного своего отца, и, под влиянием сестры, решившегося на убийство… матери. Увидел богинь мщения, в их жутких, застывших масках. Они водили на сцене какой-то невероятный танец…
Разумеется, об античном театре кое-что знал я из школьных времен, по учебным пособиям для пятого класса, а также из произведений художественной литературы. Что касается учебников, я очень внимательно рассматривал помещенные в них рисунки и разные фотографии, относящиеся, правда, к нынешним временам…
И все ж то была сухая история. Не более того.
Гораздо подробнее об античном театре в университетской аудитории толковала нам Мария Дмитриевна Добрякова[3].
Пропуская табачный дым сквозь крупные пожелтевшие зубы (времена царили патриархальные!), Мария Дмитриевна пыталась чуть-чуть отворачиваться лицом в направлении темных непроницаемых шкафов, отделявших ее и нас от крохотного библиотечного уголка. Там, за шкафами, помнившими Жебелева, Толстого, Зелинского, Соколова и прочих ученых античников, а теперь глядевших на нас с застывших фотографических портретов, трудилась незаметная лаборантка Ольга Самойловна, как выяснилось впоследствии, также выпускница отделения классической филологии.
Да, надлежаще воспитанная, причислявшая себя к цвету чудом сберегшейся питерской интеллигенции, Мария Дмитриевна не позволяла себе извергать желтый дым непосредственно нам в глаза. Аскетическое лицо ее при акте курения источало громадное удовольствие, свойственное всем любителям табачного зелья. Впрочем, быть может, это каким-нибудь образом связывалось с возникавшими в ее голове картинами античного мира, – судить не берусь.
Охрипшим до неприятия голосом матерого курильщика преподавательница читала нам курс введения в античную филологию, выстраивая его хаотично и довольно безалаберно. Зачастую она проверяла на нас звучание приготовленных к публикации собственных статей и прочих материалов. Иногда вообще заменяла порученный курс уроками древнегреческого языка, который также вела по собственной оригинальной методе, позаимствованной, впрочем, от зарубежного профессора, подвизавшегося в русских университетах. (Пиша эти строки, естественно, я постоянно держал в голове заветы античных римлян De mortuis aut bene aut nihil[4]. И все же мне четко было понятно: данная истина хороша лишь в период слезливых поминок. Что случилось бы с миром, принимай мы его в том самом окаменевшем виде, в каком он первоначально представал перед нами?
Очевидно, думалось мне, нечто подобное волновало великого Пушкина, когда он впервые ознакомился с переводом на русский язык гомеровской «Илиады» Н.И.Гнедича. «Крив был Гнедич поэт, крив и его перевод», – написал поэт, движимый первым, инстинктивным порывом. Правда, подумав, остыв, вымарал эти строки и сочинил известную всем похвалу: «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи…» Но вымаранное все же сделалось достоянием пушкиноведов, а затем и читающей публики… Для полноты картины добавим, что «кривизна» переводчика была обусловлена оспой, перенесенной им в раннем детстве.
Во всяком случае, не припомню ничего такого в скомканных лекциях Марии Дмитриевны, что́ напоминало бы стройный курс введения в античность, представленный московским профессором Сергеем Ивановичем Радцигом, опубликованный уже после окончания мной университета. А ведь, откровенно говоря, установки для этого курса были тогда всеобщими…
Мария Дмитриевна, полагаю, не ставила себе задачей увлечь своих слушателей романтикой античного мира. Выдающийся знаток древнегреческого языка и литературы (очень ценимая, кстати, академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым), замечательный интерпретатор указанных текстов на русский язык, которым также владела безукоризненно, ради науки пренебрегшая личными интересами, Мария Дмитриевна сама была очарована древностью, но, по всей вероятности, ревниво следила за доступом к ней кого бы то ни было «постороннего». Тем более не хотелось ей делать подобного рода уступки студентам, в большинстве своем – переросткам, заработавшим себе преимущество полученным на работе стажем (равно и службой в армии). Так уж водилось в те времена.
Ко всему прочему, Марии Дмитриевне была просто-напросто противопоказана любая педагогическая деятельность (как и многим из числа тогдашних университетских наставников). На этой ниве она тотчас же обнаруживала свою полную профессиональную непригодность. (Говорю об этом как человек, перевидавший разнообразных педагогов. Я и сам, почти безуспешно, пробовал подвизаться на этом поприще в течение многих лет).
Что же, в этом не было прямой вины Марии Дмитриевны. Выбор был строго детерминирован. Виной всему выступали жесткие обстоятельства, заставлявшие людей приноравливаться к любым условиям жизни…
Вдобавок к забавной (мягко говоря) привычке курить, причем непрерывно, Мария Дмитриевна обладала страшной нетерпимостью, прямо-таки истеричностью характера. На своих подопечных (да и коллег) смотрела она всегда свысока, безразлично, как незрячий Гомер, чей белый внушительный бюст взирал на нас с темной подставки, вроде высокой трибуны. К нам, студентам, обращалась подчеркнуто официально: по фамилии, с непременной приставкой «товарищ такой-то». Да и усаживалась она перед нами каким-то удивительным образом. Остроконечный ботинок ее, выставленный вроде «козьей ножки» в руках у чеховского дантиста, трепетал, словно телячий хвостик, отвлекая от едва проступавших видений античности. От тех же, примером, театральных атрибутов…
Подобный тип наставника-педагога мог процветать лишь при чисто тоталитарном режиме (вспоминаю, как грубо была удалена с занятий по греческому языку присоседившаяся к нам дочь тогда еще не очень звучавшего академика Лихачева, пожелавшая проверить познания в этой области). Читанный Марией Дмитриевной курс введения в античность годилось бы скорее называть курсом отвращения от специальности. Может, в этом и заключалась тактика лектора? Бог ее знает.
Впрочем, я выражаю здесь сугубо личное мнение, отчего нисколько не стану дивиться, если обнаружится, что кто-нибудь из других подопечных Марии Дмитриевны придерживается диаметрально противоположных взглядов. Не стану даже вступать с ними в споры.
Группа была у нас маленькая, всего лишь шесть человек. К тому же – действительно великовозрастной: самой старшей моей однокурснице исполнилось уже 30 лет. За ней следовал 28-летний молодой человек, страстный любитель поэзии, да и сам поэт, как уж водится среди геологов (а был он действительно матерым искателем полезных залежей). Поддерживая живые связи со многими здравствовавшими тогда ленинградскими поэтами, имевшими в своем «анамнезе» геологическое прошлое, знакомил с их творчеством также меня. Затем уже шла основная тройка 21-летних студентов. Замыкала все это 17-летняя выпускница школы, явившаяся в Питер из знойного Симферополя, круглая, между прочим, отличница. Одним словом, наш тогдашний заведующий кафедрой, с плохо скрываемым разочарованием, почесывая свой наголо выбритый череп и поправляя при этом очки, отмечал, что первокурсники нового набора – старше выпускников-дипломников!
Так уж тогда получалось.
Естественно, эгоистичная натура Марии Дмитриевны нисколько не вникала в интересы новонабранных новичков. Не волновало ее, почему эти молодые люди с такой настойчивостью пытались заполучить вожделенный студенческий билет. Не занимало и то, что они, быть может, способны внести неоценимый вклад в филологию, даже в ее классическую разновидность. По-видимому, на уме у Марии Дмитриевны было совсем иное: куда проще заниматься с молодыми. Они живее схватывают материал, быстрее его усваивают. А раз так – с ними не придется терять драгоценное время. Стоит им только «прокукарекать» – они тут же все это усвоят. Можешь и впредь наслаждаться любимыми переводами.
Справедливости ради не премину засвидетельствовать, что среди не прошедших конкурс абитуриентов было действительно много «досрочных» полиглотов, в чем я не раз получал возможность не только лишь убедиться, но даже позавидовать им, как тогда говорилось, «белой завистью».
Марии Дмитриевне не дано было знать, что педагогическая стезя – удел сугубо подвижнических натур. И все ж это не мешало ей поступать по-своему. Она сочла за благо вмешаться в процесс «недоработки» приемной комиссии. Напрямик об этом вряд ли с кем поделилась мыслями, но ее сжигало само понимание вопиющей несправедливости. К этому, пожалуй, я сам подстегивал ее ссылками на далекий XVIII век, напоминанием о временах Петра Великого и Михаила Васильевича Ломоносова, в 20-летнем возрасте прибывшего в Москву обучаться латинскому языку. Над ним тогда здорово потешались соученики-однокашники. Добро бы еще в 20 лет, сокрушалась Мария Дмитриевна, а здесь – целых 30!..
Естественно, главнейшей мишенью своих энергичных атак Мария Дмитриевна избрала нашу 30-летнюю однокурсницу, которой с трудом приходилось усваивать премудрости античных языков при тогдашней сильнейшей идеологической загрузке студентов гуманитарных вузов историей коммунистической партии Советского Союза, политической экономией капитализма и социализма, научным коммунизмом и прочими подобного рода предметами, в конце концов сочтенными сущей белибердой.
Добившись ухода нежелательной слушательницы уже в течение двух начальных учебных месяцев, Мария Дмитриевна принялась за очередную жертву, за 28-летнего геолога, который также капитулировал перед ней к концу первого семестра.
После этого наступила очередь 21-летних кадров, в первую голову меня, только что демобилизованного сержанта, успевшего перед призывом как-то играючи, с отличием окончить медицинское училище, но совершенно не приученного к систематическому труду, всецело полагавшегося на свои «способности», а еще больше – на русский «авось». Достаточно сказать, что на всем протяжении первого университетского курса я не был даже записан ни в факультетскую, ни в фундаментальную университетскую библиотеки. В меру начитанный, как я полагал, впитавший в себя привычку быть круглым отличником, я стал проникаться уверенностью, что мне достаточно посетить читальный зал, заглянуть в соответствующие книги, чтобы тут же быть готовым к очередному семинару, коллоквиуму, к любому зачету или даже экзамену. Что же касается древнегреческого, латинского и прочих языков – я всецело полагался на свои конспекты.
Но не тут-то было!
Если с латинским, немецким и прочими языками и предметами сошло все более-менее благополучно (помогла подготовка, полученная в училище), то абсолютно не то получилось с азами древнегреческого.
Началось все с зачетной контрольной работы. Раздав ее варианты, не сказав ни единого слова, Мария Дмитриевна окуталась ярким сигаретным дымом и тотчас уткнулась в английскую книгу, не забыв предварительно посмотреть на часы. Завидев приличный список глаголов, я принялся спрягать их по всем известным мне правилам и во всем объеме, потому и не заметил, как истекло отведенное для контрольной работы время.
– Все! – сказала Мария Дмитриевна, справившись с бог весть какой по счету единицей табачной продукции. – Сдавайте!
Я растерянно взглянул на нее, не доверяя своим ушам. Но движения ее прокуренных пальцев с пожелтевшими ногтями оказались более чем неумолимыми.
– Что вы наделали, товарищ Венгловский? – фыркнула она, едва взглянув на мою работу. – Нужно было образовать лишь второе лицо единственного числа!
Не предупрежденный своевременно, я не обратил на вопросы надлежащего внимания и стал выполнять работу в шесть раз больше требовавшегося объема, почему и не успел справиться с остальными пунктами.
Обозвав меня деревенщиной (что, впрочем, не противоречило истине), Мария Дмитриевна перечеркнула все мои старания. На лице у нее отразилось громадное наслаждение, какое, наверное, переживают люди, сделавшие фундаментальное открытие.
Пришлось вторично приниматься за контрольную работу, составленную моей наставницей, которая (работа) требовала канцелярской щепетильности, выразительности каждой буквы, чего я просто терпеть не мог, предпочитая всегда нечто приблизительное, зыбкое, многовариантное. (С ностальгией вспомнил я прежнего своего учителя латинского языка – Карла Фердинандовича Гринкевича! За четыре десятка ошибок в контрольной работе, подчеркнутых и исправленных красным карандашом, суровый «папа Карло» ставил нам крепкие «четверки», довольствуясь пониманием всего курса! «Латинский язык, говаривал он, в совершенстве знает лишь Бог. Я сам им владею только на «четверку»… А что бы сказал он о древнегреческом… И добавлял: «Детали будут усвоены сами по себе…»)
Для Марии Дмитриевны ничего не значили основательные теоретические познания, ориентирование во всей грамматике языка. Для нее важна была прямо-таки бухгалтерская точность каждой проставленной буквы, каждого подстрочного знака. Любое несоблюдение этого принципа выводило ее из себя, бросало в мелкую дрожь. Что уж говорить о непременно подвернутой ею под зад конечности, «козьей ножки»… Лучше не вспоминать…
Разумеется, я тотчас смекнул, что речь здесь идет не просто о контрольной работе, но о чем-то гораздо большем. Понял, что мне предстоит одолеть серьезнейшее препятствие. Что преподаватели, несомненно, располагают бóльшими возможностями, нежели студенты. (К тому же – в тоталитарной стране, где все подчинено строжайшей иерархии! Правда, мысль о тоталитарном строе в Советском Союзе не приходила мне в голову). Что же, как говорят французы – a malin – malin et demi (что-то вроде русской пословицы «Нашла коса на камень»). Я подготовился как следует, вызубрил по конспекту весь надлежащий материал. Но и повторная попытка не доставила мне особого удовольствия. Мария Дмитриевна нашла какие-то важные промахи в новой работе, какие-то пропущенные мною подстрочные знаки, нечетко проставленные, что ли… Одним словом, едва-едва перевалил я черту, отделявшую знающего от незнающего. У Марии Дмитриевны каждое лыко шло в строку…
Это было похоже на крах.
К тому же я твердо предчувствовал, что наш «поединок» с Марией Дмитриевной только лишь начинается. Приняв вызов, скорее по врожденной инерции, я все ж ощутил в душе какое-то отвращение к подобному состоянию науки. Понял, что туда меня просто не пустят…
Впрочем, кто ведает, чтó могло быть дальше?
Быть может, своей дотошностью Мария Дмитриевна могла бы сослужить мне даже очень полезную услугу: довести до надлежащей кондиции. Стряхнув с себя лень, я бы взялся за ум, научился надежной аккуратности… Переродился бы…
Однако судьба не стала меня (да и всех «одногруппников») подвергать искушению.
Почти с самого начала второго семестра Мария Дмитриевна стала заметно прихварывать. К плохо скрываемому моему удовольствию, она не явилась несколько раз на занятия. Затем стала назначать нашей группе встречи у себя дома, на улице Плеханова.
Не исключено, разумеется, что за всем этим скрывались какие-то внутрикафедральные интриги. Все-таки потеря двух первокурсников из шести, да еще болезнь одного из них, заставившая его уйти в академический отпуск… Это не шутка. Это бросало тень на работу всей кафедры…
Короче говоря, в связи с недугами Марии Дмитриевны мы перешли под ферулу уже упомянутого мною заведующего нашей кафедрой.
Заведующим кафедрой у нас был выдающийся знаток античного мира – Аристид Иванович Доватур, узник сталинского режима, который стал одним из героев эпопеи Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг». В ней Аристиду Ивановичу посвящена почти целая страница. Солженицын охарактеризовал Доватура как отвлеченного от сиюминутной, окружающей жизни любителя древностей, этакого Gelehrte (ученого), ошарашенного невесть откуда свалившейся напастью.
Нисколько не умаляя всесторонности ума Аристида Ивановича, добавлю все же, что ему не удалось избежать универсальной болезни, от которой страдали многие люди, безвинно подверженные репрессиям. Интеллигент до мозга костей, ничуть не борец по натуре, как вполне справедливо считалось на кафедре, он до конца своих дней не мог избавиться от смятения, от громадного страха, внушенного при аресте.
Впрочем, в этом тоже нет ничего удивительного. В таком же положении, по свидетельствам современников (хотя бы А.Панаевой), оказался выдающийся русско-украинский историк Н.И.Костомаров, знаменитый писатель Ф.М.Достоевский и масса прочих людей, содержание которых в царских тюрьмах и ссылках не идет ни в какое сравнение с «зэками» советского режима.
В памяти почти всех студентов, когда-либо обучавшихся у него, Аристид Иванович оставил самые теплые воспоминания. По моему убеждению, все это вытекает опять же из того бездонного страха. Аристид Иванович успел заглянуть в такие таинственно-мрачные уголки человеческой натуры, что вынес оттуда только одно: да какое значение имеют знания или незнания конкретным человеком основ греческого, латинского или какого-нибудь иного, самого экзотического языка? Какое вообще имеют значение знания в сопоставлении с изначальной человеческой природой? К примеру, он мог похвалить студента слишком неоднозначными словами: «Обратите внимание, друзья мои, на этого молодого человека: он совершенно не знает латыни!» Что же касается знаний – любой человек способен сам приложить потребные для того усилия. Главное со стороны наставника – не мешать подопечному поступать и действовать по своему разумению, предоставив ему возможность развиваться в соответствии с тем, что предназначено судьбою.
Аристид Иванович и старался поступать соответствующим образом, избегая всяких конфликтных ситуаций, чему, кстати, способствовала врожденная его доброта и мягкость. Впрочем, быть может, доброта, обусловленная громадной силой воли и богатым жизненным опытом. Он понимал, что обстоятельства стократ сильнее его. Кому, дескать, суждено стать ученым – того не миновать, не объехать на самой искусной кобыле. Все зависит от скрижалей фортуны. На них все записано…
Впрочем, не все здесь выглядит так безобидно.
Аристид Иванович был подвержен каким-то въевшимся в него предрассудкам, причем довольно серьезным. По моим наблюдениям, по моим «агентурным» (шутка!) данным, он был весьма внимателен при выяснении национальных корней того или иного сотрудника всей своей кафедры. Да и самого себя, изучив свою родословную вплоть до десятого колена… И лишь долгие годы, проведенные в заключении, в ссылке близ Питера (в упоминаемой Пушкиным Луге), довольно позднее возвращение в науку (докторскую диссертацию удалось ему защитить на исходе седьмого десятка!) – все это вынуждало Аристида Ивановича подавлять «дурные» порывы, таиться с ними до поры до времени. А время это закончилось только со смертью самого Аристида Ивановича…
Впрочем, я ему не судья, и никак не могу его в чем-то корить. Кто из нас, помыкаемых судьбами в те далекие нынче годы, волен был оставаться самим собою, не поддаваться всеобщей лжи?
Что же касается нас, родного ему отделения классической филологии тогдашнего ЛГУ им. А.А.Жданова, то Аристид Иванович, «Арик», как фамильярно, но с неизменной симпатией называли у нас его за глаза, – был более чем снисходителен к людям. А тем более – к нам. Никаких контрольных работ у него никогда не практиковалось. Никаких «неудов» мы не знали. Да и на самых ответственных экзаменах надо было чересчур изощриться, чтобы получить у него оценку ниже «четверки»! Разве что под давлением прочих «настырных» членов экзаменационной комиссии…
И все же, при Аристиде Ивановиче мы сразу же ощутили себя раскованными людьми. Все пошло-покатилось по-прежнему, вольготно и беззаботно. На занятия шли мы, как правило, с веселыми, бодрыми лицами. Собственно говоря, могли обогащать себя знаниями, а могли имитировать собственные старания. Грешен, сам я пошел по линии наименьшего сопротивления, оказавшись в числе неумеренных имитаторов…
Как бы там ни было, именно Аристид Иванович поспособствовал нашему пребыванию в Ольвии.
Надо сказать, что к указанному времени вместо выбивших трех моих однокашников у нас появилось двое новых, уже упомянутый мной Александр и девушка, которую также условно поименуем Лианой, Лилей. Чтобы перевестись на наше отделение, Александр потерял целый учебный год. (Забегая далеко вперед, скажу, что ему ничуть не пришлось в том раскаиваться: в классической филологии нашел он истинное свое призвание, стал доктором наук, справедливым и требовательным, то есть – замечательным педагогом). Новички довольно быстро наверстали упущенное, так что к преддверию третьего курса могли почитаться вполне успевающими студентами.
Аристиду Ивановичу удалось договориться с эрмитажными сотрудниками, супругами Еленой Ивановной Леви и Алексеем Николаевичем Карасевым, возглавлявшими «ведомство» археологических раскопок в древней Ольвии. Археологическая практика, надо полагать, почиталась одним из элементов образовательной подготовки филологов-классиков.
Человеком, представлявшим нам, по его предположениям, античный театр, и был только что названный мной Карасев.
Для Карасева Ольвия стала чем-то вроде родного дома. Он проводил в ней раскопки еще до Великой Отечественной войны и знал там каждую земную выпуклость и каждую впадину в почве. Наверное, зимуя в Питере, современном ему Ленинграде (а жил на Московском проспекте, невдалеке от меня, мне не раз приходилось бывать у него), он отчаянно тосковал по лиману, по его водно-знойным просторам, по благодатному тамошнему теплу. Наряду с прочими своими предположениями, он и выдвинул гипотезу об ольвийском античном театре, «привязав» дислокацию его к конкретному месту…
В Ольвии началась для нас воистину новая жизнь.
Отныне мы спали на деревянном полу в большой комнате бывшего поста пограничников. Но данное обстоятельство никого из нашей компании нисколько не тяготило. Будние дни начинались с подъема, завтрака у гостеприимной хозяйки, в хате которой квартировали Елена Ивановна и Алексей Николаевич, и неспешного возвращения назад в заповедную зону, на самом высоком месте которой, на сохранившейся античной гробнице, уже развевался яркий флаг, означавший начало работ.
Что касается самих раскопок, то нам лишь время от времени удавалось здорово размяться физически, перебрасывая массу слежавшейся, исследованной земли. Большей же частью приходилось расчищать какой-нибудь определенный квадрат, либо же древний колодец, выгребную яму, перебирая, фиксируя и зарисовывая мельчайшие находки, главным образом – черепки и кости. А еще там везде отыскивалось много так называемых «дельфинчиков» – местной монеты в виде мелкой рыбешки. Дельфинчики напоминали этих умных животных, которые, по верованиям древних греков, обладали даром пророчества и одним прыжком способны были не только вырваться из морских глубин, но и занять себе вполне достойное место среди высоких небесных созвездий.
Черепков там повсюду имелось в достатке. Иногда они образовывали довольно затейливую картинку, на основании чего у нас выработалась забавная шутка. Из лета в лето, из сезона в сезон, пожалуй, передавалась история о «животике» кентавра. Составные части этого получеловека, полуконя всячески стремилась разыскать Елена Ивановна, ученица легендарного для нас Б.В.Фармаковского, чтобы получить, наконец, полноцветное изображение его, помещенное на расписном сосуде, выделке местных, ольвийских гончаров…
Обеденный перерыв у нас продолжался довольно долго. Календарное лето, повторимся, было уже на излете, но приближения осени в том благодатном крае так и не чувствовалось до конца всего теплого сезона. Погода стояла отличная, ровная. За время нашего пребывания лишь однажды на синее небо набежали легкие перистые тучки. Да и они продержались не более часа, не выдавив из себя ни капельки влаги, и как-то бесследно растаяли.
Проработав весь день на свежем открытом воздухе, остававшееся время суток мы могли посвящать занятиям спортом, что и делали, более всего предпочитая игру в футбол, именно – стоянию «на воротах» на фоне кирпичного сарая, тогда как другие «полевые рабочие» пытались забить «вратарю» безответный гол. Помнится, стоять на воротах любил наш университетский «ментор», к сожалению, безвременно почивший…
А еще мы часами лежали на солнце, читали, изучали украинский язык, рисовали (я ходил на этюды). Спускались к лиману, соревнуясь в ловкости с козами, пасшимися на головокружительных прибрежных склонах, купались в соленой воде, запросто удерживавшей любое человеческое тело, ловили какую-то слишком медлительную рыбешку, так называемых «бычков». С ними довольно легко можно было справиться одними руками, оглушив предварительно ударом чуть ли не голого не кулака. Оставалось только их подбирать.
Нелишне будет заметить, что я всегда почему-то старался заглянуть в ту часть заповедной Ольвии, где, предположительно, размещался в древности «карасевский» античный театр. Нередко направлялся туда в сопровождении юркого Брута, которого чаще всего тянуло на берег лимана: там вечерами, в синих прозрачных сумерках, при таинственном блеске воды, вспыхивали костры, слышались туристские песни. Бруту там можно было надеяться на весьма приличное угощение.
Когда же мы, наконец, укладывались в свои напольные жесткие «постели», по установившемуся ритуалу от каждого из нас требовалось «травить» анекдоты, и число их, услышанных тогда, не знало предела. Но даже в этом рассказывании, в полнейшей темноте, абсолютное большинство из нас не могло избавиться от страхов, внедренных, пожалуй, где-то на генетическом уровне. Когда я, помнится, рассказал анекдот о Владимире Ильиче Ленине, о том, как деревенский мужик, посетив его мавзолей на Красной площади, обругал вождя матом, сам того не заметив, – вместо здорового смеха ответом мне стало гробовое молчание.
Моими слушателями были люди сплошь городские, из привилегированных прослоек, которые все еще помнили наказания недавних лет. Это – во-первых. Во-вторых, среди нас могли быть (и были) сыновья гебистов. Кто мог знать, не «постучат» ли они куда следует, не известят ли своих папаш… Из простонародья, не привыкшего опасаться своих даже временных сотоварищей, был один я, вроде непуганой белой вороны, к тому же явный экстраверт…
Перед выходными днями, вечером, что говорить, в нашей просторной комнате, озаряемой огарком квелой свечи, появлялось… вино, причем в довольно большом количестве, чуть ли не ведрами. Мы пили его напрямую из этой ведерной емкости, зачерпывая кружками. Это был довольно легкий напиток, только что выдавленный из сочного винограда. Он ничуть не пьянил молодые крепкие головы, и его без опаски употребляли даже наши девушки-практикантки.
Но подобное, повторяю, случалось только в предвыходные дни.
Особенно же действовали на нас лунные ночи.
Разумеется, украинской ночи никто из питерских жителей дотоле не видел и даже представить себе не мог в дождливом северном городе, да и в ином каком-нибудь месте. Даже после гоголевского ее описания. «Знаете ли вы украинскую ночь?» – любил повторять университетский наш предводитель Никита Шебалин, сын замечательного композитора. И сам себе отвечал: «О, вы не знаете украинской ночи! Вглядитесь в нее…». На лице у Никиты, соединявшем в себе какую-то галльскую (французскую) элегантность и своеобразие отечественной дальневосточной породы в такие моменты возникал умело наигранный пафос…
Под влиянием этих ночей, не иначе, условно названный мной Александр, мой однокурсник, совершил настоящий подвиг, вплавь преодолев шестикилометровую полосу лимана. Чтó конкретно подвигло его на это – трудно сказать. Возможно, даже внимание наших девушек, одна из которых (придадим ей здесь имя Любы) впоследствии стала его женой. Быть может, уже тогда он раздумывал о своем будущем, отдыхая в пути и глядя в бездонное синее небо, в котором уже начинали вспыхивать первые звезды, которое было перечеркнуто крыльями редких птиц, если верить словам великого Николая Васильевича. Впрочем, выпади Гоголю лично обозревать объединенное Днепровско-Бугское водное изобилие – он бы придумал еще не такую метафору…
Студента, названного нами Александром и явившегося на незнакомый ему и всем нам противоположный берег, встретили там настоящие сумерки. Куда ему было направлять свои голые ноги? Где искать для ночлега место? О возвращении назад, как предполагалось, наверное, им перед этим поступком, не могло быть и речи. Во всем теле он чувствовал неимоверную усталость. С другой стороны – он был в одних плавках. Быть может, ощущал себя даже слегка Одиссеем в стране феаков…
Что же, он двинулся в направлении манящего огонька, горевшего не то в здании сельского клуба, не то в кулуарах местного сельсовета. Как бы там ни было, все советские граждане к тому времени хорошо еще помнили сталинскую шпиономанию, лишь слегка ослабевшую при задиристом Никите Хрущеве. Простодушные местные селяне, мало что знавшие о затруднениях Одиссея перед глазами молоденькой Навсикаи, решили, что видят перед собою раскаявшегося диверсанта, только что выбравшегося из зловредной американской подлодки, бесшумно подкравшейся к их спасительным берегам. Зря, подумалось им, Никита Сергеевич ликвидировал пограничные дозоры…
Незнакомца, вне всякого сомнения – человека русского, к тому же в очках (возможно, для маскировки?), изъясняющегося без малейшего иностранного акцента, они всю ночь продержали под не замеченным им прицелом. Разумеется, предоставили ему возможность хорошенечко выспаться, внешне даже поверили в «сочиненную» им легенду о принадлежности к клану питерских археологов. А тем временем, наверное, известили район и соответствующие надзорные органы…
Слава Богу, все обошлось благополучно. Названный Александром студент возвращен был к полудню нового дня. Его привезли на лодке, зато уж точно удостоверились, что все им рассказанное – чистейшая правда. Он действительно принадлежит к археологической экспедиции, так что… Чего не бывает в жизни?
При встрече с Карасевым, сильно встревоженным стариком, наш друг опустился на колени и принялся посыпать себе голову пеплом, прихваченным из туристского кострища. Это было для него единственным оправданием своей едва ль не мальчишеской выходки, скорее – ultimum argumentum regum[5]. Страшно даже представить меру всех неприятностей для Карасева и Леви в случае неблагоприятного исхода этой маленькой одиссеи…
Мы же в тот вечер как-то не сразу хватились отсутствия нашего товарища. Да и не беспокоились особо, даже когда хватились. Ну не явился парень ко сну – так задержался в сельской библиотеке. Бывает с ним. Или засиделся на берегу лимана, сейчас придет. Увлекся гостями… Заслушался какого-нибудь «балакучего» местного старикашки… Обычно мы все не придерживались нашего домика, коль рядом такое доступное водное приволье, на берегах которого, в густых синих сумерках, пылают костры, раздаются песни, звенят гитарные струны, слышатся призывные голоса девчат… А тут еще эти лунные ночи! Господи! «Видно, хоч голки збирай», – задушевно пела парутинская молодежь. Как усидеть…
И все же мы ощутили какую-то тайную тревогу. Пожалуй, знать кое-что о случившемся мог лишь Никита Шебалин. Однако он не подавал вида, загадочно отводил глаза…
Движимый этой тревогой, зачем-то я выбрался из нашего домика и сразу же ощутил на себе воздействие украинской ночи. Ежедневно, сотни раз озираемые мною деревья предстали вдруг погруженными в загустевший голубоватый сумрак. Наш дом оказался под сияющей серебряной крышей. Труба на ней засверкала волшебными камнями, готовыми вот-вот подняться и растаять в прозрачном бездонном небе, «с середины которого смотрит месяц»…
Побуждаемый непонятным чувством, выбрался я за пределы условного дворового пространства, однако не направился вниз, налево, по сбегавшей к лиману зигзагообразной тропинке. Пошел зачем-то по направлению к раскопкам, сопровождаемый неизвестно откуда явившимся взъерошенным Брутом. Пес бежал впереди меня, как бы зовя за собой.
Вот и гробница, на которой торчит сейчас совершенно праздный флагшток, лишенный обычного ярко-красного полотнища. Вот потянулась вымощенная камнями брусчатка главной городской улицы давно исчезнувшего города, ведущей к агоре (рыночной площади), к так называемому теменосу (место стоявших тогда святилищ). Вот и квадраты наших зияющих под луною раскопов… Но какие они… Господи! Их не узнать под этим чарующим лунным светом…
Уж и не припомнить сейчас, как и когда оказался я в том самом месте, куда, ради ознакомления с заповедником, увлекал нас всех Карасев. Да, это было место предполагаемого им античного театра.
Но как оно теперь выглядело!
Затененная часть пространства почудилась до отказа заполненной человеческими существами. В любое мгновение они готовы были взорваться рукоплесканиями, криками «браво!», не знаю, чем еще. Тогда как эпицентр всего этого, предполагаемая Карасевым «орхестра», сцена, была залита ослепительным лунным сиянием, готовая незамедлительно принять актеров, хористов. Все это, весь представший огромный амфитеатр, казался наполненным синеватыми тенями. Все утопало в непрерывном перемещении, кипело неудержимой энергией. Набежавший откуда-то ветерок лишь усилил иллюзию.
Заслышав шум перемещаемого воздуха, завидев результаты его незримой работы, Брут мигом прижал к голове свои острые уши. Зарычал, вздыбил на загривке шерсть. Но, присев на передние лапы, тут же сообразил, что обмишурился, и разом обмяк всем телом…
В Питер мы возвратились после месячного ольвийского пребывания.
Уезжали рейсовым катером, ночью, так что мне опять не пришлось любоваться парутинской панорамой во всем ее великолепии и объеме. Однако все это ничего уже почти не значило: с ольвийскими берегами я ознакомился во всей их красе. Увозил даже несколько сделанных красочных этюдов, с красными берегами над синей прозрачной водою, с затерявшимися в дали голубыми просторами, с гробницей на самом высоком месте при ярко-красном флаге. Даже с нашим неказистым домиком под вековыми деревьями…
На прощание, перед тем, как выпить последнюю чашу парутинского вина и съесть последнюю гроздь винограда, успел еще раз сходить на то место, где когда-то размещался античный театр. Солнце как раз клонилось к закату. Длинные тени бороздили крутые склоны, отчего все там выглядело необыкновенно новым, совершенно незнакомым. И снова мне показалось, что амфитеатр весь наполнен живыми существами…
В Питере я властно почувствовал, что интерес к античному театру невольно захватил меня. Я даже стал сожалеть, что в недостаточной степени обращал внимание на лекции профессора Дмитрия Павловича Каллистова, который читал нам историю Древней Греции. Биография Каллистова в значительной степени оказалась схожей с биографией Аристида Ивановича: он также был узником Гулага и также стал одним из действующих лиц эпопеи Александра Солженицына. А чем заинтересовал меня Каллистов, так это тем, что им была написана книга об античном театре.
Все, что касалось древнегреческих представлений, – попадало теперь в поле моего пристального внимания. Многому в этом плане обязан я Наталье Александровне Чистяковой, излагавшей нам историю древнегреческой литературы, в том числе – и античной драматургии. Немудрено, что классическая древнегреческая драма стала темой моей курсовой работы, выполненной на материале «Медеи» Еврипида. Наталья Александровна сочла курсовую чуть ли не образцовой. Правда, в последний миг поняла, что в ней ощущается сильное влияние Иннокентия Федоровича Анненского, переведшего на русский язык все трагедии Еврипида. Восторженный пыл наставницы после этого несколько привял…
Впрочем, что говорить. После поездки в Ольвию я получил богатейший материал для длительных размышлений. Мне очень хотелось каким-то образом пособить Карасеву в разгадке тайны ольвийского театра. Однако… Впоследствии оказалось, что месторасположение античного театра в Ольвии было изуродовано, почти уничтожено оползнями, случившимися еще чуть ли не до нашей эры…
Зато теперь точно могу сказать, чтó конкретно дало мне толчок к написанию предлагаемой читателю книги…
Театр одного актера
Весел бог черноволосый,
Ждет вечерней темноты.
Кое-как льняные косы
У подруги завиты.
Скрыто небо черной тучей,
Мгла нисходит на поля…
После чаши – ласки жгучи
И желанный одр – земля.
Валерий БрюсовАттика
После того, как в Афинах воцарился Кекроп и эта область, дотоле называвшаяся по имени местного жителя Актия Актикой, стала называться Кекропией, прошло 1318 лет.
Паросский мрамор[6]Всем событиям, о которых ведется речь в этой книге, так или иначе предстоит замыкаться на древней аттической земле. В силу чего, полагаю, читателю книги не лишним будет ознакомиться с Аттикой хотя бы в общих чертах.
Ни для кого не является секретом, что любое животное существо гораздо комфортней и безопасней ощущает себя в каком-нибудь закутке, ограниченном надежными стенками, расходящимися или сходящимися под углом у него за спиною. Так, например, ведет себя крохотный котенок. Так поступает дерзкий щенок. Не слишком отличаются от малышей и взрослые особи. Обезопасив тылы, животные спокойней следят за всем, что происходит перед их глазами.
Нечто подобное испытывали древние эллины, оказавшись на каком-нибудь полуострове, речном или морском мысе, где слева и справа от них расстилается водная гладь.
Именно такими природными свойствами отличалась аттическая земля, расположенная в центре эллинского мира, но вместе с тем – чуть-чуть в стороне от давно установленных больших сухопутных дор ог.
С востока аттические берега омывались узкой водной полоской, неглубоким проливом, отделявшим их от обширного островного массива. Массив назывался Эвбеей.
С юга набегали на Аттику волны обычно спокойного Саронического залива, на гладкой поверхности которого, при тихой погоде, различались контуры острова Эгина. Пешему путнику удавалось пересечь Эгину с севера на юг за каких-нибудь два часа.
За этим островом возвышалась уже территория Пелопоннеса, точнее – гористая Арголида со своими древнейшими городами – Микенами, Аргосом и Тиринфом.
Совсем рядом с Аттикой, у полуденных ее берегов, но ближе к западной их окраине, вытыкался из моря другой крупный остров – Саламин. Его окружали удобные бухты с заливами, песчаными мелями и гостеприимными берегами – мечтою потомственных мореходов. Для жителей Аттики Саламин стал предметом продолжительных споров с Мегарами. За мегарцами жителям Аттики приходилось следить постоянно.
Мегарская земля, соседствующая с Аттикой, отличалась сплошным гористым ландшафтом. Ее протыкали дороги, бегущие с севера на юг Балканского полуострова. В западной части Мегар возносился к небу каменный кряж Гераннион. В нем зиял узкий проход над обрывистым берегом моря, напоминавший собой пресловутые Фермопильские ворота, расположенные на севере Греции и представлявшие первую преграду для врагов, вторгавшихся со стороны Европы.
На северо-западе граничила с Аттикой богатая во всех отношениях Беотия, знаменитая многовековой историей, а также своей древнейшей столицей – семивратными Фивами, крепостью Кадмеей.
Мысли о тесном мегарском проходе, быть может, прежде всего овладевали сознанием хищных завоевателей, продвигавшихся с севера на юг. Миновав Беотию, наверное, забывали они об Аттике, считая ее совершенно непривлекательной. Невидимая глазу земля оставалась по левую руку. Завоеватели устремлялись к узкому горному проходу, небезосновательно полагая, что встретят там слишком опытных воинов, знающих каждую тропинку и каждый каменный выступ в неприступно-высокой скале. Быть может, в пылу захватнических порывов, вторгшиеся даже не подозревали, что за горными массивами скрывается наиболее привлекательная часть страны.
Преградой, прикрывавшей Аттику со стороны Беотии и Мегар, был разветвленный горный массив Киферон (1409 метров) и его продолжение – Пáрнес (1413 метров).
Пришлые люди, будь они даже завоевателями или купцами, странниками или просто мирными путешественниками, которым удавалось преодолеть указанные горы, – попадали в Аттику и тут же останавливались, сильно озадаченные. Перед ними было вытянутое с юга на север значительное пространство. От южной оконечности до северных границ его насчитывалась добрая сотня нынешних километров, тогда как вся совокупная ширина Аттики была раза в два меньше. Она казалась, да и в самом деле была довольно скудна водою и тоже достаточно гористой.
В северо-восточной части Аттики возносились горы Пентеликона (1109 метров), недра которых распирали залежи добротного природного мрамора. На юго-востоке – тянулись горы Гиметт (высшая точка более 1000 метров), известные своим удивительным медом, а также белым мрамором с чуть заметным голубоватым отливом.
Еще на юго-востоке Аттики стояли невысокие горы Лаврион, таившие в себе залежи ценного в древности серебра.
Со всех указанных гор стекали редкие в Аттике реки, именно – с Пентеликона Кефис, с Гиметта – Илис, в свою очередь впадающий в Кефис. Летом все эти реки мелели, пересыхали, пропадали вовсе.
Значительную часть аттической территории составляли зеленые равнины: Афинская, Элевсинская, Марафонская и так называемая Мезогайя – серединная земля, упиравшаяся краями в горы Гиметта и Пентеликона. На всех упомянутых мною просторах можно было с успехом выращивать сельскохозяйственные растения, заниматься прибыльным скотоводством.
Нет ничего удивительного, что перечисленные равнины стали весьма притягательными для людей. Именно на них появились древнейшие поселения, а сами наименования их превратились впоследствии в названия городов – Афины, Элевсин, Марафон.
Вблизи Саронического залива, в пяти-шести километрах от берега моря, внимание человека привлекало заметное издали возвышение из залежей бурого известняка. Оно было вытянуто с запада на восток. Самая высокая точка его достигала 146 метров над уровнем моря.
Первое, что поражало местных жителей при взгляде на этот уникальнейший холм, – обилие всевозможных змей. В древности они считались обладателями тайной и мудрой силы. Эта сила угадывалась во взгляде застывших красноватых глаз на точеной змеиной головке, в движениях чуткого тела. Змеи считались олицетворением мудрости, благодаря их природной близости к матери земле. Они слыли прямым ее порождением.
Конечно, похожим образом относились к змеям и обитатели Аттики. Но то, что им удавалось наблюдать на склонах данного холма, – превосходило все человеческие представления. На холме бурлило настоящее змеиное царство. На раскаленных солнцем каменных склонах согревалась живая шевелящаяся масса. Гибкие тела, словно стебли ползучих растений, обвивали стволы деревьев, чудом проросших среди сплошного царства камней. Поспешно и весело шлепались змеи брюхом на камни и, с леденящим душу шуршанием, втискивались в еле заметные норки и в узкие щели.
Пастухи, у которых время от времени отбивались от стада и пропадали помеченные ими козы, вынужденно заглядывали в пещеры на склонах загадочного холма. После этого клялись всеми существовавшими олимпийскими богами, что творимое в полумраке пещер стократно превосходит все видимое на раскаленных лучами склонах. Пастухи уверяли, будто в пещерах обитают змеи невиданных прежде размеров. Будто у них завелись свои государи! Дескать, им, пастухам, неоднократно приходилось видеть змею в золотой короне и даже в роскошных царских одеждах.
Змеиные правители, в представлении местных жителей, естественно, не могли не быть связанными с небесными силами, с могущественной богиней Геей. Первым аттическим царем, понятно, стало также загадочное существо, рожденное этой богиней. То был вроде бы даже почти человек, отличавшийся лишь громадною головою и пронзительным взглядом мудрых, все понимающих глаз. А еще – пышной гривой жестких волос, ниспадающих на довольно узкие плечи, да длинным змеиным хвостом, извивающимся в крупных кольцах.
Взобравшись на высокие камни, каким-то скрипучим голосом, существо неожиданно заявило:
«Лю-ю-ди! Меня зовут Ке-кро-пом… Я буду всеми вами пра-а-вить! М-да!»
Жители аттической земли не без удовольствия подчинились этому странному повелению. Кекроп довольно быстро возвел укрепление на известняковом холме, ставшем центром всего государства. Устроенную крепость назвал по-своему, точнее – в честь своего необычного имени – Кекропия. Слово вскоре перешло в название всего государства.
При Кекропе же, по преданию, случилось весьма памятное состязание Афины с родным ее дядей, морским божеством Посейдоном. В результате победы богини первый аттический город обрел ее звонкое имя, а высокий холм в центре города стали называть Акрополем.
На Акрополе вырос и храм Афины. В нем поселилась гигантская змея, знаменовавшая собою присутствие высшей покровительницы всего афинского племени.
Афина научила эллинов разведению оливы. Это стало для них источником очень больших богатств.
Свое новое название – Аттика – говорили в народе, страна получила по имени царевны Аттиды, дочери следующего афинского царя Краная, сменившего загадочного Кекропа[7].
Кранай был уже вполне человеком. Аттида, правда, умерла в девичестве, а вскоре после этого Зевс наслал на людей потоп, который продлился девять непроглядных дней.
По всей вероятности, потоп не коснулся семейства аттического царя. Известно, что вторая дочь его вышла замуж за отпрыска уцелевшего от страшного бедствия благочестивого праведника – Девкалиона. Девкалионова сына звали Амфиктионом. Ему очень понравилась аттическая земля. Вскорости, свергнув тестя, зять самолично уселся на еще не остывшем его престоле.
Одним из неожиданных результатов этого государственного переворота стала дружба нового царя с богом виноделия Диóнисом. Разведение винограда сделалось дополнительным источником богатств аттической земли.
Так начиналась история этого края.
Зачинатель Феспид
Я – тот Феспид, что впервые дал форму трагической песне,
Новых харит приведя на празднество поселян
В дни, когда хоры водил еще Вакх, а наградой за игры
Были козел да плодов фиговых короб. Теперь
Преобразуется все молодежью. Времен бесконечность
Много другого внесет. Но что мое, то мое.
Диоскорид. Эпитафия Феспиду[8]Изобретателем песен безвестной, трагической музы
Был, говорят, Феспид, возивший театр на телегах,
На которых играли, раскрасив лица дрожжами…
Квинт Гораций Флакк[9]Об актерах судят по голосу,
о политиках – по их мудрости.
ДемосфенАнтичные греки, надо полагать, готовы были поспорить с нашим всемирно известным театральным деятелем – Константином Сергеевичем Станиславским, считавшим, что театр начинается с вешалки. Нет, утверждали древние эллины. Театр начинается с Фéспида!
Более того, они были твердо уверены, что театральное искусство зародилось на их земле. Еще бы: в основе этого емкого термина лежит древнегреческий глагол ϑεάομαι (глядеть, смотреть, взирать), от которого и происходит слово ϑέατρον. Первоначально слово означало лишь место для общественных собраний, а затем и театр – в современном его понимании[10].
Феспид, разумеется, был вполне земным человеком, с ограниченным сроком жизни. Мало кто лично мог знать основателя театрального искусства, но память о нем передавалась из поколения в поколение.
Феспид представлялся очень веселым, бесшабашным парнем, непременно кудрявым, с мягкой, но дерзкой бородкой, высоким и чересчур энергичным. К чему бы ни прикасались цепкие руки его – все получалось в наилучшем виде.
Будучи уроженцем Марафонской долины, Феспид с раннего детства становится свидетелем торжественных ежегодных праздников. Они озадачивали отрока своим безудержным буйством, размахом и невообразимой красочностью.
Празднества, посвященные богу Дионису, были неразрывно связаны с культом виноградной лозы, с созреванием и сбором прозрачных и сочных ягод, с производством и хранением вина. Они выглядели самыми частыми и самыми продолжительными, роскошными и слишком богатыми. Поспорить с ними могли разве что Панафинеи – торжества во славу богини Афины.
В честь Диониса, скажем, в Афинах установлено было сразу четыре торжественных даты: в декабре-январе – сельские Дионисии, в январе-феврале – так называемые Ленеи (по названию афинского квартала, где были сосредоточены многие храмы этого бога), в марте-апреле – Великие (городские) Дионисии. К этому следует добавить еще анфестерии, праздник цветов (в феврале-марте), связанный с пробуждением всей окружающей природы.
Никто не видел живого бога Диониса, но сопровождавших его людей эллины описывали столь рельефно, ярко и правдоподобно, что у слушателей не возникало почти никаких вопросов. Свиту Диониса греки могли воссоздать наяву, особенно в те периоды, когда упивались его дарами: вином, полученным из гроздей последнего урожая.
Первыми славили Диониса вереницы деревенского люда. Поскольку, согласно преданиям, этот бог появился в Элладе на корабле, то роль его исполнял земной человек. Как правило – это был переодетый жрец, которого сельчане усаживали в большую раскрашенную лодку, поставленную на крепкие колеса. В руки «богу» давали побеги виноградной лозы. Виноградными ветками опутывали также все его тело. На голову воображаемому богу водружали венок из вечнозеленого плюща, также украшенный яркими лентами. Лицо и руки сошедшего вниз «олимпийца», всю открытую глазу кожу его обмазывали вдобавок красным соком, точнее – виноградным суслом. В довершение – мнимому небожителю вручался волшебный жезл, прикосновениями которого можно было совершать невероятные превращения.
Тут же в лодке-повозке, рядом с богом, восседали спутники-сатиры, непременно в бородатых козлиных масках и с длинными развесистыми рогами. Они дули в духовые инструменты. Кожа их также была измазана красным суслом, а телá – украшены завитками виноградной лозы.
Телегу-лодку тащили такие же бесшабашные люди, наряженные лесными сатирами: к телам у них были подвязаны лошадиные и ослиные хвосты, к ногам – соответствующие копыта. Лица их прикрывали козлиные маски, руки сжимали кожаные меха, переполненные рвущимся на волю вином. У многих виднелись бубны, флейты, тирсы.
Люди тащили не только лодку-телегу. Водили с собою жертвенных животных, распевая при этом величальные, а то и задорные, даже срамные, песни. Вокруг кричали и резвились женщины, дети. Не утихала ритмичная музыка…
Эта радостная толпа, так называемый комос, бродила от селения к селению. Там, где она останавливалась хотя бы на коротенький отдых, приносились обильные жертвы. Хвалебные песнопения в честь Диониса исполнялись хорами, насчитывавшими, как правило, не менее полусотни поющих и пляшущих участников.
Веселившиеся люди старались припомнить все, что было известно о великом боге, о его очень трудной жизни, богатой событиями и многочисленными приключениями. Участники комоса повествовали об этом не только песнями, танцами, музыкой, мимикой, но и всеми элементами вычурного убранства.
Своим молчаливым веселым видом и своим личным поведением спустившийся на землю Дионис как бы подтверждал все сказанное по его адресу. К нему можно было обратиться с любым надлежащим вопросом. Кивком разукрашенной головы он мог «узаконить» все пропетое хором.
По рассказам отца, по забавным словам раба-педагога, на основании хвалебных песен хора – в голове у Феспида вырабатывалась картина всей предыдущей жизни столь необычного божества…
О, гряди, Дионис благой, В храм Элеи, В храм святой, О, гряди в кругу харит, Бешено ярый, С бычьей ногой, Добрый бык, Добрый бык! Народная эллинская песня.[11]Началось все с того, что властитель заоблачного Олимпа, всесильный Громовержец Зевс, выкрал приглянувшуюся ему дочь ливийского (африканского) царя Агенора, красавицу Европу. Ради этого Зевсу пришлось превратиться в белошерстного быка. Примостив любопытную девушку на бычью спину (вспомним живопись Валентина Серова; правда, бык там не белый, но огненно-рыжий), бог поспешил с ней на остров Крит. Там Европа родила ему трех сыновей: Миноса, Сарпедона и Радаманфа. Первый из них впоследствии стал знаменитым критским властителем…
Царь Агенор, между тем, отправил в погоню своих сыновей, одним из которых был шустрый царевич Кадм. Устав от напрасных поисков, Кадм добрался до Балканского полуострова и, поскольку безрезультатная дорога домой оказалась строго заказанной, поселился невдалеке от будущих Афин. Основав там крепость Кадмею, возле которой вырос знаменитый впоследствии город Фивы, заморский царевич стал родоначальником новой династии.
Миновали неспешные годы, и у фиванского царя появились собственные дети, рожденные ему красавицей Гармонией, дочерью бога войны Ареса и богини красоты и любви Афродиты. Все они, правнуки Зевса, поражали людей необыкновенно прелестным видом, что опять-таки не могло ускользнуть от внимания верховного бога.
Особенно глянулась Зевсу царевна Семела. Познакомившись с нею на склонах горы Киферон, бог принялся наведываться в царский дворец под видом простого охотника. В этом убеждал всех сверкающий сталью нож за его тканым поясом, мелкая сеть для птиц и меткий лук за мощной божественной спиной.
О проделках Зевса проведала ревнивая супруга Гера. Опасаясь крутого нрава своего повелителя, Гера подговорила прочих дочерей Кадма, и те принялись досаждать Семеле насмешками.
– Сестра! – ухмылялись они, – на свидания ходит к тебе вовсе не Громовержец, а какой-то смазливый пастух… Не веришь – подговори своего ухажера, пусть явится в том убранстве, в котором Зевс восседает на троне!
Сбитая с толку, девушка так и поступила. Чем и погубила себя. Жительница земли, она не выдержала вида божественного могущества, сгорела в огне. Однако в кучке воздушной золы, оставшейся от ее черного трупа, зашевелился живой комочек. Им оказался плод, недоношенный несчастной матерью.
Завидев такое, Зевс без раздумий полоснул себя ножом по бедру. Зашив находку под кожу, удалился он на высокий Олимп, а в положенные сроки вскрыл раздувшееся бедро и содрогнулся от крика младенца. Это был его сын, которому он тотчас придумал имя Дионис (иначе – Вакх).
Обретенного ребенка Громовержец велел воспитать подальше от глаз обманываемой супруги. Да только она, пронюхав о рождении нового человечка, всячески стала ему вредить. Дионису пришлось оставить родные пределы и долго скитаться в чужих краях. Наконец, на легком парусном судне, совершая в пути чудеса, возвратился он снова на родину.
Отыскав на Балканах виноградную лозу, Дионис принялся обучать земляков разведению нового для них растения. За ним следовали целые толпы сторонников, прославлявших его как избавителя от стеснительных пут, позабыть о которых позволяло теперь молодое вино.
Вот тогда-то люди и стали сбиваться в веселые шествия, тон в которых задавали неистовые почитательницы Диониса (Вакха), вакханки, иначе – менады. Украшенные ветками виноградной лозы, полуобнаженные, едва прикрытые оленьими шкурами, с распущенными волосами, с приткнутыми к поясам бездыханными змеями, – женщины дико визжали, размахивая палицами-тирсами. Они увлекали за собой все новые и новые толпы. Опьяняя себя и всех окружающих брызгами теплой крови, вакханки сокрушали на пути все встречавшееся им зверье.
Непременными спутниками Диониса выступали также сатиры и силены – демоны плодородия в виде человекообразных существ, но с покрытыми шерстью телами. Стуча по земле копытами, они со свистом хлестали друг друга хвостами. При этом мотали лохматыми головами, на которых сверкали раскрашенные охрой рога. Немало было там и прекрасных лицами нимф, обитающих в ручьях, озерах и в реках.
Все упомянутые существа галдели, пели, кричали, то усаживаясь на вьючных животных, то перелетая через их скользкие от вина хребтины, то скатываясь в пружинистые зеленые кущи. Вся эта публика раз за разом горячила себя вином, которое вырывалось из еле удерживающих его мехов…
На фиванской (беотийской) земле Дионис и его спутники прежде всего объявились в древнем городе Орхомене, где верховодил царь Миний. У Миния было три дочери: Левкиппа, Арсиппа и Алкафоя, восхитительные красавицы. А еще – непревзойденные мастерицы шитья, вышивки и разнообразного ткачества. Они настолько были поглощены своими работами, что порой забывали о праздниках. Не переменились девушки и в тот роковой для них день, когда все обитатели царства устремились в горы, следуя за новым богом.
Что же, царевны были наказаны страшным безумием. В состоянии, свойственном вакханкам, они растерзали сына старшей сестры, приняв его за крохотного олененка. Кровью невинного дитяти все-таки приобщились к новому культу.
Однако это их уже не спасло. Роскошный царский дворец в Орхомене Дионис одним мановением волшебного жезла превратил в виноградник, а царевен – в летучих мышей, его обитательниц.
Не лучшим образом сложились и отношения нового бога с его земными родственниками. Старик Кадм к тому времени уступил уже власть своему наследнику, подросшему внуку Пенфею, сыну старшей дочки Агавы, которая больше всех прочих способствовала гибели Семелы. Пользуясь безволием царского внука, Агава фактически правила государством.
Как только в высокой Кадмее стало известно, что к ней приближается новый бог, вроде бы сын покойной Семелы, – Агава и ее сестры не пожелали об этом и слышать. Конечно, вспоминали они, Семела хвасталась при жизни, будто бы к ней наведывается сам Громовержец Зевс. Однако после ее безвременной гибели не осталось решительно никого.
Агава воздействовала на своего безвольного сына, и тот разослал повсюду приказы: никакого Диониса в мире не существует! Никто не смеет оказывать почести случайно забредшим проходимцам, приносить им жертвы и отправляться в горы, чтобы истязать себя там в сумасшедших плясках!
Пенфей не доверял россказням о чудесах, творимых каким-то Дионисом. О том, что где ни появляется этот самозваный божок – сразу же расцветают деревья, ручьи наполняются молоком, а дуплá старых дубов источают сладчайший мед. Дикие звери при виде его становятся якобы ласковыми, и сердца людей разрываются от непонятной бешеной радости.
Царские приказы быстро возымели действие. Когда Дионис прибыл под стены Кадмеи – он не увидел большинства своих почитателей.
Что же, в сопровождении необычно жиденькой свиты, бог удалился на склоны лесистого Киферона. Но не успела эта немногочисленная свита скрыться за деревьями, как вслед за ней потянулись женщины. Громче всех прочих в толпе неистовствовали царские дочери – Агава, Инó, Автоноя. Почти обнаженные, как истые вакханки, они громче всех сбежавшихся горланили песни, колотили в бубны и выше всех прыгали в бесстыдных танцах.
Конечно, царь Пенфей не потерпел ослушания подданных. Собрав воинов, устремился с ними в погоню. Воины слышали уже звуки бешеной музыки, грохот многочисленных барабанов, – но ничего еще не видели.
Удивленный, Пенфей вознамерился было устроить привал, как вдруг оказался в кольце безумно пляшущих женщин. Все они были с тирсами в руках и с мертвыми змеями на неустойчивых поясах. Их возглавлял кудрявый юноша удивительной красоты, но довольно хлипкого сложения. О колени красавца ласково терлись дикие звери, заглядывая ему в глаза.
– Хватайте его! – закричал Пенфей. – Сгною негодяя в подземелье замка! Хватайте!
Однако воины были не в силах сдвинуться с места. Никто среди них не мог шевельнуть рукою, отделить от земли приросшее к почве копье. Более того, древка копий выстреливали побегами, превращаясь в буйствующую виноградную лозу.
Лобастый юноша, с улыбкой на обрамленном кудрями лице, указал на Пенфея веткой лозы. Царь вдруг почувствовал, как в его тело впиваются тысячи жестких пальцев. Ему враз почудилось, будто среди окружающих лиц он видит родное материнское. Различил и глаза своих тетушек, которые не узнавали его.
– Что вы делаете? – закричал Пенфей. – Матушка! Тетушки! Боги!
Однако гóлоса его уже никто не слышал. Единственное, что осталось от растерзанного вакханками царя, из чего можно было сделать вывод, чтó случилось на этом месте, – была его голова. Агава три дня и три ночи проплясала с нею в горах…
В Аттике лучше всего виноград созревал в Марафонской долине, и данное обстоятельство не ускользнуло от внимания зоркого Зевсова сына. Чтобы не возиться лично с плодоносной лозою, Дионис вручил побеги ее местному обывателю по имени Икарий. Получив соответствующие инструкции, прихватив с собой дочь Эригону и собаку Мойру, Икарий принялся разъезжать по окрестным землям, уговаривая земляков культивировать почти неизвестное им растение. О чем бы ни заговаривал этот энтузиаст, кто бы ни встречался ему на пути, – все у него сводилось к разговорам о винограде. О том, какие напитки получаются из прозрачных плодов. Дошло до того, что однажды Икарий приготовил напиток из виноградных ягод, угостил им встреченных на пути пастухов. Они же, не смешивая вино с водою, напились до умопомрачения и решили, что отравились. Разъяренные, пастухи бросились на Икария, избили до смерти. А на утро, сообразив, что все живы, тайно похоронили тело.
Дочь Икария, Эригона, при помощи собаки Мойры, отыскала труп родителя. Безутешная девушка с горя повесилась на дереве, посреди осиротевшего виноградника. Бог Дионис пристыдил пастухов за проявленную глупость, повелел не только родную деревню убитого, но и всю эту местность называть Икарией. После этого случая пастухи, да и все эллины, никогда не пили неразбавленное вино, но непременно смешивали его с водой. Пострадавших Икария, его дочь Эригону и собаку Мойру, по инициативе Диониса, боги вознесли на небо и превратили в сверкающие звезды: Икарий стал Арктуром, Эригона Девой, Мойра – Псом…
Феспид, уроженец Икарии (современный Дионисос), не войдя еще в надлежащий возраст (а родился он, надо полагать, примерно в 580 году до н. э.), плясун, а то и сам первоклассный учитель танцев, почувствовал в себе какое-то странное томление. Заглушать его удавалось лишь приобщением к празднествам бога Диониса. А также тем, что он долго смотрел на созвездие Арктура, Девы и Пса…
Попробовал было сочинять стихи для запевал и для хора. Стихи получались что надо. Славившие Диониса строчки знаменовали собою яркие эпизоды из жизни веселого божества. Быть может, то были моменты, связанные с судьбою царя Пенфея. Во всяком случае, литературоведам известно даже название одной из первых на земле трагедий, авторство которой приписывается Феспиду[12]. Посвящена она была богу Дионису.
Вполне возможно, что в указанном сочинении все выглядело еще абсолютно традиционно: стихотворными строчками хор обменивался с запевалой, который, впрочем, носил название гипокрит, что значит всего-навсего «отвечающий». Вскоре Феспид сам становится таким гипокритом, вроде современного нашего актера. Ответы его обретают абсолютную раскованность и постоянно растущую многословность. Он отвечал хору, превращаясь, вероятно, на время то в юного Диониса, то в тугодума Пенфея, то в его мать Агаву, то в пеших вестников.
Чтобы усилить воздействие на зрителей, Феспид придумал маски, побуждаемый к этому цветом виноградного сусла, которое, нанесенное на кожу лица, делало человека просто неузнаваемым. И каждый раз прикрывался новой маской, хранимой на дне телеги-лодки, на которую сельчане усаживали опьяненного жреца. Маски покрывали не только лицо, но и всю голову гипокрита. Роли исполнял он на разные голоса, с разными ужимками и оттенками речи.
Это было зрелище, в котором Феспид стал наиболее притягательным субъектом. Это был прообраз театра одного актера, иначе не скажешь. В нем Феспид в одинаковой степени выступал гипокритом, автором текстов, сочинителем музыки, постановщиком танцев. Мы бы сейчас сказали: он был драматургом, артистом, композитором, хореографом, сценографом, художником.
Эффект получался необыкновенный. За скрипучей телегой-лодкой его постоянно тянулись восторженные земляки…
Объехав близлежащие селения, едва дождавшись очередных Дионисий, Феспид отважился направить колеса в сторону громкоголосых Афин.
В город совоокой (ϒλαυκωπις) богини мудрости он явился с собственным хором и с телегами, влекомыми круторогими волами (на изображении из колокольни ди Бондоне Джотто во Флоренции волы заменены другими животными, более привычными глазу итальянского созерцателя). На дне телег громоздились маски, изготовленные из тряпок, глины, воска и дерева. Они зырили на всех любопытствующих огромными, вытаращенными глазами и пугали их непомерно широкими ртами, из которых, казалось, готовы были вырваться дерзкие слова. К раскрашенным маскам были приклеены пышные волосы. Такими же яркими красками отличались и сказочные убранства, предназначенные для царей, различные посохи, жезлы, короны.
Представления в Афинах, как и везде, совершались у жертвенников Диониса, после соответствующих процессий и принесения жертв богам. Любопытные зрители теснились прерывистым полукругом, то замирая от ужаса, то взрываясь безудержным хохотом. Они сгорали от нетерпения: чтó последует дальше! Кто-то усаживался на прихваченном по дороге обрубке, кто томился на жестких камнях, на подогнанной нарочито повозке. Кто – верхом на осле с беспокойным и пыльным ухом. Кто взбирался на крепкое дерево, кто довольствовался местечком на выгоревшем пригорке.
Надо сказать, что подобные сборища не оставались вне поля зрения государственных мужей. Шумные зрелища вызывали всеобщий интерес.
Среди зрителей оказался и мудрый Солон, только что, после длительного отсутствия, возвратившийся в родные Афины. В них он увидел, что его законы, дарованные землякам, находятся в небрежении. В государстве господствуют три враждебных друг другу объединения, три своеобразных партии.
Самыми непримиримыми и самыми сильными показались мудрецу обитатели наименее плодородной, холмистой части страны, партия так называемых диакриев. Возглавлял ее Писистрат. Эту партию поддерживали бедняки, а также всякого рода нищие люди, всецело настроенные против зажиточных граждан.
Будучи весьма пожилым уже человеком, Солон чувствовал себя неспособным исправить государственное устройство. Хотел лишь заставить людей повиноваться существующему законодательству.
Особенно продолжительными получались беседы у Солона с его родственником и другом молодости – Писистратом. Рассуждения последнего импонировали внимающим слушателям. Принимал их также и Солон. Однако вскоре мудрец пришел к убеждению, что под благостной личиной у Писистрата скрывается нечто очень опасное: его одолевает жажда личной власти. Солон так и объявлял всем и каждому: если бы не это стремление к власти, Писистрат прослыл бы образцовым гражданином.
Писистрат полагал, что сограждан следует силой заставить исполнять постановления правителя!
Солону и прочим сторонникам равноправия оставалось надеяться, что страсть Писистрата к единоличной власти не принудит его к активным действиям и не приведет к чему-то катастрофическому…
Конечно, мнения мудреца, к тому же поэта, известного своими зажигательными элегиями, – Феспид дожидался с большим нетерпением. И каково же было удивление наивного икарийца, когда, вопреки ожиданиям, он услышал попреки!
– Поступаешь подобно Одиссею! Так тот хоть обманывал врагов, а ты… Как не стыдно тебе так бессовестно врать землякам? – выдохнул старец, вздымая при этом дубовую палицу.
Обескураженный, со следами виноградного сока на руках и ногах, актер отвечал смущенно:
– Да ведь для людей… Шутка… Чего-то преступного – нет и в помине…
От досады Солон опустил-таки посох на землю.
– Сейчас вы хвалите его, – выговаривал он уже внимающим разговору согражданам, – однако это выйдет нам боком. Еще вспомните мои опасения…
Как ни уважали афиняне старого мудреца, а все же слова его в этот раз оставляли без малейшего внимания. Старика теперь, дескать, часто заносит… Всех потрясло мастерство приезжего гипокрита. Все хвалили пришельца.
Только один человек в окружении Солона, пожалуй, как следует оценил его сентенции и сделал из них непреложные выводы. Человека этого звали… Писистратом.
Какое-то время спустя, афиняне были потрясены известием, выплеснутым на них. Взобравшись на камень, с которого произносили речи ораторы, Писистрат не сказал еще ни единого слова, а все собравшиеся ужаснулись его окровавленному лицу.
– Вот! – сотрясал он такими же красными пальцами. – Граждане афиняне! Плакали наши вольности, которыми так гордимся! Вот что сделали со мной негодяи в отместку за то, что я всячески отстаивал справедливость! Еле вырвался…
Толпа оцепенела. Писистрата знали как бесстрашного воина, предусмотрительного вождя, не раз водившего войско в походы. И на него напали злодеи? Что говорить в таком случае беззащитному землепашцу, у которого вооружение – разве что дубина из ближайшей оливковой рощи?
Оцепенение нарушил голос Солона. Он пытался высказаться у подножия камня, поскольку Писистрат не намеревался покидать возвышенного места.
– Предупреждал я вас, граждане! – начал снова Солон. – Вот и дождались… Негоже тебе, Писистрат, вступать на дорожку Феспида!
Мало кто слышал мнения старика. Мало кто силился понять его речи.
– Охрану Писистрату! Немедленно охрану! – раздалось в толпе.
И покатился гул:
– Десять дубинщиков!
– Что ему десять!
– Не менее двух десятков!
– Тридцать!
– Сколько сам пожелает!
– Ему видней!
– Сто человек!
– Не меньше!
Писистрат, не скрывая своих увечий и косо посматривая на пытавшегося взобраться к нему Солона, с трудом угомонил земляков.
– Кто-то назвал число сто! – закричал Писистрат густым голосом. – Но мне совершенно без надобности такое количество. Достаточно и пяти десятков…
Крик облегчения вырвался из сотен, если не тысяч глоток. Писистрат всегда стоял за народ. Никого не даст в обиду. Не даст и себя.
– Писистрат сам нанес себе раны! – пытался вставить Солон. – Такие вот выводы сделал он из Феспидова обмана!
Никто не обращал внимания на речи старого Солона. Даже те, кто всегда вникал в его каждое слово…
Писистрат навербовал себе столько дубиноносцев, сколько сам пожелал. Заняв с ними укрепленный Акрополь, объявил себя правителем (новую должность его греки привычно именовали «тираном»).
Раздосадованный Солон, в ответ на это, напялил на плечи воинские доспехи, валявшиеся у него в темноте чулана, вооружился копьем и стал в виде стража у собственных ворот. Друзья и соседи были уверены, что он сам уподобился Феспиду, которого недавно так страстно корил за обман соотечественников.
– На что ты надеешься? – спрашивали мудреца, имея в виду растущую мощь Писистрата.
– На свою старость! – звучало в ответ…
Как бы там ни было, афиняне все-таки устыдились собственной вялости и прогнали Писистрата.
Но это его не смутило. Писистрат не мог отказаться от намерений, внушенных Феспидом. В отдаленном горном селении, куда вынужден был бежать неудавшийся тиран, он прослышал об очень красивой местной женщине чересчур высокого роста. Какое-то время спустя, на пыльной дороге, ведущей к Афинам, появились гонцы. Они горланили всем и каждому, что к городу приближается… богиня Афина!
В такое афинянам всегда хотелось верить. О предыдущих ее посещениях главного аттического города, о ее спорах с морским богом Посейдоном, о даровании ею аттической земле оливкового дерева, – все граждане знали с младенчества. И вот наступает момент, когда они сами увидят всесильную небожительницу… Об этом событии станут рассказывать внукам и правнукам!
И в самом деле. По дороге, вслед за гонцами, катилась роскошная колесница, тащимая четверкой великолепных коней. На колеснице стояла очень красивая женщина в сияющем золотом шлеме, с копьем в руках. Сама – в сверкающих металлом доспехах. Она была столь высокая ростом, что правивший упряжкой мужчина рядом с ней казался невзрачным подростком. И все же, все же… Колесница подкатывалась ближе, ближе, и все узнавали на ней… Писистрата! О нем и кричали бегущие вестники.
– Афиняне! – доносились их вопли. – Богиня везет вам достойного правителя! Встречайте его!
– Молитесь!
– Готовьте жертвы!
– Встречайте! Встречайте!
Геродот, отец исторической науки, уроженец малоазийского Галикарнаса, но страстно влюбленный в город светлоокой Афины, – повествуя об этом событии, удивлялся: до какой же степени могли опростоволоситься афиняне!
Писистрат и в этот раз не смог удержаться у власти. И все же, в конце концов, ему удалось добиться желаемого[13].
Что касается так называемой тирании Писистрата, то она оказалась достаточно мудрой и сдержанной. Новому правителю удалось заручиться даже поддержкой непреклонного прежде Солона, который, правда, вскоре умер (559). Вынудив соотечественников следовать законам, Писистрат способствовал укреплению культа Диониса, весьма популярного в народных массах. В правление этого «тирана» осуществились многие, сказать бы, культурные, программы. При нем были собраны и получили достойную обработку гомеровские поэмы «Илиада» и «Одиссея», по которым в школах учили читать и писать, из которых взрослые эллины черпали знания о богах и героях.
И совсем не случайно, заметим, на статуе его впоследствии помещена была эпиграмма следующего содержания:
Трижды меня, тираном бывшего трижды афинским, Изгнал народ, и вновь трижды на трон свой вернул Писистрата, в советах великого, кто и Гомера, Прежде петого врозь, вновь воедино связал[14].При Писистрате (некоторые современные ученые называют его даже античными Медичи, намекая тем самым на несомненное и широко распространенное меценатство) в Афинах находили приют многие признанные поэты. Театральное дело при нем обрело стройную организацию, подпало под всеобъемлющую государственную опеку. Феспид, как и его друзья по профессии, будучи одновременно драматургами, актерами, постановщиками, начали вступать в соревнования друг с другом.
Ежегодные празднества Диониса, в конце концов, были узаконены государством. На соревнованиях 534 года до н. э. Феспид завоевал себе высшую награду – первое место.
Друзья-соперники. Фриних
УФеспида, понятно, чуть ли не сразу же появилось много соперников и подражателей, которые рано или поздно стали отходить от тематики, связанной исключительно с богом Дионисом. Об этом свидетельствует бытовавшая тогда поговорка: «Причем здесь Дионис?» Материалов для драматических произведений в достаточной мере предоставлялось также мифами о прочих, других богах.
Время между тем летело на крыльях.
Среди известных нам драматургов, современников Феспида, традиция называет Хéрила и Фриниха. Херил прожил баснословно долгую жизнь. Начав свои выступления где-то в двадцатых годах шестого столетия до нашей эры, по заверениям древних, он соревновался даже с великим Эсхилом, который только-только успел родиться ко времени первого выступления Херила, и даже с Софоклом, которому еще предстояло увидеть свет. Ничего удивительного, что Херил успел сочинить огромное множество трагедий: вроде бы целых 160!
К сожалению, сведения о нем дотянулись до нашего времени в чрезвычайно скудном виде. Сочинений Херила не сохранилось вовсе.
Чуть больше известно о Фринихе, ученике и последователе Феспида, первый успех которого зафиксирован в 510 году до н. э.
Можно сказать, выступления Фриниха знаменовали как бы начало новой эпохи в истории Аттики. Престарелый тиран Писистрат скончался где-то в 530 году, и его сыновья, Гиппий и Гиппарх, сравнительно недолго продержались на отцовском троне. Гиппарх погиб от рук заговорщиков Гармодия и Аристогитона, которые заслужили себе вечную славу, были увековечены в песнях и памятниках. Гиппия афиняне просто прогнали. Он бежал во владения персидского царя.
Изгнание Гиппия случилось в 510 году до н. э., так что первое появление Фриниха на сцене наверняка произошло на гребне общественного подъема и всеобщих надежд. Надежды вскоре вполне оправдались: во внутренней жизни государства последовали разительные реформы.
Традиция сохранила память о необычной сладости песен, сочиненных Фринихом и распеваемых на его мотивы театральным хором, а также о придуманных им танцевальных вариациях.
Греков, между тем, ожидали не только внутригосударственные перемены. Величайшая опасность грозила им с востока – в виде экспансии Персидского государства. Покорив соседствующие народы, персидские цари все ближе и ближе подбирались к берегам Средиземного моря. Попавшие в зависимость малоазийские эллины подняли восстание, которое было жестоко подавлено. Особенно пострадал богатейший город Милет. Уцелевшие жители его были проданы в рабство (494).
Весть о гибели соплеменников потрясла всех греков. По свежим следам несчастья, в том же 494 году до н. э., во время празднования Дионисий, Фриних поставил в Афинах трагедию под названием «Падение Милета».
Теперь уже невозможно ответить, каково же было содержание поставленной им драмы, чтó легло в основу ее сюжета. Знаем лишь то, что после этого представления афиняне настолько расстроились представленным зрелищем, что они прогнали автора пьесы. Удалив его из театра, запретили вообще повторять эту драму. Вдобавок, Фриних был оштрафован на огромную сумму в тысячу драхм![15]
Нет ничего удивительного, что драматурга потрясло наказание. Казалось бы, он навсегда отречется сочинений на современную тематику. Более того, его поведение вошло в поговорку. Стоило кому-либо в Афинах проявить испуг, малодушие, как на него тут же указывали пальцами: «Вот! Испугался как Фриних!»
Каким же образом добился поэт-драматург столь разительного эффекта? Какого же уровня должно было достигать его мастерство, чтобы всколыхнуть сознание тысяч людей? А там были не только аристократы, ценители и почитатели лицедейства (они составляли незначительную часть афинской публики), но и всякие каменщики, поденщики, рыбаки, пастухи и прочие простолюдины и чернорабочие. И чем всколыхнуть? Игрою, голосом, раскрашенными масками? Или же песнями? А то и плясками хора?
Вопросы, вопросы, вопросы…
Остается лишь взвесить, чтó нам известно о древнем Милете.
Этот город, заложенный на одном из мысов малоазийского берега Средиземного моря, появился в XI веке до н. э. Предания гласят, будто основал его выходец с острова Крита, по имени Милет, который бежал от власти грозного царя Миноса, сына Европы и Зевса. К VI веку до н. э. Милет превратился в весьма притягательный торговый, промышленный и культурный центр. Он стал родиной знаменитых философов Фалеса, Анаксимена, Анаксимандра, логографа (землеописателя) Гекатея и прочих, прочих. Город продолжал развиваться, высылать все новые и новые колонии по берегам Средиземного моря, число которых и насчитывало уже несколько десятков. Одним из основанных им поселений, кстати, была уже более или менее известная нам древняя Ольвия на берегах Днепровско-Бугского лимана.
И вот этот город, расположенный на противоположном берегу Эгейского моря, город, путь к которому был ведом каждому взрослому афинянину, организатор и вдохновитель восставших эллинов, – оказался разрушенным до основания.
Остается только предположить, что Фриних наказал себя сам: он слишком перестарался, изображая страдания поверженных милетян. В результате, в головах его земляков, сложилось обидное впечатление, будто драматург преувеличил персидскую мощь, идеализировал силу персов. А тем самым недооценил, унизил, пресловутую греческую доблесть. Этого-то афиняне и не могли ему простить.
Как бы там ни было, а все ж остается предположить, что жесткая, даже жестокая реакция афинской публики отбила охоту у большинства драматургов задевать современные темы.
Сочинители первых драматических произведений были замечательными людьми, достойными памяти благодарного человечества. И все ж они только-только наметили очертания сценического искусства. В своих представлениях эти люди были актерами, каждый чувствовал себя гвоздем программы. Но главным действующим лицом в постановках оставался все-таки хор.
Об этом говорит сама структура спектакля. Он состоял из пролога, в котором авторы раскрывали замысел, настраивая публику на определенный лад, задавая тон всему представлению. Далее следовал парод – то есть появление и проход хора по утоптанной орхестре. Затем шли эписодии, диалоги, собственно – основная часть представления, столкновение сторон, прерываемое стасимами – вставными песнями и танцами хора. Момент удаления хористов с орхестры означал завершение всего спектакля. Последняя часть сценического действа носила название эксод, то есть – исход актеров со сцены.
Настоящего театрального действа первым драматургам добиться не удавалось. Восхищенные зрители, по сути, видели и слышали выступления отдельных поэтов, которые, в сопровождении хора, декламировали свои стихи. На подмостках не улавливалось интриги, которой питается воображение зрителя. Не ощущалось даже подобия действия и тем самым подобия действительности.
Эсхил, или театр двух актеров
То, что Феспид изобрел – и сельские игры, и хоры, —
Все это сделал полней и совершенней Эсхил.
Не были тонкой ручною работой стихи его песен,
Но, как лесные ручьи, бурно стремились они.
Вид изменил он и сцены самой. О, поистине был ты
Кем-то из полубогов, все превозмогший певец!
Диоскорид. Эсхилу[16]После него Эсхил епанчу и приличные маски
Выдумал – и сцену устроив на средственных брусьях,
Первый ввел и речей возвышенный строй и котурны.
Квинт Гораций Флакк[17]Творцом настоящей драматургии по праву считают (и считали в древности) поэта Эсхила.
Эсхил родился вскоре после кончины тирана Писистрата. Родиной его стал небольшой аттический городок Элевсин, центр упомянутой мною долины, одно время соперничавший с соседствующими Афинами. По преданиям, в этот благодатный край неоднократно наведывалась сама Деметра, богиня плодородия. Она и обучила местных жителей выращивать пшеницу, выпекать из нее хлебá. Элевсин стал местом ежегодных празднеств, связанных с таинственными обрядами, в которых отражался процесс умирания и воскрешения окружающей природы.
Не менее часто, были уверены элевсинцы, гостил у них также бог Дионис, уроженец соседней Беотии. И все ж элевсинские земли славились не только буйной пшеницей, но и тугими виноградными гроздьями. Кудрявые заросли лоз покрывали склоны холмов и прогретых солнцем горбатых пригорков.
Эсхил, сын Евфориона, происходил из древнего аристократического рода, владевшего большими земельными наделами, в том числе – виноградниками. Естественно, сын богача получил прекрасное воспитание и образование, которое, правда, в первую очередь заключалось в умении читать и писать, петь, играть на различных музыкальных инструментах, а также в способности держаться на воде. О неуче и тупом человеке, как правило, эллины говорили, что он не умеет «ни читать, ни плавать». Образованный юноша должен был по памяти декламировать гомеровские произведения, быть ознакомленным с творчеством современных ему поэтов.
Нелишне будет заметить, что Афины к указанному времени сделались одной из поэтических столиц Эллады: продолжая старания покойного родителя, тиран Гиппарх привлекал стихотворцев со всех ее уголков.
Наставники не преминули поведать Эсхилу о философских доктринах и прочих научных тонкостях, которые неустанно витали в эллинском мире. Конечно, он великолепно разбирался в преданиях и мифах, которыми всегда была наполнена голова любого античного грека.
Положению Евфориона в обществе соответствовало также телесное развитие его сыновей, предполагавшее физическое совершенство, владение оружием, будь то копье, отточенный меч, широкий щит или тетива тугого лука. Как и все его братья (а их у него было несколько), Эсхил рос готовым в любое мгновение выступить на защиту отечества, благо потребности в том возникали почти постоянно.
Очевидно, юный Эсхил очень рано стал проявлять способности к стихотворчеству, что отмечали все составители его биографий. Правда, о нем писали все авторы уже как о большой знаменитости, а потому старались выразить нечто чрезвычайное, лишний раз подтверждая его гениальность и нисколько не умаляя сложившегося имиджа замечательного драматурга.
Составители таких биографий взахлеб утверждали, будто Эсхил еще в детстве отмечен был богом Дионисом. Навещая «виноградный» город, бог Дионис однажды заслышал звонкий мальчишеский голос, скандировавший гомеровские строки. Веселый, чуть пьяный, небожитель, представ перед юным декламатором, предрек ему славное будущее на драматургической ниве. Но после того, как шумная свита поддержала бога своими хмельными выкриками, все поющее и пляшущее их сообщество тут же пропало, почти не замеченное никем из соседей.
Естественно, писали биографы, Эсхил навсегда запомнил тот знаменательный день, стараясь оправдать возложенные на него надежды. С юных лет волновали его встречи с мастерами слова, будь то сказители, часто слепые, в лохмотьях, бродившие от селения к селению в сопровождении поводырей и горланившие свои и чужие рифмы, будь то знаменитые их собратья, признанные поэты, выступавшие в домах и дворцах богатых ценителей.
Гораздо сильней увлекали Эсхила театральные представления. Наверное, с юности посещал он шумные зрелища в период Великих Дионисий, благо зéмли отца отделялись от Афин расстоянием в каких-нибудь двадцать нынешних километров. Для тренированного атлета такие дистанции не составляли никаких затруднений.
Искусство драмы[18], пусть и в зачаточном своем состоянии, показалось отроку чем-то особенным, необычным, почти неземным. Оно дурманило не только волшебными строчками, но и бурным дыханием народной массы, реагировавшей на каждое слово. Уносило юношу в неведомые края своими чудесными мелодиями, переливами красочных одеяний поющего хора, неудержимыми плясками, при одном виде которых трудно было усидеть на месте.
На театральной площадке, уже вымощенной камнями орхестре, имелось все то, что привлекало внимание любого эллина, а тем более – вдохновленного богом поэта.
Эсхилу исполнялось пятнадцать лет, когда Аттика освободилась от тиранической власти, такой благодатной для основной массы афинян в начале правления самого Писистрата, но ставшей невыносимой при его сыновьях, особенно – при единоличном правлении Гиппия. Загнанный в угол, сын тирана мстил за гибель брата.
Конечно, молодого поэта захлестывал дух свободы. Он был уже почти в возрасте эфеба[19], когда вождь демократов Клисфен, представитель клана знаменитых Алкмеонидов, начал проводить основательные реформы. Путь реформатора никогда не бывал усыпан розами. А в этот раз Клисфену противостояли аристократы во главе с Исагором, которому удалось привлечь на свою сторону спартанского царя Клеомена. Спартанское войско поспешило на помощь сторонникам тирании, и лишь благодаря усилиям заинтересованного народа Клисфену посчастливилось изгнать захватчиков, а вместе с ними – строптивого Исагора.
В отличие от Солона, желавшего стать примирителем между партиями, Клисфен разрушил господство родовой аристократии и способствовал укреплению афинского государства. Беднейшие его обитатели, лично свободные, ощутив себя гражданами, почувствовали ответственность за судьбы всего государства.
Эта готовность народа к обороне родной земли проявилась уже в локальных, внутренних войнах. Еще бóльшая возможность замаячила для них в будущем. Зревшая на востоке опасность возрастала с каждым днем.
Театральные представления в рамках Великих Дионисий обретали в Аттике стабильные правовые рамки. Состязания поэтов, участников празднеств, были окончательно узаконены в 508 году до н. э. Это означало, что к конкурсу допускаются все желающие, главным образом – признанные мастера словесного цеха. Пройдя предварительный отбор, поэт-драматург получал право готовить свое детище к представлению за государственный счет, то есть – выступать в нем в качестве гипокрита-актера, да и во всех прочих качествах, на которые был способен.
Выступив впервые в 500 году до н. э., Эсхил, однако, не получил желанного первого места.
Оставалось ждать и работать.
Марафонские страсти
Все это лето показалось афинянам просто ужасным. Каждый день приносил все новые и новые вести о приближении грозной персидской мощи.
Персы успели уже подчинить все земли, расположенные на пространстве от Кавказских гор на севере до Нильских порогов на юге. А также – от пределов Индии на востоке – до берегов Дуная на западе.
Персидский царь Дарий велел своим полководцам как можно скорее покорить остальных, островных и материковых греков. Правда, первая попытка в 492 году до н. э. завершилась явной неудачей персидских завоевательных планов: буря разметала флот захватчиков, и полководец Мардоний, царский зять, поставленный во главе нашествия, утратил доверие тестя.
К новому походу персы готовились под водительством полководцев Артаферна и Датиса, первый из которых опять же был царским родственником, любимым племянником. Военная акция началась весною 490 года. Направляясь к Балканам, персидский флот покорял большие и малые острова, разбросанные по глади Эгейского моря. Впрочем, то была не очень уж «пыльная» работа. Никто не отваживался противостоять лиху, которое подминает под себя все живое.
Безнадежность сопротивления понимали не только островитяне, но и прочие греческие государства, которых тогда насчитывалось несколько сотен. Одни среди них обреченно ждали прихода врагов, другие – заранее демонстрировали готовность подчиниться ужасной судьбе.
Конечно, ни для кого не оставалось секретом, что первыми пострадают жители города Эретрия на ближайшем от Аттики острове Эвбея – за их сочувствие мятежному Милету. Далее – наступит очередь Афин.
Положение афинян осложнялось еще и тем, что Артаферн и Датис везли с собой престарелого экс-тирана Гиппия, два десятка лет тому назад изгнанного по инициативе Алкмеонидов. Гиппий мечтал о возвращении власти и, несмотря на пролетевшие годы, в Афинах оставалось немало его тайных пособников. Вдобавок к этому, Гиппий хорошо еще помнил слабые стороны афинского войска. Какая-то часть афинян желала примкнуть к сторонникам тирана просто из вражды к Алкмеонидам, а еще – из-за страха перед персами.
Все указанное осложняло задачи тех обывателей, которые являлись врагами нашествия. Конечно, большинство афинян проявляло настоящий патриотический настрой. Они и задавали в государстве тон, определяли его политику, тогда как противники их действовали скрытно, с опаской, под страхом строжайшего наказания. И все ж патриотам приходилось надеяться только на ресурсы собственного государства.
Когда до города долетела весть, что суда захватчиков приблизились вплотную к Марафонской равнине, – на помощь афинскому войску поспешил лишь скромный отряд платейцев, небольшого городка на беотийской земле. Состоял он из нескольких сотен бойцов.
Правда, афиняне до последнего момента надеялись на поддержку воинственной Спарты. Отправляя войско навстречу персам, они послали в Пелопоннес бегуна Фидиппида, который без остановки пробежал расстояние, равное нынешним 200 километрам, и на следующий день предстал перед спартанскими старейшинами.
– Афины в опасности! – выдохнул Фидиппид. – Не дайте погибнуть эллинскому городу!
Спартанцы, будучи воистину храбрыми воинами, что не раз доказывалось ими на деле, – со всей очевидностью полагали: они не в состоянии помочь афинянам. В Спарте выдвигались планы укрепления Истмийского перешейка, который отделяет центральную Грецию от южного побережья. Спартанцы надеялись не пропустить захватчиков дальше, в Пелопоннес. Им почему-то не приходило в голову, что таким маневром персов не остановишь. Захватчики обладают мощным флотом и могут высадиться в любом приглянувшемся месте.
Посовещавшись, спартанцы ответили:
– Сейчас у нас праздники бога Аполлона. Помощь пришлем после наступления полнолуния.
Не теряя времени, Фидиппид пустился в обратный путь, напрямую уже к Марафону.
Афинское войско, ударную силу которого составляли гоплиты, топталось на каменистой возвышенности, отгородившись от персов глубокими рвами.
Тридцатипятилетний Эсхил, не раз уже добивавшийся права представлять свои драмы на праздниках Дионисий, – не ощущал ни тяжести снаряжения, состоявшего из медного шлема, панциря, поножей, ни тяжести оружия, как то меча, копья и щита. Он находился в расцвете телесных сил и чувствовал себя достаточно тренированным, решительным и отчаянным. Правда, все снаряжение и оружие его покоилось на пожухлой от солнца траве. На плечах у каждого воина оставался только прогретый солнцем панцирь, в который невозможно было втиснуться без помощи оруженосцев, главным образом – скифских рабов, вооруженных луками и отосланных сейчас за внешние пределы рва. У гоплитов, таким образом, сохранялась возможность избежать внезапного нападения очень опасной неприятельской конницы.
Поэт стоял в окружении братьев, родственников, знакомых элевсинцев и афинян. Все вокруг не отрывали взглядов от того, что творилось внизу, за извилистой линией рва.
А там, на ослепительной глади, до самого горизонта кишели неприятельские суда. Блеск прибрежных песков пересекали вереницы людей в длиннополых одеждах и их гривастых коней. Враги сновали от чернобоких судов к победно пылавшим кострам. Пространство переполняли человеческие голоса, повсеместное ржанье коней, пронзительные крики ослов и верблюдов и всепобеждающий звон оружия.
Персы группировались в ряды, пешие и конные порознь. Врагов насчитывалось так много, что у эллинских стратегов, полагал Эсхил, замирают в тревоге сердца. Стратеги, конечно, не сомневались, что никто из гоплитов, пока они держат оружие и стоят на ногах, не уступит противнику ни пяди земли. Но кому суждено здесь остаться в живых, если на каждого эллина приходится по десятку персов? Подобные мысли тяготили всех воинов, даже наиболее опытных гоплитов.
– Персы не знали поражений ни в Азии, ни в Ливии (Африке), ни в Европе! – раздавалось за спиной у Эсхила.
Разговоры тут же обрывались из-за вмешательства ветеранов, знающих, насколько опасны оценки противника ввиду неизбежного сражения.
– Выдержим! – хрипели они.
Однако тревожные настроения прорывались снова и снова:
– Как устоять против конницы?
– Да! Конница…
И снова:
– Выстоим, сказано!
Каждого волновала мысль: чтó произойдет с Афинами, с мудрыми старцами, составляющими высший государственный совет – Ареопаг? Что случится с остальными обитателями славного города – стариками, женщинами, с детьми?
Стратеги, сбиваясь в кучку на самом высоком месте, неотрывно глядели на вражескую конницу, гарцевавшую на кромке морского берега. Они вспоминали известные им сражения, исход которых решался ударами быстрых всадников. Впрочем, был уверен Эсхил, военачальники понимают, что власть здесь находится в руках одного человека, формально равного прочим стратегам, но фактически – военного вождя.
Вождь носил имя Мильтиад. Он родился и вырос в Афинах, происходил из рода Филаидов, соперничавшего с Алкмеонидами. Но главную часть своей жизни провел в Херсонесе Фракийском, будучи наследственным правителем тамошних земель. Он в значительной степени зависел от воли персидского царя. Изучив персидскую мощь, Мильтиад все ж остался закоренелым эллином. Возвратясь в Афины, он отверг обвинения Алкмеонидов и добился даже своего избрания одним из десяти стратегов. То, что афинянам удалось сколотить боеспособное войско и вывести его навстречу персам – это результат настойчивости Мильтиада.
Внимание всех эллинов было обращено на него, а сам он казался по-прежнему спокойным и уверенным в себе, хотя понимал, какую силу представляет персидское войско, как неудержимы царские конники. Доверие соотечественников Мильтиаду предстояло оправдать в кровавом сражении. Он выслушивал и отсылал каких-то ловких молодых людей, которые появлялись перед его шатром и так же внезапно вдруг пропадали. Вождь чего-то вроде бы дожидался.
В предчувствии грозного сражения, Эсхил, хоть и крепко верил во всемогущество Зевса, стал все чаще и чаще подумывать о Мойрах. Все больше и больше верил в Лахесис, назначавшей человеку особый жребий, в Клото, прядущую нить его жизни, и в Атропос – «неотвратимую»… Ей одной позволительно было решать, когда человеку суждено распрощаться с жизнью. Что же, чему назначено быть – того не объедешь на самом быстроногом животном…
И вдруг, поближе к обеденной поре, далеко в горах, в стороне оставленных накануне Афин, сверкнуло яркое пятнышко. Оно погасло, но тут же вспыхнуло снова, опять погасло. И вот засияло с невероятной силой. Его отчетливо видел Эсхил. Видели не только все эллины, но и противостоявшие им персы.
– Это знак! – раздалось за спиной.
– Да! – закричали гоплиты. – Там поднимают и опускают медный щит!
– Измена!
– Кто-то…
– Да! Кто-то призывает персов в Афины! Наш город сейчас почти беззащитен!
Эллины кричали, глядя на Мильтиада. Ждали его реакции. Однако он, ко всеобщему изумлению, оставался спокойным, как олимпийские боги.
Впрочем, в его движениях проявлялась какая-то сказочная уверенность. Некоторых это насторожило, даже старшего Эсхилова брата, неистового Кинегира. Однако такая уверенность предводителя взбодрила все эллинское войско.
А в рядах неприятеля начало твориться нечто невероятное: персидские конники, сверкая доспехами и конской сбруей, в клубах пыли начали оставлять уже занятые позиции. Персы возвращали конницу на доставившие ее суда!
– Куда торопятся? – гудел над ухом брат Кинегир, не доверяя своим глазам. – Неужели в Афины? Почему же медлит наш предводитель?
Выслушав донесения новых гонцов, Мильтиад подозвал трубача. Прозвучавший сигнал означал приказ выбираться за линию рвов. Полководец торопился, словно бы опасаясь, что персы начнут возвращать своих конников на прежнее место, хотя с высоты отчетливо было видно: отягощенные грузом суда исчезают в открытом море.
Воспользовавшись отсутствием царской конницы, Мильтиад развернул гоплитов на Марафонской равнине. Это удалось проделать настолько быстро, почти мгновенно, под прикрытием легковооруженных воинов и рабов, что персы, изготовившись к бою, едва успели противопоставить своих бесчисленных лучников, действовавших впереди основного войска, закованного в металл, ощетиненного копьями и украшенного блеском отточенных мечей. Обычно лучники осыпали противника стрелами, нанося ему ощутимый урон и расстраивая его ряды.
В этот же день персидским стрелкам из лука только единожды удалось натянуть и отпустить свои тетивы. Они сами почувствовали себя ненужными и вынуждены были спасаться бегством, чтобы не быть раздавленными двумя враждующими войсками.
Эсхила, оказавшегося в первых рядах бегущих гоплитов, оглушило громом криков, стонов, стуком мечей, звоном доспехов. Все слилось и перемешалось в непрерывном гудении.
– Э-э-э-эй!
– А-а-а-а-а!
Превосходство захватчиков в живой силе было столь многократным, что им удалось прорвать строй афинян и продвинуться далеко вперед. Уже после сражения многим гоплитам, в том числе и Эсхилу, показалось, будто в самом построении эллинского войска скрывался один из замыслов хитроумного Мильтиада: более мощные силы сосредоточены были у него на флангах. Впрочем, над этим никто не задумывался даже впоследствии, разбирая ход сражения. Сам Мильтиад не находил нужным раскрывать свою тактику. Возможно, он еще раз надеялся воспользоваться приемом, неразгаданным противниками.
Как бы там ни было, успехи персов в центре сражения не смутили греков, дравшихся на флангах, а лишь подстегнули их к еще более стремительному продвижению вперед. Крылья греческой фаланги явно устояли, и эти-то крылья сомкнулись и ударили в спину прорвавшимся чужакам…
Успехи греков оказались настолько значительными, что сразу вызвали тревогу персидских военачальников. Впрочем, даже не в этом дело. Стоило кому-то из персов в центре сражения закричать «Нас обходят!» – как тут же взорвались тысячи голосов:
– Нас обходят! Боги-и-и!
– Спасайся!
– Спасайся!
Заминка и сумятица мигом переросли в панический страх. Ни Датис, ни Артаферн не могли уже что-то переиначить[20].
Перелом в сражении наступил в один миг. Спасаясь, тесня друг друга, персы освобождались от щитов и доспехов. Лишь бы добраться до судна, укрыться за его бортами, отчалить в море.
Конечно, бегущие становились легкой добычей для тренированных гоплитов. Настигая врагов, гоплиты устилали равнину трупами. Победители хватались за борта руками, стремились удержать судно, взобраться наверх, учинить там бойню, пленить корабль. Персы в ужасе отбивались мечами, копьями, руками, ногами, как могли.
В пылу сражения, уже чувствуя дыхание моря и невольно жмурясь от водного блеска, Эсхил увидел брата Кинегира. Бросился ему на помощь, круша мечом преграждавших дорогу персов, и не смог уберечься от удара сзади. Показалось, что он провалился в темный колодец…
Сражение завершилось только к вечеру. Потери персов достигали шести тысяч павших пехотинцев, тогда как афиняне недосчитались всего лишь 192 воинов. В руках у них оказалось семь неприятельских судов.
Окрыленный победой, Мильтиад отправил в Афины гонца Фидиппида – с вестью для всех обывателей, истомившихся неизвестностью.
Этот пробег стал для юноши последним. Преодолев расстояние, равное 42 километрам 195 метрам (нынешняя марафонская дистанция), выплеснув весть своим соотечественникам, Фидиппид замертво рухнул на землю…
Очнувшись, Эсхил мигом сообразил, что находится в лагере, стало быть, победителей. Вокруг него, чувствовалось, находится мало живых людей, зато – горы вражеских трупов. Мертвых своих соотечественников греки складывали вокруг пылавших костров. Туда же сносили всех раненых.
Над ним свисало прозрачное небо, усыпанное тысячами мигающих звезд. Попробовал шевельнуться, но это удалось с трудом. И все же он понял, что остался с руками-ногами, что боль во всем теле и шум в голове – совсем не смертельны. Удар персидского меча не смог раздробить его мощного шлема, доставшегося еще от деда Агакла.
Эсхил попытался освободиться от шлема, но руки не подчинялись. Повернул слегка голову, и, быть может, скосил глаза, поскольку обнаружил шлем, лежавший на уровне уха. Голову сдавливала непомерная тяжесть.
Движения не остались напрасными. Фрасибул, очевидно, отлучившийся лишь на мгновение, тут же высунулся из-за куста. По-своему истолковав усилия господина, невольник поднес черепок с водою.
– Пей, хозяин!
В голове Эсхила вздымалось и пропадало все случившееся с ним в сражении. Снова увидел напряженные лица врагов, прикрытых медными шлемами. А еще – замелькали фигуры его соотечественников, по-разному понимающих все происшедшее, спорящих и галдящих…
Все это, сказано, возникало и пропадало, чтобы тут же возродиться с новою силой. Эсхилу казалось, будто его несет и вращает могучий горный поток. В промежутках между провалами памяти улавливал голоса, доносящиеся от костров.
– То был Тесей! – кричали наиболее ретивые. – Это он!
– Да! Тесей! Конечно!
Из обрывочных разговоров становилось понятно, что победа над персами не могла получиться без помощи богов. Да, все эллины различали высокую мощную фигуру в золотых доспехах и с длинным копьем в могучих руках. Неизвестный герой увлекал за собой победителей.
– Тесей! Без сомнения! – доносилось снова и снова. – Конечно! На этих полях он встретился с Пирифоем!
– Здесь герои впервые увидели друг друга.
– И сразу же подружились.
– Тесей!
– Тесей!
Эсхил все сильней погружался в липкое забытье. Когда к нему возвращалось сознание, он снова улавливал разговоры о неведомом боге.
– Конечно! Козлоногий не позабыл своих обещаний!
– Наслал на врагов панический ужас!
Разговоры не утихали. Они переходили на остальных небожителей, в первую очередь – на Афину и Диониса…
Мильтиад, между тем, был уже далеко от поля сражения. После победы, собрав смертельно уставших воинов, он заявил, сотрясая словами густой предзакатный воздух, переполненный запахом свежей крови:
– Граждане-афиняне, поспешим к родному городу… К нему теперь приближаются наши враги!
Мильтиад был уже далеко не молод. К тому же он только что отличился в первых рядах, подавая пример гоплитам. И все же он прежде всех молодых оказался на дороге, ведущей к Афинам.
Предпринятый им маневр удался полностью. Персидский флот, обогнувший Аттику и остановившийся у берегов Пирея, афинского порта, увидел готовое к сражению войско, которое победило на Марафонской равнине. Помедлив какое-то время, посовещавшись, Датис и Артаферн приказали поднимать якоря.
Персы уплыли к своим берегам, смирившись с неприятнейшим для них поражением.
Марафонская победа вознесла Мильтиада на такую высоту, что опасаться его начали даже Алкмеониды. Знак, подаваемый перед сражением, видели чуть ли не все победители. Вопрос о предательских знаках-сигналах встал сразу же после ликвидации страшной угрозы. Кто подавал сигнал? Кому в Афинах хотелось подчинить себя воле тирана Гиппия?
Сам тиран Гиппий был уже безнадежно дряхл. Указав персам место для высадки, с трудом выбравшись на берег, он споткнулся о невидимое препятствие, упал. Изо рта у него вывалился чуть ли не последний, единственный зуб. Старик начал копаться в поисках потери, просеивал песок сквозь пальцы, – да все без толку. Тогда он понял, что надежды на обретение утраченной власти – также неисполнимы и тщетны.
Подозрения о сговоре с Гиппием, а отсюда – с захватчиками, так или иначе касались Алкмеонидов, вопреки здравому смыслу и логике: зачем им тиран, которого они всеми силами старались прогнать? Отец истории, Геродот, описывая этот период в жизни Греции, категорически отрицает предательство Алкмеонидов. А Геродоту, хоть и родившемуся после Марафонского сражения (484), наверняка удалось побеседовать с очевидцами этих событий.
И все же для Алкмеонидов настали трудные времена. Им пришлось защищаться. Подозревать в предательстве кого-либо иного, не их, – было еще абсурднее.
Но Алкмеонидам везло.
Мильтиад и дальше подбивал афинян развивать наступление на персидском фронте. Откровенно говоря, он начал неблагородное дело: под видом наказания за подчинение персам Мильтиад принялся грабить островитян, пополняя тем самым государственную казну. И вскоре наткнулся на сопротивление жителей Пароса.
При каких-то загадочных обстоятельствах Мильтиад был ранен на острове в ногу. Рана не заживала, а главная паросская твердыня, хоть и зажатая в тиски блокады, не думала сдаваться. И в этот момент вдали закурился столб черного дыма. Конечно, всполошились афиняне, на помощь осажденным спешит грозный персидский флот, в котором не менее тысячи кораблей, тогда как у Мильтиада их всего восемь десятков.
Мильтиаду пришлось срочно снимать осаду и отплывать в Афины. Там, пожалуй, поверили бы версии о присутствии персидского флота, однако морякам удалось пронюхать, что причиной дыма явился пожар на одном из островов, соседствующих с Паросом.
И сразу же возник вопрос: кто, в таком случае, распускал слухи о подходе персов? Не делалось ли все это по приказу зашедшего в тупик Мильтиада? Кто возместит народные деньги?
Одним словом, Мильтиаду предстояло защищаться в суде.
Обо всем этом Эсхил узнавал уже в своем элевсинском имении. Излечиваясь от ран, он работал над новыми драмами. Почитал своим долгом рассказать о мужестве соотечественников и военном гении Мильтиада.
Эсхилу наверняка казалось, что на Марафонском поле Мильтиад проявил величайшую военную хитрость, мудрость, перед которою меркнет его же удачное построение афинской фаланги, как бы заманившей персов в ловушку. Однако победа не могла быть достигнута одним напряжением сил афинских гоплитов. Как бы там ни было, а существует предел, граница, когда количество персидских воинов превосходит качество эллинской выучки. Без гениальной хитрости, проявленной Мильтиадом, был убежден Эсхил, эта победа выглядит все ж невозможной. Признание гениальной хитрости вождя нисколько не умаляет доблести всех победителей.
Эсхилу чудилось, что загадочный щит на склонах аттических гор появился по указанию самого Мильтиада, обладавшего решительным, к тому же – явно авантюрным характером. Мильтиад прекрасно знал и правильно оценивал возможности персидских войск и возможности своих земляков. Он понял, какая опасность нависала над всем его родом, над афинским полисом. Чтобы избежать поражения, чтобы лишить персидских военачальников главного козыря в предстоящем сражении – неодолимой конницы – Мильтиад без сомнения мог решиться на тайные переговоры с врагами, в действительности – лишь отвлекающими их внимание. Он обманул их всех. Обманул Гиппия. В конце концов, обманывал и афинское государство. Поступил подобно Одиссею, водившему за нос врагов. В этом его не упрекнул бы даже мудрый Солон! Все делалось во имя и на благо Афин. А победителей не должно судить.
Эсхилу казалось, будто нечто похожее, хоть и не совсем благородное, Мильтиад попытался осуществить и на Паросе. Но – просчитался.
Судебное заседание, на которое Эсхил пришел своими ногами, полностью выздоровев, выглядело необычно. Народ собирался в театре Диониса. На орхестре, видевшей немало уже замечательных постановок, судили героя великого сражения, победителя, обессмертившего свое имя и прославившего свое государство. Подобного рода делá надлежало разбирать в присутствии всего афинского народа.
Так и получилось. Разбирательство выглядело захватывающим представлением. Обвинителями выступали Алкмеониды. Речь от их имени держал Ксантипп, отец знаменитого впоследствии Перикла. За обман народа Мильтиаду грозила смертная казнь. На это намекал Ксантипп.
Автора Марафонской победы доставили на деревянных носилках. Он лежал на виду у всех, на фоне Акрополя, возведенных на нем святилищ, облагороженных могил почитаемых предков. Он выглядел грузным, по-стариковски беспомощным, с черной кожей лица и со всклокоченными седыми волосами. В его прищуренных глазах Эсхил уследил приметные слезы. Их полководец не мог стряхнуть.
Марафонские бойцы, в толпе которых стоял Эсхил, совсем недавно взиравшие на блеск Мильтиадова шлема, внимавшие его громоподобному голосу, – отводили взгляды.
Защита произносила речи, напирая на то, что перед судьями лежит далеко не обычный защитник родины, и вопрос о наказании смертной казнью как-то сам по себе отодвинулся на задний план. Мильтиада наказали штрафом в пятьдесят талантов.
Не оправившись от раны, автор Марафонской победы скончался вскоре после суда. Штраф был «повешен» на его молодого, если не сказать – юного, сына Кимона.
Тайну Марафонской победы, загадку сверкавшего в горах щита, приведшего к удалению опасной персидской конницы, равно и загадку паросской экспедиции афинского флота, – все это Мильтиад унес с собою в могилу…
Уже на этом этапе судебного разбирательства Эсхил с горечью констатировал, что задуманная им драма о Марафонском сражении, главным героем которой должен был выступить Мильтиад, – ни в коем случае не будет поставлена в афинском театре. На долгие годы это имя станет просто запретным…
Первой победы в состязаниях драматургов Эсхил добился лишь в 484 году до н. э., перешагнув уже свой сорокалетний рубеж.
Конечно, при желании совершенно нетрудно заподозрить древних эллинов в каком-то манипулировании фактами из биографии поэта. Древние всегда были твердо уверены, что к собственному сорокалетию каждый человек, гражданин своего отечества, совершает главное дело всей своей жизни, ради которого и явился на свет.
Что же, к указанному периоду Эсхил действительно сумел подняться на первое место среди драматургов и не уступал его никому, вплоть до появления основного соперника в лице Софокла, которому к 484 году исполнялось всего двенадцать лет.
Анализ событий указанного периода со всей наглядностью подтверждает, что настрой афинского общества способствовал наибольшему проявлению творческих сил и талантов любого человека. Но чтобы добиться такого первоначального успеха на драматургической ниве, чтобы заслужить звание «отца трагедии», – надо было представить нечто исключительное, что покорило бы зрителей и судей своим созвучием с пафосом освободительной войны, чтобы это произведение просто-напросто потрясло современников.
Конечно, из памяти Эсхила никак не могло выветриться негативное отношение афинского народа к драме Фриниха о взятии Милета. Он вряд ли осмелился бы напрямую обратиться к современной теме, не говоря уже о Марафонском сражении и геройстве Мильтиада, не будучи на первом месте среди остальных драматургов, а лишь добиваясь этого первенства. С другой стороны, ему, прямому участнику знаменитого сражения, несмотря ни на что, не давали покоя мысли и чувства, связанные с таким грандиозным событием. В ушах его так и стояло все, что было услышано на поле брани. Он опять и опять переживал незабываемый всеобщий восторг.
Вполне возможно, что Эсхила выручило обращение к мифам о Тесее, любимом герое афинского народа, его древнем царе, о котором в городе говорили все от мала до старого. Марафон же был связан с одним из первоначальных подвигов Тесея, совершенных им на аттической земле, впоследствии ставшей ему родною.
Дело в том, что когда Тесей достиг совершеннолетия и прибыл в Афины к своему отцу Эгею, совершив по пути массу исключительных подвигов, то Эгей поначалу не признал его, а злая его супруга, колхидская царевна Медея, подговорила старого мужа вообще отрядить пришельца на видимую смерть. Юноше предстояло поймать Марафонского быка, опустошавшего пастбища и уничтожавшего человеческие жилища, заодно – и самих людей.
Этого быка, обретавшегося на острове Крите, некогда перевез на материковую землю герой Геракл, исполняя веление микенского царя Еврисфея. Но Еврисфей испугался чудовища и прогнал его на все четыре стороны.
Эгей и Медея были уверены, что Тесей погибнет, однако здорово просчитались. Тесей одолел чудовище. Он притащил быка в Афины и провел его, упиравшегося, по всем городским улицам, чтобы принести в жертву богу Аполлону. Мясом зажаренного животного угощались все афиняне.
Второе событие, связанное с Тесеем и с Марафоном, заключалось в следующем: как только о подвигах афинского царевича, собственно – уже царя, прослышал его сосед Пирифой, – последнему захотелось не то познакомиться с ним, не то помериться силами.
Пирифой управлял лапифами, древним мифическим народом, обитавшим в лесах Фессалии, к северу от Аттики, близ гор под названиями Осса и Пелион. Облачившись в доспехи, Пирифой вооружился и, в сопровождении слуг, захватил одно из стад, бродивших по Марафонской равнине, как раз в тех местах, где впоследствии разыгралось сражение с персами. Хозяином стад, был осведомлен Пирифой, являлся аттический царь Тесей.
Сопровождая животных, Пирифой с трудом удерживал своих могучих коней, запряженных в быструю колесницу. Он, однако, нисколько не торопился.
Как только Тесею стало известно о дерзком поступке какого-то наглеца, он также велел подавать доспехи. Кони не подвели, и царь настиг злоумышленника неподалеку от собственных владений.
Герои предстали друг перед другом. Произошло нечто невероятное: они замерли на местах, позабыв о вскинутых острых копьях. Сквозь узкие прорези в шлемах каждый узрел перед собою героя, и каждому показалось, будто он воочию видит самого себя. Отбросив оружие, оба героя освободились от шлемов и протянули друг другу руки.
– Мир!
– Мир!
От этого дня началась их дружба, не прекращавшаяся до последнего вздоха. Немало подвигов совершили оба народных защитника, действуя сообща. Но самым выдающимся их деянием стала совместная борьба против дерзких кентавров…
Подвиги Тесея, вне всякого сомнения, во все времена возбуждали воспоминания, связанные с победой над персами.
Как бы там ни было, можно смело предполагать, что именно в этом драматургическом состязании, доставившем ему заветное первое место, Эсхил впервые вывел двух действующих героев – будь то Тесея и Эгея, будь то Тесея и Пирифоя, – не столь уж и важно. Важно, что он осуществил в постановке все то, что мешало ему и его собратьям по перу, что тормозило дальнейшее развитие драмы. Выступление на сцене двух действующих лиц, их диалоги, общение, – все это означало наличие действия, интриги. Означало появление настоящей драматургии…
Да, 484 год до н. э. вполне мог стать рубежом, за которым последовал новый этап в творчестве Эсхила, предоставивший поэту возможность заслужить впоследствии титул отца трагедии.
Саламинское сражение
… Но что прекрасно за сценой —
Там и оставь; скрыть должен от глаз ты много такого,
Что очевидец событий расскажет с полною силой.
Квинт Гораций Флакк[21]Афинские гоплиты были твердо уверены, что выигранное ими Марафонское сражение принесло Элладе окончательную свободу, что персы убрались уже навсегда.
Подобными убеждениями проникались и прочие афиняне.
Выздоровевший, а затем и добившийся первого места в состязаниях драматургов, Эсхил мечтал о новых крупных успехах.
Он работал без устали.
Однако персидские цари не могли так просто смириться со своим поражением. Военные неудачи во все времена означали начало распада монархического режима. Ресурсы персидского царства, к тому же, не шли ни в какое сравнение с возможностями любого греческого государства. Даже их всех, вместе взятых.
Пожалуй, лучше всего понимал это афинянин Фемистокл – один из самых деятельных эллинских политиков. Надежды на окончательное изгнание персов показались ему смешными и даже преступными. Фемистокл, к тому же, не спал ночами, сгорая от зависти к Мильтиаду, добившемуся столь разительной Марафонской победы. Он всячески корил себя за то, что допустил подобное развитие событий.
И вот, вдобавок, этот триумф вероятного соперника. Правда, похожий скорее на мрачную казнь…
В том, что триумфатор Мильтиад не удостоился награды даже в виде оливкового венка, – также скрывалась недобрая воля Фемистокла, человека в такой же степени честолюбивого и завистливого, как и высокоодаренного. С раннего детства мечтал он о собственной славе, порываясь все время к высоким почестям.
Предания утверждают, будто Фемистокл обладал исключительными природными дарованиями. Знаменитого целителя, который предлагал укрепить его память (некоторые уверяют, будто им оказался поэт Симонид) – Фемистокл осадил словами: «Ты бы лучше убрал из моей головы все то, чего я не в силах забыть!».
Фемистокл знал в лицо и помнил по именам всех афинских сограждан. Человек исключительного ума, безошибочно предвидевший дальнейшее развитие событий, он был уверен в одном: война с персидским царем только лишь начинается. Выиграть ее можно будет отнюдь не на суше, но при помощи сильного флота. Потому он всячески призывал сограждан к строительству военных судов, так называемых триер («трехрядок»). Однако намеченным планам его мешало отсутствие денежных средств.
И вот тогда в голову Фемистоклу пришла замечательная идея: доходы от известных читателю Лаврийских серебряных копей следует впредь не распылять ежегодно меж гражданами, но обращать на строительство флота. Все вновь построенные триеры выйдут против вторично явившихся персов.
Достижению задуманного мешали влиятельные афиняне, в том числе Мильтиад, герой Марафона, а также Аристид, прозванный «Справедливым», показавший себя несгибаемым воином на Марафонском поле.
Мильтиад скончался скорей от душевных страданий, нежели от непосильного штрафа. Аристида изгнали судом остракизма[22], заподозрив в намерении захватить в государстве власть. Все это развязало Фемистоклу руки, и афинский военный флот стал вполне достижимой реальностью. Привыкшие к мечу, щиту и копью, афиняне охотно уселись за весла. Афинское государство становилось все более и более демократичным, поскольку служба на флоте сделалась доступной малоимущим людям. Младший Эсхилов брат, Аминий, сам превратился в образцового триерарха, капитана триеры. По нынешним меркам должность вполне соответствовала командиру военного судна. Линкора, что ли.
Очередное, уже третье по счету, нашествие персов задержалось по причине смерти царя Дария. Его сын и преемник, по имени Ксеркс, реабилитировал полководца Мардония, под руководством которого персидский флот был когда-то разбросан бурей. Новый поход осуществлялся теперь одновременно по морю и по суше. Начался он в летнюю пору и выглядел настолько многолюдным и страшным, что весь эллинский мир опять содрогнулся от ужаса. Спасовали даже жрецы Дельфийского храма. Быть может, потому и опустили руки, что лучше всех прочих понимали безнадежность сопротивления.
В Афинах дошло до того, что никто из сограждан не соглашался быть избранным стратегом. Все опасались громадной ответственности. Не боялись ее лишь совсем недалекие люди, безмерно честолюбивые. Фемистокл устранил их при помощи элементарного подкупа.
Став фактически во главе всего афинского войска, он попытался вначале убедить сограждан в необходимости выйти на судах в открытое море и встретить врага вдали от родных берегов. Да не тут-то было! Общественное мнение потребовало выступить против сухопутных персидских сил, которые показались страшнее любого флота.
Фемистокл повел гоплитов в Фессалию, чтобы совместно с тамошними конниками образовать надежный заслон на узких горных дорогах. Но из этого также получился настоящий пшик. Фессалийцы подчинились персам, в результате чего все эллинские земли, вплоть до Беотии, соседствующей с Аттикой, оказались перешедшими на сторону врага.
Утопающий, говорится, хватается за соломинку. Волей-неволей афинянам пришлось обратить надежды в сторону нововыстроенных триер. Вот тогда-то и снарядили они свой флот и выслали его навстречу врагу…
Находясь на триере брата Аминия, пребывая в привычном качестве гоплита, Эсхил имел полную возможность увидеть все то, что совершается на военных судах. Чтобы удержать прочих союзников, Фемистокл уступил главное руководство над всем объединенным эллинским флотом. Главнокомандующим избрали спартанца Еврибиада, который стремился как можно скорее возвратиться на родину, под защиту пелопоннесских берегов. Он мечтал о совместных действиях с сухопутными спартанскими силами.
Незначительные схватки с персидскими моряками, несмотря на локальные неудачи, убедили Фемистокла, что с персами можно сражаться на равных. Если персидский флот и представляет собой на вид грозную силу, то все ж не такую, как может казаться на первый взгляд. Персидские воины умеют картинно потрясать оружием, стоя на своих высоких судах, подавая с них угрожающие крики. Они бросают сверху огонь (это были пропитанные нефтью горючие материалы), демонстрируя, как легко способны поджечь любой корабль неприятеля, – но не более того.
Узнав о гибели фермопильского воинского заслона в числе трехсот спартанцев во главе с царем Леонидом, подобрав гоплитов на свои суда, объединенный эллинский флот начал медленно откатываться к югу, к проливу, отделяющему Аттику от острова Саламина. Во время этого отступления, по свидетельству древних, где только мог, Фемистокл оставлял бодрящие надписи, призывавшие эллинов к отчаянному сопротивлению.
Приближение сухопутных и морских неприятельских сил вынудило афинян обратиться за новым советом к Дельфийскому оракулу. Ответ последовал загадочный и неоднозначный: спасаться следует за деревянными стенами!
Афинские старики, сбиваясь в шустрые кучки и выбрасывая над собою костлявые руки с зажатыми в них мечами и копьями, нисколько не сомневались, что правильно поняли ситуацию и видят однозначный выход из положения.
– Богиня защитит свой город! – вопили они.
– Никакой враг не поднимется на наш славный Акрополь!
– Надо спасаться на священной возвышенности!
– Запереть за собой все ворота!
Старики ничуть не принимали в соображение, что на Акрополе негде будет даже стоять, если туда соберутся лишь жители постоянно растущего города. А куда деваться деревенскому люду, которого насчитывалось гораздо больше?
Фемистокл усмотрел в оракуле нечто иное.
– Следует укрыться на деревянных судах! – заявил он в запавшей вдруг тишине. – Надо срочно покинуть всем город!
Ступивших на землю моряков и гоплитов, в том числе и поэта Эсхила, оглушили крики, покрывшие эти слова.
– Нет!
– Нет! Нет!
– Ни за что!
– Никогда!
Никому не хотелось оставлять родные спасительные стены, хотя здравое рассуждение подсказывало именно этот выход. Гонцы доносили, что персидские конники показались уже в соседней Беотии.
На решительные действия афинян подвигнул поступок молодого Кимона, сына покойного марафонского вождя Мильтиада. Рослый, курчавоволосый, в сопровождении таких же, как сам, своих спутников, любителей конной езды, поднялся он на Акрополь и посвятил уздечку в храм богини Афины. Тем самым Кимон показывал, что надеяться на победу на суше сейчас не следует.
– Туда! – указал рукою в сторону сверкавшего моря, такого приветливого во все спокойные времена, но такого тревожного нынче.
На священной возвышенности Акрополя оставалось лишь небольшое количество престарелых воинов, фанатически верящих во всесилие богини Афины. В самом городе также набиралось немало немощных стариков, предпочитавших умереть в родных стенах.
Афиняне взбирались на переполненные суда, усаживались в лодки, размещались на плотах. Они отправлялись на Саламин и маячившие за ним берега материковой Греции. Женщины, дети и старики, не скрывая слез, с плачем и рыданиями, обнимали мужей, отцов, сыновей. Мужчины возвращались назад на триеры…
Точно так же получилось и у растерянного Эсхила. Он махал вслед жене и детям, увозимым рабом Фрасибулом. Самого его тащил за руку брат Аминий. Брат спешил на триеру, к своей команде.
Вскоре афинянам, как остававшимся на боевых судах, так и уплывающим в качестве беглецов, изгнанникам, довелось увидеть черные дымовые тучи. Они клубились над афинскими берегами. Дым окутывал высокий Акрополь. На глазах у Эсхила и его соратников враги стирали с земли прибрежные поселения, опустошали виноградники, вытаптывали и превращали в прах ухоженные поля.
Афины были захвачены варварами, во главе которых стоял сам персидский царь. Защитники Акрополя пали все до одного. Престарелые горожане задохнулись в дыму и в огне. Захлебнулись от собственной крови, не выходя за пределы своих дворов. Храмы, жилища, крепостные стены, могилы предков, гробницы древних царей, – все казалось безнадежно утраченным.
Эллинский флот, львиную долю в котором по-прежнему составляли афинские боевые триеры, качался на волнах Саламинского пролива. Афинские воины, в их числе марафонские бойцы, которых отлично помнил и знал Эсхил, стонали от бессилия при виде допущенных разрушений. Им никак не хотелось верить, что все же придется оставлять знакомый до боли пролив. Еврибиаду, начальнику флота, этот «водоем» почудился сущей ловушкой.
Фемистокл понимал, что настал его звездный час. Он все так же настаивал на необходимости решительного сражения. Но как было убедить спартанца Еврибиада и прочих союзных военачальников, которые по-прежнему стремились как можно скорее отсюда убраться?
По тому, как щурился Фемистокл, как всматривался он в глаза собеседников, многим вокруг казалось, что в уме его зреет какая-то хитрость. Будто чего-то он ожидает, чего-то недоговаривает. Зачем ему было настаивать на необходимости решительного морского сражения?
Еврибиадом был отдан строгий приказ: готовиться к отступлению. Срочно. Немедленно!
И вдруг все внезапно переменилось.
Впоследствии те из афинян и прочих эллинов, кому той памятной ночью довелось обретаться в шатре Фемистокла, утверждали, будто полководец нисколько не удивился сообщению Аристида Справедливого, прямо-таки ворвавшегося к нему в шатер[23].
Аристид простонал с порога:
– Царские корабли закрыли все выходы из пролива! Мы в ловушке! Что делать?
Говорили, будто Фемистокл не стал скрывать своей радости. Вскочив на ноги, потрясая всклокоченной бородою, он радостно завопил:
– Так это же очень хорошо, Аристид! Этого нам и надо! Теперь мы просто вынуждены сразиться и победить! Накажем персов!
Как бы там ни было, но эллинам, запертым в проливе, действительно оставалось только готовиться к сражению, призвав на помощь богов и тени почивших предков. Оставалось дожидаться утра…
Персидскому царю Ксерксу, пожалуй, также было не до сна той душной летней ночью, наполненной повсеместными кострами, криками сухопутных и морских вояк, собравшихся в Элладе со всех концов беспредельной Азии. И каким-то зловещим, непонятным передвижением судов, перемещениями громадных безмолвных теней. Царь призывал и тут же прогонял гадателей и советников. Перед его глазами все время колыхалось видение почившего родителя, властителя народов – царя Дария.
С наступлением рассвета, который также показался чрезвычайно ярким, царь Ксеркс устремился на обрывистый берег моря, что на границе между афинскими и мегарскими землями. Велел поставить там свой походный трон. Перед царским взором расстилалась гладь Саламинского пролива, с двух сторон испещренная неподвижными, но в любое мгновение готовыми стронуться с места судами, наполненными вооруженным людом.
У персов было настолько больше судов, что царь почувствовал себя на вершине могущества и постепенно стал успокаиваться. Наконец-то должно свершиться все то, в чем он поклялся покойному ныне отцу. Не успеет солнце достигнуть верхней меты в своем пробеге по небесному куполу, как он увидит погибель никудышного эллинского флота. Наконец-то будет заглажена горечь поражения десятилетней давности. Никто не в силах противостоять персам на море и суше.
– Эй, кто там? Скорее сюда!
Чтобы величайшее это деяние не затерялось в памяти человечества – царь приказал окружить свой трон всевозможными писцами. Чем больше – тем лучше. Пускай тростниковые палочки их с торжественным скрипом занесут все увиденное в книгу вечности.
– Ничего не упускайте!
Какими ничтожными показались Ксерксу эллинские суда, которые, правда, неожиданно дерзко ринулись вперед по едва замеченному ими сигналу. Зато какими внушительными, грозными виделись царю его собственные громады, спокойные, как уверенные в своей силе индийские слоны! Сейчас они всколыхнутся и начнут подминать под себя и топить неприятельские корыта, – как слоновьи ноги сминают глупых щенят, исходящих лишь непрерывным лаем. Вот уже славные персидские моряки принялись метать всё пожирающие огни, окутываясь приятным для глаза розоватым дымом… Но почему же персидские корабли вдруг замешкались? Почему нарушился выверенный порядок?
– В чем там дело? Что там такое?
Великий царь не мог даже предполагать, чтó произойдет в ближайшие мгновения. Он не знал, что предводитель его моряков, при первой попытке ворваться на неприятельский корабль, будет сброшен греками в волны ненавистного залива, и персидский флот, таким образом, лишится главного руководства! Это также во многом предопределило то, что произошло на глазах у царя…
А произошло вот что. Эллинские суда, знаменитые триеры, движимые каждое двумя сотнями гребцов, посаженных в три ряда, оказались куда маневреннее, быстрее, почти неподвластными набегающей с моря волне! Тогда как царские корабли передвигались медленно, по-слоновьи, теряя маневренность именно по причине того, что их легко разворачивала шальная волна. Они вроде бы нарочито подставляли бока неприятельским бронзовым таранам, которые ломали им весла, дырявили борта, заставляли менять направление. Более того, они, как слепцы, налетали друг на друга. Зажигательные средства, кажется, не срабатывали или даже вовсе не были пущены в ход в суматошной спешке, так что не наносили эллинам никакого вреда. Зато эллинские триеры превосходили персов не только в маневренности. Им достаточно было лишь сблизиться с кораблем противника – и гоплиты тут же оказывались на чужой территории. На каждом эллинском судне насчитывалось по четыре лучника, которые осыпáли персов стрелами, и по шестнадцать гоплитов, готовых определить исход дела своими мечами и копьями. Это были действительно отборные и надежные воины, в основном – марафонские бойцы. Стоило им оказаться лицом к лицу с неприятелем – и схватка экипажей тут же решалась в пользу эллинов.
Тренированные и опытные, греки легко одолевали персов. Число захваченных персидских судов, отводимых победителями в свои пределы, увеличивалось на глазах. Трупы сраженных персов прибивало к берегу.
К концу того страшного дня все персы с обреченностью поняли, что их многократный перевес в судах и в живой силе в этом заколдованном, ограниченном водном пространстве ничего не значит. К удивлению и бешенству царя Ксеркса, его воины начали обращаться в бегство.
Правда, Ксеркс попытался было переломить течение судьбоносной битвы, избежать поражения. Надеялся даже взять реванш за счет введения в действие сухопутных войск. Персы стали лихорадочно насыпать широкие земляные мосты, ведущие к острову Саламину, чтобы захватить там афинских жителей. Однако из этого также не получалось ничего…
Ксеркс пребывал в замешательстве. Он не мог возвращаться домой без желанной победы. Не представлял, чтó в таком случае придется говорить своей матери, великой царице Атоссе, супруге еще более великого Дария. Боялся об этом даже подумать…
Фемистокл, между тем, окрыленный победой, в которой он был уверен, – решил нанести нашествию окончательный удар. Он планировал направить эллинский флот к берегам Геллеспонта (Дарданеллы), чтобы уничтожить там мост, по которому сухопутные персы перебирались из Азии в Европу. Однако этим намерениям воспротивился Аристид Справедливый, предполагавший, что в таком случае персидский царь отбросит свое олимпийское спокойствие (видел бы это спокойствие!) и заставит подчиненных сражаться с отчаяньем загнанных зверей. Не стоит персов лишать возможности как можно скорее убраться в Азию, полагал Аристид. Если бы даже не было никакого моста через морской пролив – его следовало выстроить нарочито!
Фемистокл не мог чего-либо противопоставить подобному утверждению, но все же придумал уловку. Отыскав среди пленных евнуха Арнанка, он направил его к царю с предупреждением от своего имени, будто бы эллинские моряки уже направляются к Геллеспонту с целью уничтожить перекинутый в Азию мост. А он, Фемистокл сообщает об этом царю из самых верноподданнических чувств. Послание было отправлено с ведома и с одобрения Аристида.
Хитрость возымела действие. Персидский флот удалился. Сухопутное войско Ксеркс оставил в Элладе под руководством Мардония, что давало грекам возможность твердить, будто сделано это вполне преднамеренно: царь бежал в страхе. Единственной надеждой оставался покинутый в тылу полководец со все еще бесчисленным войском. Греки, по мнению Ксеркса, не погонятся за ним, имея у себя за спиною персидскую силу.
После победы открылось еще одно обстоятельство: эллинский флот был заперт в Саламинском проливе совсем не по прихоти персидского властелина, но опять же по замыслу Фемистокла. Желая вовлечь соотечественников в сражение, он призвал к себе перса Сикинна, давно уже, чуть ли не со времен Марафонской битвы, обретавшегося в плену, и повелел ему отправляться к царю с известием: Фемистокл-де готов переметнуться на сторону персов, поскольку понял бессмысленность сопротивления! Более того, перс Сикинн принес царю весть, что такого же мнения придерживаются многие эллины. Чтобы подтолкнуть их к принятию правильного решения, царю необходимо окружить эллинский флот в проливе!
Проделав все это, царь и накликал на себя беду…
А еще в рядах победителей ширились рассказы о новых подвигах богов и героев. Перед началом Саламинского сражения, оказывается, над аттическими просторами поднимался невообразимый шум. Он был похож на то, как если б его издавала сама земля. На выручку греков явились не только Афина и Аполлон, но даже вечно веселый Дионис. Он возмущался захватчиками, разрушившими его виноградники…
Окончательно безопасной материковая Греция почувствовала себя только через год, когда объединенным эллинским силам удалось разбить захватчиков под беотийскими Платеями. В сражении погиб полководец Мардоний. Одновременно с сухопутной была одержана и морская победа – у малоазийского мыса Микале.
Соперничество персов и греков на этом, конечно, не могло закончиться, но греки уже ощущали себя победителями. К тому же боевые действия отныне перемещались на морские просторы, становясь не такими опасными для материковых жителей. Особенно – для афинян.
Разрушения на аттических землях были столь велики, что Фемистокл советовал отстраивать Афины на новом месте, рядом с портом Пиреем. Однако старики держались за обжитые места, за высокий Акрополь, связанный с алтарями богов, с могилами предков. Героический народ, почувствовав в себе силу, готов был на новые свершения.
Фемистоклу казалось, что он до конца своих дней будет пользоваться почетом и уважением во всем эллинском мире. Когда ему посчастливилось явиться на очередные Олимпийские игры – все взгляды присутствовавших обратились только на него, минуя выдающихся атлетов. На Фемистокла всегда и везде указывали пальцами. Им восхищались. Он почувствовал себя почти что богом. Даже гордые спартанцы, пригласив к себе афинянина в компании с Еврибиадом, увенчали его оливковой ветвью. Спартанцы наградили его золотой колесницей и выделили триста юношей, которые проводили почетного гостя вплоть до государственных границ. Такими почестями не мог похвастаться ни один чужестранец, которому когда-либо удавалось побывать в болезненно-честолюбивой Спарте.
Чего-то подобного герой Саламина пытался добиться и от своих соотечественников, но совершенно напрасно. Очевидно, чересчур часто напоминал о собственной выдающейся роли. Он чересчур гордился тем обстоятельством, что это ему принадлежит мысль завлечь врага в западню, заставить сражаться в крайне невыгодных для себя условиях.
С особой силой заслуги Фемистокла подчеркивались в новой драме поэта Фриниха под названием «Финикиянки». Она была поставлена четыре года спустя после знаменитого морского сражения. Сам Фемистокл выступал в ней хорегом (учредителем хора), причем ему лично пришлось оплачивать подготовку одновременно двух хоров – финикийских женщин, мужья которых не возвратились с войны, и хора персидских старейшин.
Содержанием драмы стала победа греков. Драма вышла победительницей в состязании поэтов. Фемистокл завоевал себе первое место среди прочих хорегов. Об этом можно было прочесть на специальной доске, изготовленной в честь такого события…
Да, Фемистокл, повторимся, пользовался огромным авторитетом. Говорили, правда, будто его поступки выглядят диаметрально противоположными поступкам древних афинских царей, которые старались отвлечь внимание своих подданных от морской стихии, превратив их в мирных земледельцев и ремесленников. Фемистокл же окончательно обратил интересы сограждан в сторону моря. Построив так называемые Длинные стены, соединившие Афины с портом Пиреем, он окончательно «привязал» жителей Аттики к морским берегам. А война с персами, переместившись в глубины Посейдонова царства, приносила афинянам все новые и новые успехи.
И все же Фемистокл оставался недовольным своими согражданами. Он любил повторять, что с ним они поступают как с неким тенистым платаном: во время грозы пытаются спрятаться под его листвою, а в спокойный полдень обламывают на нем все ветки.
Афиняне же нисколько не собирались переменять свои нравы. Им по-прежнему претил дух высокомерия. Оставаясь такими же, какими были до Саламинского сражения, они не могли пересилить себя, не могли терпеть человека, возвышающегося над ними. Суд над героем Марафонской битвы, над знаменитым военачальником Мильтиадом, едва избежавшим смертной казни, – ничему их не научил.
Между тем, на политическую арену в Афинах выходили все новые и новые деятели, в том числе Кимон, сын Мильтиада, правдолюбец Эфиальт, убежденный демократ, а также Перикл, сын Ксантиппа, победителя персов при Микале.
Серьезным предупреждением для Фемистокла должна была прозвучать постановка новой драмы Эсхила.
К моменту окончательного изгнания персов из материковой Греции Эсхилу исполнялось 46 лет. Пора было возвращаться к мирной жизни, к вдумчивому творчеству. Совершенствовать свое литературное мастерство.
Трудно сказать, какого уровня были пьесы, написанные Эсхилом в этот непростой для него период. До нас они не дошли. Но можно с уверенностью утверждать, что порывы и мысли, вынесенные поэтом с полей сражений, из мира бескомпромиссной войны, – по-прежнему не давали ему покоя. Прошедшее мучило душу. Ему страстно хотелось пропустить все былое через свое сознание, переплавить и выставить его на театральных подмостках. Все еще слышались голоса, виделись картины всенародного подвига. Однако сам он тем временем вынужден был черпать сюжеты из сокровищницы, оставленной слепцом Гомером: из его «Илиады» и «Одиссеи».
Толчком к переосмыслению принципов творчества мог послужить поступок старого Фриниха, в свое время обжегшегося на молоке и долго дувшего на холодную воду. Фриних, разумеется, обратившись в своих «Финикиянках» к теме живой современности, действовал в тандеме с героем Фемистоклом. Эксперимент закончился вполне благополучно, даже весьма счастливо для престарелого автора. Дело заключалось в том, что драматургу довольно ловко удалось сменить белое на черное. По разного рода упоминаниям, по угадываемым намекам, можно догадаться, что Фриних представил афинянам картину ужаса не в стане эллинов, но в столице враждебных им персов. Его «Финикиянки» основаны были на рассказе евнуха, своими глазами видевшего и затем описавшего поражение персов[24].
В конце концов Эсхил также ухватился за этот прием. Времена стояли патриархальные, понятия об авторском праве не существовало. Вернее, к нему относились примерно так, как поступают владельцы загородных домов, возводящие точно такие же заборы, какие выстроены их соседями. Нередко случается так, что итоги более поздних последователей в корне превосходят результаты более ранних.
Именно так получилось у нашего Эсхила. К тому же он заручился поддержкой молодого аристократа Перикла, будущего политика, а пока что известного своими патриотическими настроениями, да еще тем, что он – сын знаменитого полководца, успешно воевавшего с персидскими захватчиками.
Новая драма представлялась автору в следующем виде. Мало того, что в ней отразится горе в стане неумолимого врага эллинов – он, драматург, еще и усилит это гнетущее ощущение. Когда человек в походе, думалось Эсхилу, то больше всего переживает его безутешная мать. Именно так могло получиться с персидской царицей, когда сын ее отправился на завоевания новых земель, что было ему завещано покойным отцом. Так творилось всегда и везде. Мать всегда остается матерью…
Известие о поражении, естественно, должно было потрясти всех персов. Но потрясение великой царицы, конечно, превзошло переживания прочих женщин, представленных в драме…
Но как было заставить земляков поверить в то, что они увидят перед собою дворец в баснословно богатых Сузах? Ни сам автор, ни его зрители почти никогда не бывали в пределах указанных резиденций.
Решение явилось самым неожиданным образом. Вот что предстояло увидеть афинским зрителям на своих театральных подмостках…
Пышный царский дворец, мыслилось Эсхилу, можно изобразить при помощи нескольких колонн, поставленных на орхестре и воспроизводящих портик, а также благодаря ведущим к ним широким ступеням, покрытым алой дорожкой. По бокам дорожки будут выставлены стражи с копьями, завернутые в восточные ткани, сродни тем, которые афиняне привыкли видеть в своих дворах – на телах у плененных когда-то персов…
И вот уже к этому царскому «дворцу» собираются старейшины, составляющие хор. На старейшинах – такие же пестрые яркие одеяния, перехваченные узенькими поясками. Фигуры их кажутся вроде бы даже женскими, если б не белые бороды, подобные лисьим хвостам. Бороды болтаются под однообразными масками, изображающими подобострастные лица. На всех этих масках – прищуренные глаза. Все они залиты ярким солнцем.
Непривычно высокими голосами, под завыванье восточных музыкальных инструментов, старики заводят песнь о том, как персидское войско отправлялось в далекий поход. Называются имена вождей, уверенных в выучке собственных воинов… Это будет похоже на перечисление эллинских кораблей, приводимых Гомером в его «Илиаде». Перечисление должно напомнить зрителям, кого одолели они в сражениях.
Персидские старейшины как бы уверяют себя в неотвратимости победы своих соотечественников, а все же тревога начинает улавливаться в нарочито бодрящихся их голосах. Тревога становится еще отчетливей, когда на алой ткани, покрывающей ступеньки дворца, появляется высокая женщина в длинном одеянии, сродни тому, в каком восседал на троне, поставленном на берегу меж Афинами и Мегарой, великий царь Ксеркс. Конечно, это мать его, царица Атосса, вдовствующая супруга давно почившего Дария. И стражи, и гордые старейшины, и все, кто оказался на орхестре, смолкают и никнут, падают ниц при виде величественной государыни. Оживают они не прежде, чем она сделает жест, позволяющий всякому существу дышать и продолжать свое дальнейшее прозябание.
Царица, оказывается, измучена тревогами за судьбу сына, отсутствием вестей из недр загадочного для нее Запада, куда с наступлением каждого вечера скатывается небесное светило, смертельно уставшее за день. А тут еще эти липкие ночные грезы.
Ну да, она начинает жаловаться старейшинам на свои сновидения.
Стариковские тревоги должны возрастать при рассказах царицы. Она видела в снах, как сын попытался запрячь в колесницу двух прекраснейших женщин, пререкавшихся между собою.
Одна из красавиц охотно подчинилась царю, вставила лебединую шею в узорчатое ярмо. Другая зато, в чрезвычайно узкой, но яркой одежде, оказалась без меры строптивой. Опутанная, наконец, веревками, она опрокинула колесницу и сбросила с нее царя! Престарелой царице привиделся даже вовсе невообразимый ужас: обнаглевший ястреб вдруг погнался за благородным орлом!
Озадаченный хор старейшин пытается успокоить свою повелительницу. Старики советуют ей направиться к гробу покойного мужа, великого государя, принести там богатые жертвы, умолять его тень, чтобы оставленное им царство было ограждено от непоправимых несчастий. Старики должны рассказать царице также о том, чтó представляют собою Афины, где они расположены. Каковы особенности жителей этой удаленной от Суз державы, как они защищают свои небогатые, совсем не обширные земли.
На великолепной золотой колеснице направляется царственная женщина к гробнице мужа, как вдруг перед ней вырастает фигура смертельно уставшего вестника. Упав лицом ниц и вскочив по ее велению, гонец обрисует морское сражение с эллинским, читай – афинским, флотом.
Гонец попытается убедить царицу, что причиною всех несчастий для персов стал некий афинский стратег. Этот человек подослал слугу с абсолютно лживым известием, будто бы, с наступлением темноты, греки изготовились бежать, тогда как он сам, да и прочие здравомыслящие военачальники, намерены покориться неодолимой персидской силе! Великий царь, поверив обману, повелел расставить свои корабли в надежных и необходимых местах, полагая, что на утро увидит припавших к земле людей, умоляющих о пощаде. Однако, как только на небо выкатилось яркое солнце, – царь услышал боевые клики и песни, с которыми эллины устремились на его корабли:
Вперед, сыны Эллады, Спасайте Родину, спасайте жен, Детей своих, богов отцовских, храмы, Гробницы предков: бой теперь за все![25]Строки эти были заготовлены Эсхилом заранее.
Рассказ вестника, предполагалось, должен был стать основной частью всей разыгранной драмы.
И только после этого, произнесет печально вестник, персы, наконец, смогли окончательно понять, что оказались жертвой хорошо продуманного обмана…
Вестник, роль которого Эсхил предполагал исполнить лично, обязан изобразить ход величайшего сражения с наибольшей достоверностью. Он должен описать, как колыхнулось и двинулось сначала правое крыло всего эллинского флота, взбурлив и без того напряженную воду ударами грозных весел. За ним, подчиняясь приказам вождя, пришли в движение остальные эллинские силы…
Вестник должен красочно изобразить грохот бронзовых таранов. От их сокрушительных наскоков персидские корабли содрогались подобно слабому деревцу, страждущему под ударами безжалостных топоров. Персидские корабли налетали друг на друга, вздымая над водной поверхностью черные животы, опрокидывались, увлекая на дно гребцов с вооруженными воинами. Они загромождали проходы, преграждали путь другим царским судам.
Своим рассказом вестник должен передать, а живым участникам сражения, сидящим вокруг орхестры, – просто напомнить, как все ожесточенней и яростней напирали греки! Как поверхность пролива покрывалась обломками затонувших персидских судов и телами погибших царских воинов! Как зеленоватая вода в проливе обагрялась их алой кровью…
В отличие от эллинов, персы в большинстве своем не обучены плавать (вот оно, варварство!). Отягощенные доспехами и оружием, которое не выпускалось из сведенных судорогами пальцев, они камнем уходили на дно и быстро лишались дыхания. Кому же все-таки посчастливилось освободиться от тягостной ноши, – те захлебывались водою, издавая предсмертные крики, исчезали в пучине. Неутомимые волны, играя, выбрасывали трупы на ослепительно чистый песок, а то и развешивали их, как преступников, на остроконечных каменных скалах.
С наступлением ночи персы обратились в бегство, спасительное в их бедственном положении…
Рассказ о победе небольшого греческого флота над огромным персидским вестник постарается объяснить тем, что эллинский город Афины охраняется всемогущими богами.
Конечно, опечаленная, подавленная горем царица обязательно задаст вопрос: «Так можно ли покорить нам город Афины?» И когда все зрители замрут в ожидании, когда самые нетерпеливые среди них привстанут с разгоряченных ерзаньем мест, – тогда персидскому вестнику надо будет выдохнуть с такой силой голоса, чтобы содрогнулись ближайшие от театра оливы: «Нет! Никогда, коль их защищают столь отважные люди!..»
Что же, именно так получилось все в день представления. А надо заметить, что «Персы» являли собой лишь второй элемент в тетралогии Эсхила, представленной в 472 году до н. э., причем не связанный с остальными ее частями. (Им предшествовала трагедия «Финей». Очевидно, героем ее был один из фракийских царей, ослепленный богами в отместку за жестокое обращение с собственными сыновьями. За «Персами» должна была следовать также не дошедшая до нас трагедия «Главк Понтийский» – вероятно, о внуке царя Беллерофонта, храброго союзника троянцев в войне с явившимися греками. Замыкала всю тетралогию сатирова драма о титане Прометее, подарившем землянам спасительный для них огонь).
Зрители, с интересом следившие за историей царя Финея, все еще пребывавшие в каком-то ином измерении, с большим удовольствием наблюдали теперь, как мечется по орхестре смятенная вражеская царица, как взлетают ее просторные пестрые одежды, переполненные недавно удивительно сытой негой.
А персидские старейшины на круглой орхестре все еще горестно сокрушались, теребя свои белые бороды, подобные хвостам оказавшихся в капканах лисиц: персидские матери, дескать, стонут, потеряв своих сыновей. Юные жены, едва вкусившие супружеских ласк, срывают с себя покрывала. Повсюду слышатся непрерывные плачи и стоны.
И вот царица, согбенная несчастьем, смиренно зажав в руках узел пестреющих одеяний, пешком продолжает свой путь к гробнице царя и мужа, которая представляет собою нагромождение бесформенных диких камней. Под молитвы и причитания старейшин – она совершает обильные жертвы.
И не напрасно.
Вершина мрачной гробницы на глазах у нее покрывается трепещущей дымкой, начинает раскачиваться. Над ней возникает призрак. Это дух царя Дария. Могучим, чуть хрипловатым голосом царь объясняет супруге и всем своим бывшим подданным причину страшного поражения. Причина заключается в том, что молодого царя обуяла гордыня. Он повелел сковать цепями море, выстроив через Геллеспонт бесконечный мост. Он покусился на то, на что не осмелятся даже могучие боги, в чем у него не было никакой необходимости. Потому и разбит он близ острова Саламина. Потому и потерпел это страшное поражение. Но и это еще не все. Оставленные в Элладе войска под руководством Мардония также будут повержены при беотийских Платеях, где сам Мардоний расстанется с жизнью. Персидские воины, плененные греками, наполнят невольничьи рынки. Они превратятся в рабов по дворам тех самых людей, которых намеревались завоевать.
Эллинов нельзя победить!
Голос привидения становится по-земному мощным. В заключение тень Дария призывает не предпринимать никаких походов против свободолюбивых эллинов.
Хор старейшин, зажав в кулаках подвижные белые бороды, в оцепенении вслушивается в царские речи, тогда как греки-зрители пребывают в восторге.
И вот, не успевает, кажется, исчезнуть с подмостков призрак покойного государя, как раздается лепет колокольчиков и слышится звон оружия. Это возвращается из похода нынешний царь Ксеркс.
При одном только взгляде на персидского властителя уже можно было понять, что все поведанное вестником и предсказанное покойным царем – чистейшая правда. Правитель персов наказан за свою исключительную гордыню…
– Это правда! Правда!
– Истина! О боги!
– Все так и было!
Афинские зрители срывались с мест, ликовали, обнимались друг с другом. Все увиденное ими соответствовало чувствам, которые переполняли их души.
Все увиденное вселяло в них гордость.
То в одном, то в другом месте амфитеатра взрывались крики, восхвалявшие Фемистокла, который покачивался в кресле в первом ряду. Однако крики не переходили в сплошное восхваление. Они тотчас же замирали, как замирает огонь, заливаемый водою.
Много похвал досталось также хорегу Периклу и автору текста, он же актер и исполнитель главных ролей. Он же – ставший уже знаменитым поэт Эсхил.
Конечно, обоим виновникам успеха были обеспечены первые места.
Однако драма, показанная на Великих Дионисиях, даже занявшая на них первое место, больше не ставилась в афинском театре. Правда, ее повторяли на сельских Дионисиях, то есть на сценах гораздо меньшего значения, где-то вдали от столицы, уже без участия автора.
И все же это произведение Эсхила пользовалось такой популярностью в эллинском мире, что оно постоянно переписывалось, распространялось. Его строчки заучивались наизусть. И не только школьниками. Песни из него – распевались на всех дружеских симпозиумах. Повсеместно.
(Какое-то время спустя Эсхил оказался на острове Сицилия. Тамошний, сиракузский тиран Гиерон предложил ему еще раз поставить свою трагедию. Очевидно, патриотическое содержание «Персов» напомнило сиракузянам об их собственной борьбе. Именно в том же, 480 году до н. э., они нанесли решающее поражение карфагенянам. Случилось это близ города Гимера).
Эсхиловы «Персы», кажется, стали последним представлением, которое увидел 53-летний на ту пору творец Саламинской победы, человек, создавший афинский флот, укрепивший порт Пирей и «привязавший» к нему Афины.
Читатель наверняка уже смог заметить, что зрители «Персов» не выражали сплошного восторга личностью своего знаменитого стратега, как это было на представлении «Финикиянок» Фриниха. В текстах трагедии, дошедших до нашего времени, и без того всем известное имя стратега Фемистокла не упоминается вовсе. Автором победы в Саламинском проливе считается там какой-то безымянный, но все ж гениальный грек.
Как ни странно, человек уникальных способностей, удивительной энергии, Фемистокл довольно быстро растерял завоеванные позиции. Против него объединились два наиболее могущественных рода – Алкмеонидов и Филаидов, традиционно враждовавших между собой. Ощутимый удар герою нанес также Кимон, тот самый удалец и красавец, сын великого Мильтиада, автора Марафонской победы, который помог ему, Фемистоклу, одолеть предубеждения соотечественников ввиду надвигавшейся персидской угрозы.
О самом Кимоне надо заметить, что после суда над его отцом, очутился он в весьма затруднительной ситуации. Штраф в 50 талантов – оказался делом очень и очень нелегким. Кимон продавал и отдавал в залог отцовское наследство, но, в конце концов, очутился в положении нищего (естественно, по аристократическим меркам). За неуплату долга он был посажен в тюрьму, что грозило гибелью всему знаменитому роду Филаидов.
Спасение явилось в лице богача Каллия, которому очень уж глянулась красота сестры Кимона – прелестной девушки Эльпиники. Женившись на ней, Каллий развязал молодому человеку руки, уплатив все его долги. Кимон получил возможность проявить свои недюжинные способности на военном и государственном поприщах. Будучи непримиримым врагом персидской экспансии, он продолжил дело покойного отца. Ради противодействия захватчикам, Кимон считал необходимым союз с ведущими эллинским государствами, в первую очередь – со Спартой. Вскоре после Саламинского сражения афиняне избрали Кимона стратегом, вкупе с Аристидом Справедливым. Эту должность занимал он с тех пор многократно, командуя как сухопутными, так и морскими силами. В довершение всего, Кимон вступил в союз с сильными Алкмеонидами, женившись на представительнице их рода. Этот-то шаг молодого аристократа и оказался гибельным для героя Саламинского сражения.
Не прошло и года после триумфа «Персов», как Фемистокл был изгнан судом остракизма. Изгнания подобного рода, надо заметить, порою льстили заносчивым натурам, вознося их в собственном мнении. Впрочем, даже не только в собственном. Они изгонялись как самые одаренные в государстве люди, способные на очень решительные поступки, даже на тиранический захват власти. Именно в этом и усматривалась их опасность.
Изгнанный остракизмом не лишался своего имущества, не терял и прав гражданина. В его общественной деятельности наступал лишь своеобразный 10-летний таймаут. Обычно такие изгнанники селились где-нибудь по соседству либо же отправлялись в дальние путешествия.
Фемистокл остановился в Аргосе, быть может, не подозревая, что самое страшное для него – еще впереди.
Консерваторы, возглавляемые Алкмеонидами и Филаидами, которые добились изгнания Фемистокла, между тем не дремали. Заговорщики не могли успокоиться, пока изгнанник находится где-то рядом. Поспособствовало им также дело спартанского полководца Павсания, победителя при Платеях. Заменив царя Леонида, погибшего при Фермопилах, будучи лично человеком грубым, высокомерным, – Павсаний еще больше, нежели Фемистокл, возгордился своими заслугами. К тому же Павсания обличили в переговорах с персидским царем, которые угрожали свободе всей Эллады. В итоге он был живьем замурован в храме, где попытался найти для себя спасение.
И вот тогда-то раскрылись прочие обстоятельства, бросавшие тень на Фемистокла-афинянина. На него обрушились прежние враги, объединившиеся теперь с ненавидевшими его афинянами и даже спартанцами, радикально расправившимися со своим Павсанием. Убежденные сторонники олигархического строя, спартанцы не могли простить Фемистоклу строительство Длинных стен, которые усиливали неприступность, а, следственно, и независимость демократических Афин.
Фемистокл отвергал обвинения в измене, но у него не было возможности лично выступить с речью в народном собрании. Он оправдывался в письмах, утверждая, что ни от кого никогда не зависел, зато постоянно стремился к власти, доказательством чего и является это нынешнее его изгнание.
Народное собрание все же поверило ложному обвинению. Фемистокла велено было схватить и привести в суд. Казалось бы, у изгнанника появилась возможность незамедлительно оправдаться, да не тут-то было. Чем тогда руководствовался он – теперь трудно сказать. Но Фемистокл бежал из Аргоса.
Вначале он оказался на острове Керкира, затерянном в Ионическом море, затем перебрался в Эпир. Рисковал обращаться даже к тем из правителей, с которыми когда-то общался не лучшим образом. Какое-то время спустя, уже со всем своим семейством, что свидетельствовало о величайшей серьезности его намерений, Фемистокл очутился в городе Пидна, на берегу Фракийского моря. Нам теперь трудно вообразить, чтó творилось в мыслях великого человека, оказавшегося между двух огней. Очевидно, ему было ведомо, что в Афинах, где недавно, помимо всего, на него смотрели все-таки как на бога, где соотечественники рукоплескали его маске-подобию на театральных подмостках, – теперь его ожидает смертный приговор. С другой стороны, Фемистоклу было известно, что персидский царь обещает за его голову награду в 200 талантов!
Как бы там ни было, Фемистокл решил перебраться в Малую Азию, то ли надеясь на бóльшую объективность царских судей, то ли чувствуя, что вина его перед персами уступает обвинениям со стороны многочисленных греческих недругов.
В сопровождении горстки рабов, прихватив совсем незначительный скарб, стараясь ни словом не выдавать себя, Фемистокл навсегда, оказалось, отплыл из пределов Европы. Буря погнала судно к югу, мимо острова Эвбея, к острову Наксосу, на ту пору как раз осаждаемому афинянами. Создавалось впечатление, что от изгнанника совсем отвернулись боги. С большими трудами ему удалось заставить судовладельца взять курс на малоазийский берег. Судно пристало к берегу в городе Кимы.
Однако и это еще не означало спасения. В Кимах проведали, кто туда прибыл. Обещанные царские таланты были у всех на слуху. Они будоражили воображение. Фемистоклу пришлось спасаться бегством в город Эги, населенный греками-этолийцами. Он рассчитывал на помощь приятеля Никогена, богатейшего жителя тех краев. Но что могло означать для Персии покровительство любого человека? Гарантию безопасности обеспечивал там лишь великий царь. К тому же речь в данном случае велась об изгнаннике, обреченном на смерть у себя на родине и считавшемся заклятым врагом всех персов.
Вот тут-то Фемистоклу и пришли на память театральные представления в афинском театре Диониса, где один человек изображал другого. Вот тут-то ему, как некогда тирану Писистрату, и вспомнилось замечательное искусство перевоплощения…
Спустя какое-то время, ночной порою, из ворот Никогенова двора в Эгах выкатился возок, со всех боков закрытый пестрыми занавесками. На широких и пыльных персидских дорогах подобные экипажи не вызывали какого-нибудь удивления и даже не привлекали постороннего внимания. В закрытых повозках обычно перевозили женщин, дело знакомое. Бородатый возница и сопровождавшие упряжку ловкие всадники с готовностью подтверждали это на всех постоялых дворах: везут красавицу в гарем одного из царских придворных!
Между тем, в глубине возка сидел человек, которым персы пугали маленьких ребятишек, появление которого на персидских просторах было сродни появлению на советских дорогах Геббельса, едущего с визитом к Сталину. Там сидел Фемистокл. Правда, непонятно, к какому конкретно царю направлялся опальный грек, то ли к побежденному им когда-то Ксерксу, то ли уже к его преемнику-сыну, по имени Артаксеркс. Относительно этого спорили еще древние историки.
Неизвестно также, где произошла встреча Фемистокла с персидским властителем. То ли ради нее он ездил в Сарды, древнюю лидийскую столицу, город знаменитого своим богатством Креза, уже не раз на ту пору подвергавшийся разорениям, а потому вряд ли отстроенный к указанному времени. То ли направлялся он в древние Сузы, столицу персидской провинции Сузианы, заложенную великим царем Дарием. Сузы традиционно считались зимней резиденцией персидских владык. Фемистоклу туда пришлось бы ехать немало дней или даже месяцев. Впрочем, в любом случае у него хватило бы времени на составление подходящей речи.
Что же, добравшись до царской ставки, предстал он перед глазами военачальника Артабана и отрекомендовался ему неким путешествующим иностранцем, желающим обратиться непосредственно к царю – по очень важному делу[26].
Ради аудиенции Фемистокл пошел на все: он согласился пасть перед царем ниц, признавая тем самым его божественную сущность, но отказался открыть Артабану свое настоящее имя.
Конечно, накал драматизма данной встречи в значительной степени зависел от того, с кем же Фемистокл встречался. Ксеркс наверняка не мог без дрожи в теле вспомнить то время, когда он сидел на аттическом берегу и следил за морским сражением. Для молодого же Артаксеркса Саламинское и Платейское сражения были подернуты дымкой последовавших успехов и неуспехов персидского оружия.
Когда Фемистокл, растянувшийся на густом ворсистом ковре, словно в прохладных травах, через переводчика назвал свое имя – персидскому царю, кто бы им ни был, да и всем придворным его, – в этот миг почудилось, будто над высоким дворцом разверзлось небо и раздался громовой раскат. Из речи, переданной не менее взволнованным переводчиком, великий царь вряд ли больше что-нибудь понял.
Чтó говорил Фемистокл – также остается загадкой. Однако древние авторы, располагавшие документами, следовали традиции, которой подчинялись современные им историки. Речь Фемистокла приводит в своем сочинении Плутарх. Нечто подобное, сообразуясь с логикой событий и обстоятельств, Фемистокл действительно мог произнести, но все-таки – это чистой воды беллетристика.
Повинуясь все той же логике беллетристического произведения, Плутарх описывает удивление потрясенного царя, который ничего не ответил гостю, лишь выразил восхищение его бесшабашной смелостью и тотчас же принялся поглощать вино. Не помня себя, в опьянении, царь трижды прокричал в ночной тишине: «Боги! Афинянин Фемистокл в моей власти! Фемистокл у меня в руках! Афинянин Фемистокл в моем дворце!»
Следует полагать, что Фемистокл теперь больше всего напирал на свои давнишние заслуги, в том числе и на переданные персам предупреждения после Саламинского сражения. Еще более сильное воздействие подобная речь могла оказать на Ксеркса, не на сына его. Что же касается хитрости Фемистокла, предшествовавшей Саламинскому сражению, о которой говорилось в «Персах» Эсхила, – то Фемистокл, точно, о ней промолчал.
Теперь уже трудно сказать, одно ли это, удачно преподнесенное напоминание, смягчило сердце всесильного персидского владыки и умилило его удивленный ум, то ли иные какие-нибудь обещания Фемистокла посодействовать в войне против своих соотечественников. Однако персидский царь, если верить традиции, изрек настоящую милость врагу под номером один. Царь добавил также, что выплатит Фемистоклу 200 талантов, поскольку тот лично привел себя в плен.
Обрадовавшись подобной милости, Фемистокл заявил: о причинах, приведших его под своды царской резиденции, лучше всего расскажет он сам, поскольку никакой переводчик не способен в точности передать чужие мысли. Царь согласился с подобной сентенцией, а на изучение персидского языка предоставил гостю целый год.
В течение указанного времени Фемистокл сделался при дворе вполне своим человеком. Артаксеркс (или поначалу Ксеркс) приглашал его на охоту, советовался с ним о разных государственных делах. Фемистокл вошел в доверие также у матери царя (наверняка то была уже не Атосса). Впрочем, кто бы там ни был – доверие царской матери в глазах у персов значило немало.
Неудивительно, что Фемистоклу было подарено целых пять городов, главным среди которых считалась Магнесия, древняя лидийская твердыня близ реки Меандр. Основанный выходцами из фессалийской Магнесии, этот город располагался в благодатной урожайной земле, потому и предназначался исключительно на пропитание знаменитому пришельцу.
Конечно, изгнанник не забывал о далекой и неблагодарной родине, об ее шумной агоре, где по-прежнему бурлил дух народных собраний, о ее переполненном толпами неугомонном театре. Чтобы как-то отвлечься от горестных дум, он много путешествовал, проявляя неподдельный интерес к разным землям огромного персидского царства.
Правда, путешествия эти были небезопасны для самой его жизни. Персидские вельможи испытывали к чужаку неодолимую ненависть, потому ежечасно были готовы лишить его жизни.
Со временем Фемистокл все ж приспособился к своей незаметной роли, но персидский царь (уже точно Артаксеркс) в конце концов потребовал отрабатывать предоставленные блага, исполнить данные некогда обещания.
Вполне возможно, что такое существование показалось Фемистоклу невыносимым. Он понял, что жизнь его забрела в тупик, что он сам уподобился актеру, который тщетно пытается показать себя врагом Афин. Вывести из подобного тупика способно было только вмешательство богов.
Но боги не торопились вторгаться в бесцветную жизнь изгнанника.
Фемистокл убедился, что вершиной его земного существования так и останется Саламинское сражение, руководителем которого он войдет в мировую историю. Остыв, укротив в себе гнев против собственных сограждан, Фемистокл не пожелал коверкать свой имидж, не стал прибегать еще раз к каким-нибудь театральным приемам. Во всяком случае, так думали афиняне, тоже остывшие и уставшие после собственных обвинений. По их мнению, оказавшись в тупиковой ситуации, Фемистокл добровольно покончил с жизнью, испив загустевшей бычьей крови, которой в античности приписывались свойства смертельного яда.
Конечно, чтó бы ни говорили о кончине знаменитого грека, что бы ни стало причиной ухода его из мира живых, – а все ж невозможно предположить, что в последние мгновения перед его глазами не сверкнула наполненная народом чаша афинского театра. Она засияла одухотворенной маской на лице актера, изображавшего его, Фемистокла, в пьесе Фриниха, шатнулась фигурой другого такого же мощного актера, говорящего перед зрителями о его подвиге в пьесе великого Эсхила…
Похоронили покойника на центральной магнесийской площади. Еще во времена Плутарха гробница Фемистокла пользовалась громадной известностью и невероятным почетом в эллинском мире, – однако и тогда уже говорили, будто прах победителя персов выкраден афинянами, чтобы быть погребенным в родной для него земле, в приморском Пирее.
Поэт Алфей, живший в I веке до н. э. – в I веке н. э. сочинил эпитафию на гроб Фемистокла в Магнесии. Вот ее текст:
В камне над гробом моим изваяй мне и горе и море, Феба-свидетеля мне тут же в средине поставь, Вырежь глубокие реки, в которых для воинства Ксеркса С флотом огромным его все ж не хватило воды, И начертай Саламин – чтобы с честью на гроб Фемистокла Путнику здесь указать мог магнесийский народ[27].Значит, как бы там ни было, а потомки героев Саламинского сражения все-таки призабыли о подозрениях относительно своего соотечественника и предпочли считать его бесконечно великим.
Прометей
Это было удивительное зрелище. Сотни смуглолицых юношей, с венками на головах и с металлическими стержнями в руках, снабженными с одной стороны витыми ручками, с другой – обернутыми щедро промасленной паклей – толпились у мраморного жертвенника, на котором трепетали языки священного пламени. Седоголовые жрецы в длинных и красных одеяниях цепкими взглядами следили за соблюдением общепризнанного порядка.
Едва прикоснувшись к огненным языкам, вздрогнув от их шипения, – юноши быстро вскидывали руки с горящим пламенем. Они отходили, чтобы приобщиться к напряженной толпе, старавшейся не преступать помеченной глиной резкой черты, неприкосновенность которой оберегали другие жрецы в таких же красных одеждах и с длинными розгами в быстрых руках. Розги предназначались для слишком ретивых участников, неспособных совладать со своими ногами. Жрецы удерживали толпу вплоть до того мгновения, пока у жертвенника не оставалось ни одного незажженного факела.
Раздавался звук очнувшейся вдруг невидимой флейты, и море живых огней мгновенно устремлялось вперед. Вырвавшись из сада героя Академа, где пылал его жертвенник, факелы врезáлись в крутые улочки дымного Керамика, обиталища чумазых горшечников, где рыжая почва густо усеяна черепками, а в каждом подворье бушует неукротимое пламя. Глиняные изделия закаляются там до крепости металла, и все ребятишки носятся вокруг огня с измазанными руками, ногами и даже ушными раковинами.
Горшечники оставляли свои заботы и свои гогочущие от жара раскаленные печки, чтобы веселыми криками взбодрить бегущих.
– Давай!
– Давай!
– Гигас! Ты – настоящий Гермес!
– Догоняй его, Агафон! Тебе нельзя уступать!
– А что ты, Деметриос?
– Поспеши, сынок!
Подобными криками встречали бегущих степенные кузнецы в коротеньких одеяниях, как только первые юноши достигали пропахших металлом домов. Кузнецы выкрикивали советы по сохранению огня, потому что не будет толку даже от самых резвых ног, если в руках у бегущего сникнет пламя, задутое резким ветром.
– Придерживай факел поближе к телу!
– Закрывай огонь всею грудью!
Будучи еще мальчишкой, завидев поразительный ночной бег, Эсхил поинтересовался у наставника-раба:
– Кого они славят?
– Промитии – праздник великого Прометея, – отвечал умиленный раб Фрасибул. – Прометей – сын титана Иапета и океаниды Климены. Приходится двоюродным братом Зевсу. Родными братьями его считаются Атлант, который держит на своих плечах весь небесный свод, да еще – Эпиметей и Менетий.
Эсхил любовался огненными лентами. Их оставляли бегущие юноши, попадая в сумрак могучих платанов.
Наставник продолжал дальше:
– Прометей… означает «Обдумывающий наперед», «Провидец», тогда как Эпиметей – «Тугодум», «Размышляющий после»… Все живое сотворено из вязкой глины. Боги поручили братьям снабжать вновь созданные творения всем, необходимым для жизни… Эпиметей заботился больше о зверях. На них и потратил отпущенные небесами средства. А звери и без того появляются на свет… во всеоружии. Какой-нибудь теленок, или щенок, а тем более – волчонок… Ему еще только день от рождения, а он уже следует за матерью. У всех зверей и птиц имеется шкура или перья для защиты от холода и дождя. Есть зубы и когти, чтобы обезопасить себя… А что наличествует у человеческого детеныша? Наг и беспомощен приходит он в мир. Наг и беспомощен человек, даже когда подрастет и накопит сил. Людям пришлось бы исчезнуть с земли, если б не Прометей. Он позаботился обо всем наперед. Он научил человечество шить из звериных шкур различного рода одежды. Научил пользоваться топором, мечом, луком и прочими инструментами. В довершение всего выкрал у Зевса огонь – и в камышовой трубке доставил на землю! Земные жители получили возможность обогреваться в холодное время. Собравшись в пещере, почувствовали себя защищенными от зверей, потому что звери боятся живого огня. Люди стали готовить себе более-менее приемлемую пищу. Жизнь переменилась в корне. Почувствовали себя хозяевами мира. Потому-то и славят великого Прометея… Который мудрее Зевса… В первую очередь отличаются этим кузнецы и горшечники… Они вообще не мыслят себя без огня…
Наставник говорил и говорил, а в голове у маленького Эсхила мелькали различные видения. Да, без жаркого пламени человеку нельзя существовать ни дня.
Образ доброго Прометея, надо сказать, занимал поэта на протяжении всей жизни. О Прометее говорили все афиняне. Они читали о нем в поэмах славного Гесиода, беотийского крестьянского поэта. Прометей выступал там скорее хитрющим, хоть и мудрым, волшебником.
Эсхилу захотелось вывести Прометея на орхестру. Особенно усилилось это желание после поездки на остров Сицилию, где, уже сказано, поэта ждал весьма теплый прием.
Рассказы об извержении вулкана Этна, случившемся незадолго до его приезда, посещение одноименного города, заложенного у подножия огнедышащей горы, – все это произвело на поэта неизгладимое впечатление. Дело в том, что на Сицилии были распространены мифы о Гефесте, хромоногом боге-кузнеце, устроившем свои мастерские в пещерах под Этной. Из его мастерских вырываются красные языки, что в просторечии называется извержением вулкана. В сознании сицилийцев функции Гефеста и Прометея переплетаются между собою. Впрочем, как и в сознании афинян.
Драма «Прикованный Прометей», поставленная вскоре после возвращения назад в Афины, считается самой замечательной среди трагедий Эсхила. Она является составной частью тетралогии, посвященной этому герою. Правда, теперь затруднительно утверждать, какое конкретно по счету место занимала пьеса во всей тетралогии: остальные части ее до нас не дошли. Назывались же они так: «Прометей-огненосец» и «Прометей освобождаемый».
Надо сразу заметить: Эсхил значительно переиначил содержание мифов, и зрители сразу почувствовали, что перед ними вовсе не какой-то хитрец, способный только обманывать Зевса.
В сохранившейся части зрители увидели красавца титана, по велению Зевса приведенного уже на казнь. Казнь совершается на краю света, в пустынной Скифии, где возвышается одинокая мрачная скала. Пособники Громовержца, Сила и Власть, доставившие героя, передают его, безмолвного и безразличного ко всему, со связанными за спиной руками, – хромому богу Гефесту, который и пригвождает узника к отвесному утесу.
Сила и Власть, позвякивая цепями, выражают удовлетворение добротной работой, хлопают Гефеста по могучим плечам, и вся тройка мучителей, насвистывая популярный мотив, удаляется без малейшей спешки.
Оставшись наедине, придя в себя, Прометей дает волю клокочущим у него в душе чувствам. Под лязг оков звучат его негодующие речи.
Зрители узнают, что Прометей – сын богини Фемиды-Земли. В свое время он отсоветовал Зевсу воцаряться на Олимпе. Однако стоило Прометею вступиться за людей, которых Зевс вознамерился погубить, стоило выкрасть огонь, передать его людям, – и Громовержец решил строго наказать ослушника…
Во время этих признаний на орхестру опускается крылатый красный дракон, а по земле одновременно набегают откуда-то легконогие морские нимфы. Они образуют хор.
Утихает трепет могучих крыльев – и перед Прометеем вырастает фигура седовласого бога Океана. Полный сочувствия к безвинному герою, древнейший возрастом гость не советует все же противиться Зевсу, а смиренно подчиниться судьбе. Прометей же, громыхая цепями, не соглашается.
– Мне не в чем каяться и не в чем виниться! – заявляет узник.
Огорченный, кряхтя, старец снова взбирается на пышущего огнем дракона. А тот, размахивая крыльями, при помощи известного нам журавля, со скрипом взмывает в небо.
Морские нимфы, дочери Океана, сбиваются в трепещущий хор. Они выражают сочувствие страждущему герою. Он же рассказывает им, заодно и внимающим зрителям, о своих благодеяниях, оказанных человеческому роду.
От него, Прометея, земляне научились не только обращаться с огнем, но и строить жилища. Оставив сырые и мрачные пещеры, люди обучились грамоте, счету, судостроению и разным прочим ремеслам; научились бороться с болезнями, выплавлять металлы и тому подобное. Он надоумил их объединяться в государства.
Одному не смог научить Прометей землян: одолевать неумолимую смерть. Это – свыше даже возможностей Зевса, который также вынужден подчиняться судьбе.
Смысл Прометеева монолога подкрепляется тут же. На орхестру с ревом врывается белая телка. Не в силах остановиться, она хлещет себя по бокам хвостом. Белая шерстка прелестной пришелицы покрывается кровавыми пятнами.
Это Ио, дочь аргосского царя Инаха, возлюбленная Зевса, ради конспирации превращенная им в животное. Ревнивая Гера, супруга верховного бога, тотчас наслала на девушку сумасшедшего овода, который терзает несчастную своими укусами.
Прометей расшифровывает красавице тайны ее счастливого прошлого и предсказывает, чтó ждет ее в будущем. Успокоение настанет только в заморской Ливии, где она будет супругою местного царя. Так предначертано судьбою, которую, сказано, не в силах переиначить даже сам Зевс. От всех мучений, которые уже назначены и которым суждено с ней случиться, – освободит Прометея потомок Ио.
Конечно, все зрители понимали, о ком идет речь: о герое Геракле. Он и является потомком Ио.
Выслушав предсказания, совершив по орхестре последний виток, Ио пускается в новый безудержный бег. Прометей же, продолжая прерванный разговор, сообщает нимфам Океанидам, что ему ведома величайшая тайна, которая угрожает Зевсу. Опасности, впрочем, можно избежать. Ему, Прометею, понятно, каким именно образом.
Конечно, каждое слово, произнесенное на земле, тут же становится известным на заоблачном Олимпе. На орхестре мгновенно появляется бог Гермес, посланец Зевса. Он приказывает Прометею раскрыть известную ему тайну, иначе героя поджидают еще более строгие наказания. Но Прометей по-прежнему непреклонен. Его не страшат никакие мучения.
Раздаются удары грома. Сверкает молния. Огромная скала на глазах у зрителей вздрагивает и вместе с прикованным узником проваливается в преисподнюю, чтобы оказаться в глубоком и мрачном Тартаре.
Герой не подчинился несправедливым требованиям тирана, в роли которого в данной ситуации выступает верховный бог, Громовержец Зевс…
По сохранившимся крохам прочих трагедий, составляющих тетралогию, ученые предположительно реконструировали содержание двух остальных частей (четвертой, как известно, являлась сатирова драма).
Вот что там было.
Через тридцать тысяч лет Прометей подвергся новым наказаниям. Он был прикован к скале на Кавказе, и его печень, с регулярными перерывами, терзал присылаемый Зевсом орел. Печень страдальца после каждой экзекуции становилась прежней, готовой для новых мучений.
Хор в трагедии составляли титаны, братья Прометея. Доверительные их рассказы, в том числе самого Прометея, наполненные перечислением страданий, прерывались приходом Геракла, потомка Ио, совершавшего странствия. В конце концов Геракл убивает Зевсова орла, а Прометей открывает тайну, угрожающую Зевсу.
Тайна заключалась в том, что Зевсу следовало отказаться от намерения жениться на морской богине Фетиде, поскольку рожденный ею сын лишил бы отца верховного престола[28].
Аргос в Афинах
Конечно, античные драматурги изначально имели в виду отлично подготовленную публику, публику единомышленников. Античные драмы, будучи поставленными где угодно и когда угодно, в наше время требуют разносторонних комментариев, несмотря на гениальность их авторов. Ничего подобного не отмечалось в древней Греции.
Дошедшая до наших дней трагедия «Просительницы» была первой частью трилогии, по всей вероятности, сочиненной в самом начале творческого пути Эсхила. Античным зрителям достаточно было узнать заголовок трилогии, чтобы тотчас войти в обстановку, которая представала перед ними на орхестре, уяснить заранее, чтó им назначено видеть и слышать. Короче говоря, античным зрителям достаточно было уловить лишь слово «данаиды».
Данаиды были дочерьми царя Даная, в свою очередь – сына египетского царя Бела. Этих юных, прекрасных девушек насчитывалось ровно пять десятков. А еще у Даная имелся брат Египт, отец пятидесяти сыновей, пожелавший женить их на дочерях Даная. Подобные браки между близкими родственниками в античности почитались нормой, особенно в Египте, в тамошних царских семьях. Однако девушки воспротивились подобному браку. Не соглашался на него и отец невест. Но как было поступить родителю в сложившейся ситуации?
И тут у Даная в памяти замаячили предания о прародительнице рода, о прекрасной Ио. Она выросла в заморском, по отношению к Египту, гористом Аргосе.
От Афин до Аргоса – рукой подать. После моря необходимо было лишь пересечь мегарскую землю, миновать высоко вознесенную коринфскую крепость – и вот они, опаленные зноем холмы. Вот она, жаркая, иссушенная солнцем Арголида. Впрочем, если предпочесть путешествие по морю – так и того быстрее.
Предания аргосской земли были отлично ведомы в Аттике. Аргосские мифы гласили, будто известная читателям Ио приходилась дочерью речному богу Инаху, он же первый местный царь. Аргосская земля изначально выглядела безводной и сплошь открытой, так что красавицу царевну не мог не заметить Громовержец Зевс. Он и стал к ней наведываться под прикрытием непроглядной тучи.
Однако Гера, супруга Зевса, своевременно заметила новое увлечение мужа. Зевсу, уже говорилось, пришлось превратить прекрасную Ио в прелестную телку. Бог желал ей добра, но получилось совсем не то: Гера тут же потребовала подарить ей животное, которое пасется на выгоревшем пригорке. Привязав «подарок» к одиноко торчавшему дереву, она приставила к телке тысячеглазого Аргуса, родного брата Ио, которому никак не приходило в голову, кого он здесь стережет, но который надежно исполнял свои сторожевые обязанности. Нещадное солнце томило красавицу, запечатанную к тому же в коровью шкуру. Она страшно ревела, и тогда Зевс, тронутый ее мучениями, послал своего сына Гермеса с приказом освободить страдалицу.
Гермесу довольно легко удалось умертвить незадачливого Аргуса. Освобожденная Ио устремилась куда глаза глядят, гонимая укусами гигантского овода, насланного опять же мстительной Герой. В конце концов Ио сыскала убежище в заморской Африке, что было заранее предсказано Прометеем. Там, на африканской земле, обрела она, наконец, человеческий облик, родила сына Эпафа и вышла замуж за местного царя, завещавшего свой трон пасынку, стало быть – опять-таки природному сыну Зевса…
Вот этих-то красавиц-сестер, потомков Ио, одетых в яркие африканские наряды, – и увидели афиняне на своей орхестре. Бежав от ненавистного брака с двоюродными братьями, явившись на землю своей прародительницы, царские дочери тотчас же устремились к алтарю. Они умоляли Зевса о его покровительстве, надеясь на родственные связи.
За столь продолжительное время на аргосской земле произошли большие перемены. Престарелый бог Инах давно уже потерял былое значение. Если и помнил о нем кто-нибудь из местных жителей, то, скорее всего, лишь потому, что старик почитался отцом несчастной Ио. Аргос теперь пребывал под властью царя Пеласга, над которым опять же стоял всемогущий Зевс. Пеласг понимал, что прими он явившихся вдруг беглянок – не миновать огромной беды. Но с другой стороны – беглянки эти – родственницы Зевса, и грозят покончить с собой. Как посмотрит на это великий Зевс?
Пеласг предложил Данаю обратиться непосредственно к народу. Жители Аргоса должны поддержать его непростую просьбу. Аргосский народ действительно согласился предоставить пристанище юным африканкам, и на это решение с легким сердцем пристал Пеласг.
Но тут-то и началось все то, чего он так опасался. К аргосским берегам вплотную приблизился могучий флот. И вот уже афиняне видят на орхестре посланца, окруженного толпою клевретов. Они силой пытаются увести царевен.
Вступившись за девушек, царь Пеласг укрыл их в своей надежной крепости. Данаиды благодарят богов за спасение, но что-то тревожное повисает в воздухе. А тут еще хор служанок зудит, будто Данаиды нарушили волю богини Афродиты. Брак – святое дело. Ему невозможно противиться…
В следующей части трилогии, в недошедших до нас «Египтянах», наверняка говорилось о том, чтó также было хорошо известно афинским зрителям, но по-особому трактовалось прославленным драматургом.
Военные действия на аргосской земле принесли победу пришельцам. Грандиозная свадьба стала полнейшей реальностью, а все же царь Данай не сдавался. Он тайно вручил дочерям по маленькому кинжалу, и в первую брачную ночь они умертвили своих мужей. Все, кроме одной, – юной Гипермнестры, которая полюбила доставшегося ей в мужья Линкея.
Третья часть тетралогии, носившая название «Данаиды», по-видимому, повествовала о суде над строптивицей Гипермнестрой, которой покровительствовала богиня Афродита, поскольку эта царевна не нарушала божественных заветов, не воспротивилась браку.
Гипермнестра и Линкей стали основателями новой аргосской династии.
Сатирова драма «Амимона», заключавшая трилогию, собственно – тетралогию, названа по имени одной Данаиды, которую отец послал к источнику за водой. В ней рассказывалось о приключениях девушки, о неожиданной встрече с похотливым сатиром, от которого уберег ее бог Посейдон.
Фиванские страсти
Трагедия «Семеро против Фив» также не застала афинян врасплох. Собственно, нам хорошо известно, что трагедия эта была поставлена еще в 467 году до н. э. Следовательно – автор ее к тому времени вступил уже в пору расцвета своего поразительного таланта. Составляла она только треть трилогии, тогда как первая и вторая части в ней носили названия «Лай» и «Эдип».
О фиванском правителе, царе Лае, потомке знаменитого царевича Кадма, – афинянам было ведомо гораздо меньше, нежели о титане Прометее. Они знали, что Лай был проклят богами, поскольку выкрал когда-то царевича Хрисиппа, сына знаменитого пелопоннесского властителя Пелопа. Расплачиваться за грехи родителя пришлось его сыну Эдипу.
И не только ему.
Но сама трагедия Эсхила – не сохранилась…
Третья же, дошедшая часть трагедии, под названием «Семеро против Фив», рассказывает о бескомпромиссной схватке между сыновьями Эдипа, Этеоклом и Полиником, проклятыми отцом за неуважение к нему.
Афиняне знали, что сыновья Эдипа не смогли ужиться в оставленном отцом городе. Этеокл, усевшись на царском троне, начал править единолично. Он изгнал Полиника, родного брата, и тот, блуждая по миру, нашел себе верных сообщников. Собрав огромное войско, Полиник пришел отнимать отцовский престол.
Трагедия начинается с того момента, когда Этеокл, заслышав о прибытии чужеземцев, возглавляемых Полиником, посылает верного человека разузнать о дальнейших намерениях пришельцев.
Хор фиванских женщин, наблюдая за творящимся внутри крепости, томится в страшных предчувствиях. Этеокл же старается внушить своим подданным уверенность в неодолимой их мощи.
Посланный Этеоклом человек между тем извещает, что пришельцы, распределившись на боевые группы, стоят перед семью городскими воротами, готовые к штурму. Что главные ворота достались неистовому Полинику.
Этеокл, распределяя подчиненных ему воинов, раскрывает перед ними свой план обороны города. Главные ворота, которым угрожает родной его брат, оставляет он за собой.
Хор, состоящий из женщин, пытается внушить Этеоклу, что тот выступает против ближайшего ему родственника. Женщины всячески вразумляют царя, да только впустую. Этеокл отправляется на битву, и хору остается лишь петь-рассказывать о грехах давно почившего Лая, сокрушаться содеянным им давнишним злом, за что расплачивается уже второе поколение его потомков. Пока все это делается – появляется глашатай, который извещает, что братья-царевичи уже встретились в поединке и оба погибли.
Старейшины города решают похоронить Этеокла со всеми почестями, а тело Полиника, предателя, оставить безо всякого погребения.
Антигона, сестра погибших, не соглашается с таким решением. Слова ее звучат завязкой нового трагического узла. Но это – начало уже какой-то новой пьесы.
«Орестея»
Трилогия «Орестея» считается наиболее зрелым произведением в наследии Эсхила. К тому же от нее сохранились все три части, – почему о данном произведении небезынтересно будет поговорить более подробно.
Историю микенского царя Агамемнона, возглавлявшего панэллинский поход в Малую Азию в отместку за проступок троянского царевича Париса, – афиняне знали из поэмы Гомера, именуемой «Илиадой». Парис похитил жену спартанского царя Менелая, брата Агамемнона. История же его убийства была им более или менее известна из другой гомеровской поэмы – «Одиссеи». Вождь победоносных эллинов возвратился на родину, но принял смерть от руки своего двоюродного брата Эгисфа. А помогала последнему в этом жена Агамемнона, по имени Клитемнестра.
Известный гомеровский сюжет многократно перерабатывался разными поэтами. Не без их влияния Эсхил значительно отступил от первоначальной версии. Убийство Агамемнона у него происходит в Аргосе, не в Микенах, как сказано у Гомера, а зачинщицей его является Клитемнестра, вовсе не Эгисф.
Сюжетная канва трагедии разработана следующим образом.
В Аргосе давно уже дожидаются вестей из-под Трои. Прорицатели предрекли, будто осада троянской твердыни продлится не менее девяти лет, и только на десятом году она наконец-то будет взята. И вот наступает этот долгожданный срок. Как только Троя падет – по приказу Агамемнона запылает костер на ближайшей горной вершине. Пламя заметят на соседней горе – огни понесутся дальше, дальше, образуя сплошную цепочку, которая и дотянется и до мирного Аргоса.
На кровлю аргосского дворца еженощно взбирается сторож, чтобы не прозевать появление огненного знака. Чтобы тотчас же доложить о нем своей госпоже Клитемнестре.
Поднимается сторож и сейчас, на глазах у афинских зрителей. Нарекая на свою нелепую участь, он нисколько не одобряет дел, творящихся в царском дворце. Слова старика очень понятны зрителям. Они вспоминают, что за время отсутствия Агамемнона царица увлеклась его двоюродным братом Эгисфом, что в голове этой женщины наверное созрело решение убрать своего законного супруга.
И вот, в непроглядной ночи, зрачки старика различают вожделенный огонь. Он спешит обрадовать свою повелительницу.
Мрак между тем распадается на отдельные куски. Куски мельчают, становятся серыми пятнами. А к царскому дворцу стекаются седобородые старейшины в белых одеяниях. Они образуют привычный для зрителей хор, который припоминает далекие дни, когда царь Агамемнон отправлялся в поход. В приморском городе Авлиде томилось видимо-невидимо эллинских судов, готовых ринуться в открытое море. Однако богиня Артемида, недовольная Агамемноном, не давала эскадре попутного ветра. И тогда Агамемнон, наученный прорицателями, принес ей в жертву свою дочь Ифигению.
– Родную дочь…
– Да, как можно…
– Ужас…
Клитемнестра уведомляет старейшин о полученном ею известии: Троя взята! Царица хочет подчеркнуть свою величайшую радость, да только все это получается без пользы для нее же самой. Старики ничуть не радуются. Много людей полегло под Троей. Родственники погибших проклинают зачинщиков бойни.
Высланный вперед глашатай торжественно возвещает о достигнутой победе и о возвращении вождя Агамемнона. Однако слова его тоже нисколько не тешат старейшин: им не дают покоя новые слухи о понесенных жертвах. Потрясенные, старики на все лады костят красавицу Елену, принесшую массу страданий всем известным народам.
И вот уже, следом за громогласным глашатаем, на пышной колеснице въезжает на сцену сам Агамемнон. За плечами у него развевается красный плащ. На голове победно сверкает огромный шлем, оттененный черным, как вороново крыло, ершистым султаном. Агамемнон привез с собой дочь побежденного троянского царя Приама, красавицу и пророчицу Кассандру. По белому платью пленницы растекаются волны неукротимых волос.
Появление царя с таким доказательством своей неоспоримой победы умиротворяет хор старейшин. В ответ на слова с обещанием привести в порядок состояние государственных дел – хор все-таки приветствует Агамемнона.
– Победа!
– Победа!
Выбежав из дворца, Клитемнестра встречает супруга со словами явной лести. В дополнение к лживым речам она велит рабыням покрыть ступени лестницы пурпурным ковром. Озадаченный, Агамемнон на какое-то время теряется. Ему ведомо: по такому ковру позволительно ходить олимпийским богам. Не сочтут ли небожители все это проявлением величайшей гордыни? Не отведут ли они от него свои отчужденные гневные лики?
И все же, расстегнув и сняв грохочущие сандалии, Агамемнон топчет ногами пурпур ковра.
Оставшиеся при дворце старейшины снова погружаются в тягостные раздумья. Пролитая некогда кровь невинной отроковицы, уверены они, призывает к отмщению.
– Родная дочь…
– Да, как можно…
Кассандра, сидящая на победной колеснице, кажется застывшей в оцепенении. Девушка не откликается на призывы войти под своды дворца в качестве унылой рабыни. В необъяснимом для зрителей порыве троянская царевна обращается к статуе Аполлона, любовь которого она в свое время отвергла, за что и поплатилась тем, что ее пророчествам с тех пор никто не верит.
Она лишь спрашивает, куда ее этот бог привел? Впрочем, пленница не доверяет и Аполлону. Тонкий нюх ее улавливает трупное зловоние, дыхание смерти. Сознание девушки переполнено леденящими душу видениями, где перемешаны картины прошедшего и будущего. Кассандре ненавистна двуногая львица, вступившая в связь с трусливым волком. Она уже знает, что замышленное убийство благородного льва осуществится в ближайшее время. Ей ведомо также, что смерть поджидает ее саму.
– Смерть… Везде – одна смерть…
Наконец Кассандра встряхивает волною черных напряженных волос и переступает порог царского дворца. Она заранее прощается с подсолнечным миром…
Старейшины не успевают проследовать за исчезнувшей пленной Кассандрой, как во дворце раздаются пронзительные крики. Так кричат перед смертью. И правда: на фоне дворца появляется движущаяся из его внутренностей телега с трупами Агамемнона и Кассандры. По белым одеяниям мертвой красавицы стекают алые струйки. С окровавленной секирой возвышается над трупами царица Клитемнестра. Да, она совершила отмщение за смерть своей дочери Ифигении! Клитемнестра возвещает об этом с непомерной гордостью.
В довершение всего перед дворцом появляется Эгисф, окруженный телохранителями. Возмущенные старейшины, потрясая завитками белых волос, высказывают надежду, что за смерть отца будет мстить его сын Орест. Отрок остался жив…
Негодующий Эгисф приказывает телохранителям осадить зарвавшихся стариков, однако в дело вмешивается Клитемнестра. Она успокаивает страсти.
Так завершается первая часть трилогии.
Действие второй части трагедии, поставленной во время Великих Дионисий 458 года до н. э., происходит десять лет спустя. Оно начинается на могиле царя Агамемнона, к которой приближаются двое молодых людей, чтобы совершить поминальный обряд. Это – сын Агамемнона Орест, о котором упоминали старейшины в первой части трилогии, и его загадочный закадычный друг.
Все прошедшие годы Орест находился в Фокиде, у дружественного Агамемнону царя Строфия, будучи отправленным туда сестрой Электрой. В Фокиде он подружился с Пиладом, сыном Строфия. Взаимоотношения юношей стали символом бескорыстной дружбы. Сделавшись взрослым, Орест проникся твердым убеждением, что он непременно обязан отплатить за смерть отца. Но кому же следует мстить? Собственной матери? Ужаснувшись, Орест обратился к оракулу Аполлона, и сребролукий бог пригрозил ему страшными карами, если он не исполнит этой вполне законной мести.
Совершив поминальные обряды, Орест умоляет тень отца пособить ему в очень трудном деле.
К могиле Агамемнона приближается его дочь Электра. Это гордая, порывистая девушка. Царевну сопровождают пленные троянки, привезенные родителем из-за моря. Пленниц так много, что они составляют целый хор. Из песен этого хора становится известно: царице Клитемнестре пригрезился зловещий сон. Испугавшись возможной мести убитого супруга, Клитемнестра отправила Электру к отцовской могиле, тоже ради свершения поминальных обрядов. Однако, явившись на место, девушка принялась умолять отцовскую тень поскорее прислать сюда ее брата Ореста.
И вдруг Электра замечает на каменных плитах следы совершенной недавно жертвы. Оглядевшись вокруг, она наталкивается взглядом на молодых людей, в одном из которых признает родное лицо. Обрадовавшись, наговорившись после стольких лет разлуки, брат и сестра проникаются пониманием, что их сжигает общая жажда отмщения за гибель отца. Они вырабатывают план совместных действий.
Орест направляется во дворец. Не узнанный Клитемнестрой, юноша рассказывает о гибели ее сына. Царица не в силах сдержать своей радости. Еще бы! Мысли о том, что царевич способен появиться в роли мстителя, терзала женщину вплоть до сегодняшнего дня. Не давала покоя и трусливому Эгисфу. Но теперь-то… Надо немедленно известить об этом сожителя!
– Беги! Беги!
Царица посылает к любовнику старую няньку, на руках у которой нежился когда-то младенец Орест. Пораженная услышанной вестью, старуха с трудом переставляет больные ноги, однако хор всячески побуждает ее торопиться.
– Беги! Беги!
Эгисф, едва уловив столь приятное для него известие, забывает о мерах предосторожности. Он несется к покоям царицы, чтобы услышать там верное подтверждение. Не прихватив с собой никого из телохранителей, Эгисф встречает на пути убийц – Ореста и Пилада…
Увидев труп мертвого Эгисфа, Клитемнестра наконец догадывается об обмане. И все же она не в силах поверить, что ей суждено умереть от руки сына, которого она выносила под сердцем. Царица бросается на колени, молит о пощаде, чем обескураживает Ореста. Но Пилад напоминает другу о велении Аполлона – и Орест вздымает свой мстительный меч.
Как только бездыханное тело сваливается к его ногам – на Ореста тут же набрасываются богини мщения, так называемые Эринии. От их визга, стенаний и криков Орест устремляется прочь из дворца, надеясь найти защиту в лице Аполлона.
Действие третьей части трилогии, так называемых «Эвменид», начинается в Дельфах, главном святилище лучезарного Аполлона. Именно сюда добрался обезумевший вконец Орест.
Эринии между тем, составляющие в трагедии хор, не упускают убийцу из вида, являются вслед за ним.
Старая, как мир, жрица Пифия, в обязанности которой входит провозглашать ответ Аполлона, завидев Ореста и его преследовательниц, – не в силах удержаться под сводами храма. Она стремглав выбегает навстречу и кричит о велении бога предстать перед судом Афины. Ради этого Оресту следует немедленно отправиться в город совоокой богини.
Орест так и поступает. В Афины он спешит вместе с приятелем Пиладом и в сопровождении быстроногого бога Гермеса. Ему удается оторваться от преследовательниц, уснувших в дельфийском храме по причине усталости. Только сон у чудовищ недолог. Их торопит тень Клитемнестры. К тому же Эриний изгоняет из своего жилища негодующий Аполлон. Они тотчас бросаются в погоню.
И вот, на глазах у зрителей, за орхестрой возникают очертания высоко вознесенного Акрополя. Вот его храмы, жертвенники, могилы предков.
Смертельно уставший, Орест припадает к подножию статуи богини Афины. Он умоляет ее о ниспослании милости.
– Я пролил кровь! – хрипит его голос. – Но меня уже освободил от наказания, очистил бог Аполлон. Сюда я прибыл по его велению. Я хочу добиться справедливого приговора, великая богиня!
Орест не успевает закончить молитву, как его тут же окружают Эринии. Скверные чудища с жуткими криками теснят несчастного матереубийцу. Они толкают его, хватают окровавленными руками, рвут на нем волосы.
– Четкий след! – слышатся визги самой свирепой из них – Тисифоны. – Мы чувствуем запах крови!
– Ему от нас не уйти! – подхватывают другие, Алекто и Мегера. – Мы высосем жидкость из его обреченного тела!
– Он станет поживой для ненасытных духов!
– Умертвивший своих родителей достоин ужасного наказания!
– Таких не спасут ни Аполлон, ни Афина! Мы защищаем права убиенных!
Кажется, Оресту не избежать гибели. А все же молитвы его доходят до ушей Афины. И вот на орхестре сияют великолепные доспехи. На голове у богини высокий шлем, в руке – сверкающее копье.
Орест обращается непосредственно к Афине. Он представляется сыном хорошо известного ей героя, царя Микен, которому она покровительствовала под Троей, благодаря чему неприступный город и был захвачен и уничтожен эллинами. Юноша объясняет богине, чтó произошло с его отцом после возвращения в наследственный замок, описывает смерть победителя от руки Клитемнестры и ее любовника Эгисфа. Юноша рассказывает, как отомстил он за смерть отца. В качестве сообщника в кровавом преступлении выставляет бога Аполлона, который просто-напросто заставил его поступить именно так.
Высказавшись, юноша облегченно вздыхает: он поведал все. Он просит праведного суда и обещает подчиниться любому услышанному приговору.
Великая богиня высказывается в том духе, что юноша на самом деле чист перед богами и перед людьми. Но рассудить все это по правде очень и очень трудно. Эринии не уйдут, не получив полного удовлетворения. Своим же ядом эти страшилища способны навредить всей аттической земле. Богиня обещает передать дело на суд достойных афинских граждан.
Тут же, на виду у зрителей, собирается на орхестре другой афинский народ. Тут же назначаются судьи. Появляется на подмостках и бог Аполлон, который свидетельствует в пользу Ореста, отстаивая его правоту. Действия молодого человека были направлены на восстановление существующего порядка. Орест поступил так по воле Зевса. Умертвив свою мать, он тем самым отплатил ей за смерть родного отца.
Но черные Эринии не уступают. У них собственное понимание порядка и справедливости. Если извечный порядок будет нарушен, вопят они, – то рухнет вся мировая справедливость!
Перед голосованием богиня обращается к народу, но делает это так, что ее слова предназначаются не только тем, кто стоит на орхестре, но и тем, кто внимает ей в необозримом амфитеатре.
– Это первое убийство, которое рассматривается таким необычным доселе образом. Отныне я учреждаю в Афинах совет благородных судей, которые будут заседать на Аресовом холме. Суд их отныне будет называться Ареопагом. Это будет неподкупный, ничем не запятнанный, суровый, но снисходительный и справедливый суд!
Судьи приступают к голосованию. Они опускают в урну камешки. Белые – оправдательные, черные – обвинительные. Голоса распределяются поровну. Но в защиту Ореста выступает сама богиня Афина – и он оправдан!
Чтобы смягчить гнев недовольных Эриний, Афина дарит им храм на том самом месте, где происходило судебное заседание. Смущенные чудовища благословляют аттическую землю.
В ответ на это богиня уводит их в пещеру на склоне Акрополя, где они поселяются навсегда и становятся отныне Эвменидами, то есть – добрыми богинями.
Афинскому народу предписывается совершать божествам приношения в виде крови ягненка, меда, молока, чистой воды и пурпурного цвета одежд.
Так завершилось знаменитое представление.
Трудно описать ликование зрителей, просмотревших всю эту трагедию. Ощущение уверенности в справедливости устроенного богами мира переполняло их души. С каким-то благоговейным чувством взирали они в этот день на ареопагитов, членов настоящего Ареопага, обычно восседающих на холме Ареса, а пока что застывших в умилении на первых рядах в ликующем амфитеатре. По щекам стариков текли крупные слезы, а они не стыдились и не убирали их…
За свою трагедию Эсхил получил первую награду.
Однако эта награда была не только данью таланту великого поэта. Тут усматривалось нечто иное, нечто значительно бóльшее. Тут было немало прямых откликов на современные события.
Эсхил явно стремился защитить Ареопаг, потерявший свое былое значение, что стало одной из причин изгнания из государства Кимона, также стоявшего на защите этого высшего и почетного учреждения.
Орест, родившийся в Микенах, принадлежавших теперь Аргосу, – клялся на сцене в вечной дружбе с афинянами. Намерения царевича поддерживал олимпийский бог Аполлон. И это также звучало весьма многозначительно, поскольку ко времени постановки «Орестеи» Афины на самом деле заключили с Аргосом союз, направленный против Спарты. Этот союз был явно по душе стареющему Эсхилу[29].
Софокл, или театр трех актеров
Это могила Софокла. Ее, посвященный в искусство,
Сам я от муз получил и, как святыню, храню.
Он, когда я подвизался еще на флиунтском[30] помосте,
Мне, деревянному, дал золотом блещущий вид;
Тонкой меня багряницей одел. И с тех пор как он умер,
Здесь отдыхает моя, легкая в пляске, нога.
«Счастлив ты местом своим. Но скажи мне, какую ты маску
Стриженой девы в руке держишь. Откуда она?»
«Хочешь, зови Антигоной ее иль, пожалуй, Электрой, —
Не ошибешься: равно обе прекрасны они».
Диоскорид. Софоклу[31]Молодые поедают стариков
Говорили, за всю свою жизнь Эсхил сочинил то ли 72, то ли 95 пьес, и будто бы он тринадцать раз выходил победителем в состязаниях. Если 13 умножить на 4 (именно столько пьес, напомним читателю, представлялось каждым автором на праздниках бога Диониса), то в итоге получается цифра 52. Значит, далеко не все произведения гениального Эсхила завоевывали призовые места.
Конечно, все это могло происходить в результате недобросовестности судей, их подкупа, а то и просто козней явных или неявных недоброжелателей. Понимание этого, быть может, и не очень-то огорчало старого мастера.
На шестом десятке лет жизни Эсхилу казалось, что его позиции в театральном деле крепки как никогда. Его ценили не только афиняне и их многочисленные гости, слетавшиеся на празднества со всех концов эллинского мира. То, что в детстве только мерещилось юному элевсинскому стихотворцу, не давало покоя, лишало сна, – все это теперь оживало на сценической площадке. Могучие люди в длинных сверкающих одеждах, снабженные яркими масками, выступавшие на высоких котурнах, со втиснутыми в размеренные строки речами, – все это производило неизгладимое впечатление. Если добавить обворожительную музыку, пение хора, пляски, если снабдить спектакли подобиями нынешних декораций, исполненных кистью художника Агафарха, сына Евдема, уроженца острова Самоса, известного всем по прозванию Скенограф, – то впечатление от каждой представленной пьесы усиливалось еще больше.
На острове Сицилия (об этой поездке уже говорилось), восхищенный приемом тамошних жителей, Эсхил создал пьесу на местную тему под названием «Этниянки». В ней он не только прославил город Этну, основанную тираном Гелоном у подножия одноименной горы, но и продемонстрировал свой талант уже почти перед всем просвещенным миром.
И все же, как бы там ни было, дыхание соперника Эсхил ощутил у себя за спиною именно после возвращения на родину, в 468 году до новой эры. Им оказался молодой человек, которого звали Софоклом. Героем пьесы молодого автора выступал царевич Триптолем – из родного Эсхилу города Элевсина.
В основе произведения Софокла лежал прадавний греческий миф. Богиня Деметра, сестра всемогущего Зевса, в поисках дочери Персефоны, исчезнувшей как-то внезапно, забрела однажды в богоспасаемый Элевсин. У придорожного колодца богиню приметили местные царевны. Они пригласили ее к себе во дворец, представили своему отцу Келею.
Богине сразу же глянулась обитель земного владыки. Неузнанная, осталась она во дворце в роли няньки царевича Триптолема, которого впоследствии попыталась сделать бессмертным, правда – не совсем удачно: этому помешала мать-царица. Когда ж, наконец, раскрылась тайна исчезновения юной девушки Персефоны (ее похитил бог подземного царства Гадес), когда Персефона, став супругой указанного Гадеса и, обретя себе новое имя Кора, получила возможность возвращаться на время на землю, – обрадованная Деметра оставила царский дворец. А все же она никак не могла позабыть гостеприимных хозяев царского рода.
Однажды, представ перед взрослым уже Триптолемом, богиня повелела юноше созвать жителей всего Элевсина. Когда народ собрался, Деметра приказала вспахать обширное поле и тут же собственноручно засеяла его отборными пшеничными зернами.
На глазах удивленных жителей черную почву проткнули белые шильца, которые мгновенно переменили окраску, так что вся нива покрылась сплошным зеленым ковром. Растения лихо потянулись кверху, к сияющим небесам, и тут же зазвенели тугими колосьями. Богиня сжала их сверкающим под солнцем серпом и бросила под ноги сытым быкам. Бычьи копыта, размяв налитые колосья, мигом освободили их от стеснительных плевел. Богиня смолола зерна на каменных жерновах и собственноручно испекла душистые паляницы. Вкусив их, люди тотчас поняли, какие блага сулит человечеству плодородная нива.
Вручив царевичу колесницу, запряженную крылатыми драконами, богиня велела ему разъезжать по всему подсолнечному миру, обучать людей землепашеству.
Юноша так и поступил. Немало приключений испытал он при исполнении этой благородной миссии. Эллины с готовностью воспринимали науку, однако совершенно иначе смотрели на молодца обитатели варварских земель. Они попытались даже завладеть его колесницей, а самого царевича хотели нагло убить.
И все-таки Триптолем оказался в конце концов победителем.
Эти-то путешествия и эти подвиги царственного юноши стали сюжетом для драмы молодого поэта.
Элевсин – законная часть аттической земли. Драма Софокла воспринималась афинскими зрителями как гимн их родному городу. Получилось чудесное произведение, с ходу очаровавшее публику. Дело стало клониться к тому, что драма начинающего автора показалась вполне достойной занять даже первое место. Но как же так? Первое место – означало то, что молодой поэт, не достигший даже тридцатилетнего возраста, возьмет верх над самим Эсхилом?
Распорядители празднеств, и прежде всего архонт-эпоним (дающий название всему календарному году), не знали, чтó предпринять.
Выручил случай.
Наибольшим влиянием в это время в Афинах пользовался Кимон, сын уже покойного Мильтиада, героя Марафонского сражения. Аристократ до мозга костей, Кимон всегда оставался доступным для всех своих граждан, открытым и дружелюбным собеседником. Став опять состоятельным человеком, он велел снять ограды с собственных садов-огородов, так что любой афинянин мог воспользоваться их плодами. Более того, Кимон приказал поварам готовить обеды с таким непременно расчетом, чтобы ими могли насытиться все случайные гости и просто забредшие к нему посетители. К тому же он щедро раздавал людям милостыни, избегая при этом любых унизительных выражений.
Популярность богача не знала пределов. Он водил дружбу с художниками, скульпторами, философами, поэтами, в числе которых числился также автор трагедии о Триптолеме.
В эти дни Кимон как раз задержался в городе. Конечно, Великие Дионисии, пышные театральные представления, жертвы Дионису – все это считалось в Афинах главнейшим событием. В театре Диониса Кимон появился вместе с другими стратегами и сразу же оказался в центре внимания.
Рассудительному архонту-эпониму, наблюдавшему за всем творящимся и ломавшему себе голову, чтó может произойти, если победа выпадет молодому Софоклу, – пришла в голову довольно удачная мысль: возложить судейство на плечи стратегов! Их ровно десяток, по одному от каждой филы, на которые делилось афинское общество. Во главе судейской коллегии, естественно, окажется Кимон. Чтó бы ни присудил сейчас первый стратег, как бы ни оценил он трагедию молодого поэта, своего лучшего друга, – народ воспримет это как должное!
Так и получилось.
Проникновенные стихи Софокла, динамичное развитие сюжета драмы, прославление аттической земли, – все это вселяло гордость в любого афинского гражданина. Отсюда, из их знаменитого города, распространялось благо по всей остальной Элладе! Сюда же, как на волшебный солнечный свет, торопятся достойные люди. Здесь находится центр всего эллинского содружества!
Победителем был назван Софокл.
Произошло, собственно, то, что, по словам нашего современника, происходит в мире дикарей и писателей: молодые безжалостно поедают своих стариков.
Эсхил после этого с горечью понял, что былая его монополия, которая началась победой в 484 году до н. э., – подошла к концу.
Быть может, горечь поэта была вызвана даже не столько этим, прискорбным для него обстоятельством, сколько тем, что в описываемое мною время в афинском сообществе стали происходить перемены, которые были не по душе закаленному марафонскому бойцу. В результате осуществления реформ Эфиальта, радикально жесткого демократа, в Афинах значительно урезáлись функции аристократического Ареопага, служившего символом прежней размеренной жизни. Свои симпатии к Ареопагу, помнится, старый поэт выразил в драме «Эвмениды», которая стала гимном этой высшей правовой инстанции, по мнению Эсхила, насаждавшей законы справедливости и порядка. Трагедия была поставлена уже после гибели Эфиальта. Но дело его, подхваченное предприимчивым Периклом, ничуть не пропало.
После постановки «Эвменид», точнее – после постановки всей трилогии «Орестея», составной частью которой являлись «Эвмениды», – Эсхил решил окончательно переселиться на остров Сицилию. Правда, уезжал он также в привычную эллинскую стихию, в так называемую Великую Грецию.
На Сицилии, два года спустя, поэт-драматург разделил судьбу других знаменитых афинян, которых их соотечественники органически не выносили, усматривая в этом ущерб для самих себя. И все же, вроде бы спохватившись, они воздавали покойникам должные похвалы. А то и более того.
Так получилось и с гениальным Эсхилом. Афиняне поняли, кто жил и творил с ними бок о бок. Запоздало назвав Эсхила отцом трагедии, все эллины сочинили также красивую легенду об его уходе из мира живых. Легенда указывала на связь поэта непосредственно с небесами.
69-летний Эсхил, дескать, в этот последний свой день на земле неспешно выбрел из приморского домика, который находится в Геле, южносицилийском городе. Вероятно, обдумывая свою очередную драму, которой он еще раз надеялся поразить внимающий мир, старик загляделся в морскую синеву и не обратил надлежащего внимания, как и когда над его головою вознесся могучий орел, птица верховного бога Зевса. Орел вздымался все выше и выше, зажав в когтях непонятную глазу ношу. Наконец он застыл непосредственно над головой драматурга, как раз над его сверкающей гладкой лысиной. И вдруг раздался резкий щелчок. Эсхил свалился на землю. Из дома выскочила рабыня – и тут же по-бабьи запричитала:
– Люди! Люди! На помощь! Какое несчастье!
Сбежавшимся сицилийцам поначалу привиделось, будто старик прислушивается к утробному реву земли. Однако он лежал без дыхания. Из-под прижатой к камням, чуть сморщенной ушной раковины, змеилась полоска яркой крови. На крики не отзывался. И тогда лишь соседи сообразили, что виною всего случившегося является черепаха, которая уползает в сумрак столетней оливы, выставив змееподобную головенку. Неповоротливая, тяжелая, унесенная в небо в когтях орла, сроненная где-то в подоблачных просторах, – она угодила поэту прямо в голову.
На могиле Эсхила, погребенного в той же Геле, сицилийцы высекли надпись, сочиненную им при жизни:
Евфорионова сына Эсхила афинского кости Кроет собою Гелы земля, богатой зерном; Мужество помнят его Марафонская роща и племя Длинноволосых мидян, в битве узнавших его[32].Мидяне в приведенной надписи – это персы. Эсхил остался верен себе. Любовь к свободе, ненависть к поработителям, неразрывная связь с родными краями, – вот что почиталось им самым главным в достойно прожитой жизни, а вовсе не сочинение каких-то трагедий.
Баловень судьбы
Обратимся теперь непосредственно к Софоклу.
Существует старинный фольклорный мотив о трех сыновьях, которым выпало множество испытаний. Испытания эти, как правило, минуют среднего сына. Точно так получилось и с греческой драматургией, у которой насчитывалось трое главнейших творцов-сыновей: Эсхил, Софокл и Еврипид. Софокл, получается, оказался настоящим баловнем судьбы.
Софокл родился и рос в городке под названием Гиппо-Колон, в получасе ходьбы от сердца Афин, от знаменитого с давних пор холма, на котором впоследствии вырос Акрополь. Городок этот был расположен на берегу реки под названием Кефис, незаметно струившей тихие, почти что неслышные воды.
Берега реки, усыпанные цветами золотого шафрана и красных нарциссов, устилались к тому же оливковыми рощами. Очаровательные места навсегда приковывали к себе внимание человека, которому хотя бы раз в жизни посчастливилось присмотреться к окружающей красоте.
Особую прелесть Гиппо-Колону придавали холмы, посвященные лошадям Посейдона, покровителю этих животных, с чудесным храмом, возносящимся на зеленой поверхности, привлекавшим не так своими колоннами, как искусно высеченным мраморным фризом. Белые кони на голубеющем фоне казались живыми, будто их только что оторвали от водопоя, от берегов неустанного Кефиса, покрытых ослепительно белым песком.
И все же не это влекло к себе юного Софокла. Он часами просиживал у дороги, которая вела в неизвестные ему еще Фивы, слушал рассказы раба-педагога. Возле еле приметного уже бугорка постоянно толпились люди, о чем-то спорили, с чем-то не соглашались.
– Живым сошел под землю, претерпев много горя, – говорил, не смолкая, раб-педагог. – Но и там, в темном царстве теней, продолжает заботиться об афинянах. Благодарен нам за приют, оказанный ему при жизни!
– Под землю? Так ведь… больно глазам? – удивлялся любопытный мальчишка, а раб терпеливо ему растолковывал:
– У Эдипа не было глаз… Выколол первым попавшимся острием…
– Ой! Был плохим человеком?
– Разве к плохому ходили бы люди? Посмотри, сколько их… Так уж назначено было судьбою…
Малыш до боли в глазах впивался взглядами в каменистую дорогу. Порой ему даже мерещилось, будто там вырисовывается загадочная расплывчатая фигура, ведомая какой-то юной девчушкой. Фигур на дороге было в достатке. В итоге – все виденное оборачивалось вовсе не тем…
Эдипа там не было…
Отец будущего драматурга, по имени Софилл, владел обширными оружейными мастерскими. Заказов всегда хватало, и сын провел свои детские годы в полном достатке, несмотря на все сложности тогдашней действительности. Во время битвы на Марафонском поле Софоклу исполнялось всего лишь шесть лет. Невзгоды и страхи военного времени, захват врагами Афин, уничтожение древнего города, исчезновение священных храмов, гибель знакомых людей… Все это происходило на глазах внимательного подростка. Почти ребенка.
Несмотря ни на что, Софокл получил превосходное образование. Великолепно пел, прекрасно играл на кифаре, отлично декламировал, начиная со стихов Гомера, а кончая строчками выдающихся современников. Красивый, рослый, отлично сложенный, физически развитый и, по обычаям того времени, прекрасно натренированный, – Софокл постоянно участвовал в различного рода соревнованиях, поскольку без состязаний эллины просто не мыслили жизни.
Уже в юности часто оказывался победителем, и это обстоятельство также не миновало внимания современников. Скажем, на торжествах по случаю счастливого исхода Саламинского сражения, возглавлял хороводы юношей, славивших олимпийских богов. Шагая впереди хора, с кифарою в руках, зачинал торжественные строфы, которые тут же подхватывались другими хористами.
Конечно, являясь современником Эсхила, будущий драматург не мог не ощущать на себе влияние могучего мастера, чьи пьесы многократно приходилось видеть в афинском театре, чьи победы он мог наблюдать. Софокл, говорили древние, всегда пребывал в дружеских отношениях с гениальным Эсхилом, несмотря ни на что. В какой-то момент считался даже его учеником.
С таким же успехом позволительно утверждать, что Софокл очень рано приступил к сочинению собственных трагедий. Придя в театр, уже выпестованный Эсхилом, Софокл заявил о себе как о решительном реформаторе. Первое, кажется, что он туда привнес, – это усиление музыкального сопровождения спектакля. Увеличив количество хористов (с 12 до 15), написал даже книгу о музыкальном оформлении пьесы, до нас не дошедшую, но, по слухам, высоко ценимую знатоками. Театральные представления при нем начали превращаться в нечто похожее на современную нам оперетту, если иметь в виду количество музыкальных номеров. Обладая большим художническим вкусом и соответствующим дарованием, заботился также о живописном оформлении сцены: в числе прочего – об одеждах актеров, убранствах хористов. В конце концов, совершил значительную революцию, увеличив число актеров с двух до трех, чем впоследствии не преминул воспользоваться даже стареющий Эсхил. А еще – основал настоящее театральное сообщество, объединявшее в себе актеров, драматургов, художников, музыкантов и прочих «работников бога Диониса».
Следуя общепринятой в древнем мире традиции, Софокл первоначально сам исполнял в своих драмах ведущие роли. Очаровывал зрителей, играя, к примеру, роль Навсикаи, молоденькой дочери мифического царя Алкиноя. Однако природа ссудила Софокла относительно слабым голосом, которого было совсем недостаточно, чтобы заполнить просторный театр под открытым небом. Для этого необходима была богатырская грудная клетка, металлические голосовые связки. Софоклу пришлось отказаться от актерской карьеры. Но худа без добра не бывает, и данное обстоятельство, быть может, лишь поспособствовало укреплению его поэтического таланта.
Первая победа в драматическом мастерстве, причем над самим Эсхилом, – оказалась отнюдь далеко не случайной.
Немало было сделано молодым драматургом и в обновлении языковых средств трагедийного искусства. Говорят, он довольно рано начал хулить напыщенный стиль своего наставника, порою делавший трагедию чересчур затруднительной пониманию неискушенной публики. Сочинения Эсхила действительно превращались иногда в подобие молитвы на окаменевшем древнем наречии, – так что Софокл был довольно близок к истине.
Конечно, Эсхил, ко всему прочему, чудился Софоклу крепко пожилым уже человеком. Почти стариком. К тому же он неоправданно долго корпел над каждым своим сочинением, доводя порою его до такого совершенного уровня, который казался единственно приемлемым. Часто прибегал к допингу в виде вина. И это при том, что молодому Софоклу сочинительство драм давалось легко и как-то даже сверх продуктивно…
После первой победы, говорили, Софокл уже никогда не знал поражений. То есть, надо так понимать, ни разу не опускался ниже второго места. Что же касается чистых побед, когда трагедии его удостаивались первой премии, то их за ним насчитывалось неясное количество: кто называл число 18, кто 20 (даже 23). Если все эти числа признать справедливыми даже по минимуму, так и то получается 72 пьесы. Древние же приписывали Софоклу 120 трагедий и сатировых драм (назывались даже гораздо бóльшие числа, вплоть до 140). По разным данным, располагаем названиями примерно 70 трагедий и 18 сатировых драм. Значит, на самом деле все обстояло примерно так, как говорится в источниках.
Софокл, как он сам полагал, был не четой Эсхилу. Он шагнул далеко вперед, как и подобает гению, опередившему своего учителя. В прологах к драмам Софокла наличествует тщательная экспозиция. У него мастерски разработаны диалоги с короткими, четкими и ясными фразами. Поражает психологизм его главных и даже второстепенных героев. Чувствуется законченность каждого пассажа, каждого произведения, а не только всей трилогии, как это могло наблюдаться у его предшественников.
Убедиться в сказанном можно хотя бы на примере трагедии «Антигона», сюжет которой вытекает непосредственно из пьесы Эсхила «Семеро против Фив». В «Антигоне» действуют почти те же герои. Только как они переменились!..
Фиванцам, руководимым Этеоклом, сыном пресловутого царя Эдипа, удалось отразить аргосцев, приведенных к ним Полиником, вторым сыном Эдипа. Оба брата пали в единоборстве, а законный наследник престола, сын погибшего Этеокла, по имени Лаодамант, был еще совершенно ребенком. Так что царская власть, в силу этого обстоятельства, оказалась в руках Креонта, его двоюродного деда.
Этеокла, равно и всех павших с ним вкупе фиванцев, Креонт велел погрести с высочайшими почестями. Но тело юного Полиника, пригласившего в помощь аргосцев, велел оставить без погребения. Останки Полиника просто оттащили подальше от городской черты и бросили в первую попавшуюся земную лощину. Пусть терзают их серые волки и разные хищные птицы, лишь бы не доносился зловредный гнилостный запах…
Опасаясь, что какая-нибудь сердобольная душа способна все-таки нарушить запреты, Креонт пригрозил потенциальным ослушникам смертной казнью и на всякий случай выставил над лощиной стражу.
Конечно, Полиник не вызывал у фиванцев большого сочувствия, но совершенно иначе думала об этом его сестра Антигона, кстати, невеста Креонтова сына. Девушка пребывала в твердой уверенности, что оставить без погребения тело погибшего, к тому же родного брата ее, нельзя, не нарушив древних заветов. Человеческая душа в таком случае лишается законного уюта в подземном мире, куда она не в силах проникнуть, пока вмещавшее ее тело валяется на земной поверхности.
Страстная, порывистая, много чего повидавшая на своем веку, царевна попыталась заручиться поддержкой младшей сестры Исмены. Но та не нашла в себе сил превратиться в единомышленницу. Робкая, хрупкая, нежная и застенчивая, Исмена не допускает даже мысли об ослушании порядкам, которым подчиняются все вокруг.
Улучив момент, перехитрив стражу, Антигона тайно присыпала братнино тело землей, совершив тем самым фактическое погребение и нарушив волю правителя.
Как только Креонт получил об этом известие – он пришел в бешенство. Заметался среди дворцовых колонн.
– Кто осмелился не устрашиться наказания смертью? Приведите мерзавца ко мне!
Начальник стражи поклялся, что предпримет все меры. Преступник будет пойман и уличен. Мерзкий человек не ограничится одним погребением, явится опять и опять на могилу, чтобы исполнить остальные обряды.
– Я все сделаю, Креонт! Поймаю его…
Креонт с трудом успокоился.
И каково же было удивление правителя, когда через какое-то время озадаченные стражники привели во дворец Антигону, сестру безбожного преступника, будущую невестку Креонта, согласившуюся выйти замуж за его любимого сына Гемона!
Голову правителя пронзила страшная мысль: вдобавок к прочим утратам он лишится еще и своей племянницы, несостоявшейся матери его не родившихся внуков… Если же он, Креонт, окажет постыдное снисхождение, отступит от буквы закона, не казнит племянницу в назидание прочим возможным преступникам, – он не сможет управлять государством до того долгожданного времени, когда подрастет мальчишка Лаодамант!
В каком-то тумане приступает Креонт к допросу, хотя и так все ясно: стража не могла ошибиться.
– Антигона! Ты сделала это своими руками? Отвечай!
Девушка и не думала отпираться. Она отказалась от поддержки сестры Исмены, хотя та, прозрев, ужаснулась, что может вдруг потерять сестру. И пожелала разделить с ней такое неясное будущее.
– Мы сделали это вместе! – закричала Исмена, ворвавшись в многоколонный зал и упав на колени перед креслом правителя.
Антигона спокойно парировала:
– Это сделала я одна! Этеокл совершил преступление, только он уже понес наказание. Право быть похороненным – священно для каждого!
Никакие уговоры не могли подействовать на «железного» Креонта. Он слушал, но не слышал доводы обеих племянниц.
– Закон для всех одинаков! Действуйте!
Придворные, да и весь фиванский народ, никто не смел возражать своему властителю, о чем Антигона заявила открыто и наперед. Она была уверена, что народ не считает поступок преступным. Тем более – достойным смерти.
Но Креонт настоял на своем. Осудил Антигону на казнь.
Ничего не переменил и явившийся во дворец правителев сын Гемон. Отца не тронули сыновни угрозы покончить с собою.
И вот Антигону уводят. Ей предстоит быть заживо замурованной в родовой гробнице.
Томясь в полутемных хоромах, натыкаясь на вездесущие вроде колонны, Креонт убеждает себя, что он абсолютно спокоен. Потому что прав. Он отстаивает закон, который обязан отстаивать. Произойди малейшая ошибка – боги нашли бы способ высказать неодобрение. Однако небеса безмолвствуют…
И тут появляется слепой прорицатель Тиресий. У него тихий, но грозный голос.
– Креонт! – изрекает старый слепец. – Ты нарушил волю богов! Мало того, что лишил человека права быть погребенным, так ты предал смерти другого человека, который наставлял тебя на путь истины. За все это ответишь бедами в собственном доме!
Как ни удивительно, только слова слепца-прорицателя выветрили из Креонта хваленую самоуверенность. Правитель тут же отменил свой запрет хоронить Полиника и так быстро устремился к лощине, разившей приторным запахом вновь отрытых останков, что оставил далеко позади многочисленную свиту.
Совершив погребение, принеся богам жертвы, – Креонт поспешил к гробнице.
Однако опоздал. Остановившись на каменном пороге, правитель с трудом разглядел в темноте своего сына Гемона, рыдающего над трупом невесты. Несчастная девушка повесилась на веревке, свитой из собственных одежд.
Едва завидев отца, безутешный Гемон проткнул свое тело ударом меча.
Креонту оставалось только завыть от бессилия и удариться лбом о камни…
И все ж наказания, обещанные незрячим Тиресием, на этом не кончились. Узнав о смерти единственного сына, покончила свою жизнь супруга правителя.
Одиноким, опустошенным, потерявшим всех близких, выбирается Креонт из мрачной семейной гробницы. Ему остается теперь лишь заботиться о малолетнем Лаодаманте.
Скорбная фигура всесильного временщика заставляла зрителей крепко задумываться. Креонт хотел лишь добиться исполнения собственных приказов. Он твердо стоял на страже законов, исполняя обязанности, предоставленные ему народом. Но и юная девушка вроде бы также старалась добиться соблюдения древних обычаев…
Кто же здесь прав?
Софокл, как уже понимаем, был счастлив во всех отношениях: в сочинении трагедий, в семейной жизни, в общественной деятельности, сказать бы – во всех своих ипостасях. Творчество драматурга также не знало кризисов. Он пользовался всеобщим признанием, и слава его с годами росла и ширилась.
Семейная жизнь у поэта тоже складывалась отлично. Он прожил удивительно долго, был женат несколько раз. Первой женой его стала юная афинянка Никострата. После кончины ее он привел к себе в дом Феориду, в родном городе которой, Сикионе (на севере Пелопоннеса, близ Коринфского залива), процветали различного рода искусства и прочие прикладные ремесла. Прослыв большим знатоком и ценителем женской красоты, он сам неизменно пользовался успехом у представительниц прекрасного пола. Поэт не раз увлекался гетерами, свободными женщинами, ни от кого не зависящими, но слишком, сказать бы, «подмоченной» репутации. В них он усматривал образцы совершенства тела и духа. В числе узаконенных «пассий» Софокла называют также гетеру Архиппу, которая стала его подругой в последние годы жизни. Ее, говорили, он сделал наследницей всего своего имущества.
Семейство у поэта завелось довольно обширное. По крайней мере, в древности говорилось о пяти его сыновьях, которые ничуть не чуждались занятий поэзией и драматургией. К сонму очень значительных поэтов причисляли сына Иофанта, а также внука, тоже Софокла по имени.
Что касается имущественного положения и репутации в обществе, сказать бы – социального имиджа, то Софокл почитался настоящим богачом. Помимо наследственных эргастериев и земельных владений, обзавелся он в Гиппо-Колоне еще и другими богатыми поместьями и земельными наделами. Все указанное привело к тому, что его сочли вполне достойным занимать высокие и ответственные государственные посты. Об этом свидетельствует хотя бы такой вот факт: в 443/442 годах Софокл был поставлен народом во главе комиссии так называемых элленотамиев, то есть финансистов, казначеев, которым поручено было взимание налогов с союзных эллинских государств. А союзническая казна к тому времени размещалась уже на высоком афинском Акрополе. В указанной должности, кстати, Софокл проявил достаточно энергии и находчивости, чем всячески поспособствовал умножению государственных средств.
Ко всему прочему, надо заметить, он всегда оставался большим патриотом и нисколько не помышлял поддаваться уговорам чужеземных властителей, вроде сицилийских тиранов или македонских царей, при пышных дворцах которых мог беззаботно посвящать себя любимому творчеству – и только. Нет, он не соглашался на что-то подобное, и решительными отказами как бы противопоставлял себя старшему и младшему своим собратьям по драматургическому искусству, Эсхилу и Еврипиду.
Говорили, что выше всего Софокл поставил свободу, полагая, будто само уже нахождение под общею с царем иль тираном крышей лишает его возможности считаться свободным. Свободной и самой прекрасной территорией оставались для него лишь Афины, а, быть может, если позволительно так выразиться, даже малая родина – городок Гиппо-Колон, который он с юности мечтал изобразить в своих произведениях и который всегда благотворно воздействовал на все его творчество.
Но чем же живилось творчество драматурга?
Конечно, мифами. В первую очередь – едва ли не теми же, которые тщательно были разработаны в поэмах Гомера. Эти мифы были знакомы всем эллинам.
К сожалению, мы располагаем текстами всего лишь семи сохранившихся его трагедий.
Первое место среди известных нам сочинений Софокла (по времени создания) – занимает драма «Аякс». Написана она на основании троянского мифического цикла. В центре произведения поставлен герой, показанный к тому же в наиболее критический момент своей жизни. Аякс по праву считал себя самым доблестным и самым храбрым воителем, уступающим в этом плане разве что общепризнанному герою Ахиллу. Естественно, когда, после гибели Ахилла, остались его доспехи, выкованные богом Гефестом по просьбе богини Фетиды, матери Ахилла, – Аякс имел полное основание оказаться законным их обладателем, поскольку Фетида велела отдать снаряжение сына достойному храбрецу. Однако, из-за козней вождей всего похода, Агамемнона и Менелая, доспехи перешли к хитромудрому Одиссею.
Возмущенный подобной несправедливостью, Аякс решился на убийство «подлых» обманщиков, но Афина, покровительница Агамемнона и Менелая, а тем более – Одиссея, наслала на Аякса безумие. Герой истребил большое стадо быков и овец, будучи при этом уверенным, что наказывает мерзких врагов.
Наутро он пришел в сознание и понял всю глубину своего падения, даже, можно смело сказать, настоящего позора. Тогда он решил покончить с жизнью. За ним следили воины, составлявшие на сцене хор, следила его возлюбленная подруга, – но ничто не смогло отвести беду. Герой вырвался на морской берег и нанес себе смертельную рану мечом.
Агамемнон и Менелай попытались было оставить тело самоубийцы без погребения. Возможно, им бы удалось добиться чего-то подобного, но за Аякса вступился его брат. Вступился также, образумившись, Одиссей.
В этом произведении, уже сказано – быть может, самом раннем по времени создания в наследии трагика, – очень четко просматривается неспособность человека предугадать свое будущее, а отсюда – невозможность избежать заранее предначертанного.
Подобное чувство усиливается в умах зрителей при помощи различных приемов, к которым прибегает прогрессирующий драматург. Пожалуй, главнейшим среди них можно считать так называемую перипетию, то есть – перемену происходящего к худшему. Таким вот образом, этот прием, чуть попозже, был определен Аристотелем. Уже в «Аяксе» зрителям была предоставлена возможность наблюдать за радостью героя, предполагавшего поначалу, что он отомстил обидчикам, но вдруг обнаружившего, что победа на самом деле обернулась конфузом. Тем печальнее выглядит участь могучего человека.
Подобное чувство охватывало зрителей и после просмотра другой дошедшей до нас софокловской драмы под названием «Трахинянки», сюжет которой почерпнут из мифов о Геракле. Данная трагедия также относится к числу довольно ранних по времени их создания, о чем свидетельствует то обстоятельство, что слишком важное место занимает в ней хор.
Собственно, произведение это названо в честь женщин, исполняющих хоровые партии. Все они проживают в городке Трахине, где и разворачивается действие. Трудно сказать, сам ли автор озаглавил таким вот образом свое довольно раннее произведение, либо же этого требовали театральные традиции. Пьесу, скорее всего, подлежало назвать «Деянира», а то и «Геракл и Деянира», «Деянира и Геракл». Как бы там ни было, названа она по женскому хору. По той же причине получили свои названия «Финикиянки» у Фриниха, «Персы», «Эвмениды», «Хоэфоры» у Эсхила и прочие. Правда, по хору назывались и пьесы более поздних авторов, скажем – «Птицы», «Лягушки» Аристофана, о чем еще нам предстоит поговорить.
Фабула драмы «Трахинянки» заключается в следующем. Деянира, супруга Геракла, оставленная им в указанном городе, узнаёт, что муж ее возвращается из длительного похода. А присланная им в качестве трофея красавица Иола на самом деле является предметом его любовной страсти. Ради нее и был затеян весь этот поход, в результате которого разорен прекрасный некогда город Эхалия.
Отчаянью женщины нет предела.
И тут она вспоминает о предсмертном подарке кентавра Несса, некогда пораженного стрелою Геракла. Кентавр уверял Деяниру, будто кровь его обладает способностью возвращать утраченную любовь…
Движимая воспоминаниями, Деянира пропитывает кровью кентавра всю рубаху, которую отсылает мужу в качестве подарка. Надежды все-таки тешат измученную супругу. Но вдруг она узнаёт, что средство кентавра на деле оказалось губительным: ткань, пропитанная его кровью, заживо сжигает тело Геракла. Герой не в силах оторвать рубаху от тела. Он обречен на мучительную смерть!
Так возникает перипетия, движущая действие драмы.
Потеряв последнюю надежду, женщина решается на самоубийство. Ничего не ведающий Геракл, в свою очередь, велит наказать преступную, по его мнению, супругу, покусившуюся на его жизнь и пославшую ему верную смерть, но тут же узнает о ее горестной кончине. Гераклу самому остается только приказать отнести себя на вершину горы Эты, чтобы там быть преданным сожжению. Красавицу Иолу Геракл успевает благословить в жены своему сыну Гилу…
Успешная постановка драмы «Антигона» (443) способствовала тому, что автор ее был избран стратегом на 441 год, в коллеги к самому Периклу. Указанную должность Периклу афиняне доверяли много лет подряд. Он лишь внимательно следил, чтобы в напарники ему попадали люди, явно поддерживающие его глубоко осмысленную политику.
В данном случае, казалось, у Перикла были все основания противодействовать подобному избранию. Дело в том, что в образе Креонта афинские зрители могли усмотреть намек на самого Перикла, действовавшего вполне самостоятельно и даже жестко при управлении государством. Более того, в указанной драме Креонт, как бы случайно, вроде бы мимоходом, назван был даже стратегом, что прозвучало прямой подсказкой для тугодумов. Да и образ Креонта не у всех афинян вызывал симпатии. Во-вторых, Перикл, высоко ценя поэтический талант драматурга Софокла, ставил его ни во что как практического государственного деятеля.
Впрочем, можно предполагать, что именно эта уверенность в неспособностях Софокла проявить себя на государственном поприще и побудила Перикла согласиться с выбором народа. Такой-де стратег не станет встревать в насущные государственные дела. Он не вздумает носиться со своей инициативой, значит – с ним не возникнет никаких «заморочек».
Да и причин для подобного проявления вроде бы не предвиделось.
Но получилось не совсем так. К указанному времени обострились отношения Афин с островным государством Самосом, также обладавшим довольно сильным флотом. Самосцы, в свою очередь, имели серьезные разногласия с городом Милетом.
Несмотря на то, что оба государства, Самос и Милет, входили в общий Морской союз, возглавляемый Афинами, – между ними вспыхнула кровопролитная война. Афины выступили на стороне потерпевшего Милета, что дало острякам основание утверждать, будто Перикл поступил таким образом под влиянием Аспасии, уроженки Милета, ставшей его второй женою.
Во главе афинского флота Перикл выступил против Самоса, который надеялся на поддержку со стороны персидских сил. Определенная задача в боевых действиях отводилась также стратегу Софоклу, руководившему значительной частью афинского флота. Софоклу пришлось сгруппировать свои морские суда близ острова Хиоса, где ему встретился «достойный» соратник – поэт Ион Хиосский, также драматург, собрат по перу. Ион Хиосский оставил собственные любопытные воспоминания о Софокле, в которых гениальный поэт предстает весьма интересным, живым собеседником, отнюдь нисколько не государственным деятелем и ничуть не талантливым полководцем.
Есть сведения, что вскорости Софокл потерпел поражение от философа Мелисса, руководившего самосским флотом. Война против дерзких самосцев, правда, завершилась все-таки победой афинян, но это оказалось уже заслугой стратега Перикла, а вовсе не Софокла.
Страсти по царю Эдипу
Пребывание Перикла у власти продлилось свыше трех десятков лет. Можно сказать, начало его правлению было положено еще при жизни реформатора Эфиальта, которому в 461 году до н. э. удалось ограничить власть аристократического Ареопага, своеобразного Государственного Совета.
Вскоре после этого Эфиальт был загадочным образом умерщвлен, и Перикл, находившийся в тени его очень энергичной фигуры, обрел полную инициативу действий. Еще большую свободу почувствовал он после изгнания сторонников аристократической партии.
Правление Перикла продолжалось почти до самой кончины его (429) и знаменовало собой наивысший расцвет Афинского государства. Правда, под видом демократического правления, не нарушая внешне установленного строя, не меняя его институтов, – Перикл осуществлял фактически единоличную власть. Афинское государство при нем располагало огромными средствами, поскольку казна Морского союза была перенесена с острова Делоса в сухопутные Афины, помещена на Акрополе (о чем уже вскользь было сказано).
Афины преображались на глазах. В них развернулось повсеместное строительство. Возведены были Парфенон, поразительные Пропилеи, многочисленные роскошные храмы. Со всех сторон в город стекались архитекторы, художники, скульпторы, философы. Лично Перикл подружился с первейшими мыслителями, с деятелями искусства, в том числе с величайшим скульптором и зодчим Фидием, не говоря уж о своеобразной дружбе его с Софоклом.
Демократические Афины все сильнее входили в непримиримые и неразрешимые отношения с олигархическими государствами, во главе которых стояла Спарта. В конце концов все это и привело к войне, разразившейся в 431 году.
Наиболее страшным результатом спартанского нашествия явилась какая-то эпидемия, нечто такое, что в средневековой Европе обозначалось всеобъемлющим словом «чума», вбирающем в себя симптомы различных болезней. Это было одно из тех бедствий, которые сметали с земли многочисленные городá и даже целые страны.
Софокл стал свидетелем подобного лиха. Быть может – непосредственным образом оно даже лично коснулось его, как главу многочисленного, разросшегося семейства. К указанному времени Софоклу шел уже седьмой десяток лет, и он находился в расцвете своей поэтической силы и своей немеркнущей славы.
Прежде всего, больные люди появились на пирейских набережных, что красноречиво свидетельствует лишь об одном: зараза занесена была извне, кажется – из Египта. Там она бушевала незадолго до этого страшного года. В Афинах моровая язва нашла себе самую благодатную почву по причине скученности населения. Смертность выглядела невообразимо высокой. Не помогали ни молитвы, ни жертвы богам, ни отточенное искусство лучших врачей, в том числе – уже знаменитого Гиппократа.
Ход болезни описал как раз находившийся в городе выдающийся историк Фукидид, сын Олора. Больные, по его словам, страдали от сильнейшего жара, воздействий которого не в силах были вынести. Срывая с себя одежды, они лежали совершенно голыми, глядели на мир воспаленными глазами, в которых пылало вселенское страдание. Дыхание несчастных становилось зловонным и нерегулярным, прерывисто-хриплым; язык и глотка – выглядели кроваво-красными. Людей терзали жажда, бессонница и кошмары. Мучения продолжались в течение семи-восьми дней, после чего люди умирали в страшных мучениях. Многие впадали при этом в беспамятство. Если кому-то и удавалось все-таки исцелиться – тот оставался навеки калекой, лишившись зрения, пальцев рук или ног. Дымы погребальных костров в эти жуткие дни заполняли все улицы и площади города. Они окутывали высокий Акрополь, добирались до подножия статуи богини Афины, гордости скульптора Фидия. Живые не успевали оплакивать и сжигать умерших. Остывшие, а то и полусгнившие, осклизлые и разбухшие трупы заполняли все улицы города. Ими были забиты внутренности всех без исключения храмов. Особенно много мертвецов валялось возле колодцев, ручьев, фонтанов и прочих водных источников, куда сползались эти совсем обезумевшие существа, еще накануне выглядевшие гордыми и мыслящими, а теперь – побуждаемые лишь проблесками почти что угаснувшего сознания. Всех их мучила нестерпимая жажда…
Конечно, все это видел Софокл. С полнейшим на то основанием можно было предполагать, что картины народных бедствий возродили в голове у поэта мифы о царе Эдипе, могила которого в Гиппо-Колоне с детства бередила его чуткую душу. Именно такая чума, по преданию, терзала соседствующий фиванский народ, когда бдительные небожители карали потомков Кадма за грехи ни в чем неповинного царя Эдипа, точнее – его родителя Лая.
Быть может, Софокл не раз уже в своей жизни приступал к разработке данного мифа, но все созданные им сочинения то ли оказывались неудачными, то ли попросту не дошли до наших дней. Разуме ется, трудно предположить, чтобы великие произведения могли бесследно исчезнуть, не оставив даже заглавий.
Зато теперь у поэта появилась новая мотивация. Это было необычное представление.
О новой пьесе стареющего поэта ходили самые невероятные слухи, хотя, казалось бы, афинянам порою становилось не до того. Слухи распространялись людьми, кому уже приходилось соприкасаться с актерами, занятыми в пьесе, с хористами, разучивавшими свои партии в доме богатого хорега, с музыкантами, сочинившими и исполнявшими музыку к пьесе, с художниками, расписывавшими доски с изображениями убранства царских дворцов.
Все понимали, что Софокл выведет на подмостках фиванского царя Эдипа, прах которого покоится в земле родного ему предместья Гиппо-Колона, который даже оттуда продолжает заботиться об аттических просторах.
Истомленные непрерывной осадой, потерявшие близких, знакомых, соседей, афиняне с явной опаской занимали места в своем непривычно просторном амфитеатре бога Диониса. Все в нем отныне казалось чужим, необычным, поскольку не было рядом до боли знакомых лиц. Не было друзей, понимающих тебя с полуслова. Не с кем было делиться впечатлениями и мыслями.
– Говорят, Софокл задумал показать нам фиванскую чуму?
– Говорят…
– Что говорят… Точно!
– А зачем это нам? Нагляделись до рези в глазах…
– Неужели увидим Сфинкса?
– Как же это было жениться на собственной матери? Не понимаю…
– Сейчас увидим…
– Сейчас… Сегодня!
Афинянам было трудно привыкнуть, что в государстве больше не слышно голоса сладкоречивого Перикла, казалось бы, вечного стратега, а потому неизменного правителя, отвечающего исключительно за все. При нем они чувствовали себя чуть-чуть ущемленными, это правда. Зато без него – осиротевшими бесповоротно.
Но вот принесены уже жертвы. Это делалось в центре блистающей камнями орхестры – так уж водилось с незапамятных времен. Прыткие рабы, в коротких одеждах, стирают кровавые яркие пятна. Удаляются с орхестры и усаживаются в первом ряду торжественные жрецы в длиннющих белых одеждах. Подбирают пестрящие из-под пальцев складки неспешно стекавшей торжественной ткани…
Зрители, все до одного, оказываются на своих местах. Проступают пустые пространства, никем не занятые сиденья. Обрисовываются удлиненные клинья, на которые разбит весь огромный амфитеатр. Остриями все клинья упираются в резко очерченную орхестру, издающую запахи жертвенной крови…
В центре орхестры, на фоне темно-коричневой сцены с белыми дорическими колонами (о ней будет рассказано несколько позже) колышутся трепетные хористы, изображающие древних фиванских жителей. Звуки музыки чаруют зрительскую массу, и многие люди в мраморных креслах вскрикивают от неожиданности, завидев высокую фигуру в золотистой одежде и в выразительной яркой маске со взглядом чем-то встревоженных, вроде, глаз. Сверкающая корона на голове актера свидетельствует, что он представляет собою правителя, царя, которого волнуют вести, поступающие со всех концов государства-города.
– Что означает этот грозный гнев небожителей? – вопрошает правитель.
Царь на подмостках явно напоминает покойного ныне Перикла. Афинянам-зрителям кажется, будто под яркой маской, которая приковывает их взгляды, скрывается удлиненная голова первого по значению былого стратега. Голова у Перикла похожа на вытянутую снизу к верху луковицу, отчего он при жизни предпочитал прикрывать ее сверкающим шлемом, носимым им кстати и некстати, над чем всегда потешались и потешаются комедиографы и прочие, охочие до насмешек люди.
– Кто мне ответит на этот вопрос? – продолжает раздумья Эдип.
Но нет. Афиняне вслушивались в слова, долетающие с подмостков, и проникались уверенностью: перед ними действительно воскресший фиванский царь, ушедший под землю в Гиппо-Колонне, невдалеке от храма, посвященного богу Посейдону! Да, да, это он, Эдип, появившийся из сплетения дворцовых колонн, из каких-то придумок театральных изографов. Под шумок того, что творилось и говорилось на зыбких подмостках, афиняне вспоминали все остальное, что было ведомо им об этом загадочном человеке…
Свыше двадцати лет процарствовал в Фивах счастливый Эдип. Власть его виделась вполне справедливой, хоть и не в меру жесткой и строгой. Фиванский народ получил основания гордиться собственным выбором.
Царскую власть фиванцы вручили молодому пришельцу в награду за освобождение от жуткого чудовища. За двадцать лет до этих событий, за которыми афинянам предстояло наблюдать на театральных подмостках, в Фивах появилось существо, верхняя часть которого выглядела хрупкой девичьей талией, а нижняя – сплошь звериной. Чудовище не пропускало ни одного фиванского жителя, не огорошив его неразрешимым вопросом, произнесенным нежным женским голосом: «Скажи-ка мне, дорогой, кто это утром передвигается на четырех ногах, днем на двух, а вечером – на трех?»
Ответить никто не мог, и чудовище с хохотом пожирало недотеп-тугодумов.
Вдобавок к этому несчастью, какие-то злодеи убили фиванского царя Лая, попавшегося им под дубину на безлюдной лесной дороге. Поскольку убитый властитель был бездетен, то шурин погибшего государя, брат его жены Иокасты, по имени Креонт, торжественно объявил: кто избавит Фивы от вечного страха, тот получит трон и руку овдовевшей царицы!
Такой удалец сыскался. Им оказался молодой пришлый юноша, не растерявшийся от вопроса Сфинкса. Существо, предмет этой ловкой загадки – любой человек. Заслышав ответ, видение Сфинкса мгновенно исчезло, как будто его там и не было.
Благодарные фиванцы пронесли юношу по улицам всего города, прямо к дворцу. Этого человека, этого царя, за которым афиняне зорко следят на своих подмостках, звали Эдипом. Супруга Иокаста осчастливила его двумя сыновьями-наследниками и двумя дочерьми-красавицами. Но боги наслали на Фивы вдруг страшную моровую болезнь…
Встревоженный судьбами давно обретенной державы, царь Эдип послал шурина Креонта к дельфийскому оракулу. И вот он слушает принесенный из Дельф ответ. Устами древней, как мир, но чуть ли не бессмертной жрицы Пифии, вещающей безумными выкриками, – бог Аполлон известил: фиванцы страдают из-за того, что среди них безнаказанно обретается убийца прежнего царя Лая!
Зрители понимают: доныне Эдипа нисколько не интересовали загадочные события, связанные с судьбой царя Лая. Не будоражил его внимания и сам прежний муж красавицы Иокасты… Но теперь-то фиванский царь непременно обязан выяснить все обстоятельства давно призабытого преступления.
Эдип дает указание провести полнейшее расследование.
Оказывается, в живых на сегодняшний день остался один лишь свидетель убийства. Он и поныне стережет в горах царское стадо.
– Приведите его ко мне! – вроде бы против собственной воли громко приказывает Эдип.
А пока что пытается выведать имя преступника из уст слепого прорицателя Тиресия. В молодости старик был крепко зрячим, пока не увидел сверкающую наготу богини Афины. За это Тиресий был ослеплен на месте, а в качестве компенсации получил вещий дар и возможность прожить на свете девять человеческих сроков.
Эдип требует ответа – старик, насупившись, загадочно молчит.
Но не оттого, что не знает должного ответа. Он просто страшится последствий обнародованной разгадки. Эдип настаивает, и Тиресий в конце концов отвечает, что убийцей царя Лая является… сам Эдип.
– Что?.. Да ты уже обезумел, старик!
Ответ слепого прорицателя воспринимается Эдипом как свидетельство заговора со стороны шурина. Да, Креонт всегда считал его чужаком, который лишь силою случая оказался на древнем фиванском троне, на котором сиживал когда-то сам Кадм.
– Что же… Добавлю…
И тут начинается перипетия высочайшего порядка.
Царица Иокаста стремится успокоить задетого гневом мужа. Она уверена, что предсказателям нельзя доверяться полностью. Об этом ей позволительно судить по собственному опыту. Когда-то, в первом браке с покойным ныне суровым Лаем, у нее родился сын, но прорицатели наперед посулили супругам, будто ниспосланный им наследник убьет своего родителя и женится на собственной матери. Каково? Родителям пришлось срочно отказаться от явившегося в свет младенца. Однако предсказаниям не суждено было сбыться: Лай погиб от рук подлых разбойников. Они умертвили его по дороге в Дельфы.
Слушая Иокасту, Эдип вспоминает свою давно ушедшую молодость и свою давнишнюю встречу с каким-то благородным стариком в подобной же горной теснине, на узкой дороге, ведущей в священные Дельфы. Он, Эдип, убил незнакомца, посмевшего замахнуться на него увесистой палицей…
Недобрые предчувствия закрадываются в душу царя.
Иокаста улавливает подспудный ход мыслей расстроенного супруга, но все еще продолжает его успокаивать. Да, она помнит слова уцелевшего царского спутника, ныне старого пастуха, будто разбойников было несколько человек.
Но тут во дворце появляется вестник из соседнего Коринфа. Он сообщает, что тамошний царь Полиб, отец Эдипа, по воле богов перебрался в мир предков. На освободившийся царский трон коринфяне решили призвать его сына.
Как ни странно это звучит, но Эдип испытывает сильное облегчение. Ведь он нарочито оставил когда-то родительский дворец, чтобы не стать убийцей родного отца. Такое предсказание изрек ему дельфийский оракул. И вот его старый родитель почил собственной смертью! Оракул снова ошибся. Однако в Коринфе жива еще его мать Меропа. Оракул же, помнится, предсказал и другое: он, Эдип, женится на собственной матери.
Коринфский вестник в ответ широко улыбается:
– Пустые тревоги, Эдип! Ты вовсе не сын царя Полиба и его супруги Меропы. Ты приходишься им приемным ребенком. Я сам принес тебя в царский дворец, когда был ты младенцем… Но не беспокойся: то, что я тебе здесь поведал, известно только мне одному.
Сказанное ничуть не успокаивает Эдипа, а лишь настораживает. Так чей же он сын?
Коринфский вестник не скрывает истины: младенца Эдипа он получил из рук фиванского пастуха, своего приятеля.
– Вот как?
К удивлению коринфского вестника, откровение еще больше волнует царя.
В конце концов во дворец приводят согбенного старого пастуха. Да, конечно, это он передавал когда-то младенца своему коринфскому другу, который и прислан в роли вестника.
– Но кем же был тот младенец?
– Младенец? А… Да, я помню…
Пастух отвечает, будто он получил его из рук царя Лая и его супруги Иокасты.
Крик вырывается из груди внимающей им Иокасты. Чутким сердцем, раньше всех прочих, среагировала она на слова старика-пастуха. Ее нынешний муж – это и есть ее сын, умертвивший прежнего супруга. Вот он, убийца родного отца!
– О боги! Боги!
Со скоростью молнии выбегает Иокаста из дворцовых покоев.
Сраженный известием, Эдип продолжает взвешивать все услышанное и увиденное и приходит к неопровержимым выводам. Да, он стал убийцею собственного отца. Ему не удалось избежать предначертанного судьбою.
Нетвердой походкой направляется царь вслед за своей женою-матерью.
Иокаста тем временем достигает собственных покоев. Не выдержав страшного позора, она сводит счеты с жизнью, повесившись на собственном поясе.
Припав к телу супруги, Эдип выкалывает себе глаза, использовав острие от пряжки с ее рокового пояса. Он лишил себя зрения, которое не уберегло его от фатального поступка…
Все это совершается за сценой, невидимо для зрителей. С окровавленными глазницами, с красными пятнами крови на белых одеждах, трясущимися пальцами нащупывая себе дорогу, предстает Эдип перед афинскими зрителями.
Крик замирает в сотнях зрительских уст при виде преображенного ужасом человеческого лица, которое еще несколько мгновений тому назад казалось олицетворением мирового порядка, справедливости и счастья. Он попытался поспорить с судьбою, изменить предначертанное высшими силами. Человек пострадал при полном отсутствии своей личной вины. Он расплачивается за грехи своего отца, когда-то похитившего сына у пелопоннесского властителя Пелопа…
В глубоких раздумьях оставляют афиняне свой театр, который все зримей, отчетливей и отчетливей, становится для них школой жизни.
«Электра»
Драму «Электра», полагают современные нам историки античной литературы, Софокл создавал на исходе восьмого десятка своей продолжительной, очень счастливой жизни. Очевидно, он долго вынашивал замысел в голове. Можно смело сказать, сюжет этого произведения начинается там, где обрывается документ, если документом считать гомеровский эпос, в свою очередь впитавший в себя наиболее древние сказания.
У Гомера сказано, что за предательски сраженного Агамемнона отомстил его сын Орест. Он прикончил Эгисфа, умертвившего победителя Трои. Конечно, тему разрабатывали и другие поэты, следовавшие за Гомером. Особенно подробно говорится о ней в трагедии Эсхила («Орестея»), созданной также под занавес жизни великого трагика, после чего он уже окончательно оставил Афины.
В трилогии «Орестея», естественно, главным действующим лицом является сам Орест. В ней обыгрываются терзания молодого человека, его мучения накануне того, как он отважился мстить за отца, то есть, решил лишить жизни свою мать Клитемнестру, поскольку именно она у Эсхила является инициатором убийства Агамемнона, – так и после того, как мщение уже совершилось.
Электра, сестра Ореста, выведена у Эсхила лишь эпизодической фигурой, у Софокла же – эта девушка превращается в главное действующее лицо, быть может, по аналогии с Клитемнестрой, которой Эсхил приписал первенство в свершении преступления. Софокл использовал некоторые элементы, придуманные Эсхилом, вроде вещего сна царицы и локона, оставленного Орестом на отцовской гробнице. По этому локону можно было запросто догадаться, что Орест в самом деле жив.
Сюжет всей драмы Софокла, коротко говоря, остается почти в том же виде, в каком был использован Эсхилом. Воспитанный вдали и втайне от Эгисфа и Клитемнестры, Орест повинуется указаниям бога Аполлона и является в Аргос, чтобы совершить свое затянувшееся мщение. Его сопровождает слуга, а также друг Пилад, сын фокидского царя, при дворе которого юноша был воспитан.
Электра тем временем, находясь у гробницы отца, рассказывает женщинам хора о своих мытарствах в родительском доме, где над ней измываются мать и ее любовник Эгисф, о том, как презренные убийцы глумятся над памятью о герое Троянской войны. Девушка по-прежнему надеется увидеть брата.
К отцовской гробнице приходит и вторая дочь покойного, Хрисофемида. Мать Клитемнестра послала ее совершить умилостивительные жертвы. Завидев Электру, Хрисофемида сообщает сестре, что Эгисф с Клитемнестрой намерены заточить ее, Электру, в мрачное подземелье.
Вскоре к гробнице является и сама Клитемнестра. Она умоляет Аполлона об отвращении грядущей беды, которая явственно витает над головами обоих преступников. К Клитемнестре приближается слуга Ореста. Поникнув головой, глухим голосом сообщает он матери о гибели ее «дорогого» сына.
Дальше в драме используется излюбленный Софоклом прием. Услышав все сказанное слугою-вестником, Электра погружается в еще большее уныние, зато Клитемнестра откровенно ликует: опасности для нее и Эгисфа наконец-то исчезли полностью!
И все же Электра сохраняет завидное мужество. Она подговаривает сестру на свершение совместного мщения, но Хрисофемида отказывается. Хрисофемида по-детски пуглива, нерешительна. Правда, от отцовской гробницы она уносит надежду на то, что Орест, быть может, все-таки жив. На гробовом камне девушка видела какой-то загадочный локон. Но старшая сестра поражена известием, услышанным от согбенного горем вестника: Орест умер! Брата больше нет… Что ж, коли так, Хрисофемида готова подчиниться судьбе.
Орест же, переодевшись фокидским посланцем, приносит к дворцу погребальную урну, при виде которой Электра не в силах сдержать своих горьких рыданий. Орест же, узнав в рыдающей девушке родственную душу, свою сестру, признается, кто он на самом деле. Ободренный подобной встречей, поддержанный сестрой-единомышленницей, Орест отваживается на убийство матери и благополучно его исполняет…
Как видим, Софоклов Орест совсем не похож на своего двойника из драмы Эсхила. Софоклов герой не знает никаких колебаний и не испытывает ни малейших угрызений совести. Он изначально уверен в своей правоте.
Последние годы
Что касается двух последних, дошедших до нашего времени пьес Софокла, то они закончены автором в очень преклонном возрасте. Достаточно сказать, что одну из них, под названием «Филоктет», зрители увидели всего за несколько лет до кончины 90-летнего поэта, в 409 году до н. э. Вторая, «Эдип в Колоне» – появилась на подмостках и вовсе уже после смерти автора, в 401 году. Она была поставлена стараниями другого Софокла, внука великого поэта.
На этих последних пьесах лежит уже отпечаток старческого ума и вконец ослабевшей руки, как на картинах великих художников, доживших до своих преклонных лет, – скажем, Тициана в Италии или Репина в России. Впрочем, быть может, указанные пьесы были созданы вовсе не в последние годы жизни автора, но гораздо раньше. Да он и сам, очевидно, не считал их вполне удачными, многократно переделывал. Они отлеживались, как говорится нынче, в ящике его авторского стола. Особенно отличается этим «Эдип в Колоне», поскольку тема данного мифа, по всей вероятности, волновала мастера на протяжении всей его жизни.
Сюжет «Филоктета» напрямую связан с троянскими мифами. Герой был дружен с Гераклом, и Геракл, умирая, оставил ему свои знаменитые стрелы, отравленные ядом Лернейской гидры. Однако велел уничтожить их после собственной смерти. Филоктет же не выполнил приказа героя.
Филоктет отправился было с греками под малоазийскую Трою, но по дороге к ней, на Лемносе, его ужалила ядовитая змея. Беспомощного, с незаживающей раною, издающей страшное зловоние, торопливые греки бросают Филоктета на полупустынном острове.
Осада Трои, между тем, затягивается. Осаждавшие узнают некое древнее пророчество, согласно которому Троя все-таки может устоять, если у греков не будет стрел Филоктета, точнее – стрел самого Геракла.
На Лемнос, с целью во что бы то ни стало доставить эти стрелы, отправляется хитроумный Одиссей – в компании с юным героем Неоптолемом, сыном знаменитого Ахилла. Одиссей был твердо уверен: Филоктет не уступит стрел, поскольку именно он, Одиссей, как раз настоял на том, чтобы Филоктета, лучше всего, оставить на острове. Поразмышляв, Одиссей подсылает к раненому одного Неоптолема, убедив юношу применить в разговоре с несчастным заранее приготовленную хитрость.
Неоптолем поступает согласно советам опытного воина, причем довольно успешно, но вскоре с ним происходит своеобразная метаморфоза, одна из любимых Софоклом перипетий: юному герою становится жаль беспомощного человека. Он возвращает Филоктету нечестно добытые стрелы. Своей откровенностью сын Ахилла надеется убедить Филоктета, чтобы тот добровольно и лично отправился под Трою.
И тут опять возникает перипетия: возмущенный повторным коварством настырного Одиссея, Филоктет наотрез отказывается пособлять соотечественникам! Он оскорблен в своих лучших чувствах.
Зрителям остается недоумевать. Они понимают, что Филоктет несгибаем, однако им всем известно, что, согласно мифам, именно Филоктет помог добыть осажденную Трою. Он все-таки там побывал.
Каким образом?
Да очень просто. Откуда-то с неба, с помощью известного нам приспособления, так называемого «журавля», во всем своем величии на орхестру спускается Геракл, фактически равный богам, а потому выступающий в роли dеus ex machina. Геракл изрекает волю всех остальных небожителей: Филоктету во что бы то ни стало надлежит отправиться под осажденную Трою. В награду ему будет даровано исцеление…
Последняя из драм Софокла, уже известная нам «Эдип в Колоне», очевидно, создавалась с еще бóльшими трудами. Окружавшим поэта людям, в первую очередь родственникам, он точно казался чересчур уж беспомощным, безнадежно старым. Это дало возможность одному из сыновей трагика призвать отца в суд ради установления над ним опеки – ввиду его слабоумия. Возможно, тут сказалось нежелание сыновей уступить отцовское имущество смазливой гетере, которая фактически стала супругой отца.
Однако Софокл прибегнул к весьма ловкому ответному ходу: не говоря ни слова, он прочитал в суде отрывок из своей новой трагедии. Судьи были настолько потрясены всем услышанным, что единогласно вынесли приговор: оправдать поэта! (Конечно, здесь чувствуется склонность греков к парадоксальности их мышления)…
Как бы там ни было, трагедия «Эдип в Колоне», таким образом, воскрешает все, что чудилось Софоклу с того самого момента, как он впервые услышал рассказы о фиванском царе, в сопровождении дочери Антигоны явившемся на аттическую землю. В Аттике, говорилось в народе, Эдипа ждал весьма теплый прием со стороны Тесея, защитившего его от притязаний фиванского правителя Креонта. Последний попытался было возвратить изгнанника назад в Беотию. Дело в том, что Креонту было ведомо предсказание оракула, согласно которому Эдип после смерти сделается покровителем земли, ставшей для него последним пристанищем.
Конечно, Эдип сохранил в душе мрачные воспоминания о пребывании на фиванской земле. Он не желал туда возвращаться. Не поддержал и намерений своего сына Полиника, который, будучи изгнанным братом Этеоклом, собирался возвратить утраченный трон и готовился идти на Фивы походом.
Эдип проклял обоих сыновей, затевавших междоусобные распри. После этого боги призвали бывшего фиванского царя в священную рощу Эвменид. В сопровождении Тесея и целой толпы афинян он отправился туда. И там, живым, по призванию богов, ушел под афинскую землю, чтобы стать ее покровителем и защитником.
Таким вот образом осуществилась детская мечта поэта – показать на сцене царя Эдипа…
Жизнь Софокла припала на очень интересный, самый бурный период в истории Афин. Поэту суждено было видеть расцвет демократии, и он всегда оставался активным гражданином своего афинского государства.
В конце жизни, наблюдая испытания, выпавшие на долю родного города, Софокл, по всей вероятности, все сильней и сильней проникался пессимистическим настроением. Этот пессимизм звучит в песне хора, исполняемой в его трагедии «Эдип в Колоне», поставленной, как известно, уже после смерти автора. Вот ее слова:
Высший дар – нерожденным быть; Если же свет ты увидел дня, О, обратной стезей скорей В лоно вернись небытья родное[33].Ко времени написания своих последних драм, надо полагать, Софокл надежно присоединился к людям, в головах у которых бурлили мысли о преимуществах аристократического правления. Разгул демократии, захлестывавший Афины, вызывал у него серьезные опасения.
И все же афинский народ высоко оценил гениальность Софокла, его преданность родной земле. В 411 году, после страшных неудач в Пелопоннесских войнах, после поражения афинской экспедиции на Сицилии, куда афинян увлек бесшабашный гений Алкивиада (о чем будет сказано в своем месте), когда в Афинах начала преобладать мысль о необходимости радикальных изменений в управлении государством, – Софокл оказался в числе десяти так называемых пробулов, умнейших и авторитетнейших людей во всем государстве. Пробулам, ответственным должностным лицам, предстояло подготовить предварительные решения по изменению правления, с тем, чтобы эти изменения можно было ставить на обсуждение в народном собрании. Народ по-прежнему видел в Софокле мудрейшего и достойнейшего человека, хотя к тому времени поэт вплотную приближался уже к своему девяностолетию.
Софоклу не пришлось дожить до окончательного поражения демократических Афин в войне с олигархической Спартой. Не увидел он родной город и под властью так называемых тридцати тиранов. Поэт скончался осенью 406 года, пережив всего на несколько месяцев своего младшего собрата – драматурга Еврипида.
Но и после смерти Софокла почитали как настоящего героя. В его честь приносились жертвы. Спустя несколько десятилетий афиняне поставили поэту бронзовый бюст и приняли закон о канонических текстах его трагедий (нечто вроде нынешнего академического издания), а также о помещении этих текстов в государственном хранилище с таким непременно расчетом, чтобы только ими руководствовались нынешние и будущие постановщики его произведений. Автором закона стал знаменитый оратор и государственный деятель, соратник и друг Демосфена по имени Ликург.
Такими же почестями, надо добавить, этот закон удостаивал и других великих поэтов-трагиков – Эсхила и Еврипида.
Еврипид, или театр жизни
«Философ на сцене»
Еврипид, последний в троице эллинских драматургов, отстоит от нашего времени ближе всех среди них, отчего и вся жизнь его, вроде бы, должна быть известна нам самым лучшим образом.
Но получается далеко не так.
Эсхил, отец трагедии, казался современникам если не полубогом, то уж, по крайней мере, сошедшим с небес героем. Его творения звучали неземными словами. Они чудились высокими и вместе с тем устарелыми уже чуть ли не в момент их создания.
Софокл прослыл всеобщим любимцем. Ему выпала слишком долгая, по тем временам, непростая жизнь, начало которой не помнилось уже почти никому. Шутка ли, Софокл оказался если не участником, то современником Марафонского сражения, о котором в Элладе рассказывали сказки, которое представлялось событием из какой-то древнейшей истории. Софокл чудился старинной скульптурой, глаза которой могли лицезреть Мильтиада, Фемистокла, Кимона и прочих славных афинян, в том числе марафонских бойцов. К исходу пятого века о всех перечисленных людях удавалось прочесть, пожалуй, только в трудах авторитетных историков.
А вот Еврипид…
Жизнь Еврипида, протекавшая на глазах величайших умов, оставивших после себя многочисленные записки, разного рода воспоминания, – во многом кажется нам не совсем понятной. Начать хотя бы с того, что нельзя с достоверностью утверждать, когда Еврипид мог родиться. По одной из версий он появился на свет в разгар Саламинского сражения, в котором геройски сражался гоплит Эсхил и за ходом которого мог наблюдать впечатлительный отрок Софокл.
Увидел свет Еврипид вроде бы на острове Саламине, куда вынужденно отправлялись афиняне, спасаясь от жестоких захватчиков. Там, на Саламине, отец будущего драматурга, то ли Мнесарх, то ли Мнесархид по имени, владел небольшим участком земли. Мать Еврипида, по имени Клейто, будто бы торговала свежей зеленью.
На указанном участке земли, доставшемся Еврипиду, имелся каменный грот, входное отверстие которого обращено было в сторону «вечно шумящего моря», как сказано у Гомера. С наступлением ненастной погоды в этот каменный мешок набивались летучие мыши, которые, правда, не могли нарушать тишину большого и замкнутого пространства, но соседство с которыми непременно тревожило человеческие души. Зато с наступлением весеннего тепла, особенно – летней жары, пространство прохладного грота превращалось в самое привлекательное на всем острове место.
В этом гроте, служившем Еврипиду вторым, если даже не первым жилищем, проводил он большую часть своего свободного времени. Сюда, поначалу, забредал он мальчишкой, с зажатыми в руках навощенными табличками, где красовались вкривь и вкось нацарапанные строчки Гомеровых поэм. Затем – приносил уже целые их отрывки. В дальнейшем – куски полюбившихся трагедий Эсхила, Софокла и прочих поэтов, выступления которых становились для него настоящим праздником.
Любознательность, страсть к наукам, ко всему прекрасному, с юных лет отличали сына скромного торговца. Едва только выпадала подобная возможность – он собирал разбросанные по полу книги, заполняя ими все закутки отцовского дома, но большей частью – этот просторный грот. Шум набегающих волн у подножия вечных замшелых скал совпадал с ритмами читанных строк, а крики мятущихся птиц говорили о сильных страстях, скрываемых под еще неумелыми его словами.
В указанном гроте прозвучали и первые собственные строки будущего драматурга. На вощеную поверхность табличек они ложились так же естественно, как на синее море – следы лодчонок и лодок, направлявшихся в сторону Пирея – крикливого афинского порта. В голове у молодого человека звучали голоса людей. Эти-то голоса ему и следовало успевать записывать.
Правда, голосá иногда толковали о чем-то таком, над чем юноше следовало долго раздумывать, прежде чем он был в состоянии сообразить, чтó же можно доверить буквам. Помогало обращение к книжным свиткам. Помогали мысленные беседы с умнейшими людьми, особенно – с философами. Философов позволительно было слушать на пыльной агоре, среди храмовых колонн, особенно – в говорливых даже без них Афинах. Записанные философские труды юноша собирал и бережно хранил.
Но более всего прельщали его писания эфесского мудреца Гераклита. На Саламине вскоре пронесся слух, будто Еврипид совершил нарочитое путешествие в далекий малоазийский Эфес, чтобы познакомиться там с собранием трудов Гераклита, хранящимся в широко известном храме богини Артемиды, прославленном как седьмое чудо света. Обладая исключительной памятью, Еврипид запоминал пространные куски из писаний великого мудреца, носившего прозвание «Темный» – по причине его нарочито мрачного языка.
Подобный образ мышления и образ жизни выработали в будущем драматурге особый характер, в корне отличавший его от возвышенно-загадочного Эсхила и от живого, общительного, земного Софокла. Еврипид прослыл нелюдимым, замкнутым, довольно угрюмым субъектом. По крайней мере – таковым казался он своим современникам. Он не выносил повседневного шума, избегал привычной для эллинов толчеи на рынке, в судах, в народном собрании. Считался женоненавистником. Исключения составляли театральные представления, где возникала возможность общаться с Эсхилом и Софоклом, своими кумирами…
Зато другая версия представляет Еврипида совершенно иным человеком.
Во-первых, родился он, вроде бы, в столичных Афинах, причем за четыре года до Саламинского сражения. Так что о страшном персидском нашествии, о том патриотическом подъеме, который охватил победителей, – был в состоянии многое помнить. Названная дата рождения приведена на так называемом Паросском мраморе, поставленном на указанном острове, помним, еще в 264 году до н. э. Происходил же поэт – из знатного рода, о чем якобы свидетельствовала его почетная жреческая должность в храме Аполлона. В детстве и юности, по этой версии, будущий драматург получил воистину великолепное образование. От младых ногтей участвовал он в различного рода соревнованиях, известных нам агонах. Демонстрируя свое физическое и нравственное совершенство, непременно занимал там первые места.
Богатство, вернее – достаток его отца позволял юноше нисколько не ограничиваться первоначальным образованием. Он, вроде бы, наслаждался беседами таких выдающихся мыслителей, как Анаксагор, Продик, Протагор.
Кем же были эти люди?
Анаксагор (500–424 до н. э.), уроженец малоазийского города Клазомены, славного своими терракотовыми саркофагами, расписанными в чернофигурном стиле. После завершения персидских войн мудрец поселился в Афинах, где подружился с Периклом. Вслед за Эмпедоклом, философ твердил, будто материя вечна и будто бы ничего в этом мире не возникает из ничего. Все вокруг состоит из мельчайших частичек, разнообразных по форме, цвету, запаху, вкусу. Объединяет же все частицы, превращая их в нечто конкретное, в предметы, в живые существа, – некая разумная сила, так называемый νους, по-нашему – разум. Эта таинственная сила обеспечивает всему существующему движение и развитие. Именно разум способствовал образованию Земли и всего на ней сущего. Совершенно нетрадиционно смотрел Анаксагор и на высокое небо, растолковывая всем и каждому, будто плывущие там планеты и звезды – не что иное, как светящиеся телá. Он по-своему объяснял, почему случаются затмения Луны, что такое радуга, что представляют собой звезды, ниспадающие с гладкого неба. Более того, Анаксагор рационально толковал зарождение жизни. Не боги создали этот мир – но вместе с дождями на Землю упали зародыши разных растений и всяческих животных…
Протагор (481–411 до н. э.), будучи родом из города Абдеры, почитавшегося пристанищем дураков и тупиц, хотя из него вышло немало знаменитых философов, – прослыл одним из первейших софистов, учителей красноречия, знатоком законов и прав (был законодателем в колонии Фурии, что в Великой Греции). Протагор нередко наведывался в Афины и также подружился с Периклом. Своими высказываниями, что о богах нельзя утверждать, существуют ли они, нет ли, поскольку мешает запутанность данного вопроса и краткость человеческой жизни, – он навлек на себя обвинение в безбожии и в результате был изгнан из Афин. Что касается возможности познания мира, то Протагор утверждал, будто важнейшим инструментом в данном процессе является мысль. Поскольку все мысли отличаются особенностями индивидуумов, их продуцирующих, то и опыт познания окружающей действительности характеризуется ярко выраженной субъективностью. «Мерой всего выступает человек!» – вот результат его умозаключений. Истина, утверждал Протагор, всегда относительна. Справедливо то, что является полезным.
Продик, современник мудреца Сократа, родом с острова Кеоса, ученик Протагора, – был известен своими высказываниями, главным образом, о человеческой речи, о языке.
Конечно, такая подготовка, общение с такими необыкновенными людьми, в свою очередь позволили Еврипиду удостоиться дружбы босоногого мудреца Сократа, который вроде бы даже помогал ему в написании драм, изрекая советы касательно композиции, обрисовки образов и выбора сюжетов. Подобного рода общение, в конце концов, привело к тому, что Еврипид сам получил в Афинах титул «философа на сцене».
Не чуждался Еврипид и различного рода великосветских знакомств. Он водил дружбу с такими представителями золотой афинской молодежи, как Алкивиад, непомерно кичившийся своими огромными богатствами. Алкивиад, говорили, выставил как-то на Олимпийских играх одновременно несколько конных упряжек, в чем не могли сравниться с ним ни цари, ни тираны. Его колесницы заняли все призовые места, по поводу чего Еврипид сочинил хвалебную оду в честь знаменитого земляка:
Я воспеваю тебя, о сын Клиона! Прекрасна твоя победа; всего же Прекраснее то, что не удалось Никому из эллинов: получить В состязаниях и первую, и вторую, И третью награды, дважды, без труда, Достичь увенчания масличным венком И провозглашения глашатаем![34]Дружил Еврипид также со многими музыкантами, которые сочиняли мелодии для его драм. Что касается живописи, то он сам почитался талантливым живописцем, картины которого были известны даже за пределами Аттики. Современные нам ученые действительно находят подтверждение этим словам на материалах вазовой живописи. В пользу этого говорит даже расстановка действующих лиц в мизансценах его уцелевших драм. Они составляют глубоко продуманные живописные явления.
Не чуждался Еврипид и занятий государственными делами. Македонский царь Архелай, к которому поэт перебрался уже на закате всей своей жизни, сделал его своим ближайшим советником. А это, естественно, предполагало вращение такого советника в гуще царских придворных.
Чтó еще необходимо отметить, так это приписываемое Еврипиду женолюбие, что, естественно, трудно согласовать с муссированным другими авторами его женоненавистничеством. По этому поводу известна дошедшая эпиграмма Софокла, посвященная Еврипиду и намекающая на какое-то неудачное его любовное свидание:
Гелиос, о Еврипид, а не мальчик, меня распаляя, Так обнажил; а тебя, жен обольститель чужих, Ветер студеный застиг. Тебе не пристало Эрота В краже одежды винить, сея в чужой борозде…Как видим, портрет гениального драматурга расплывается у нас на глазах. Получается двойственным, зыбким, не совсем вразумительным.
Как бы там ни было, какими бы человеческими качествами ни обладал Еврипид, а все же настало такое время, когда собрал он свои тщательно перебеленные стихи, сунул все свитки с ними под плащ и отправился к дому архонта-эпонима. В голове молодого автора вертелись слова убедительной просьбы, которую предстояло выплеснуть перед этим высоким должностным лицом. Он, Еврипид, будет требовать хор для постановки своих собственных произведений!
Событие это, увенчавшееся успехом, традиция относит к 455 году до н. э., что нисколько не отрицает более ранних подобных намерений-попыток. К 455 году, если верить Паросскому мрамору, Еврипид уже вплотную приблизился к своему тридцатилетию. Он отлично знал, что Софокл к своим тридцати восьми годам стал победителем великого Эсхила. О черепахе, уроненной орлом с подоблачной высоты и убившей гениального старика-сочинителя, – говорилось тогда в афинских театральных кругах. И не только в них.
Трудно, конечно, вообразить, чтобы отшельник с острова Саламин, только что выпрыгнувший из утлой лодчонки, доставившей на афинский рынок корзины с зеленью матушки Клейто, а еще – доставившей парочку беспокойных козляток, предназначенных для продажи, – чтобы такой нескладный юноша, в обрызганном морем плаще, пусть и законный афинский гражданин, но угрюмый и нелюдимый, – в своих притязаниях на хор обошел бойких афинских рифмоплетов, съевших на этом деле собаку!
Уже во дворе эпонима, где собравшиеся драматурги теснились в густой синеватой тени, избегая лучей палящего солнца, Еврипид почувствовал на себе скептические взгляды, что заставило его еще дальше под плащ засунуть дорогие для него шелестящие свитки. На какое-то мгновение молодому человеку захотелось даже избавиться от них. Только нет! Ни за что! Ни на кого не глядя, выставил он едва закурчавленный свой подбородок, как выставлял его в прошлый и в позапрошлый раз.
Имидж надо было завоевывать. В данном случае его надо было завоевывать своими произведениями. А как было обратить на себя, на них, чужое и гордое внимание? Как было сделаться известным? Как было вложить стихи в уши потребным людям?
Литературных журналов с публикациями новых произведений тогда не существовало. Надеяться на отзывы старших собратьев по цеху также не приходилось: велика и неумолима была конкуренция. Помочь был в силах разве что случай.
Иное, конечно, дело, если бы Еврипид оказался человеком общительным, то есть, если бы хорошую службу ему сослужили знакомства, если б его произведения своевременно попали на глаза знатокам, имеющим, скажем, доступ к Периклу, который к указанному периоду уже просто купался во власти. Вовремя сказанное слово авторитетного мужа могло бы мигом настроить на нужный лад архонта и его советников.
И все ж Еврипид пробился на подмостки именно в 455 году. На суд зрителей представил он трагедию «Пелиады», в которой трактовалось о дочерях царя Пелия, незаконно правившего в фессалийском Иолке. Царевны подверглись обману со стороны колхидской волшебницы Медеи, привезенной в Иолк Ясоном, истинным и законным наследником царского престола. Поступая по советам коварной Медеи, девушки сварили в котле своего престарелого отца. Они надеялись возвратить ему молодость, как только что, на их глазах, нечто похожее волшебница сотворила со старым облезлым бараном: вместо него из бушующего паром котла выскочил молоденький ягненок. Но Медея задумала и осуществила мщение за издевательства Пелия над его племянником Ясоном, которого старик хотел уничтожить, которого с дальним прицелом послал за золотым руном.
Трагедия была создана на земном материале, что давало автору возможности обрисовать реальных людей. Только представьте себе: сверкающие колонны дворца, яркие платья царевен, огромный, задымленный котел, впихнутый туда старый баран – и выпрыгнувший взамен курчавый барашек!..
Вроде бы то же самое происходило поначалу со стариком. Ожидание, что он также выберется из кипятка с веселым ребячьим визгом, – а вместо этого вопли обезумевших девушек, вихри мятущихся пестрых убранств…
Можно смело предположить, что молодой драматург блестяще справился со своим заданием. Но можно также представить, что новаторство его, не достигшего даже тридцатилетнего возраста, обескуражило шумную публику и придирчивых судей, привыкших к иным приемам и к иной трактовке действительности. Новое всегда пугает. К тому же могла сработать всесильная инерция: этот поэт-драматург показался всем слишком юным! Очевидно, не помог прецедент Софокла.
Первую победу Еврипид сумел одержать лишь четырнадцать лет спустя, добившись ее после своих неустанных стараний. Радость была велика. Он как бы предчувствовал, что подобные звездные мгновения выпадут на его долю лишь трижды в жизни. Подумать только: всего три победы! Правда, написанные им произведения дважды выходили победителями уже после того, как он покинул Афины, а то и после его смерти. Впрочем, потолковать об этом у нас еще будет возможность…
Традиция утверждает, будто в общей сложности Еврипид сочинил не менее девяти десятков драматических пьес. Это – более скромное число, нежели количество произведений, приписываемых его старшим собратьям. Но, как ни странно, из всего сочиненного Еврипидом до нашего времени сохранилось 18 драм – каждая пятая. Получается, потомки более всего ценили его творческое наследие. Это бережное отношение к произведениям драматурга в конце концов переросло в прямое благоговение перед ним самим, перед его личностью.
Еврипид, получается, был прав, поучая своих современников. Когда они, скажем, насмехались над присущей ему медлительностью, над тем, как мучительно долго отделывается им каждая строчка, тогда как другие в один присест вырисовывают готовые сцены, – он отвечал не без гордости: поэты-торопыги работают для потребы одного лишь дня, а он – сочиняет для вечности! Когда недовольные зрители, заранее разузнав, о чем пойдет речь в его драме, попытались было убедить поэта в необходимости удалить неприятные для них упоминания, – он с достоинством парировал, выскочив на сцену: «Я здесь для того, чтобы вас поучать, а не для того, чтобы у вас учиться!» Это было сказано с такой уверенностью в голосе, что замолчали, стыдясь, даже самые наглые «знатоки» драматического искусства.
Анекдоты подобных пошибов в древности ходили в большом количестве еще при жизни замечательного драматурга. Количество их росло и множилось после его кончины.
Воскрешение Алкестиды
Мы не станем здесь разбирать все 18 сохранившихся трагедий замечательного драматурга. Попробуем лишь заглянуть в его мастерскую. Ради этого рассмотрим трагедию «Алкестида», самую раннюю из дошедших до нашего времени. Она дает более или менее четкое представление, с чем же именно вступил Еврипид на сцену. Чем он смог покорить современников.
Это оказалось новым (кто ведает, каким по счету) обращением поэта к истории семейства фессалийского царя Пелия. Алкестида была одной из его дочерей, выданной замуж за Адмета, царя города Феры, в той же Фессалии.
Адмет почитался удалым и храбрым воином. Он участвовал в знаменитом походе аргонавтов. Вместе с другими отчаянными храбрецами охотился на калидонского вепря, опустошавшего плодородные эллинские нивы.
Адмет всегда пребывал на виду у самых высоких олимпийских богов. Когда Аполлон провинился перед своим отцом Зевсом, погубив ему многих киклопов, – Зевс осудил его. В качестве пастуха Аполлон был сослан на землю, и хозяином его в это время считался Адмет, весьма хорошо относившийся к своему невольнику, очевидно, нисколько не подозревая, кем тот является в самом деле.
Когда Аполлон освободился от наказания, он постарался как можно щедрее отблагодарить своего благодетеля. Во-первых, сребролукий бог помог земному царю удачно жениться на красавице Алкестиде, что оказалось делом весьма нелегким. Царь Пелий (как уж водилось в древности) чересчур энергично препятствовал замужеству любимой дочери. Будущему зятю предстояло явиться в сваты на колеснице, запряженной гривастым львом и клыкастым вепрем. Справиться с подобной задачей земному жителю можно было только с небесной помощью. Аполлон действительно помог обзавестись указанным экипажем. Во-вторых, Аполлон обеспечил Адмету право отстрочить смерть, если кто-нибудь из земных обитателей согласится умереть вместо него. Древние, надо заметить, были крепко убеждены, что смерть всего живущего на земле является необходимым условием гармонии между царствами живых и мертвых. Подобный обмен не нарушит эту гармонию.
Последняя услуга была также очень кстати. Дело в том, что Адмет перед свадьбой позабыл умилостивить богиню Артемиду, не уделил ей потребных жертв. Результаты собственной оплошности удалец почувствовал уже в день женитьбы: спальня молодоженов наполнилась змеями, что предвещало близкую смерть кого-то из них. Конечно, змеи состояли в прямой зависимости от Артемиды, богини-охотницы, покровительницы лесных чащ, лугов и полей.
Правда, получив заверения от всесильного Аполлона, договорившегося насчет отсрочки смерти с Мойрами, ответственными за нить человеческой жизни, – Адмет успокоился. И все же смерть приступила к нему через несколько лет семейного счастья, умноженного появлением детей. Удивительное дело, но никто из его подданных, из самых безнадежно дряблых стариков, не пожелал умереть взамен него! Даже престарелые родители его, измученные телесными недугами. И вот тогда-то ярче всего проявилась любовь прекрасной и ласковой Алкестиды. Ради любимого мужа она решила пожертвовать собственной жизнью…
Именно эти приготовления Алкестиды и стали содержанием первых актов трагедии. Конечно, афиняне знали фессалийские сказания. И все же, заслышав слова молодой красавицы, навсегда прощающейся с маленькими детьми, увидев, как немощные старики, не имеющие шансов на длительное пребывание в мире живых, не заботятся о собственных внуках, которым суждено оставаться без материнской любви и ласки, – зрители искренно вознегодовали. Какой издевкой отзывались в их душах слова умиленного хора, который восхищался счастьем царя Адмета! Ради него супруга готова отдать свою жизнь… Да что человеку за польза от подобной любви, хотелось кричать огорченным зрителям, если эта любовь превратится в укоры совести и в безысходную душевную боль?
Все, что творилось на подмостках, – было понятно. Но искусство поэта усилило его в сотни раз. Зачем?
Из-за тягостного внимания зрители не сразу и поняли, к чему вдруг на сцене появился герой Геракл. Они содрогнулись, заслышав могучий голос. Оказывается, всенародный любимец, на протяжении всей своей жизни бродя по земле, совершенно случайно забрел к Адмету. В конце концов, его никак нельзя было обвинять, что посещение это припало на совершенно неподходящее время.
Адмет не был уверен, выдержит ли сердце его подобное смятение чувств. Потому и не знал, чему радоваться, чему огорчаться. Законы гостеприимства требовали достойно встретить любого путника! В соответствии с ними полагалось не обнаруживать своих забот и горестей.
Геракл, прошагавший огромное расстояние, совершивший немало добрых дел, к тому же ничего не ведавший о несчастьях в доме Адмета, – был зверски голоден. Потому и набросился на угощения с животной яростью. Пищу он поглощал с веселыми шутками-прибаутками. Зрителям порой становилось даже неловко за своего любимца, и как-то мучительно-любопытно было увидеть, как поведет он себя, когда перед ним раскроются все семейные обстоятельства друга. Или он ничего не узнает? Да нет. Он не сможет удалиться, не заподозрив неладного. Хотя… После беспредельно-сытного обеда Геракл погрузится в сон, а когда проснется – хозяин дома станет уже вдовцом. А дети его – сиротами…
Зачем и для чего Геракл оказался здесь именно в этот день? Зачем так придумано драматургом?
Геракл не успел еще отойти ко сну, как слуги Адмета проговорились, чем опечален царский дворец.
И тогда Геракл взбеленился. Как? Допустить погребение женщины, которая пожелала спасти такого же чудного своего супруга? Да ни за что! А смерть… Сейчас он встретит ее! Он ей покажет!
Уверенный в собственной силе, которая не подводила его ни в одном сражении, Геракл подстерег явившуюся за поживой костлявую смерть и силой заставил ее отступиться от своего подлого намерения. Алкестиде предстояло жить дальше. Радость, мир, любовь и спокойствие снова воцарялись в доме заслужившего того царя Адмета.
Удивленные таким неожиданным исходом, очарованные всем увиденным, – зрители могли, наконец, смахнуть свои слезы. Слезы облегчения.
Это мужчины. А женщины… Они по-прежнему не скрывали слез.
Никто из афинских зрителей, пожалуй, так и не «раскусил» в тот день тайную «алгебру» увиденной драмы. Всех покорила ее необычная жизненная наполненность, настоящая правда. Афинянам казалось, будто они заглянули в чужую жизнь, окунулись в нее с головою. И Адмет, и Алкестида, жившие очень давно, и даже Геракл, спустившийся с высокого неба, – все побывали здесь, вот на этой орхестре, на этой широкой сцене. Все оказались простыми, до боли знакомыми, хорошими людьми, лишь попавшими в безвыходную ситуацию. Но им повезло…
А ведь на самом деле мастером слова был найден необычный выход, вылившийся в прием dеus ex machina…
Это был многообещающий прием, не новый, но попавший в очень искусные руки. Он сделался привычным и даже излюбленным для всего творчества Еврипида, довольно часто ставившего своих героев в крайне безвыходные ситуации.
Этот прием, эта скрытая пружина сработает у него и в следующей, известной нам драме, в «Медее», также дошедшей до наших дней.
Месть Медеи
Трагедия «Медея» была поставлена в 431 году до н. э. Сюжет ее был опять же почерпнут из мифа об аргонавтах.
Когда Ясон, лишенный наследственных прав в результате козней своего дядюшки Пелия, потребовал возвращения ему законного престола, – то Пелий без промедления отправил его за золотым руном, то есть – за шкурой золотого барана, висевшей в саду у колхидского царя Ээта. Пелий надеялся, что племянник ни в коем случае не возвратится из опаснейшего путешествия. Однако Ясон, собрав героев со всей Эллады, соорудил вместе с ними судно «Арго» и добрался-таки до дворца Ээта!
Ээт, в свою очередь, тоже оказался не лыком шитым. Он вроде бы согласился уступить пришельцу золотое руно, но в обмен потребовал исполнить труднейшие поручения, которые действительно грозили Ясону гибелью.
Избежать герою опасностей помогла увидевшая его дочь Ээта, царевна Медея, опытнейшая волшебница. Влюбившись в Ясона с первого взгляда, девушка научила его, как безопасно можно запрячь огнедышащих быков, вспахать на них поле. При этом не только остаться в живых, но и увезти с собой золотое руно.
Конечно, благодарный Ясон, удирая со спутниками, прихватил с собой и влюбленную в него красавицу. Без ее помощи, надо полагать, ему не удалось бы ускользнуть от погони, тут же высланной разгневанным колхидским царем.
Спасая возлюбленного, Медея не пощадила даже родного брата Апсирта, которого, на всякий случай, прихватила с собой на судно. Умертвив несчастного малыша, она бросила безжизненное тельце в волны на глазах настигавших «Арго» преследователей. Опечаленный, Ээт вынужден был остановить свои корабли ради похорон наследника. Похитителям между тем удалось исчезнуть в синих морских просторах.
Немало пользы Ясону принесла Медея и в родном ему Иолке, став законной супругой героя. Коварной хитростью, руками его собственных дочерей, уже говорилось, волшебница уничтожила старого Пелия, о чем трактовалось в недошедшей до нас трагедии Еврипида под названием «Пелиады», которую афиняне увидели в 455 году до н. э. и, наверняка, запомнили навсегда.
Казалось бы, смерть царя освободила полис Иолк от хищного узурпатора. Ничто не мешало Ясону царствовать. Однако жители, возмущенные бесчеловечностью чужестранки, проявленной с их правителем, изгнали ее, а вместе с ней и самого претендента на царский престол. Беглецы отыскали себе приют в соседнем Коринфе. Вот тут-то и начинается действие трагедии, которую афиняне пришли смотреть уже в 431 году.
Перед глазами зрителей разворачивалась страшная драма. Оказавшись в новых условиях, непривычных для него, очутившись в чужой стране, где его также укоряли за чужестранку супругу, к тому же волшебницу, – Ясон резко переменил свое отношение к Медее. Разлюбив ее, он решил жениться на юной Главке, дочери коринфского царя Креонта.
Конечно, Медея своевременно учуяла недоброе, и это вызвало тревогу в головах ее слуг, превосходно знавших решительный, почти дикий характер своей госпожи. Со скоростью молнии тревога распространилась по городу, дошла до царского престола. Обеспокоенный, царь Креонт лично навещает опасную иностранку. Важный, выхоленный, в окружении стражи, гремящей оружием, он требует, чтобы нежеланная гостья незамедлительно оставила Коринф, его столичный город. Медея покорно выражает согласие. Прикинувшись беспомощной под ударами судьбы, она все же вымаливает себе день для сборов в опаснейшую дорогу. Причем – неизвестную.
Да, коринфский царь оказывается неспособным проникнуть в глубины замыслов колхидской волшебницы. Впрочем, он и не подозревает чего-то страшного для себя.
Ни о чем подобном не задумывается и оказавшийся в гостях в Коринфе престарелый афинский царь Эгей. В беседе с опальной красавицей он лишь выплескивает свою затаенную печаль: у него нету собственных детей; нет и законного наследника. Эгею неведомо, что своими заботами он наталкивает Медею на новые затеи. Ухватившись за открывшуюся возможность, волшебница выговаривает у царственного гостя право на пристанище в его государстве.
Зрители тоже не могут не чувствовать большую тревогу. Всё увиденное ими Медея делает неспроста. Они предчувствуют что-то крайне недоброе… Да она и сама не таится…
Тем временем, заручившись как бы поддержкой Эгея, Медея начинает добиваться уступок со стороны Ясона. Такова уж ее судьба… Следуя своей доброте и покорности, она выпрашивает у бывшего мужа разрешения сделать свадебный подарок молодой и счастливой сопернице, царевне Главке. Ясон соглашается. Знающий Медею на протяжении нескольких лет, приживший с нею двоих сыновей, Ясон ослеплен ее хитростью. Зрители в тягостном недоумении.
Более того. Зрители на мгновение вроде бы даже успокаиваются. И вдруг… Вот оно! Вот все то, что заставляет людей взрываться с мест. Вестник сообщает об ужасной участи царевны-невесты: подаренный Медеей венец мгновенно вспыхнул на девушке, едва она только примерила свадебную обновку. Поплатился жизнью и прибежавший на крики дочки Креонт.
И все же Медея не удовлетворена содеянным. Она до глубины души поражена предательством мужа, ради любви к которому пошла на все. Медея жаждет насытиться местью. Она прекрасно помнит слова афинского царя Эгея. Надо умертвить детей Ясона. Правда, это любимые сыновья, ее кровь. Она выносила их под сердцем… Медея колеблется, но чувство мести сильнее всего прочего. Той же рукою, которая лишила жизни малолетнего братца Апсирта, Медея наносит смертельные раны собственным сыновьям…
Тем временем Ясон, пораженный известием о гибели невесты и своего несостоявшегося тестя, опасается за судьбу мальчишек. Они могут пострадать от рук коринфян, которые попытаются отомстить за гибель правителя и его дочери.
Ясон торопится к дому, где обитает Медея. Но там его ждут еще более горестные известия. Он видит детские трупики…
Казалось бы – все. Медее теперь ни за что не уйти от расплаты. Женщина сама загнала себя в угол. Всё и вся теперь против нее.
Однако Ясону нет доступа к убитым. С окровавленными трупиками в руках волшебница поднимается на колесницу, запряженную не то крылатыми драконами, не то такими же дикими конями, пáсти которых изрыгают красный огонь.
Афинские зрители знают: волшебница направляется к ним, в Афины. Ей суждено здесь стать женою царя Эгея…
А золотую колесницу прислал волшебнице Гелиос, бог солнца, который приходится ей дедом.
Что ж, и на этом представлении зрители увидели таких реальных и понятных земных обитателей, людей, попавших в страшную ситуацию из-за злокозненной волшебницы, в могущество которой они твердо верили.
И снова драма заканчивается тем же приемом dеus ex machinа. В этот раз заключается он в виде памятной всем колесницы.
Страдания юного Ипполита
Прием dеus ex machina, сказано, Еврипид использовал в большинстве дошедших до нас трагедий. В чуть измененном виде наличествует он, скажем, в трагедии «Ипполит», сюжетом которой стали аттические сказания о царе Тесее и его сыне Ипполите. Матерью Ипполита была пленная царица амазонок, по имени не то Ипполита, не то Антиопа, которая умерла от тоски по свободной жизни и по оставшимся на воле подругам.
После смерти матери царевич воспитывался у своего прадеда Питфея, в приморском городе Трезене. Красавец, удалец, мечтатель, он страстно полюбил охоту и стал поклонником девственной небожительницы Артемиды, что крайне не понравилось богине любви Афродите. Инструментом для мщения Афродита избрала его молодую мачеху Федру, дочь критского царя Миноса. Богиня внушила Федре любовную страсть к возмужавшему пасынку.
О страданиях молодой женщины, матери двух сыновей-царевичей, догадалась ее старая служанка. Пожалев госпожу, старуха рассказала обо всем Ипполиту, надеясь пробудить в его сердце ответное чувство, но своим усердием лишь испортила дело. Юноша с негодованием отверг увещевания простодушной сводницы.
Федра же, испугавшись огласки, решила покончить с собой. Однако в посмертной записке она оклеветала пасынка, обвинив его в покушении на свою честь.
Записка в конце концов попала в руки возвратившегося из отлучки Тесея, который возненавидел сына, но не пожелал пятнать своих рук. Тесей обратился к богу Посейдону, сыном которого, кстати, по некоторым сказаниям, он считался. Всесильный морской владыка устроил дело таким образом, что испуганные кони разбили быструю колесницу, на которой Ипполит возвращался с прогулки. Юноша погиб.
Правду о происшедшем Тесей узнал от богини Артемиды, покровительницы Ипполита. Она-то и поведала герою, какую роль во всем происшедшем сыграла богиня Афродита.
«Ион»
Мотив deus ex machina использован Еврипидом и в драмах «Просительницы» (о походе семерых героев против неприступных Фив). Ощущается он и в «Электре» (об убийстве Орестом своей матери Клитемнестры и ее любовника Эгисфа), в «Ионе» (об афинской царевне, затем царице Креусе и ее сыне Ионе). Просматривается также в «Елене» (спартанской красавице, жене царя Менелая, выкраденной троянским царевичем Парисом), в «Андромахе» (жене троянского героя Гектора) и в «Орестее».
Особенно интересной, с этой точки зрения, является драма «Ион», сюжетом которой стали местные афинские предания, связанные не только с Афинами, но и с самим Акрополем, к крутому склону которого прилепленным оказался известный афинянам театр Диониса. Эти предания были ведомы всей Аттике.
Дочь очередного афинского царя Эрехфея, по имени Креуса, была самой старшей среди своих сестер. Гуляя в окрестностях города, она попалась на глаза Аполлону. Сребролукий житель небес, пораженный ее красотою, увлек девицу в пещеру в толще Акрополя, где уже были приготовлены напитки и яства, где враз зазвучали струны волшебной кифары. Подобного рода свидания, по всей вероятности, повторялись неоднократно, так что вскоре Креуса родила ребенка. Произошло это также где-то на склоне Акрополя. Желая утаить свой «грех», царевна бросила младенца в до боли знакомой пещере, украсив его колыбель-корзину игрушками и разными драгоценностями с изображениями ползучих змей.
Но бог Аполлон не оставил сына на произвол судьбы. Он попросил своего брата Гермеса перенести корзину с младенцем в Дельфы, прямо к местному храму. Младенец воспитывался под покровительством жрицы Пифии. Войдя же в лета, превратился в красивого юношу, да так и остался при святилище.
Креуса меж тем, ничего не знавшая о судьбе своего подкинутого младенца, была выдана замуж за Ксуфа, сына бога ветров Эола. После смерти царя Эрехфея Ксуфу посчастливилось владычествовать в Афинах.
Новую царскую чету до крайности огорчало отсутствие собственных детей, стало быть – отсутствие законных наследников престола. Этот вопрос, оказывается, всегда оставался чрезвычайно существенным для властителей древнего мира. Чтобы получить на него весомый ответ, цари не останавливались ни перед чем. Ксуф и Креуса также отправились за пророчеством в Дельфы, но выехали порознь.
Царь был явно нетерпеливее супруги. По дороге к святилищу он успел заглянуть и в другие храмы того же всё ведавшего Аполлона. Жрецы обнадежили его обещанием, будто он возвратится домой непременно вместе с желанным наследником.
Креуса меж тем явилась прямо к святилищу, несмотря на слишком раннюю пору и на то, что крепкие двери его еще были напрочь заперты. В святилище она обратила внимание на очень красивого юного служку. Затеяв с ним разговор, царица выяснила, что юноша совершенно не знает, чей он сын, кто его родители.
Завязавшийся разговор был прерван появлением ликующего Ксуфа. Царь тут же устремился к прорицательнице, и там ему в самом деле ответили, что сыном его станет молодой человек, который первым попадется на глаза при выходе из храма. Этим встречным стал храмовый служка, уже приглянувшийся Креусе. Обрадованный Ксуф без промедления объявил юноше волю божества, чему молодой человек несказанно обрадовался: он становится сыном самогó афинского царя!
«А кто же моя мать?» – с надеждой поинтересовался юноша, но Ксуф не знал на это ответа.
Ксуф решил пока что не признаваться Креусе о своем привалившем счастье, а в честь обретенного взрослого сына устроил роскошный пир.
На пир были созваны все жители Дельф. Гости собрались в украшенном щедро шатре, за столами, уставленными всевозможными яствами. Ничего не ведавшая Креуса, между тем, пронюхала одно существенное обстоятельство: у ее мужа есть добрачный сын! Это – храмовый служка, который так ей понравился. А зовут его Ион.
Царица всполошилась не на шутку. О боги! Быть может, это чадо какой-нибудь подлой рабыни? И Ксуф собирается объявить его своим наследником? На афинском престоле может оказаться ничтожный раб! Допустить подобного нельзя никак.
Смятение царицы подогревал ее верный слуга, прекрасно помнивший прежнего царя Эрехфея. Креуса поручила старику отравить прекрасного незнакомца, таящего в себе грозную опасность.
В разгар грандиозного пира слуге удалось незаметно подсыпать яда в кубок, предназначенный для Иона. Однако в последнее мгновение, перед тем, как поднести сосуд к губам, Ион заподозрил что-то неладное и выплеснул содержимое кубка на землю. Ручные голуби, всегда наполнявшие храмовые пространства, с воркованьем набросились на жидкость. И вот один из них затрепетал крылышками в предсмертных судорогах.
Иону все стало ясно. Старик хотел его отравить! Кто заставил его пойти на столь ужасное преступление?
Отпиравшийся поначалу слуга в конце концов сознался, произнес имя Креусы.
– Как? Эта женщина, которая только что вела со мной задушевные разговоры?
Когда Ион изложил замысел царицы перед судом дельфийских старейшин, они единогласно осудили ее на смертную казнь. Прослышав о приговоре, Креуса бросилась к жертвеннику Аполлона, умоляя бога о спасении. Явившийся Ион попытался было схватить осужденную, но тут перед ним появилась жрица Пифия. В руках у вещей старухи качалась та самая колыбелька-корзинка, в которой Гермес доставил когда-то Иона-младенца в Дельфы. Креуса тотчас узнала лежавшие там украшения. С криками радости устремилась она навстречу пораженному Иону. Ее уста без запинки перечислили всё находившееся в корзине. Более того, Креуса заявила всем, что Ион является сыном всемогущего Аполлона…
Конечно, нелегко было юноше поверить подобному утверждению. Тогда Креуса призвала на помощь богиню Афину.
Великая богиня, представ перед изумленными сыном и матерью, подтвердила все сказанное царицей. Юноше она посоветовала немедленно следовать в Афины, где ему суждено было вскоре сделаться царем. Более того – стать родоначальником сильного эллинского племени, то есть – ионян.
Мастерство
Что же, во всем изложенном нами усматривается некая неоспоримая логика.
Еврипид явился в то самое время, когда в драматургии и в театральном деле все уже вроде было утрясено и в основном обустроено. Все казалось давно уже выработанным, тщательно приспособленным. Все достигнутое вполне устраивало и государство, и общество. Менять что-либо никто не собирался. Новым поэтам и новым актерам оставалось действовать в установленных рамках, приняв все как данное. Действовать в пределах выработанной тематики. Предстояло оперировать теми же мифическими персонажами, на все лады варьируя популярные сказания.
Вполне возможно, что сотни, а то и тысячи поэтов в эллинском мире так и поступали, превращаясь в добротных ремесленников. Их произведения, в лучшем случае, будучи увиденными всего только раз, навсегда затем канули в реку забвения. Счастье улыбнулось немногим из их собратьев.
Но гений Еврипида способен был проявить себя даже в этих стеснительных рамках. Еврипид наполнил известные сюжеты новым стремительным действием, раздвинув тесные рамки, нередко даже ломая их. Его произведения стали всемирно известными. Сделались бессмертными.
Искусство Еврипида служит энциклопедией современной ему действительности, современных взглядов на окружающую жизнь. Как живые предстают в его произведениях люди, начиная от какого-нибудь последнего стража, от простоватой кормилицы-старухи, наивного ребенка, а заканчивая грозными царями и могучими героями. А также всемогущими небожителями, которые тоже являются вроде земными обитателями.
Господа, рабы, прожигатели жизни, воины, мужчины, женщины, юноши, девушки… Бесхитростная логика простолюдинов, а почти что рядом – изощренные философские мысли…
Кажется, Еврипид ко всему пригляделся, везде успел побывать. Если же он и не приходился сыном незаметному торговцу и простой зеленщице, если не послужила ему кабинетом просторная пещера на острове Саламине, – то все же он побывал и на этом острове, в какой-нибудь иной просторной пещере. Как побывал и на малоазийском побережье, в храме, где хранились творения великого Гераклита.
О дворцах македонского царя Архелая – нечего и говорить. Это – неоспоримый факт. В них Еврипид просто-напросто обитал.
К тому же Еврипид неслучайно прослыл «философом на сцене». Да, по мысли, не раз высказываемой в античности, люди у него представлены такими, какие они есть на самом деле, в отличие от Софокла, который изображал современников таковыми, какими ему хотелось их видеть.
При всем этом Еврипид наполнил свои драмы таким логически выверенным напряженным действием, такой динамикой, такой закрученной интригой, что разрядить все это порою было уже никак нельзя, кроме как вторжением божественных существ.
Правда, против характерного для него приема dеus ex machina выступали еще в древности, еще современники Еврипида. Этот прием критиковал комедиограф Аристофан, о котором нам еще предстоит говорить.
Не принимал его и великий Аристотель. Мудрец полагал, что развязка трагедии должна вытекать из естественного хода событий.
Еврипиду, его буйному характеру, не хватало уравновешенности, филигранной обработки драмы – всего того, что было присуще спокойному Софоклу. Но Еврипид об этом меньше всего заботился. Он пытался ломать препоны и устранять препятствия.
Так в чем же заключалось его новаторство?
Начнем с хора. Роль и значение хора в античном театре уменьшались задолго до появления Еврипида. Конечно, драма, родившаяся из стихии хора, не могла так скоро и полностью избавиться от его доминирующей роли. Лишь по частям она могла стряхивать с себя надоевшие покровы его, – а все же драматическая часть театрального представления, разговоры и само общение действующих лиц все сильней и заметнее вытесняли хор. Все меньше и меньше оставалось на подмостках места для музыкальных номеров, развлекательных песен и плясок.
У Еврипида хор становится явной помехой в развитии действия. Он почти перестает быть действующим субъектом, о чем уже абсолютно твердо заявит в следующем столетии ученый муж Аристотель. Будучи вынужденным все же терпеть присутствие хора, Еврипид, однако, не решается на революционный переворот.
Скажем, Медея у него умоляет хористов не мешать ей в поступках и действиях, когда она замышляет и осуществляет самые страшные вещи – убивает собственных детей. Хор, находясь все время на театральной площадке, становится невольным свидетелем всех замыслов действующих лиц. Порою это выглядит совершенно необоснованно, и Еврипиду приходится как-то обыгрывать присутствие хористов, как бы оправдывать его. Скажем, некий царь Тоас в «Ифигении в Тавриде» не может игнорировать присутствие хора и угрожает ему всевозможными карами за явное попустительство, если только не за потворство и подстрекательство Ифигении, которая не скрывает смелых планов по освобождению брата Ореста и его друга Пилада.
Иногда отношения с хором вообще доходят до несуразностей. В «Ипполите» он, становясь очевидцем самоубийства несчастной Федры, свидетелем ее отчаянной клеветы, нисколько не облегчает раскрытия этого преступления. Драматургу даже приходится призывать Артемиду, с разъяснениями Тесею, что же произошло на самом деле.
Но у Еврипида довольно часто отыскивается для хора весьма подходящая роль: он служит по-настоящему музыкальным украшением всему представлению. Причем в музыкальное сопровождение поэт порою вкладывает значительный смысл: в «Федре», к примеру, хористы прославляют Афины, в «Геракле» – грустят о быстротекущей жизни…
Характерной особенностью произведений Еврипида является также то, что с течением времени, когда взгляды на театральные представления начали кардинально меняться, когда уже слишком трудно было сыскать потребные слова и средства для хора, – постановки пьес Еврипида обходились вообще без присутствия хора на сцене. Как ни удивительно, но пьесы великого мастера от этого нисколько не пострадали, а даже выигрывали. Действие заставляло зрителей сосредотачивать свое внимание на человеческой личности, ее переживаниях, страстях и т. п., поскольку, сказано, в пьесах Еврипида выступали живые, полнокровные, земные люди.
Следующее, о чем нам стоит сказать, это композиция драмы.
В «Пелиадах», надо предполагать, довольно долго и сильно чувствовалось влияние Софокла. Дочери царя Пелия радовались предполагаемому омоложению старого отца, которого они со смехом бросали в котел с кипящей водою, несмотря на то, что старик упирался руками и ногами.
Ничего удивительного! Стар – что мал. Так упирается младенец. Так шипит и рвется прочь из рук ершистый котенок, которому никак не хочется мыться. Зато как приятно чувствовать себя после купания! Как обрадуется царь-отец, увидев себя молодым и здоровым. Ведь они-то, дочери, только что наблюдали метаморфозу со старым бараном, которого волшебница Медея в два счета сделала молодым, бросив его в кипящую воду, насыщенную специально подобранными травами.
Что же, тем сильнее почувствовали девушки боль утраты, увидев на самом деле погубленного родителя…
Произошла перипетия, изменение в худшую сторону.
Еврипид, как уже неоднократно повторялось, пользовался общеизвестным мифологическим арсеналом. Но, во-первых, у него имелась широкая возможность выбора вариантов мифа. Во-вторых, он видоизменял доступный мифологический материал в соответствии со своими творческими задачами и взглядами. Причем менял всё это весьма радикально.
В качестве примера обыкновенно приводится судьба Электры, дочери микенского царя Агамемнона. После возвращения отца из-под Трои, где он возглавлял армию победителей, после коварного убийства в собственном замке, – у Еврипида девушку выдают замуж за простого землепашца. Цель мучителей выглядела предельно простой: дети Электры в таком случае не смогут претендовать на царский престол.
Тема эта наверняка разрабатывалась многими эллинскими драматургами, в том числе и старшими собратьями Еврипида, Эсхилом и Софоклом. Поэтому у нас есть возможность сопоставить замыслы трех мастеров.
Ход, придуманный Еврипидом, воистину гениален. К тому же надо добавить открывавшуюся в результате возможность для автора выразить свои взгляды на человеческую судьбу. Простой землепашец, заполучивший в жены царскую дочь, оказался благородным и умным человеком. Он исповедует взгляды, весьма близкие взглядам самого драматурга. Землепашец уверен, что силою случая любой человек может стать богатым иль нищим, свободным или невольником. Что из богатого и почитаемого человека, силою случая, легко превратиться в несчастного раба. И все же ничто не в силах превратить благородного человека в гнусного подлеца. Между царем и невольником – расстояние всего в один шаг, поскольку человек никогда не рождается рабом. Рабом его делает несовершенное общество.
Благородный землепашец понимает замысел Эгисфа и Клитемнестры и нисколько не злоупотребляет собственным счастьем. Он не пользуется супружеским правом. Когда Электру находит и спасает брат Орест, когда в ее судьбе совершается решительный поворот, – царственная девушка оказывается по-прежнему целомудренной.
Смелой переработкой мифа, уже говорилось, следует назвать также совершенное Медеей собственноручное убийство детей, рожденных от Ясона, тогда как в мифах их убивают возмущенные ее дерзкими поступками жители Коринфа. (Именно этого и опасается у Еврипида отец их Ясон).
Отобранный и часто преображенный материал использовался драматургом по-разному. Иногда вся пьеса его пронизана сплошным непрерывным действием. Иногда же зрители постоянно видят перед собою главного героя, вокруг которого совершаются все события. Примером может служить «Медея», а также «Ипполит». Зато в других драмах – герои на сцене выступают попеременно – «Гекуба», «Геракл». Есть у Еврипида и такие драмы, которые состоят вообще из разрозненных эпизодов, в которых фигурируют разные люди. Эпизоды как бы нанизываются на одно острие – это «Троянки», «Финикиянки». (Ну как не заметить здесь то, что составляет нынешний стержень кинематографа – мастерский киномонтаж!) …
Аристотель назвал Еврипида самым трагичным среди всех поэтов, стало быть – самым великим мастером трагедии. Так чем же достигается его совершенство?
Герои Еврипида, как не раз уже говорилось, вступают в жесткие конфликты не только друг с другом, но и с самим собою. Примером может служить все та же Медея, сознательно решившаяся на убийство собственных сыновей. Поэт показывает всю глубину материнских переживаний. Подобные переживания охватывают и Геракла, в припадке безумия убившего своих родных. Или царевну Агаву в «Вакханках», в затмении ума растерзавшую сына и с его головою, надетой на острый тирс, проплясавшую в горах дни и ночи.
Какие чувства охватывают этих людей после их прозрения? Зрителя непременно пронизывало острое к ним сострадание.
Особое настроение у зрителей вызывали сцены, в которых герои готовы погубить своих близких, будучи уверенными, что перед ними враги. Примерами служит Ифигения, с ее намерением принести в жертву пленников, чтобы избежать недоброго будущего. Близко к ней находится царица Креуса, готовая отравить незнакомого юношу, который может занять афинский престол и тем самым осквернить его своим рабским происхождением. Впрочем, те же чувства впоследствии испытывает и сам Ион, обрекающий на казнь родную мать – в отместку за попытку своего отравления.
Еврипид исключительно мастерски разрабатывает сцены узнавания людьми друг друга. Что испытывала Ифигения, перед которой вдруг предстали незнакомые греческие юноши? Она пожелала выведать что-нибудь об оставленном на родине брате. Из девичьих уст вылетает дорогое ей имя. И вдруг оказывается, что один из юношей и есть ее брат, что он и стоит перед нею, что только ничтожно жуткое мгновение отделяло пленника от прикосновения к горлу жертвенного ножа…
Следующим моментом, которым отличается драматургия Еврипида, можно назвать «заземленность» его трагедий, простоту и понятность населяющих их героев, их языка, в отличие от высокопарного стиля, в первую очередь – у Эсхила.
Сюда же следует отнести популярный, отражающий условия тогдашней жизни мотив подкинутых и потерянных детей, а также введение в драматургическую ткань любовных эпизодов, которые перерастают иногда вообще в основной мотив всего произведения. Скажем – в «Ипполите».
Впрочем, названная драма дошла до нашего времени в переработанном виде. Первоначально, будучи поставленной в театре, она коробила нравственность афинян. Федра казалась им крайне бесстыжей женщиной, поскольку сама признавалась в любви. Ее признание вынуждало Ипполита закрываться от стыда рукою, отчего этот первый вариант пьесы даже получил название «Ипполит закрывающийся».
Уверенный в своей правоте, но встретив дружный отпор соотечественников, Еврипид вынужден был сильно переработать пьесу, облагородить образ Федры, выставить его более приемлемым. В дошедшем до нас варианте Федра предстает уже абсолютно невинной жертвой страсти, насланной на нее непростительно мстительным божеством.
Конечно, подобные устремления драматурга давали ему возможность обнаруживать собственные взгляды как на богов, так и на людей. В частности – на женщин. Боги у него очень часто наделены довольно неприятными чертами. Они завистливы, как и люди. Мстительны. Даже жестоки…
Несмотря на то, что Еврипид создал прекрасные женские образы, вроде милой и нежной Алкестиды, Ифигении, Электры, – женщины у него поставлены в жесткое, в большинстве своем – слишком зависимое положение. Они страдают от этой непомерной зависимости.
А ведь женщины, по природе своей, должны пользоваться равными с мужчинами правами. В трагедиях Еврипида представительницы прекрасного пола выступают в слишком неприглядном виде, что и дало лишний повод уже современникам трактовать его как женоненавистника. Таковым, по крайней мере, видится он в комедиях Аристофана.
Слава прижизненная и слава посмертная
Все это творилось еще при жизни Еврипида.
Молодой и дерзкий поэт по имени Аристофан, о котором мы намерены говорить специально, сделал Еврипида героем своей комедии «Женщины на празднике Фесмофорий». Справедливости ради надо заметить, что шутки и различного рода шпильки в адрес нашего героя задолго до этого представления не раз встречались в аттических комедиях, не только принадлежавших Аристофану. Однако в названной пьесе Еврипид сделался чуть ли не главным ее героем.
Комедия была поставлена в Афинах в 411 году до н. э., на празднике Леней. Что касается праздника Фесмофорий, о котором ведется здесь речь, то он посвящался богиням Деметре и Персефоне. Праздник справлялся осенью, и доступ мужчинам туда был строго заказан.
Еврипиду, маску которого зрители узнали тотчас, становится известно, будто женщины собираются его убить – настолько обижены нападками в пьесах. Не на шутку встревоженный, старый поэт, в сопровождении еще более престарелого родственника Мнесилоха, спешит к молодому собрату, трагическому поэту Агафону, с просьбой защитить его от грозящей опасности.
Надо заметить, что реальный поэт Агафон в то время был довольно молодым еще человеком (родился примерно в 448 году до н. э.), однако успел уже сделаться знаменитым. Маску его зрители узнавали и принимали также с восторгом. Агафон прославился красотою, богатством, изнеженным образом жизни, своим удивительно оригинальным творчеством. Нам известно, что при выборе сюжетов для собственных произведений он не довольствовался мифологическим арсеналом. Агафон создал какую-то не известную нам трагедию под названием «Цветок», сюжет которой почерпнут из окружающей жизни. Значительное место в произведениях Агафона занимала музыка. Он водил дружбу с выдающимися современниками, в числе которых называли даже знаменитого впоследствии философа Платона, к 411 году еще очень зеленого юнца, поначалу также мечтавшего о лаврах поэта. Одним словом, с точки зрения комедиографии Агафон выступал весьма выигрышной мишенью.
Выслушав просьбу Еврипида переодеться женщиной и затесаться в их беспокойную толпу, чтобы узнать, чтó в ней задумано, – Агафон решительно отказался от рискованной затеи. Зато он с охотой уступил подходящий женский наряд старику Мнесилоху, который возмутился трусостью Агафона. Под хохот зрителей, Еврипид сбривает Мнесилоху бороду и одевает его старухой, к еще большей потехе взирающих зрителей.
А в собрании женщин в это время решали, как лучше прикончить Еврипида, виновность которого никем не ставилась под сомнение. Своими трагедиями, были уверены женщины, поэт сделал мужчин настолько подозрительными, что они, их мужья, возвращаясь из театра, первым делом бросаются разыскивать спрятанных в доме любовников. Не доверяя женам, мужчины ставят их ни во что. Своими зловредными пьесами Еврипид разрушает веру в богов, нарушает установленный порядок жизни, которая только и держится трудами женских рук.
Мнесилох, явившийся под видом старухи, заявляет о своей жуткой ненависти к Еврипиду, но, вместе с тем, начинает фактически его защищать. Мнесилох утверждает, будто женщины на самом деле гораздо хуже, чем их изображает поэт. Он даже приводит ряд доказательств, основанных преимущественно на случаях супружеской измены…
Такой неожиданный оборот рассуждений никому не известной старухи вызывает у женщин сильное подозрение. После ряда комических осложнений, осмотрев Мнесилоха, они разоблачают его. Мнесилоху с трудом удается выпутаться из западни, в которую он попал, и призвать на помощь… Еврипида. После вереницы уморительных приключений, явившийся в собрание Еврипид обещает женщинам не позорить их больше в пьесах и с помощью хитрости спасает настрадавшегося родственника и единомышленника.
Можно только предполагать, чтó творилось в тот день в афинском театре!..
Еще ярче, еще более выразительней и комичней представлен был Еврипид на сцене в 405 году до н. э., уже после смерти и последовавшей вслед за ней кончины его собрата Софокла.
Пьеса (опять же указанного Аристофана) носила название «Лягушки». Действие в ней начиналось с того, что состоянием сценического искусства, да и всего театрального дела, обеспокоился бог Дионис, покровитель и руководитель всей указанной отрасли.
Оно и понятно: Еврипид и Софокл скончались, Агафон уехал в Македонию, призванный туда царем Архелаем. В Афинах остались только поэты, таланты которых не идут ни в какое сравнение с великими корифеями. Как быть дальше?
Дионис, изнеженный бог, решает лично отправиться в подземное царство, чтобы вызволить оттуда хотя бы покойного Еврипида. Прецеденты подобных устремлений известны каждому зрителю: когда-то под землю с успехом спускался Геракл. Выполняя волю микенского царя Еврисфея, он даже привел оттуда главного стража умерших, трехглавого пса Кербера.
Задрапировавшись львиной шкурой, наброшенной поверх легкого тонкого хитона шафранного цвета, вооружившись увесистой палицей (все в точности как у Геракла!) – в сопровождении раба Дионис отправляется на тот свет. Его поход представляет собой бесконечную череду комических ситуаций и сценок, понятных любому афинскому зрителю. Эти сценки настраивают публику на неудержимое веселье. Чего, к примеру, стóит ответ Геракла, к которому обращается Дионис с вопросом, как попасть на тот свет. Геракл отвечает: достаточно забраться на высокую гору и броситься оттуда вниз головою!
В конце концов, очутившись под землею, переправившись через подземное озеро, наполненное, оказывается, криками лягушек (отсюда и название комедии) – Дионис, вместе со своим рабом, добирается до цели путешествия. Вот они оба уже у дверей подземного царя Гадеса (Плутона).
Бледный от постоянной подземной жизни, с какими-то всклокоченными волосами и красными воспаленными глазищами, Плутон встречает гостя с радостью. Ему опротивели распри между двумя его постояльцами. Надоела их постоянная борьба за право восседать в кресле первого драматурга. Пятьдесят лет почивал в этом кресле Эсхил, и ни у кого не возникало никаких возражений: занимал по праву. Зато теперь, недавно умерший и заявившийся сюда Еврипид, требует кресло лично для себя!
Вот и сейчас поэты готовы к схватке. Еврипид собрал вокруг себя шайку негодяев, воров, грабителей, отцеубийц. Им нравятся разные уловки, хитрости, которыми наполнены его драмы. Они шумят и требуют уважить Еврипида, тогда как Эсхил не собирается уступать удобное кресло. Что же, уверен Плутон, лучше всего самому Дионису разобраться в этих канительных спорах. В конце концов – это его законное ведомство.
Дионис потирает руки. Он рад предложению: у него появляется возможность лишний раз убедиться, как велик Еврипид, которого он немедленно уведет за собой на землю.
Начинается главная часть комедии, состязание поэтов. Зрители в восторге срываются с мест: они видят мастерски изготовленную маску поэта, которого при жизни встречали на улицах, который вроде бы лишь недавно уехал отсюда, скончался на чужбине, похоронен в чужой земле! Которого, можно сказать, никто из сидящих в амфитеатре так и не видел на смертном одре.
Всем взирающим кажется, будто Еврипид возвратился из длительной отлучки. Эти сведенные скорбью изломанные брови. Эта курчавая борода… Сейчас он заговорит-загундосит… О боги! У него нисколько не изменился зычный голос, если не считать, что звуки его окрепли и обрели довольно приятное звучание. Они без труда добираются до зрителей в самом последнем ряду театральной чаши.
Кажется, живой и бессмертный Еврипид не дает и слова промолвить Эсхилу, известнейшему поэту, имя которого всегда на слуху, но облик – уже мало кто помнит. Эсхил – уже вроде бога. У него могучий голый череп. Но только старые-престарые люди припоминают: да, этот череп на самом деле был таковым. Этим черепом старик напоминал собою Сократа, живая копия которого все еще лоснится в передних рядах. Как не припомнить рассказы стариков, будто об Эсхилову лысину, замеченную орлом из-под высоких туч, разбилась брошенная вниз черепаха…
Эсхил отвечает Еврипиду не менее энергично. На него нисколько не подействовали годы, проведенные в мрачном подземелье. Кто-то из беззубых старцев среди массы зрителей вопит, что это в действительности Эсхил! Прочие старики подтверждают хором: именно этот голос звучал когда-то в театре.
Состязание на орхестре достигает накала. Еврипид выдвигает каскад обвинений: Эсхил нарочито подбирал непонятные слова, от которых по телу ползут мурашки. Этот страх не оставляет зрителя даже после долгого представления.
Эсхил парирует слегка отсыревшим голосом: не форма важна в сочиненной драме, важно ее содержание. Он, Эсхил, будил в человеке мужество, тогда как драмы Еврипида развращают зрителей и своими простецкими словами, которые можно услышать на агоре или в бане, развращают наличием героев с ничтожными поступками. Еврипид, дескать, учит женщин обманывать супругов, подбрасывать зачатых в грехе детей. Юношей он подбивает сомневаться в установленных порядках, учит позорному безделью. Еврипид наполняет драмы повседневной грязью, которую ему удается отыскивать в жизни. Он воспевает ее, эту мерзость!
Спор разгорается не на шутку. Спорщики перебирают всё, в том числе и музыкальное сопровождение представления. Они пародируют друг друга. Видно, что Дионис теряет былую уверенность и намерения, с которыми явился в подземное царство.
В завершение спора на сцену выносят весы. Дионис, которому все-таки хочется верить в первенство Еврипида, призывает поэтов положить на чаши весов свои собственные стихи.
Так и есть. Получается то, на что и надеялись изнемогшие от хохота зрители. Легковесные, взятые из жизни строки Еврипида уступают выверенной тяжести Эсхиловых слов!
Дионис чешет в кудрявом затылке. Вот так да! Неувязочка вышла… Но делать нечего. Богу надлежит придерживаться справедливости. Скрепя сердце, Дионис решает увести на землю Эсхила, отнюдь не Еврипида. Местоблюстителем кресла первого драматурга в подземном царстве он оставляет Софокла…
Конечно, подобного рода сцены, подобный образ драматурга, вынесенный из главного театра страны, – все это не могло не отпечататься на земном имидже Еврипида.
С другой стороны, этот имидж кажется вовсе не случайным. Как бы там ни было, но мы уже знаем, что жизнь Еврипида, особенно к закату его биографии, складывалась самым неблагоприятным образом. Безосновательные обвинения валились на него как из рога изобилия. Его укоряли за низкое происхождение, за базарное поведение старухи-матери, за супружескую неверность жены и за прочее, прочее…
В результате всего упомянутого Еврипид решил оставить Афины, приняв приглашение македонского царя Архелая.
Можно смело предположить, что поэт не располагал каким-либо значительным имуществом. Оно состояло лишь из его замечательной библиотеки.
В Македонии Еврипид продолжал по-прежнему усиленно творить. В честь нового своего покровителя он написал трагедию «Архелай», в основу которой были положены предания о мифическом предке македонского царя, тоже Архелая. Там же была написана драма «Вакханки», толчком к чему послужили наблюдения над местными культами Диониса. В ткани произведения ощущается налет глубочайшей древности. Хотя в пьесе, в основном, повествуется о пребывании этого бога у него на родине, в Фивах.
Талант творца с годами нисколько не угасал. Об этом свидетельствовали первые награды, которых удостаивались его пьесы, даже поставленные после смерти автора.
Смерть поэта также окружена была пестрыми мифами. Говорили, будто Еврипида растерзали сторожевые собаки, когда возвращался он с позднего свидания с очаровательной царской ключницей…
Аристофан, или комедия жизни
По заветам Гомера в трагедии я сотворил величавых героев,
И Патроклов и Тевкров с душой, как у льва.
Я до них хотел граждан возвысить,
Чтобы вровень с героями стали они,
Боевые заслышавши трубы.
АристофанТермин «комедия», разумеется, происходит также от двух древнегреческих слов. Первое из них могло означать либо «комос», то есть группу веселых гуляк, прославляющих бога Диониса, либо «деревню»; второе – опять же «песню». Как бы там ни было, получалась песня в честь одного и того же бога вина и виноделия!
Попытки создания комедийных произведений в Аттике, естественно, связаны также с культивирующей виноград Икарией. Как полагали древние греки, первым комедийным автором стал некий Сусарион, сын Филинна, примерно ровесник знакомого нам Феспида, основателя трагедийного искусства. Известны также имена Милла и Евкфантида, Хионида, затем Кратина и Евполида. Последние – уже вполне зрелые, даже прославленные сочинители.
Записывали ль первые комедиографы тексты своих произведений – трудно сказать. А вот то, что они, по обычаям предков, сразу же стали соревноваться между собой, – не может вызывать у нас никакого сомнения. В качестве награды победителям долгое время служили объемистые меха с вином.
А еще нам известно, что участники первых комедийных хоров выступали под видом птиц, рядились в «костюмы» болотных лягушек, прикидывались лошадьми и прочими живыми, притом диковинными существами. Все это придавало хору сказочный, изощренный вид. Необходимым условием празднования Великих Дионисий было также присутствие затейников, балагуров, шутов. Сами хористы разделялись на две части, которые обменивались взаимными выпадами. Постепенно же получалось так, что обе части задорного комоса превратились в более активную, которая вела действие, и в пассивную. Последняя, в конце концов, превратилась в зрительскую массу. Данный процесс с течением времени только усиливался. И это притом, что трагедия, вырвавшись вперед комедии, была уже признана государством. Она стала частью державных мероприятий.
Структура комедии в итоге сложилась примерно в том же виде, что и трагедии: пролог, парод, агон (состязание) и эксод. Однако и для нее характерно было и некое новшество, по сравнению с драмой: так называемая парабаза, буквально – отступление. Суть парабазы заключалась в том, что в центральной части спектакля все действующие лица под каким-нибудь предлогом удалялись со сцены, а остававшийся на ней хор, вместе с хоревтом, руководителем, снимал маски. Хоревт (иначе корифей) принимался рассказывать о данной комедии, об авторском замысле, сомнениях и затруднениях сочинителя. Порою, от имени автора, он просто-напросто поучал внимающих зрителей. Затем представление, как ни в чем не бывало, возобновлялось, и все шло своим чередом.
Сказание об ахарнянах
Перед Ленеями, в самом начале месяца виноделия, в течение одной только ночи, угомонился прыткий Борей, неистовый северный ветер. Над городом тотчас проглянули первые звезды. Показался переливчатый Млечный путь. К утру все небо над городом стало бесконечно высоким. Над Акрополем засияло копье богини Афины, чтобы незамедлительно стать ориентиром для моряков, спешащих к пирейским причалам.
И тут всем афинянам разом ударило в голову, что пора приступать к увесистым амфорам, в которых буйствуют тайные силы, способные разжижать в человеке кровь. Пора прославлять Диониса! На празднествах его непременно будут показаны новые пьесы известных в городе авторов. В том числе – и комедии.
Смех и веселье в мрачные зимние дни, когда с неба беспрерывно сеется дождь, а то и белеющий снег, – по правде сказать, сохранялись только в жилищах зажиточных богачей. Там упражнялись хористы. Седьмым потом исходили в них плясуны и актеры, стараясь изобразить людей не людей, а каких-то потешных живых существ, при взгляде на которых надорвешь себе весь кишечник.
Не дураком было сказано: кому посчастливилось дожить до этих праздничных дней, тому непременно следует умолять небожителей: дайте же насладиться зрелищем театрального действа!
В Афинах в тот год готовилось несколько комедий. Среди них – одна Каллистрата, опытнейшего актера. Впрочем, не оставалось тайной, что настоящим творцом ее является юный Аристофан.
– Аристофан! – зазвучало в городе с новой силой.
– Смелый парень! Даром что хилый…
– Герой!
– И совсем он не хилый…
– Не всем же быть сильным Гераклом!
Ковылял шестой год ненавистной эллинской бойни. Афиняне, столько лет доверявшие Периклу, избиравшие его бессменным правителем, почитавшимся всего лишь стратегом, военачальником, – поначалу поверили его откровенным заявлениям: государство, дескать, готово к любой затяжной войне. Если спартанцы осмелятся вторгнуться в Аттику, заверял Перикл, то афинянам лучше всего отсидеться за Длинными стенами, пока флот не вынудит врага убраться подальше.
Так и получилось. Оставив дома и дворы на разграбление захватчикам, прихватив лишь коров и кой-какое имущество, афиняне сошлись на ограниченном все-таки пространстве, между Длинными стенами, привязавшими столицу к Пирею еще во времена Фемистокла.
Тяжело наблюдать, как огонь и дым пожирают добро. Как все оно превращается в прах под лезвием спартанского топора. Но более всего ужаснуло то, что свалившаяся чума ежедневно уносит сотни, если не тысячи, недавно абсолютно здоровых людей…
Неудачи первых же месяцев военных действий озадачили афинских граждан. Дошло до того, что они не избрали Перикла стратегом. Когда же увидели, что это также не сулит добра, то оказались в худшем еще положении: чума одолела самого Перикла…
Четыре раза в течение шести лет спартанцы опустошали Аттику.
После смерти Перикла власть в государстве оказалась в руках кожевника Клеона. Забияка, крикун, необузданно грубый, он всех заверяет, будто ему одному только ведомо, как выбраться из этой пропасти, в которую рухнул афинский полис. Простой народ проверил вздорному трепачу, как не доверял и умнейшему Периклу…
Впрочем, афиняне знали, что это новое сочинение – не первое в числе наработок Аристофана. Первой его комедией стали «Едоки», вроде также придуманные Каллистратом. Комедия поставлена два года тому назад, когда Аристофану не набиралось от роду и двух десятков лет. В силу этого он не мог попросить архонта о предоставлении хористов. Тогда и начались все эти затеи. С Каллистратом они земляки, родились на Эгине. Да и в центре Афин домá их стоят впритирку друг к дружке. Так и вошло им в привычку: творить совместно.
Только шила в мешке не утаишь.
Когда Каллистрат поставил вторую по счету комедию «Вавилоняне», будто бы снова свою, да еще приурочил ее к Великим Дионисиям, на которых присутствуют заморские гости, когда в пьесе были осмеяны должностные лица, – о, что тогда началось! Прежде всего взбеленился Клеон. Гнев его обрушился не на Каллистрата, но впрямую на Аристофана. Клеон попытался привлечь «наглеца» к суду, но из этого иска ничего не вышло. В Афинах каждому гражданину вольно думать согласно собственному разумению. Клеон это понял и решил отплатить по-старинному. Его люди подстерегли Аристофана на кривых афинских улочках, куда никогда не заглядывает солнце. Они так пересчитали бедняге ребра, что, говорили, ходили слухи, будто он готов отправиться в Аид. И кто бы мог заподозрить, что он снова станет царапать комедии?
Но, видать, уж так предначертано. Понуждает неугомонный Дионис.
Правда, новую комедию решено поставить не на Великих Дионисиях, где опять соберутся приезжие чужестранцы, а на Ленеях. Пока в город еще не нахлынули гости.
– Говорят, что-то об ахарнянах?
– Об ахарнянах? Го-го-го!
– Что можно сочинить об ахарнянах!
– Уже смешно!
Ахарняне – жители самого крупного дема[35], к северу от Афин. Они без труда выставляют три тысячи гоплитов. Ахарнян привычно видеть в сообществе длинноухих осликов, с хребтов которых свисают тяжелые черные корзины. В этих корзинах развозится уголь, который сами они и готовят. Все ахарняне угрюмы на вид. Их фигуры, вместе с ослами, смешны и без разных придумок. Однако попробуй задеть кого из них смехом! Так накостыляют, что Клеон позавидует…
Да вот и они, ахарняне. В крайнем клине большого амфитеатра ими заполнен весь второй ярус. Все как один: широкоплечие, неторопливые. Не мечутся, подобно юрким торговцам иль закоптелым до глаз гончарам. Вроде бы отдыхают после нелегких трудов. Все в одинаковых, заскорузлых и темных, гиматиях[36]. Интересно, что же мыслится им о грядущих комических представлениях?
Громада Акрополя прикрывает расположенный у его подножия вместительный амфитеатр. Это памятно даже тем афинянам, которые никак не готовы поверить в наступившее вдруг тепло. Прихватили с собою массу одежды, покрывал, подушек, чтобы прикрыть ими голые камни, выстуженные Бореем. А то и голое дерево: не все сиденья в театре вытесаны из камня.
Запасами теплых вещей грешили особенно больные и немощные доходяги, которых родственники доставили сюда на ослиных хребтах.
Они уж никак не надеялись попасть на это зрелище. Глаза у счастливчиков застланы слезами, да руки никак не торопятся вытирать извинительную в такой день досужую влагу.
Как только собравшиеся оказались на своих местах, не без ругани и потасовок, не без вмешательства стражников-скифов, как только разобрались, наконец, чтó выбито на оловянных табличках, указывающих клин и ярус, – все упавшие на сиденья вдруг ощутили, что вещей у каждого – перебор. Под защитой Акрополя, на горячем солнце, при такой массе народа, всем и сразу стало тепло. Кому – так даже и жарко. Кое-кто, еще до начала представления, начал засовывать теплые вещи вниз под сиденья.
Скифы-стражники, всегда ощущающие себя в тепле, обнажали крепкие торсы, чтобы хоть таким незатейливым образом показать свое полное превосходство над изнеженными туземцами. Свое презрение к холодам.
И всем уже стало ясно, что абсолютно правильно поступили те, кто прихватил с собою много вина. На солнцепеке предстоит немало пожариться, покричать, похлопать в ладони. Если комедия, разумеется, станет достойной смеха.
То и дело слышалось:
– Аристофан… О! Такой парень!
А еще:
– Каллистрат!
– О! Каллистрат – голова!
– Ничего не боится!
– А чего такому бояться?
В этом шуме, подобном морскому, зимнему, в этих радостных встречах-объятиях после длительного ненастья, не все и не вдруг заприметили, когда и как оказались уже принесенными надлежащие жертвы. Не все уловили щекочущий запах крови. Не все содрогнулись от резкого визга молоденьких поросяток, умолкнувших под ударами священных ножей, отточенных о гиметтский мрамор.
Некоторые даже не заметили, как торжественно, без спешки, на самом донышке театральной чаши, на той ее четкой грани, где она прикасается к веселой орхестре, уселись жрецы в сверкающих белизною нарядах. Главный среди жрецов, принимая во внимание, чтó это за учреждение, – служитель Диониса Освободителя. У него, пожалуй, самое пышное кресло с искусно выскобленной высокой спинкой, с затейливыми ножками в виде львиных лап и с очень удобными подлокотниками. Не обойдены местами и жрецы всемогущего отца Диониса, Зевса Олимпийского – в первую очередь. Потому что Зевс, в понимании афинян, выступает также в нескольких ипостасях. Бок о бок со жрецом Диониса восседает жрец Зевса-Советчика. А еще – жрецов светлоликого Аполлона – у него их тоже несколько. Он также видится в нескольких назначениях: Пифийский, Делосский, Лавром Увенчанный. Тут же сидят и жрецы Деметры, Артемиды, Посейдона.
Всем перечисленным и не перечисленным божьим прислужникам не вместиться в одном ряду. Для них отведены места во втором: для жрецов Гефеста и прочих олимпийских богов. Конечно, для услужающих местного царя Тесея, славного героя. Для жрецов девяти Аполлоновых муз. Целая толпа. Не будь здесь даже никаких афинских зрителей – так и без них весь театр заполнится на добрую половину.
Первое место среди должностных лиц занимал правитель Клеон. Его большое, бычье лицо (взгляд исподлобья) лоснилось от жира и пота. Крича громче всех, силился он показать, будто ничто его сейчас не волнует. Не беспокоит ничто… Но так ли на самом деле?
Что говорить, всем собравшимся ведомо, куда они пришли. Потому и ведут себя надлежащим образом. Это ведь не на представлении трагедий Софокла или хотя бы заумного Еврипида. Там всегда ощущаешь себя как на строгой молитве во время важнейшего празднества. Особенно занимают слова Софокла. Но на представлениях у Эсхила, говорят, случалось и того похлеще. Тысячи людей, словно малые дети, воспринимают там фразы, долетающие из глубин театральной раковины. Ощущают себя послушными учениками. Да что там учениками. Чувствуют себя букашками перед вымощенной камнями орхестрой! Верят, что перед ними настоящие боги. А не такие, по сути, как все, актеры, которых накануне можно было видеть в подпитии, ругавшимися с продавцами невзрачной рыбешки, только им показавшейся мелкой. Потому что сами они довольно упитанные мужчины…
Это там, на представлении трагедии…
А здесь – комедия. Здесь чем громче хохочешь, обнажая коренные зубы, испуская неприличные в ином месте ветры, – тем приятней твой смех для актера, поэта, хоревта. Даже для вечно напряженного архонта-эпонима. Для всех…
Когда раздался звук деревянной отполированной трубы, означавший начало представления, и тогда не все еще вняли, чтó происходит на круглой орхестре. Поняли только одно: начался пролог. Все дружно расхохотались, завидев странное существо, при взгляде на которое расхохочется даже мертвец. Представьте себе, читатель, взлохмаченного бородача в коротенькой одежонке, которая не доходит до мощных колен, а только подчеркивает безобразную их полноту, усугубленную привязанной к животу подушкой. Из-под одежки свисает длинный фаллос, сработанный из бычьего хвоста. Он почти что касается пыльной земли. Хорошо, что нету здесь женщин… На голове мужика – громадная маска. Вытаращенные глаза на ней, однако, полны ума и внушительного житейского опыта. Могучий голос мужлана тотчас добирается до ушей на самых дальних рядах.
Какое-то время спустя, нагоготавшись над нелепой фигурой, над громадными сапогами-котурнами и мощными голыми ногами, которые сверху, от высоко вознесенных рядов, кажутся совсем безобразно короткими, – зрители успокаиваются. В театре устанавливается тишина. Она взрывается смехом только после того, как отзвучат очередные слова актера. Постепенно становится понятно, что этот недотепа лишь показал себя огородным пугалом. На самом же деле – он вовсе не таков. Зовут его Дикеополем – «Справедливым гражданином». Владеет дедовскими наделами. Как никогда, ему нужен сейчас надежный мир. За мир он готов бороться всеми силами. Добиваться его не только словами, но и могучими кулачищами.
Сейчас же он, только что вывалившись из собственного дома (крайняя слева дверь), сразу оказывается на Пниксе, где обычно проводятся экклесии, народные собрания.
Конечно, подобное начало возбуждает зрительский интерес. Тем более, что с театральных рядов многим взирающим виден настоящий Пникс, сейчас пустынный… Но совсем другое дело, когда он представлен такими придумщиками, как Аристофан и Каллистрат.
Что сочинили эти неугомоны?
На Пниксе-орхестре Дикеополя мигом окружают граждане, явившиеся по зову зычноголосого глашатая. Появляются и должностные лица – пританы, стража. Все ведут себя крайне бестолково, как и в жизни. А зрители, наблюдая за ними, словно взирают на себя, только со стороны. Почесывают в затылках.
Когда же среди снующих вдоль и поперек орхестры появляется прорицатель Амфитей («Обоюдобог»? Вот так имечко!), когда он заявляет о своем происхождении от богини Деметры, утверждая при этом, что имеет поручение заключить со спартанцами мир, – горожане на сцене гонят его прочь. Уходи! Наглец! Осмеливается говорить о мире!
Подобный разворот событий предоставляет Дикеополю возможность высказать свою точку зрения. Но тут на орхестре появляются афинские старейшины, которые ездили послами к персидскому царю. Среди них наличествует и царский посланец по имени Псевдартабаз, царево око. Он и в самом деле выглядит неправдоподобно: его маска – единственный, во все лицо, глаз со зрачком величиною с детский мячик.
Старейшины заверяют, будто персидский царь обещал Афинам помощь против спартанцев.
– Да! Да! – рассыпают послы свои заверения.
Возмущенный Дикеополь не верит никаким увещаниям. Он наседает на перса Псевдартабаза. А тот, испугавшись, прижимая руки к тощей груди, сознается, что все это враки: царь и не думает кому бы то ни было помогать!
Значит, афинские власти обманывают собственных граждан?
Не стóит, оказывается, надеяться и на помощь другого союзника, фракийского царя Ситалка. Возвратившийся от него посланец, сотоварищ демагога Клеона, талдычит о какой-то фракийской поддержке. Но приехавшие с ним природные фракийцы воруют у Дикеополя мешок с предназначенным для продажи чесноком. Можно ли доверять ворюгам?
Значит, афинское правительство лукавит во всем?
Все это вынуждает Дикеополя надеяться только на себя. Отчаявшись, он дает Амфитею деньги и просит его заключить со спартанцами сепаратный мир. Только для него, Дикеополя.
Амфитей, чародей и волшебник, быстро исполняет заказ и тут же вручает Дикеополю амфору с миром на 30 лет. Правда, предупреждает, что за ним, Амфитеем, гонится стая ахарнян, пронюхавших об этой сделке.
– Ахарняне?
Да, ахарняне разорены войною. Они люто ненавидят спартанцев, а потому готовы побить камнями каждого, кто заведет речь о мире.
Зрители также кивают головами, соглашась со всем услышанным. Все они начинают пристальней посматривать на тот клин, где сидят настоящие ахарняне. Подлинные ахарняне бурно рукоплещут. Они бы рады увидеть на сцене сородичей, которые гнались за Амфитеем. Все афиняне на скамейках уверены, что ахарнянам лучше всего не попадаться сейчас на глаза. Эти работяги лишились всего, нажитого тяжким трудом.
Но Дикеополь, торжествуя по поводу заключенного мира, исчезает на время и вновь появляется на орхестре уже в составе пышной фаллической процессии, славящей Диониса. В веселом праздничном шествии принимает участие и юная дочь счастливца. Идут и подвыпившие рабы.
Только длится все это недолго. На сцену с шумом врывается хор ахарнян, о которых заранее предупреждал Амфитей. Поначалу, сбитые с толку призывами к молитве, хористы все ж разбираются, что к чему, и разгоняют веселое шествие. Дикеополя готовы они изорвать на куски.
– Так, так его! – кричат своим подобиям на сцене подлинные ахарняне. – Какой такой мир со спартанцами! Бейте его, дурака!
– Бейте!
– Смерть ему!
После отчаянной схватки Дикеополь наконец вынужден заявить, что он готов по суду отстаивать желанный мир, положив, если надо, голову на плаху. Более того, он тут же вытаскивает из дома деревянную дощечку, на которой афиняне рубят головы курам и прочей домашней живности.
– Вот!
– Го-го-го! – заливаются смехом в нижних рядах амфитеатра. – Клади свою куриную голову!
– Хо-хо-хо! – сваливается хохот с верхних рядов. – Сейчас и тебе отрубят, дураку!
Зрители оживляются как никогда. Дело пахнет агоном, состязанием сторон. Это так привычно для каждого эллина. Это делается не только в театре.
Дикеополя вдруг посещает мысль обратиться за помощью к поэту Еврипиду, обитателю соседствующего дома. Ему хочется получить лохмотья, которыми поэт награждает героев своих трагедий. В лохмотьях легче вызвать сочувствие.
На крик Дикеополя из дома Еврипида вываливается привратник. По его маске зрители тотчас узнают актера Кефисодонта, который помогает Еврипиду в сочинении стихов.
– Где сам хозяин?
Привратник с готовностью объясняет:
– И дома он, и не дома… Как хочешь – так и понимай. Душа его гоняется за стихами. Не дома, значит, и сам он. Творит трагедии…
Зрители прыгают от восторга. Еще бы! Сейчас им будет предоставлена редчайшая возможность увидеть сразу двух Еврипидов. Один из них сидит невдалеке от орхестры, в четвертом ярусе, в третьем слева клине. А второй…
Оттолкнув привратника, Дикеополь требует вести его прямо к Еврипиду. Но не к этому, который торчит среди зрителей и тоже делает вид, будто ему смешно, но к тому, который скрывается в доме.
На выдвижной тележке, эккиклеме, чьи колеса издают противный визг, из дверей действительно выдвигается открытая со стороны зрителей будка. В ней сидит другой Еврипид, с той лишь разницей, что у этого, настоящего, в третьем клине, живая голова показалась вдруг такой неприглядной и маленькой, к тому же прикрытой синим плащом. Тогда как у его собрата, на движущейся тележке, голова – с решето иль корыто. Ее не закрыть никакой одеждой. Голова-маска, к тому же, как бы нарочито выставлена на показ. Она постоянно вращается, чтобы зрителям можно было ее хорошенечко разглядеть. Верчение маски продолжается до тех пор, пока не утихает всеобщий хохот.
Но тут же зрителям приходится ахнуть вслед за Дикеополем. Как и он, они всегда предполагали, будто кабинет поэта представляет собой просторное помещение, с белыми колоннами, с занавесями, наполненное убранствами и драгоценностями. А лохмотья, за которыми охотится Дикеополь, составляют в нем лишь забавное исключение. Однако тесный чулан Еврипида снизу доверху забит подобными лохмотьями.
Осмотрев в них все, Дикеополь выбирает рубище Телефа, популярного мифического героя, недавно выведенного Еврипидом в одноименной драме.
– Вот это! Давай!
Стараясь нарядиться как можно неряшливей, он выпрашивает у поэта обугленный светильник со вставленным в него огарком, какое-то тряпье для ран, корзинку для зелени. Стоп! Да это же явный намек на то, что Аристофан считает мать Еврипида базарной зеленщицей!
Зрители хохочут, а Дикеополь забирает еще покруче.
– Дай мне капустки! – канючит он. – Попроси у своей матушки-зеленщицы!
Сценический Еврипид срывается с высокого тона и визжит, как недорезанный поросенок.
– Прочь! Ты дерзким стал! Гони его в шею! – велит своему привратнику.
О настоящем Еврипиде, прикрытом плотным плащом, зрители тут же забывают.
С этими словами поэт-трагик и его выдвижная тележка скрываются в распахнутых настежь дверях.
Но Дикеополю больше поэт не нужен. В рваном колпаке на голове, прикрывшем огромную маску, с длинным посохом, с дырявою корзиною и с каким-то котелком и горшком, – Дикеополь приступает к куриной плахе. Ему предстоит пространная речь перед разъяренным хором ахарнян. Не спеша, укладывается на полу, словно на кровати, подсунув под голову подушку, снятую с собственного брюха. От этого тело его становится худым и стройным.
– Ну-ка! Ну-ка! Что он скажет в свое оправдание? – слышится в рядах настоящих ахарнян, тогда как ахарняне на орхестре со всей решительностью обступают плаху с распластанным на ней обвиняемым.
– Говори!
– Сейчас! Сейчас…
Первым делом Дикеополь объясняет причину этой бесконечной войны. Все произошло, дескать, лишь потому, что бравые афинские парни выкрали в Мегарах гулящую девку Симету. Да, да… Но мегарцы тоже не промахи. Увели двух служанок Аспасии, супруги Перикла. После этого взъерепенился Перикл. И пошло… Что касается Дикеополя, то лично он ненавидит спартанцев. Они вытоптали его виноградники. Да все же спартанцы сами устали от бесконечной бойни. Они готовы заключить мир, а если этого не произошло до сих пор, то виноваты в том афиняне!
Эти доводы, надо сказать, возымели действие на часть упрямых ахарнян. Они все притихли, задумались. Зато другая часть их, не соглашаясь с Дикеополем, призывает на помощь военачальника Ламаха. Оказывается, знатный полководец, не раз избиравшийся стратегом, обитает в доме за третьей дверью, зияющей над орхестрой.
– Дерзайте! Жмите! – подбадривают земляков настоящие ахарняне.
– Жмите! Сильнее!
Ламах выходит на орхестру в сверкающем и гремящем вооружении, с огромным щитом, с копьем и мечом. Словно бог войны Арес.
Кто внимательно наблюдал за Клеоном, те видели, что при выходе Ламаха Клеон вроде забеспокоился: не придумано ли Аристофаном опять чего-то такого…
Ламах набрасывается на Дикеополя с воинской решимостью, стараясь одним махом стереть оппонента в порошок, как сторонника мира, ненавистного людям военным. Но Дикеополю удается сразить его метким замечанием насчет того, что вот, дескать, старики афиняне несут сейчас службу в труднейших условиях, вдали от дома, тогда как молодые и крепкие удальцы, вроде Ламаха, наслаждаются ничегонеделаньем.
Ламах кипятится по-петушиному. Он всегда и везде готов теснить врагов. Он не станет заключать с ними мира! Дикеополь же, в противовес Ламаху, рассылает приглашения во враждебные Афинам государства, зазывая людей ради выгодной торговли. Он всемерно спешит воспользоваться благами своего сепаратного соглашения.
С грозным стуком захлопывается дверь за полководцем Ламахом. Он всегда готов к походу.
После шумных перепалок на орхестре наступает нечто более или менее упорядоченное. Что-то вроде передышки, так называемая парабаза. Устами хора Аристофан призывает сограждан не верить льстивым речам недобросовестных людей, а быть постоянно бдительным при обсуждении государственных дел.
Парабаза в «Ахарнянах» служит для зрителей сигналом приготовиться к серьезному развитию действия. Они становятся свидетелями того, как Дикеополь убеждает ахарнян. Разинув рты, угольщики наблюдают, как на призывы Дикеополя к нему являются люди из враждебных афинянам Мегар, из-за повадок которых, собственно, и разразилась эта война. Теперь мегарцам приходится спасаться от голода. Приходят торговцы из не ладящих с Афинами Фив. Оттуда доставляются продукты, а взамен вывозятся те товары, которых в Афинах полное изобилие. В данном случае – это доносчики, иначе сикофанты. Зрители принимают шутку, с пониманием смеются и без особого гнева посматривают на известных им доносчиков, сидящих в амфитеатре.
Торговля на орхестре кипит. Дикеополь торжествует, в то время как слуга полководца Ламаха, выскочив из дома, тщетно пытается приобрести что-нибудь для прокорма своего воинственного господина.
– Ага! Припекло тебя! – раздается в публике.
– Голод не тетка!
Ламаху действительно следует подкрепиться. Поступают известия, что неприятельское войско опять пересекло афинскую границу. Снова сверкают и гремят доспехи. Ламах отправляется в поход.
Афиняне, а с ними все прочие зрители, в том числе настоящие ахарняне, озадаченные событиями на орхестре, – с удивлением продолжают наблюдать, как Дикеополь, располагая запасами продовольствия, отправляется пировать. В это время полководца Ламаха приносят на носилках. Раненный, голодный – он громко кричит и жалобно стонет.
Дикеополь же, снова появляясь на орхестре в сопровождении грудастых красавиц, справляет праздник. Он приглашает к себе всех ахарнян, и они с удовольствием откликаются на его призывы.
Настоящие ахарняне хлопают громче всех. Они довольны своими соотечественниками. Они ничуть не обижены.
Спокоен и Клеон. Он также громко хлопает. Его лоснящееся бычье лицо – само радушие.
Представление окончено. Афинянам есть над чем поломать себе головы. Простая житейская мудрость Дикеополя позволила ему разрешить все то, над чем безуспешно бьются люди, которые выдают себя за мудрецов. Которые обладают настоящей государственной властью!
Да, ничего не скажешь: боги вложили в голову Аристофана необыкновенный ум…
Естественно, пьеса его получила первую награду.
В сговоре с всадниками
Год спустя, казалось, все обещало повториться с абсолютной точностью. Перед Ленеями афиняне опять ощутили те же давнишние ожидания и те же надежды.
Об Аристофане заговорили как об очнувшемся хитреце. Клеону, руководителю государства, явно перепало в «Ахарнянах». Да не к чему было придраться: не Аристофан сочинял комедию, а вроде бы тот же его земляк Каллистрат, с которого взятки гладки: смел до одури и силен как бык! Да и шайка друзей при нем постоянно пыхтит и хохочет – не подступить! Такие они, «мастера Диониса»…
Евполид, ровесник и друг Аристофана, трепал языком на пьяных симпозиумах, будто это он надоумил дружка, как на дерево залезть и при этом задницу сохранить. А вот поди ж ты, возмущен Евполид, дружок ни во что поставил благие советы… Завоевав первое место, Аристофан пил-гулял в компании с Каллистратом, да и нос задрал. Посмотрим, что получится у него в дальнейшем, без участия Евполида…
Афиняне тщательно смешивали вино с холодной водою и высказывали всевозможные предположения. Аристофан, говорили, сочинил комедию почище «Ахарнян». Представлять ее будет уже под собственным именем, набравшись в конце концов храбрости и опыта. Даже пронырливости.
– Что ты! Что ты! – кричали всё знающие. – Наглости разве… Заносчивости, свойственной юнцам!
– Что? Снова заденет Клеона? Быть того не может!
– Говорят, кому удалось подглядеть… Всех перещеголяет…
– Попытался заказать было маску… Так никто из мастеров не осмелился… Самолично будет его представлять… Без маски.
– Что? О боги! Ужас…
– Такого еще не бывало!
– А что? Сумеет…
– Он-то сумеет, да Клеон его прямо в театре слопает!
– Все может быть…
Кто изрядно подвыпил – не соглашались:
– При всех – подавится… Аристофан… Ого! Ноги у него бегучие… Убежит…
Чем ближе день представления, тем острее споры.
Что ни говори, а нынешние Ленеи должны как-то иначе пройти. Слишком многое переменилось в Афинах. Да и в Спарте…
Началось все с того, что афинский флот, направляясь к берегам Сицилии, был застигнут бурей. Стратегу Демосфену, возглавлявшему моряков, пришла в голову сумасшедшая мысль захватить древний Пилос, в котором правил некогда Нестор, воспетый еще Гомером. Теперь там мессенский город, а всех мессенцев спартанцы держат в положении бесправных илотов. Захватив Пилос, афиняне оставили в нем Демосфена с пятью кораблями.
Когда весть об успехах афинского флота достигла спартанского войска, снова осадившего Афины, – спартанские вожди всполошились не на шутку: как бы все это не побудило мессенцев к новому восстанию? Спартанцы срочно оставили Аттику. Попытались вытеснить афинян из Пилоса, предприняв наступление одновременно с суши и моря. Заняли остров Сфактерию, что у входа в Пилосскую гавань. Однако афиняне отбили все нападения, а с помощью возвратившегося флота осадили Сфактерию. Эта-то осада, точнее то, что в ней оказались представители первейших родов, пуще прежнего взволновала спартанских вождей. Они предложили афинянам мир, однако переговоры были неожиданно сорваны: Клеон потребовал захватить Сфактерию, добиться еще больших уступок.
Осада затянулась. Замаячившая зима сулила осаждавшим массу трудностей. Клеон, в свою очередь, упрекал соотечественников в бездействии. Его наглость вывела из себя стратега Никия, против которого она и была направлена. Никий предложил Клеону взять на себя командование осадой. Со свойственной ему решительностью, Клеон заявил, что справится с осажденными в течение двух декад. Спартанцы будут пленены либо уничтожены.
Такое высказывание вполне годилось кожевнику, не знающему ратного дела, однако народное собрание высказалось за предоставление хвастуну всех полномочий. Многие на Пниксе втайне полагали, что наглец свернет себе шею и тем самым избавит Афины от своего присутствия, криков, ругани! Своей бычьей рожи…
Клеон отправился к месту боевых действий вместе с Демосфеном, дельным военачальником, и с отрядом легковооруженных воинов. Задачи осаждавших облегчались еще и тем, что на острове вспыхнул пожар. Там выгорел лес, представлявший собою естественное укрытие. После высадки Клеона последовало упорное сражение. Осажденные сдались. В их числе оказалось свыше сотни представителей знатнейших спартанских семейств.
И вот, в присутствии полководца, находящегося на вершине славы, сидящего в первом ряду, – Аристофану предстояло вывести на сцену его подобие, наверняка – достаточно в смешном виде. Стóит ли говорить, с каким интересом направлялись в тот день афиняне в свой главный театр?
После сигнала трубы их тотчас смутило необычное имя Демос, означавшее не более как «народ». Еще сильнее озадачили зрителей имена рабов этого странного на вид существа: Никий и Демосфен. Рабы в один голос проклинали слугу своего господина, обретенного им в Пафлагонии, северо-западной части причерноморской равнины. Тамошние жители издавна пользовались дурною славою, напоминая афинянам о глаголе παφλάζω, означающем «киплю, буйствую, негод ую».
Озадачило также то, что маски этих рабов как две капли воды похожи были на лица двух видных афинских военачальников… Новый слуга, Пафлагонец-Кожевник, по словам негодующих Демосфена и Никия, нагло льстит своему хозяину, старому Демосу, доставляя ему всевозможные подарки. Вот и недавно – Демосфен замесил было в Пилосе спартанскую квашню, а Кожевник похитил ее и поднес Демосу в качестве дара!
«О боги! – загорелись догадки на лицах у многих зрителей. – Да ведь речь опять о Клеоне, сидящем в первом ряду на самом почетном месте. Это же он совершил свой подвиг под Пилосом, воспользовавшись умелыми действиями воинских отрядов под руководством стратега Демосфена…»
Сам Клеон не подавал вида, будто также заподозрил что-то сверхнеобычное. Кожевник хохотал громче всех, утирая кулачищами отвисшие щеки.
А рабы на орхестре впадали в полнейшее уныние. Так жить нельзя.
– Что делать, Никий?
– Не знаю, Демосфен…
Но вот из оракула, похищенного у Пафлагонца-Кожевника, спящего в глубинах Демосова дома, рабы узнают, что кожевнику суждено быть побежденным каким-то незнакомым Колбасником.
Тут же, как по мановению волшебного жезла, на орхестре вырастает фигура продавца колбас. Никий и Демосфен наперегонки приветствуют его, обещая богатство и счастье. Тот – ничего не понимает:
– Да с чего вы все это взяли?
Никий тотчас отправляется в дом, следить за спящим Кожевником. Демосфен продолжает убеждать Колбасника, что он непременно станет самым могущественным человеком. Все собравшиеся здесь люди, попивающие винá из тугих бурдюков, жующие всевозможную пищу, ерзающие на своих подушках, перинах или звериных кожах, брошенных на голые камни, все их стражи, архонты, триерархи и прочие, прочие должностные лица, какие только могут здесь быть, – окажутся в его подчинении! Более того, островá, корабли на море, заморские земли, в том числе Азия и Ливия, с их городами, полями и садами, – все это подчинится одному ему.
– Го-го! Не может такого быть?
– Будет! Непременно будет!
Демосфен понуждает Колбасника подняться на собственную тележку, чтобы убедиться, до каких пределов будут простираться его владения.
– Вон докуда! Видишь?
– В-и-и-жу…
Пораженный, Колбасник все равно не верит столь сказочным перспективам. Для обретения подобной власти у него не имеется ни малейших данных: он слишком подлого происхождения, почти не умеет читать и писать. А уж плавать…
– Пустяки! – кричит Демосфен. – Чтобы управлять народом, достаточно поступать так, как ты поступал до сих пор, перемешивая плохие куски мяса с более-менее подходящими. Народу достаточно пообещать хорошую жизнь. А так у тебя всего в избытке: ничтожное происхождение, бычий взгляд, ухватки рыночных торговцев… Тебе помогут всесильные всадники. Что касается главного соперника, так даже не придется видеть его лица. Никто из мастеров не согласился изготовить его маску. Только мыслящие люди и без маски способны узнать гордеца!
– Ой! – раздалось наконец в зале.
– Ах! Вот оно что…
Зрителям оставалось только подивиться хитрости и умению молодого поэта. Ведь каждому здесь известно, чью маску отказались изготовить признанные мастера.
Наконец появляется и сам загадочный Пафлагонец. Да, он без маски. И в нем легко узнать Аристофана. Но это же… Нет, нет! Страшно сказать, кого он сейчас представляет…
Напуганный Демосфен призывает на помощь всадников, и они врываются на орхестру. Живописная, шумная толпа их подобна кавалерийской атаке. Надо заметить, что хор в комедийных спектаклях состоял из 24 человек, в противовес трагическому, где даже после реформирования число хористов доходило лишь до 15.
Для усиления впечатления постановщики комедий шли на различного рода придумки. Можно смело сказать: большего выдумщика, нежели Аристофан, вообразить себе было нельзя. Но фантазия его, естественно, в этом первом самостоятельном спектакле поразила всех.
«Всадники» выскочили верхом на других людях, снабженных бутафорскими лошадиными мордами, с искусственными хвостами. Количество «хористов», таким образом, составило около полусотни людей. Они запрудили всю орхестру, наполнив ее ржанием, свистом, топотом копыт. Энергии и силы «коней», разумеется, не могло надолго хватить. Всадники спешивались, держа своих «рысаков» в поводу. Исполняли при этом грозную песнь и нисколько не умаляли топота и ржания.
Здесь необходимо вкратце обрисовать самих всадников. В Афинах они составляли второе по значению сословие, введенное когда-то Солоном. Каждый всадник, уподобленный в чем-то знакомым нам казакам, обязан был содержать верхового коня, иметь необходимое кавалерийское и воинское снаряжение, чтобы по первому зову стратегов вливаться в ряды защитников государства. Как военное сословие, всадники представляли собою молодых и богатых сограждан, враждебно настроенных к радикальным демократическим веяниям, следовательно – к болтунам-демагогам.
Что касается Клеона, то афинские всадники его просто ненавидели: он обвинял их всех в дезертирстве. Впрочем, небезосновательно. Что касается Аристофана – поэт наперед заручился поддержкой всего всаднического сословия…
Появление массы сценических всадников, призывающих бить клеветников и воров, придало Колбаснику сил. Он вступил в перепалку с Кожевником. Орхестра наполнилась бранью, переходящей в драку. Колбасник «приложился» колбасами к голове Кожевника, и последний, не выдержав такого с собой обращения, убежал с угрозами пожаловаться буле (Государственному Совету).
А на орхестре началась парабаза. Всадники и их лошади сорвали с себя все маски. Корифей хора обратился к зрителям с нравоучением. В дополнение к уже сказанному, добавлю, что парабаза состояла из строго продуманных составных частей, написанных в определенных размерах. В данной комедии корифей утверждал, что хор обязан поддерживать поэта, ратующего за установление справедливых отношений между людьми. Если же сам поэт (то есть Аристофан) до сих пор не попросил у архонта хора, так это от верного понимания того, как важно и трудно сочинять комедии. Поэт пожелал сначала набраться опыта и умения, потом уже приниматься учить других людей.
Хор обращается с молитвами к богам, в первую очередь к Посейдону, покровителю коней. Молитва хористов наполнена похвалами предкам, добивавшимся побед, похвалами прежним военным вождям, стратегам, которые заботились о победах, а не о бесплатном питании в пританее и проэдрии (праве на место в первых рядах в театре).
Интересно было бы видеть, как реагировал на все это Клеон, на котором наверняка были скрещены взоры всех зрителей.
Затем хор обратил свои просьбы к незримо присутствовавшей Афине: путь она приведет с собой богиню Нике! Всадникам, как никогда, нужна сейчас какая-нибудь победа.
Итак, хор взбодрил себя. Взбодрил и своих коней. Все это необходимо для продолжения труднейшего агона! Тем более, что на орхестру возвращается Колбасник. Он доволен своими речами в буле, куда устремился было вслед за Кожевником. Лестью и хитростью Колбаснику удалось обойти своего соперника. Члены Совета, дескать, осыпали его, Колбасника, бурными похвалами.
Но Кожевник не думает сдаваться. Он вызывает из дома старого Демоса, при виде которого зрители умирают от смеха: огромней и безобразней человека не приходилось видеть. Вот так урод! Вот так лентяй! Однако всеобщий смех обретает вскоре какое-то нервное звучание. Обрюзглый, пьяный, неряшливый и неповоротливый старик – не кто иной, как сам афинский народ… Стало быть, это сами они…
Кожевник настаивает на том, что Демос своими глазами должен увидеть, как обижают его слугу. Как только появляется Демос – сразу возобновляется агон. Колбаснику хочется вытащить Демоса на просторный Пникс, где происходят народные собрания. Ему хорошо известно, что на Пниксе, на вольном просторе, старик мгновенно становится глупым. Но Демос наотрез отказывается покидать свое обиталище, и Колбасник считает дело проигранным.
Однако агон продолжается.
Как ни старается Кожевник выставить себя верным слугою Демоса, а все же Колбасник превосходит его в стараниях. Колбасник подсовывает под старика подушку, чтобы тот не простыл на голых камнях, и это очень льстит старику. Обнадеженный Колбасник пытается разоблачить соперника, утверждая, что тот умышленно раздувает войну, чтобы скрыть свои махинации и нажиться на всеобщем горе. Вот и сейчас он, Кожевник, помышляет только о себе. Продавая много кожи, он не подарил ни куска ее другим неимущим. В противовес такому бездушию, Колбасник снимает с себя сандалии и дарит их Демосу. Отдает ему также свой новый хитон.
Кожевник зато не скупится на обещания. Он сулит Демосу беззаботную жизнь в недалеком будущем. Ничего не делая, старик будет получать большие доходы. А Колбасник, не говоря ничего лишнего, приносит горшочек с мазью – пускай Демос излечит на своих ногах язвы!
Оба соперника удаляются, чтобы предоставить Демосу собственные пророчества. Хор в это время заводит песню, преисполненную надеждами на счастливую вольную жизнь для всех, как только Клеон (это имя упоминается впервые) погибнет…
Свои пророчества соперники доставляют в огромных мешках. Пророчества Колбасника оказываются лучше, и Демос уже склоняется отдать ему предпочтение. Но Клеон-Кожевник обольщает старика новыми посулами. Он, Клеон, будет снабжать Демоса отличной едой. Прозревший вдруг Демос отвечает одно: непременно выиграет тот, кто сумеет угодить ему сейчас и немедленно.
Оба антагониста доставляют корзины со съестными припасами. Усадив старика в глубокое кресло, Клеон и Колбасник становятся в такие позы, как поступают атлеты на беговой дорожке. Словно по команде, устремляются они оба вперед, чтобы скорей угостить прожорливого господина. Клеон подносит старику блюдо, приготовленное Афиной, и кусок жирной рыбы. Колбасник – похлебку и жареное мясо. Выиграть состязание Кожевник намерен отменным деликатесом – жареным зайцем. Предчувствуя поражение, Колбасник идет на хитрость. Отвлекая внимание Клеона, он ворует у него зайчатину и подсовывает ее Демосу. Вроде бы от себя.
Старик замечает, что не все вокруг делается по-честному. Однако сам он пока что не в силах принять правильное решение.
Колбасник подсказывает ему, что не лишне было бы осмотреть корзины. Колбасник оказывается более щедрым. Им отдано Демосу все, тогда как Кожевником кое-что припрятано для личного пользования.
Прозревший в конце концов Демос требует, чтобы Клеон-Кожевник уступил власть Колбаснику.
Вот она, победа!
Клеон все еще пытается упираться, однако вынужден пойти на уступки. Он прощается со своим венком и заплетающимися ногами удаляется с орхестры. Оставшись наедине с Колбасником, Демос спрашивает, как его зовут. Ответ прост: Агоракрит. Это новое имя образовано от греческих слов «αγορά» и κρίνω – «сужу, разбираю судебное дело». Он, Колбасник, постоянно обретаясь на Пниксе, занимается судебными делами. Теперь он будет заботиться о безвольном старом Демосе.
И Колбасник, и Демос, уже как единомышленники, скрываются в доме.
В заключительном действии комедии, в ее эксоде, на орхестре появляется Агоракрит. На нем уже очень дорогая, просто – роскошная одежда, свидетельствующая о больших переменах в его судьбе. Корифей хора понимает это и приветствует Агоракрита как благодетеля афинского государства и всех его союзников.
Агоракрит сообщает зрителям сногсшибательную новость. Оказывается, он только что сварил живого Демоса в кипящей воде. Чтó получилось из этого лентяя, обжоры и тугодума – сейчас увидите!
Справедливости ради необходимо отметить, что подобные превращения человека были не в диковинку для греков. На слуху у всех их вертелась история с колхидской волшебницей Медеей, представленной на сцене другими драматургами. За семь лет до этого дня. А если точнее, даже прежде того, в трагедии Еврипида, трактовалась подобная история с царем Пелием.
Из дома действительно выходит молодой красивый человек в роскошном наряде, с украшением в курчавых волосах в виде парящей цикады. Крик вырывается из груди многих зрителей, крик удивления. Ведь это и есть преображенный Демос! Он вновь стал таким, каким был во времена Марафона, Саламина, Платей! Когда руководили им Мильтиад, Фемистокл, Аристид, Перикл и прочие знаменитые мужи.
Агоракрит напоминает Демосу, какие глупости совершал тот прежде, прислушиваясь к советам бесчисленных демагогов, бессовестных льстецов. Демос признает свои ошибки и стыдится их. Он клянется, что ничего подобного впредь допущено им не будет. Отныне в народном собрании на Пниксе будет заказано выступать юношам, не обзаведшимся еще бородою. Он, Демос, незамедлительно выплатит долги гребцам, наведет порядок в войске. Агоракрит, в свою очередь, обещает предоставить Демосу перемирие на целых тридцать лет. В доказательство справедливости его слов на орхестру выбегает очаровательная девушка, нимфа Перемирия, которой Агоракрит и награждает помолодевшего Демоса…
С непростыми мыслями оставляли зрители в этот день театр Диониса. Вдоволь насмеявшись, они могли теперь раздумывать, чему же хочет научить их молодой самоуверенный поэт, обладающий невероятной смелостью. Он не побоялся высмеять демагога Клеона, а вкупе с ним и весь афинский народ. Клеон ведь действительно отобрал у народа всю его власть. Чтобы вернуть утраченное состояние, надо заполучить еще более наглого человека, вроде Колбасника. Колбасник только прикидывался несмышленышем. На самом деле он – Агоракрит, справедливый судья. Но где сыскать подобного человека? Надо крепко подумать…
Сократ в облаках
Как ни надеялся Аристофан на защиту со стороны афинских всадников, выведенных им в одноименной комедии 424 года до н. э., – да год спустя снова поставил новую пьесу, которая вряд ли могла понравиться кому-то из этих всадников! Более того, проницательные зрители были крепко уверены, что автор замахнулся уже чуть ли не на главного среди них – на самого Алкивиада, который (известно!) души не чаял в конях.
В 423 году, на Великих Дионисиях, зрители увидели комедию «Облака».
Забегая вперед, заметим, что представленная пьеса не завоевала первого места, и автору пришлось ее основательно переделывать. Быть может, чрезвычайно велико было негодование зрителей. Быть может, тех же всадников в первую очередь, которых он, неожиданно для них самих, так подвел… В силу сказанного литературоведы располагают теперь новой, более поздней редакцией комедии, тогда как первоначальный ее вариант, поставленный в указанном выше году, не дошел до нашего времени. Впрочем, пьесу в этой, второй редакции, зрители никогда и не видели, хотя сотворена она была именно с целью обнародования.
Чтó же увидели зрители – можно лишь догадываться…
Ученые попытались восстановить утраченное, и нам остается только возвратиться мысленно в Афины, в которых ожили надежды на лучшее будущее, связанное все же с личностью кожевника Клеона. Он по-прежнему кричит и мечется, кипятится и буйствует на Пниксе и в буле, окрыленный свалившейся на него победой под Сфактерией. Теперь же он наделен неоспоримой властью стратега и по-прежнему не желает слышать о мире со Спартой. Не хочет и думать о выдаче спартанских пленников.
А спартанские правители-эфоры, негодуя, но сдерживая свои войска от походов в Аттику, чтобы не погубить собственных заложников, все же не препятствуют искать пути для причинения ущерба противнику. Спартанский полководец Брасид с небольшим отрядом отправляется во Фракию, где ведет боевые действия, в результате которых предоставляет Спарте возможность заключить хотя бы временное перемирие.
В этих-то условиях цепкий Аристофанов ум и выхватывает из жизненной гущи тех людей, которые своим поведением и влиянием на государство способны нанести ему непоправимый вред. Таковыми мыслятся драматургу вездесущие софисты, готовые настроить толпу равно как на хорошие, так и на дурные дела.
Софистами в Греции называли бродячих мудрецов, учителей мудрости (по-гречески σοφία), обладавших способностью манипулировать сознанием человека. Этих людей Аристофан считал сродни демагогу Клеону.
Надо сразу сказать, что простой народ в Афинах, составлявший все то, что мы понимаем под словом «афиняне», почитал софистами всех людей, так или иначе связанных с толкованием отвлеченных вопросов. Народ с неодобрением, но и с нескрываемым интересом взирал на бродяг, заросших дремучими бородами. Они выглядели по-разному. Кто среди них носил могучую гриву на давно нечесаной голове, кто был с обильной коричневой лысиной, с цепкими взглядами все разумеющих глаз. Кто – с маленьким изможденным личиком, зато со свирепыми глазищами, недоступными пониманию простолюдинов. Софисты собирались в тени городских строений, появлялись перед статуями богов на рыночных площадях, у притягательных для эллинов храмов. Одни среди них обучали за большие деньги, другие – не могли остановить своей речи безо всякого вознаграждения.
Впрочем, что там бродячие чужаки! Перед глазами афинян постоянно маячила фигура доморощенного мудреца по имени Сократ, сына скульптора Софрониска и повивальной бабки Фенареты. Сократ убеждал всех встречных и поперечных, что он пособляет рождать всевозможные мысли, поступая подобно своей матери, которая способствует появлению на свет новых людей. Каждому встречному Сократ задавал вопросы, заставлявшие напрягать свой ум и рождать полезные мысли.
Афиняне издали узнавали его приземистую фигуру, закутанную в старый плащ, его плешивую голову с красным облупленным носом и босые темные ноги, подошвы которых не боятся самых острых камней…
В этот раз перед зрителями в театре Диониса предстали фасады двух соседствующих домов. Хозяином одного из них, как тут же стало известно, является зажиточный афинянин Стрепсиад, который, по причине летней жары, пытается уснуть в портике обширного дома.
Уснуть Стрепсиаду не удается, в отличие от его сына Фейдиппида. Тот храпит, наслаждаясь предрассветными сновидениями. Поведение сына чудится старику верхом несправедливости. Именно Фейдиппид, паршивец, и является причиной отцовской бессонницы. Он души не чает в заездах колесниц, в безумных скачках. Оттого и залез в неописуемые долги. А расплачиваться приходится о т ц у.
Не разглядев еще Фейдиппида, афиняне-зрители уже начинают переглядываться друг с другом: не пойдет ли здесь речь о красавчике Алкивиаде, который только и думает о гривастых скакунах? На Олимпийских играх Алкивиад выставляет сразу по нескольку упряжек, превосходя возможности многих чужеземных государей. Осмелится ли на что-то подобное отчаянный Аристофан?
Стрепсиад вспоминает свою прежнюю жизнь, протекшую на деревенском приволье. Как там гудели полосатые пчелки! Как шумели деревья, наливались соком оливки… Так нет же, лукавая сваха подбила взять в жены горожанку-афинянку. Спору нет, подысканная ею девушка, сама из знатного, но обедневшего рода, превратилась в образцовую супругу. Она почти ничего не принесла с собою в приданое.
«Ну нет, – читается на лицах многих афинских зрителей. – Тут и не пахнет теми богатствами, которыми обладает Алкивиад. Тут что-то иное…»
Стрепсиад продолжает огорчаться. Рассвет между тем окончательно разгоняет мрак ночи, и старик обводит взглядами свои хозяйственные постройки, пристройки, пристроечки, сараи и сарайчики, заборы, деревья, грядки. И вдруг какая-то странная мысль заставляет его спрыгнуть с теплого ложа. Он будит сына:
– Видишь калитку, а при ней – малюсенький домик?
Фейдиппид, оторвав от подушки голову, протирает глаза, но снова погружается в сонную мякоть.
– Вижу, – отмахивается сын. – Зачем он нам?
Сколько ни есть в театральной чаше зрителей, а все они понимают, о каком строении речь. На орхестре действительно торчит нечто, без чего не обойтись в любом подворье: отхожее место. И тут же театр сотрясается от мощного хохота, заслышав из уст Стрепсиада дальнейшую тираду:
– Мыслильня это… Для умов возвышенных…
Для пущей ясности старик добавляет:
– Там заседают мудрецы…
Зрители безудержно хохочут. Вдобавок еще выясняется, что соседний дом, чей фасад нависает над известным местом уединения, за этой «мыслильней», как назвал его Стрепсиад, – принадлежит Сократу. Вот там-то и есть его настоящая мыслильня.
Действительно, перед указанным домом возвышается точно такой же грубо обтесанный камень, какой торчит перед домом Сократа, сидящего здесь же, в театре. Обработкой камней настоящий Сократ зарабатывает себе на жизнь.
Дерзкие мысли приводят Стрепсиада к новым умозаключениям.
– Проснись! – визгливо требует отец от сына. – Иди и просись к нему в ученики! Он обучит тебя, как все неправое выставить правым. Сможешь доказать в суде, будто никому ничего не должен! Следовательно, мне не придется ломать себе голову, как ублажить твоих кредиторов.
– Ты что, старик! – из глубины подушки отвечает Фейдиппид. – Чтобы я совался к таким оборванцам… Никогда!
Фейдиппид опять погружается в сон, а Стрепсиад вываливается из-под портика и стучится в дверь Сократова дома.
Оттуда раздается голос:
– Кто?
Это – один из учеников мудреца. Из его ответов зрителям становится известно, чему обучает Сократ. Оказывается, сущим пустякам: подопечные его рассуждают о прыжках блохи, о комарином писке, точнее, чем он осуществляется: хоботком или задницей.
Сама по себе раскрывается дверь Сократова дома – и Стрепсиад видит своих потенциальных соучеников. Все они все бледные, немощные, поскольку лишены дневного света, воздуха и движения.
На поднесенной ими карте Стрепсиад не может признать отмеченные кружком Афины: он не видит там судей, заполняющих не только здания присутственных мест, но и все пространство перед присутствиями. Зато старик мгновенно доверяется утверждению, что другой кружок карты действительно обозначает Спарту. Спарта кажется ему слишком близко расположенной от родного города.
– Нельзя ли каким-нибудь образом ее еще отодвинуть? – спрашивает он учеников, понимая безнадежность собственного предположения.
И вот, сквозь открытую дверь дома, взорам Стрепсиада предстает сам Сократ. Мудрец висит в корзине, взметнувшейся в воздух при помощи театрального журавля.
Пораженный, Стрепсиад интересуется, чем занят Сократ на немыслимой высоте?
Мудрец отвечает, что он размышляет о небесных светилах.
– Почему не здесь, на земле?
– Мысль, не соединенная с воздухом, не может проникнуть в тайны мира! – заявляет Сократ, на что Стрепсиаду остается только развести руками.
Мудрец мигом оказывается на земле, и зрители получают возможность удостовериться: перед ними на самом деле Сократ.
Надо сказать, что фигуры современников на орхестре не были для афинян в диковинку. В эти же праздники удалось насладиться лицезрением Сократа на сцене. Впрочем, как и его личным присутствием в зрительских рядах. Совсем недавно выступал он героем в комедии драматурга Амипсия, состязавшегося с Аристофаном и Кратином.
Впоследствии говорили, будто сам Сократ, добродушно относившийся к выходкам своего двойника на подмостках, в этот раз оторвался от зрительского места и простоял на ногах в продолжение всего представления, стремясь доказать, что ни малейшего отношения не имеет к своему подобию на сцене[37].
– Чего тебе надобно? – ставит вопрос Сократ на сцене.
Стрепсиад признается, что пришел учиться.
– Гм… Посмотрим…
Сократу надобно убедиться, готов ли Стрепсиад уверовать в новых богов, которым поклоняется сам мудрец. Новыми богами являются… облака! Они правят миром.
Убедив Стрепсиада, Сократ посвящает его в науку, молясь при этом эфиру и Облакам-богиням. Едва завершается эта церемония, как в ударах грома и вспышках молний раздается стройное пение. Затем появляются женские фигуры в раздуваемых воздухом белых одеяниях. Все они способны принимать разнообразные формы. Руки этих странных существ, ноги, волосы на головах, даже длинные носы, – все подвластно движению воздуха. Все готово улететь, раствориться. Все перемещается, колеблется, зыбится, постоянно меняется.
Это и есть облака. По ним комедия получила свое название.
Стрепсиаду отныне предстоит подчиняться новым для него богам, а еще – Вихру, который придает им движение. Облака научат Стрепсиада с пользой для себя истолковывать любые законы. Он станет самым могущественным среди всех людей.
– Но для этого необходимо пройти учебу, – говорит Сократ и уводит престарелого ученика к себе в дом.
Хор Облаков между тем приступает к исполнению парабазы, которая, к сожалению, никак не может быть в точности реконструирована, а дошедшая версия ее в тексте пьесы – авторская переделка из новой редакции. В ней звучат лишь укоры зрителям, не принявшим пьесы в ее первоначальном виде.
Однако вернемся к первому представлению.
После неведомой нам парабазы Сократ выходит из своего дома, где ему удалось приступить уже к обучению нового своего ученика. Он утверждает, что такого дурака ему еще никогда не приходилось в жизни встречать: Стрепсиад тут же забывает услышанное!
Бестолковому старику остается одно: уговорить Фейдиппида все-таки пойти в обучение к Сократу…
Для Фейдиппида обучение начинается с привычного для комедии состязания двух сторон, с так называемого агона. Из «мыслильни» Сократа выскакивают Справедливое и Ложное учения. Поскольку «учение» в древнегреческом языке обозначалось словом λόγος, существительным мужского рода, то воплощением их в данном случае выступают два ретивых молодца. Ругаясь изо всех сил, каждый из них старается привлечь Фейдиппида на свою сторону.
Благоразумный хор Облаков предлагает спорящим изложить свое credo поочередно.
Справедливое учение описывает прежнее эллинское воспитание, за которое само оно ратует. Тогда повсеместно в Элладе царила настоящая скромность. Чинно и тихо направлялись мальчишки в дома учителей, где обучались тому, что было завещано предками. Потому-то и выросли из них люди, ставшие героями Марафона, Саламина, Платей, защитившие родную землю. Если Фейдиппид пойдет в науку к Справедливому учению – он научится уважать своих родителей, постигнет глубину скромности, честности, станет избегать бестолковых сборищ, укрепит свое тело гимнастикой, а свой дух – всевозможными рассуждениями.
Ложное учение презирает подобные взгляды. Скромность и нравственная чистота никому не принесли еще пользы. Подчиняясь им, человек потерпит фиаско. Ему непременно следует быть увертливым, наглым, попирать и скромность, и благочестие.
Фейдиппид с готовностью поддается уговорам Ложного учения.
Из сократовской школы юноша возвращается во всеоружии дурной науки, однако Стрепсиад несказанно рад подобному превращению отпрыска. Он сразу же использует его науку в разговорах с кредиторами. Одному из них Стрепсиад задает вопрос: считает ли тот, что Зевс каждый раз поливает землю вновь созданной водою, либо же Громовержец использует для этого возвращенную с земли жидкость? Обескураженный кредитор не в состоянии ответить на подобную заумь. Да и не желает над ней раздумывать!
Стрепсиаду этого достаточно.
– Ах так! Но человек, не разбирающийся в небесных делах, – заявляет он, – не вправе претендовать на возвращение какого-либо долга!
Кредитор умоляет заплатить хотя бы проценты, а Стрепсиад удивляется:
– Это еще что такое?
Кредитор пытается объяснить:
– Нечто такое, что постоянно растет!
– Растет? Гм… А море, по-твоему, тоже растет?
– Нет, море не растет, – не понимая, к чему клонится дело, отвечает простодушный кредитор.
Стрепсиад машет руками:
– Ну, если море не растет, питаясь столькими реками, то как же могут расти какие-то жалкие деньги? Чушь! Убирайся живее!
Стрепсиад готов уже схватить в руки первый подвернувшийся предмет, чтобы прогнать назойливого посетителя…
Таким вот образом старик обретает возможность избавиться и от остальных кредиторов.
За всем этим наблюдает хор бесформенных Облаков. Облака предупреждают Стрепсиада, что он поступает несправедливо, что за все это придется расплачиваться. Стрепсиад отмахивается руками и ногами, но вскоре убеждается, что зарвался.
Некоторое время спустя, он выскакивает из своего дома со страшным визгом, призывая на помощь родственников и соседей. Он кричит, что его поколотил родной сын. Они, мол, повздорили за обедом, рассуждая… о поэзии! Он, отец, отстаивал давнее стихосложение, расхваливал Эсхила и Симонида, писавших хоровые песни, тогда как Фейдиппид ратовал за поэзию Еврипида.
Фейдиппид, выскочив из дома вслед за отцом, оправдывает себя тем, что имел полное основание задать отцу трепку, поскольку тот совсем потерял здравое рассуждение. Ведь никто же не станет оспаривать родительское право физически воздействовать на собственного ребенка, желая ему добра? А старики становятся вдвойне детьми. Значит, их позволительно бить с двойным усердием.
Стрепсиад пытается взять верх над сыном:
– Отец имеет право наказывать собственного сына, а сын будет наказывать уже своего сына!
– Как бы не так! – ухмыляется Фейдиппид. – А если у сына не будет своего сына? Значит, он так и умрет в дураках? Зачем же терпел он побои в своем малолетстве?
Окончательно побежденный, Стрепсиад обращается к хору. Он упрекает Облака, жалуется, что понапрасну полагался на их помощь. Но предводительница хора не принимает упреков, считая, что Стрепсиад все-таки поступал несправедливо.
Стрепсиад еще упирается: почему же хор не осадил его своевременно?
Ответ достаточно прост: Облака отстраняются от людей, склонных к дурному поведению. Пускай люди сами поймут, что поступают несправедливо.
Осознав, наконец, свою ошибку при направлении сына в науку к Сократу, Стрепсиад решает отомстить софистам, олицетворением которых служит все тот же Сократ. Стрепсиад велит своему слуге разрушить маленькую мыслильню Сократа, а сам берет в руки горящий факел и взбирается на крышу Сократова дома…
Как ни хохотали в тот день афинские зрители, во все глаза наблюдавшие за перипетиями на орхестре, как ни следили они за комической фигурой лысого и курносого толстяка Сократа, простоявшего в неподвижности весь спектакль, – а все же комедия «Облака» потерпела полный провал, не заняв ни первого, ни даже второго места. Быть может, на судей чересчур сильно подействовал вид живого Сократа. Быть может, им никак не хотелось обижать свою живую достопримечательность…
«Осы»
Читателю, разумеется, помнится, как афиняне хохотали над Стрепсиадом, не верившим, что на карте, поднесенной в школе Сократа, действительно обозначены Афины: старик не увидел там судей!
Подобный пассаж означал, что данная тема волнует поэта. С другой стороны – что она воистину актуальна для всего государства.
Не заметить судей в Афинах мог разве что совершенно слепой человек. Их водилось в достатке еще при Солоне, когда знаменитый реформатор учредил так называемую гелиею, суд присяжных заседателей. Свое название учреждение получило по городской площади, носившей имя бога солнца Гелиоса, насквозь пропитанной его горячими лучами. Отсюда – за судьями закрепилось название гелиасты[38].
В бытность Солона, пожалуй, гелиасты решали совсем незначительные да и немногочисленные дела, но со временем компетенция их расширилась, количество возросло до 6 000: по 600 взрослых мужчин, достигших 30-летнего возраста, от каждой из 10 фил, установленных еще реформатором Клисфеном. Юрисдикция судов сделалась настолько обширной, что они могли опротестовать любое решение народного собрания, Государственного Совета или самых высоких должностных лиц.
Народные суды, как бы сам народ, верховодили в государстве, и это считалось проявлением истинной демократии. Однако судьи имели довольно смутное представление о законах, руководствовались скорее инстинктивными понятиями о правде и справедливости. Гелиасты составляли различные судейские корпуса, в большинстве случаев вынося вердикты под воздействием искусно построенной обвинительной или защитительной речи.
Первоначально гелиасты исполняли свои обязанности совершенно безвозмездно, но со времени Периклова правления за присутствие в общественных местах в качестве судьи была введена небольшая плата в размере одного обола, увеличенная затем в два раза. Надо сразу сказать, что деньги эти расходовались не зря. Присяжные судьи с огромным рвением относились к своим обязанностям. Можно сказать, служили не за страх, а за совесть.
Заседать в судах было к тому же безумно интересно. Перед судьями люди обнажали свои судьбы, собственное прошлое. Судья чувствовал себя на стремнине жизненного потока. Это заменяло древним современные нам прессу, радио, телевидение, даже художественную л и т ерат у ру.
Томясь на горячей площади, где по-прежнему собирались суды, перебирая в уме судебные уложения и традиции, известные с древности, каждый заседавший ощущал себя чиновником, государственным деятелем, вершителем многочисленных судеб. Особенно важно было это для самоутверждения людей малоимущих, безынициативных, рутинных, не отваживавшихся на рискованные занятия – вроде торговли, коммерции, воинских занятий и тому подобного.
С началом Пелопоннесской войны дело только усугубилось. Молодые и здоровые мужики стали отправляться в походы, погибали в сражениях, от чумы и прочего. Роль присяжных судей поэтому стали возлагать на плечи старшего поколения, стариков и инвалидов. Такому положению вещей способствовало и то, что масса деревенского населения, перед тем обходившаяся безо всякого участия в судах и даже в народных собраниях, вынуждена была оставлять насиженные места, укрываться в Афинах. Многие из деревенских жителей частично, а то и полностью лишались источников дохода, оттого и устремлялись в суды. Ко всему прочему, плата, получаемая там, стала для них единственным источником существования. Важным явилось и то, что демагог Клеон, будучи фактическим правителем государства, повысил оплату за судейство с двух оболов до трех. Конечно, все это усиливало демократические основы государства, привлекало к управлению массы простых обывателей, однако не приветствовалось аристократическими слоями. Аристократам казалось, что решать судебные дела, а, значит, и управлять государством, должны благородные, богатые люди, известные своей достойной жизнью и такой же жизнью всех своих предков.
Конечно, подобное положение вещей не могло пройти мимо внимания Аристофана, потерпевшего к тому же поражение в состязаниях драматургов в 423 году. Свою новую комедию он представил на Ленеях 422 года, опять от чужого имени – от имени актера Филонида.
Это был, оказалось, последний год правления неугомонного Клеона. До его гибели оставались считанные месяцы, но Аристофану, естественно, не дано было этого знать. Власть демагога пока что только усиливалась, а надеяться на защиту всадников после нашумевшего представления «Облаков» – также не было оснований: очень уж неприглядным казался выведенный там кавалерист Фейдиппид, колотивший своего родного отца, готовый поступать таким же образом с матерью. Да и вообще способный любое неправое дело выставить вполне законным.
Но таков уж характер был у бескомпромиссного Аристофана. Он не мог безучастно взирать на то, как демагоги пользуются завоеваниями демократии. У него просто чесались руки. Ему хотелось представить все это в картинах и образах.
Действие новой комедии, как и в «Облаках», начинается снова перед рассветом. (Так и хочется думать, что автор нарочито выбирает столь раннее время, чтобы вместить в световой сценический день как можно больше различных событий).
Зрители увидели просторный дом, окруженный почему-то сеткой, словно это жилище гигантских пауков. У многих людей уже вырвались крики, предвосхищающие выход пауков и различного рода забавных существ, обусловленных этим выходом, – да не тут-то было! Перед входом в дом зашевелились две рабские тени, вооруженные крепкими палицами. Рабы не обнаруживали никакой тревоги по поводу натянутой сетки. Не действовала она и на третьего человека, пока что храпевшего в сумерках на крыше дома.
Но вот один из рабов, зевнув и оттянувшись при этом с хорошо различимым хрустом костей, замечает, что на него устремлены тысячи зрительских глаз. У раба появляется желание рассказать незнакомым зевакам, чтó бы все это могло означать. Зрители сейчас увидят пьесу, признается он, какой еще никогда не видели. В ней не найдется места для грубых розыгрышей. Не будет дежурных шутов, вроде Еврипида или Сократа. Не будет обжоры Геракла, не будет Клеона (зачем его задевать?). Это будет вполне серьезная комедия.
Зрители тут же узнают, что самого раба зовут Ксанфием, что он поставлен здесь вместе с товарищем по имени Сосий. А поставили их сторожить своего господина по имени Филоклеон.
Едва только Ксанфий произносит это имя, как в амфитеатре раздается громовой хохот. Во как! Не будет Клеона, торчащего в первом ряду, у самой орхестры, не будет говориться о нем прямо в лоб, – так опять придумано какое-то ехидство, позволяющее зацепить его. Ох, и пройдоха этот Аристофан, укрывшийся теперь за спиной Филонида. Ведь Филоклеон – это просто-напросто «поклонник, любитель Клеона»!
А посажен старик под стражу, продолжает Ксанфий, по приказу своего сына Бделиоклеона, который сейчас почивает на крыше.
– Бделиоклеон? О боги!
– Бделиоклеон!
– Вы слышите, граждане? Бделиоклеон!
– Надо же до такого додуматься!
Заслышав это имя, зрители заливаются еще большим хохотом. Да, опять достанется нахалу Клеону, который тщетно пытается казаться невозмутимым весельчаком и вместе со всеми хохочет и хлопает в ладони. Бделиоклеон – значит «ненавистник Клеона»! Вот тут-то оно и завяжется…
Старый Филоклеон страдает страшной болезнью, признается все тот же словоохотливый Ксанфий. По причине болезни и пришлось обвести весь этот дом непроницаемой сеткой. И что это за болезнь – никто из зрителей ни за что не догадается, подзадоривает людей Ксанфий.
То ли предполагая возможные ответы, то ли угадывая их по движению губ якобы кричащих зрителей, Ксанфий живо парирует:
– Нет! Не то! Не то! И опять не то! Нет!
Старый хозяин, заявляет раб, болен ге-ли-а-стической болезнью. Он постоянно кричит, что он – гелиаст. Ему надлежит немедленно отправляться в суд, решать там важнейшие государственные дела. Ночами старик не спит, все время дожидается крика петуха, чтобы отправляться в «присутствие», на площадь Гелиею. Больному постоянно чудится, будто петух нарочито тянет со своим кукареканьем, будучи подученным злоумышленниками, которым всячески хочется избежать суда и строгого наказания.
Сын запретил отцу оставлять свой дом, но разве такого нетерпеливого остановишь запретами? Старик вылезает через слуховое окно на чердаке. Он выскальзывает в отверстие в полу, предназначенное для стока воды. В доме по этой причине заколочены все окна и прочие всевозможные отверстия, кроме вот этих входных дверей, – а ничто не может помочь.
Со страстью старика не в силах справиться даже боги. Сын отвез родителя в храм бога врачевания Асклепия, оставил там на всю ночь, чтобы бог, явившись во сне, исцелил недужного. Но куда там! Прочие больные, а их там сотни, запертые в помещении, уснули на полу, дожидаясь высочайшей божьей милости, а Филоклеон сиганул в окно в храмовой крыше…
– Вот и приходится держать его под сеткой. Как редкую птицу!
Как бы в подтверждение этих слов, спавший на крыше молодой Бделиоклеон приказывает рабам немедленно заглянуть в печку. И не напрасно. Старик уже снова пытался было выбраться из дома по дымоходу. Не успевают рабы водворить его на место, как он едва не вырывается в дверь, которая снаружи подперта кольями.
Неудавшийся маневр нисколько не смущает старика Филоклеона. Он кричит, что ему срочно надобно продать дряхлого осла. Сейчас он его выпустит.
Осел в самом деле показывается в воротах. Но что это? Уж больно тяжело передвигается бессильное старое животное. Бдительные рабы без особого труда обнаруживают старика, «присосавшегося» к ослиному брюху, подобно Одиссею, которому таким образом удалось ускользнуть от ослепленного им киклопа Полифема.
Едва лишь рабы заталкивают старика обратно в дом, они еще возятся с тяжелой наружной дверью, заново подпирая ее еще более мощными кольями, – а старик уже на крыше дома. Он машет руками, подпрыгивает и пытается взлететь. Его тело так здорово трепыхается в воздухе, что зрителям воистину верится: он бы в самом деле вспарил, не будь этой сетки!
К дому, между тем, приближается хор стариков-гелиастов, товарищей Филоклеона по его ежедневным занятиям. Вид стариков вызывает утробный хохот публики. Они одеты… осами! За спиной у них – длинное жало. В руках у каждого – тяжелые посохи.
Старики действительно напоминают собою гигантских насекомых. Стóит таким существам вцепиться в жертву – и они не отстанут, пока не накажут.
Осы-гелиасты – живые земные люди, каждый день наполняющие городские улицы. Они продвигаются в сопровождении мальчишек с зажженными фонарями. Мальчишки следуют чинно, обреченно, понимая, что участвуют как бы в священнодействии. Отцы их и деды направляются на работу, плата за которую обеспечит семье дневное пропитание. Один из мальчишек с тревогой в голосе спрашивает отца, как им жить дальше, если заседание судов вдруг окажется упраздненным? Отец – в полном замешательстве. Этот коротенький диалог настолько понятен большинству зрителей, что смех в амфитеатре теряет свою монолитную крепость и взрывается лишь временами, то в одном, то в другом месте.
Шум приблизившейся толпы привлекает внимание Филоклеона. Старик опять появляется в слуховом окне. Но гелиасты напрасно зовут его. Перебирая сетку руками, старик вопит, что сын не позволяет ему выходить за пределы дома.
– Я теперь в настоящей неволе, братья!
– Что это?
– Как можно?
Возмущенный хор стариков квалифицирует подобные действия как попрание всех человеческих прав. Филоклеон, ободренный криками сообщников, перегрызает зубами сеть и уже начинает спускаться по ее извивам к своим товарищам, но тут опять просыпается его сын. Он бесцеремонно водворяет старика назад в дом.
Что тут начинается! Старики срывают с себя плащи, напрягают жала. Они готовы к сражению. Они посылают мальчишек за самим Клеоном (вот оно!), чтобы демагог, всеми силами поддерживающий народные суды, увеличивший плату судьям, явился сюда лично и поставил на место зарвавшегося Бделиоклеона.
Бделиоклеон и Филоклеон выходят из дома. Филоклеона с обеих сторон удерживают напряженные рабы. Бделиоклеон напрямик заявляет хору, что больше он никогда не выпустит родителя. Хватит старику заниматься доносами, разбирать пустые жалобы.
В ответ на это хор, подстрекаемый Филоклеоном, готов растерзать его сына, но тому спешно удается затолкать родителя обратно в дом. Вместе с рабами он противостоит разъяренной стариковской толпе. Один раб орудует палицей, а другой окуривает нападающих дымом от факела, действуя наподобие заядлого пчеловода.
Бделиоклеон не согласен с обвинениями в тирании. Он еще раз повторяет, что не отпустит отца, но пытается убедить его в бесполезности подобных занятий и в правильности собственных умозаключений.
Агон начинается между отцом и сыном. Бделиоклеон клянется, что заколет себя мечом, если окажется побежденным в споре. Хор же поддерживает старика, принимается расписывать жизнь гелиастов.
Гелиаст – это выше любого царского звания. Он еще нежится по утрам в постели, а его уже дожидаются в судилище. Причем, кто дожидается? Самые важные в государстве люди. Они умоляют его быть снисходительней к ним. Все их богатство ничего не значит против власти гелиаста.
А что уж говорить о бедняках и нищих! На какие только ухищрения не идут несчастные люди, только бы разжалобить судей. Просители приводят в суд своих маленьких детей, доставляют родственников-калек. Они страшат и смешат своими рассказами. Они всячески ублажают судей…
А каким героем, кормильцем, защитником и благодетелем чувствует себя гелиаст, возвращаясь вечером с честно заработанными оболами, ввиду неимения кошелька сунутыми обычно за щеку! Как ласково встречают его у порога дети! Какие умильные слова говорит гелиасту супруга, хватая из рук его деньги, за которые можно купить хорошие угощения!
Да, власть гелиаста повыше власти даже Громовержца Зевса!
Хор остается довольным великолепной речью своего проверенного товарища.
Но на самом деле, и это понимают все зрители, речь Филоклеона показывает призрачность роли гелиастов, так что Бделиоклену и не надо особо напрягаться при ее опровержении. Он предлагает отцу подсчитать государственные доходы. Их сумма равняется двум тысячам талантов в год. А шесть тысяч гелиастов получают в общей сложности 150 талантов!
– Это же меньше десятой части государственных доходов… Куда идет остальное?
– Остальное… Присваивают себе демагоги и их приспешники!
Аргументы Бделиоклеона действуют скорее на хор, нежели на Филоклеона. Хор неожиданно присоединяется к просьбе сына и уговаривает старика отказаться от хождения в суды. Но Филоклеон признается, что он уже не в силах справиться со своей страстью. Он не может жить без судебных прений. Ему хочется судить, судить, судить…
Бделиоклеона осеняет великолепная идея: заниматься судейством можно и дома. К примеру – судить рабов. Дома позволительно судить без спешки. Устанешь – ложись, отдохни. Попей вина, сидя в тени оливы. Разве на раскаленной зноем городской площади позволительно мечтать о чем-то подобном?
Филоклеон в конце концов вынужден согласиться.
И вот начинается самая комедийная часть представления. Собственно, ей и отведена вся вторая половина спектакля. Филоклеон с рабами готовит всё необходимое для судебного заседания. В первую очередь – это клетка с петухом, который своим пением должен будить судью по утрам. Затем – аксессуары судейского стола, изображение древнего аттического божества Лика в виде волка (первейший атрибут). Затем – глиняные кружки, долженствующие заменить применяемые в судах урны, куда бросают черные (обвинительные) и белые (оправдательные) камешки.
Рабы тем временем вносят жаровню, на которой можно подогреть похлебку, поджарить рыбу. Одним словом – все готово для проведения суда в домашних условиях.
– А кого судить? – потирает от нетерпения руки Филоклеон. – Ведите виновных! Да поживее!
Ответ у сына готов. Сейчас, сейчас появятся истец и ответчик. А пока что надо совершить жертвоприношение.
И, в самом деле, получается именно так. Как только завершаются все прочие приготовления, как только Филоклеон усаживается за стол, чувствуя себя несколько неудобно в одиночестве и без шумной компании своих горластых товарищей, – перед ним появляется истец. Это – пес из Кидафинского дема. Разумеется, пса изображает актер в собачьей маске, но вид ее… Это же…
Страшно сказать…
Пес подает судье иск на другого пса по имени Лабет (что значит «Хапуга»). Пес Лабет стащил на кухне кусок сицилийского сыра и, уединившись, сожрал его.
При виде ответчика Филоклеон кричит:
– Лабет? Какой это в черта Лабет? Да это же настоящий Лахет!
Надо заметить, что при одном упоминании о Кидафинском деме сидевшие близко к орхестре зрители насторожились, а когда увидели собачью маску истца – расхохотались, догадываясь, чем все это может обернуться.
– Ну-у-у!
– Сказано – Аристофан!
– Он всегда себя покажет!
Так и получилось.
Истец, выходит, это Клеон. А Лабет – полководец Лахет, против которого настоящий Клеон действительно выдвигал иск несколько лет тому назад, обвиняя его в утайке государственных денег!
Зрительский смех не знает успокоения. Он закипает еще сильнее, когда истец говорит о том, будто пес Лабет не поделился с ним сыром.
– Го-го!
– Да, конечно… Клеон…
Бделиоклеон начинает защищать пса Лабета, которому приходится постоянно рыскать по Аттике, тогда как его обвинитель из Кидафинского дема (то есть Клеон) лежит постоянно дома. Он требует себе часть добычи, а кто не дает, того кусает.
– Го-го!
– Клеон… Он такой…
Филоклеон и после этого не намерен оправдывать подсудимого, однако поступает именно так, будучи обманутым своим сыном.
Ошибка приводит старика в отчаянье. Теперь он понял свои заблуждения! Теперь убедился, как его обманывают на Гелилее.
Сын обещает устроить отцу вполне достойную, счастливую жизнь. Они станут ходить вдвоем в гости, на симпозиумы (пиры), на празднества, посещать различные зрелища. Все перечисленное излечит старика окончательно. Его не будут больше обманывать.
Сын уводит отца в дом.
После парабазы, в которой поэт устами корифея разъясняет свои замыслы, дает характеристику Клеону, положительно отзывается об «осах», старожилах Аттики, оказавших отпор врагам, а также упрекает зрителей за то, что они не поддержали его после постановки «Облаков» – Бделиоклеон выводит старика из дома. Отец и сын готовы отправиться на пирушку, но сыну с трудом удается заставить отца переодеться в подходящий наряд. Более того, он старается изложить родителю правила хорошего тона и учит его благородным манерам.
Что ж, наконец-то все преодолено. В сопровождении раба Ксанфия, несущего съестные припасы (без них афиняне в гости не ходили) – отец с сыном отправляются со двора. Хор между тем продолжает парабазу.
Но парабаза длится недолго. Вбежавший на орхестру раб Ксанфий со стонами и криками рассказывает, как неучтиво повел себя старик в гостях. Напившись допьяна, он стал прыгать, драться, оскорблять гостей, до крови избил его, Ксанфия.
Действительно, явившийся вслед за этим Филоклеон – безобразно пьян. В одной руке старика зажат дымящийся факел, другой он тащит за собой упирающуюся флейтистку, уведенную из чужого дома. Оскорбленные люди, спешащие за ним вместе с сыном Бделиоклеоном, хотят увести старика прямо в суд, да не тут-то было: он прогоняет их всех, при этом страшно ругаясь.
Бделиоклеон с трудом запирает отца в домашних стенах, однако тому еще раз удается каким-то невероятным образом вырваться наружу. Старик появляется на орхестре в образе киклопа Полифема. Он исполняет бесшабашный пьяный танец.
Хору остается только удалиться, утверждая, что никто еще в афинском театре не сопровождал танцами комедийный хор.
«Мир»
Можно было подумать, что после столь громкого осмеяния всесильного демагога, какому он подвергся в комедии «Всадники», – Клеон либо предпримет самые решительные контрмеры, добьется осуждения насмешника, изгонит его как клеветника, либо же прибегнет к старинному способу отмщения, наказания и даже устранения путем загадочного убийства. Но ничего такого не произошло. Осмеяние всего ненавистного было законной нормой для афинской публики. Порицанию, к тому же, если даже не осмеянию, в данном случае подвергся чуть ли не весь афинский народ. Кого винить? Клеону оставалось, пожалуй, зажать в кулаке свое самолюбие, гордость и затаиться, быть может, до лучших времен.
Скорее всего, так оно и произошло. Демагогу просто некогда было задумываться над этой пьесой, будучи поглощенным государственными делами. Пуще прежнего настаивал он на продолжении войны до победного конца. Количество его сторонников в государстве явно превосходило количество противников войны. За войну стояли преимущественно владельцы крупных эргастериев (мастерских), богатые торговцы, судовладельцы, которые получали прямую выгоду от того, что сфера влияния Афин в результате войны постоянно расширялась. Расширение этой сферы было также в интересах ремесленников, простых моряков, прочего свободно-неимущего люда. Против войны выступали лишь те, кто так или иначе был связан с сельским хозяйством, чье состояние терпело прямой урон от регулярного вторжения хищных спартанцев.
Однако обстановка в Афинах вскоре переменилась, и число сторонников мира значительно возросло. После постановки пьесы «Всадники», вопреки, казалось бы, здравой логике, война разгорелась с новой силой. Спартанские пленники превратились в разменную монету. Спартанские вожди снова стали настаивать на немедленном заключении мира, но Афины отвергали все их условия, надеясь на что-то гораздо большее. Афинянам удалось даже кое-чего добиться: они оккупировали всю Киферу, захватили мегарскую гавань Нисею, что объявлялось лишь незначительной частью задуманного ими пространного плана нападения на неприятеля с различных направлений.
Однако афиняне, вздумав покорить всю Беотию, потерпели поражение от фиванцев. Это случилось в том же 424 году при городе Делия. Еще большее разочарование поджидало во Фракии, где им долго противостоял талантливый спартанский полководец Брасид. Отправившись из Пелопоннеса с небольшим отрядом пеших воинов, Брасид прошел враждебную спартанцам Фессалию и оружием и метким красноречием начал склонять на свою сторону жителей фракийских городов, заложенных некогда Афинами. Он обещал им полное освобождение от афинского господства. Брасиду удалось захватить Амфиполь, основанной афинянами колонии, что было расценено последними как величайшая потеря: оттуда поступал лес для строительства триер, основы морского могущества.
Спартанское правительство, подчиняясь новым обстоятельствам, возобновило свои устремления. Перемирие было заключено на год, что не означало, однако, прекращения боевых действий во Фракии. А как только этот, вроде бы мирный, год истек, то во главе афинского войска к Амфиполю явился сам Клеон. Брасид по-прежнему не дремал. Он напал на Клеона во время его разведывательных мероприятий. Клеон погиб, но смертельную рану получил при этом и сам Брасид.
Гибель обоих полководцев, демонов всеобщей войны, обнадежила сторонников мира. В Афинах поднял голову Никий, вождь правого крыла демократов, ярый враг Клеона. Спарта же стремилась к миру в первую очередь ради освобождения своих заложников. Стоял за мир и спартанский царь Плейстонакт. К тому же в Спарте опасались потери союзника в лице воинственного Аргоса.
И вот в это самое время в Афинах готовилась к постановке новая комедия Аристофана…
В этот раз афинские зрители увидели перед собой дом своего земляка Тригея (от древнегреческого глагола ϑρυγᾶν – собирать). Строение занимало правую часть обширной сцены. На левой стороне ее возносился дворец Зевса на заоблачном Олимпе, а серединная часть представляла собою вход в какую-то пещеру, заваленный к тому же мощными замшелыми камнями. Да, еще рядом с домом Тригея торчал какой-то сарай.
Первым делом зрители заметили на орхестре двух рабов, занятых напряженным трудом. Один из них месил в корыте навоз, а другой готовил из него лепешки и неустанно таскал их зачем-то в сарай. Оказывается, рабы откармливали внутри него огромного жука, на котором их господин Тригей собирался улететь на Олимп, потолковать там… с Зевсом! Жук издавал мощное жужжание, вздымал огромные крылья, всем своим видом демонстрируя готовность взмыть в манящую глаз синеву.
И вот уже этот жук достигает потребных кондиций. Рабы выволакивают его из хлева. Довольный, господин Тригей усаживается на жука верхом, как на природного коня. Известный читателю театральный журавль поднимает Тригея вместе с жуком в воздух, выше и выше. Рабы кричат, прыгают от восторга. Из дома выскакивают дочки этого первого космонавта. Они – в ужасе. Тригей обещает детям возвратиться без малейшей задержки, и дочки умоляют отца быть осторожным в небе, не соскользнуть нечаянно вниз, не охрометь при падении, не стать героем очередной комедии.
Тригей, признаться, и сам уже перепуган быстрым движением в воздухе. Он смотрит вниз и кричит человеку, управляющему журавлем, чтобы тот не угробил его.
Поболтавшись какое-то время в воздухе, под восхищенные крики публики, Тригей опускается вроде бы назад на орхестру, но на самом деле вовсе уже не на землю, а на… заоблачный Олимп! Изумленный, он тут же оказывается перед дворцом Зевса.
Спешившись с жука, посланец земли пребывает в замешательстве. С чего начинать визит к Громовержцу? Как войти к нему во дворец? Не полыхнет ли оттуда яркая молния?
Но что это? Показавшийся из дворца бог Гермес в крылатых сандалиях кричит, что богов сейчас на Олимпе нету, да и не скоро они здесь появятся. Они разозлились на людей, не желающих заключать мирного договора. Боги переселились в более высокое место на небе. В этом же дворце обитает сейчас бог войны Полемос, которому дано право делать с людьми, что только заблагорассудится. Богиню Мира кровожадный Полемос заточил вот в этот сарай, в глубокий погреб, в темную пещеру. Он же, Гермес, оставлен здесь в качестве сторожа, чтобы стеречь барахлишко разных там небожителей: горшки, черепки.
И действительно. В подтверждение этих слов на орхестру из Зевсова дворца вываливается гремящее доспехами огромное существо. Это и есть бог Полемос. Тригей поначалу в ужасе прячется, но вскоре несколько успокаивается: в руках у Полемоса вовсе не оружие, а ступа, в которой он по привычке собирается толочь человеческие кости. Вот только чем толочь? Полемос нетерпеливо взмахивает верхнею конечностью, этакой ручищей с пальцами-поленьями, но явившийся на зов вертлявый слуга сообщает, что сегодня насчет военного дела ничего не получится. Нет ни афинского, ни спартанского пестиков.
Конечно, зрители сразу понимают, чтó за пестики имеются в виду – Клеон и Брасид, уничтожители людей, теперь уже оба покойные.
Раздосадованный Полемос отправляется искать новый пестик, а Тригей, воспользовавшись его отсутствием, решает освободить богиню Мира. Он скликает присутствующих земледельцев, купцов, ремесленников, метеков (чужеземцев), островитян. Всех, всех.
В ответ на призывы Тригея орхестру заполняет хор крестьян, а также другие люди со всех концов Эллады. Корифей хора обращается к ним с призывом позабыть о вражде и освободить богиню Мира. Радуясь предстоящему окончанию войны, призывая себя и всех к решительным действиям, хор пускается в веселую пляску.
Когда стихает веселье – люди на орхестре припадают к длиннющему канату, чтобы общими усилиями отвалить от пещеры камень, за которым томится богиня. Однако, оказывается, не все стараются в достаточной степени. Аргосцы не напрягаются вовсе. Они привыкли кормиться хлебом с двух столов, со спартанского и с афинского.
Услышав эти слова, зрители смеются. Известно и малому ребенку, как аргосцы пользуются выгодным месторасположением своего государства.
Не помогают освобождению богини и обессиленные мегарцы.
Корифей хора, человек могучего телосложения, в коротком гиматии и с длиннющим фаллосом, как уж водится в комедиях, призывает к канату одних земледельцев: им более всех по нутру желанный мир. Под пение хора людям удается справиться с тяжеленным камнем.
Из пещеры выходит сверкающая красотой и счастьем богиня Мира, а с нею – две прекрасные нимфы. Одна из этих божественных девушек, по имени Опора, предназначена в жены Тригею, а другая, Феора, отвечает за зрелища для народа. Ее надо будет передать в Афинах в распоряжение городского Совета.
При виде таких прекрасных существ Тригей передается сладостным воспоминаниям о деревенской жизни. Что может быть приятней! Перед тобою длиннющий ряд расписных сосудов со свежим искрящимся вином. Вот хлещут струи виноградного сока, сверкают комочки новорожденных ягнят. Вот мелькают веселые женские лица, осыпанные золотистым солнечным светом! Благодать.
И тут же Тригей призывает бога Гермеса взглянуть на зрителей. Ой-ой-ой, как много там недовольных лиц. Это те люди, кому неплохо живется во время войны. Это ремесленники, оружейники, изготовляющие мечи, копья, панцири, поножи. Изделия их поднимаются в цене при звучании воинских труб.
Тригей обращается с просьбой к земледельцам, которых в амфитеатре абсолютное большинство, чтобы они поскорее отправлялись в зеленые поля. Его поддерживает корифей хора.
Выстроив сценических земледельцев в плотные колонны, напоминающие собой ряды зеленых всходов, Тригей начинает с ними молиться богам. Звучит хвалебный гимн в честь богини Мира.
– Какую радость доставляет нам твой приход, о, возлюбленная богиня! – захлебываются в восторге люди на сцене.
Корифей интересуется у Гермеса, почему так долго отсутствовала на земле богиня Мира, и бог с удовольствием дает пространное разъяснение, развивая мысли, известные зрителям уже по виденной ими комедии «Ахарняне». Перикл, потеряв в старости осмотрительность и осторожность, довел отношения между Афинами и Спартой до братоубийственной войны. Вражду эту поддержали знатные эллины, кому она выгодна, как среди афинян, так и среди спартанцев. Особенно ненавистную роль при этом сыграли демагоги. А пуще всего – Клеон.
Едва только бог произносит это имя – Тригей умоляет не повторять его больше, чтобы не вызвать тень Клеона из подземного царства.
В компании двух красавиц нимф, Тригей покидает орхестру. Он усаживается с ними на жука, чтобы спуститься на землю.
Пока совершается это новое путешествие – на орхестре начинается парабаза, в которой хор говорит о значении комедий Аристофана. Не довольствуясь ничтожными сюжетами, которые служат простому развлечению, поэт поднимает свое искусство на очень значительную высоту. Аристофан не побоялся вступить в борьбу с бесчестными демагогами, вроде Клеона…
И вот уже перед зрителями предстает Тригей, возвратившийся опять на землю. Радостными криками встречают его дочери, суетятся и мельтешат рабы. Путешественник утирает лицо от пота, почесывает похолодевшую и взмокревшую от пота спину и восхищенно покачивает головой. Нелегко человеку вырваться в небо, но еще труднее возвратиться оттуда назад!
Но воспоминания воспоминаниями, а дело не ждет.
Рядом с Тригеем – две небесные красавицы. Одну, как и велено на Олимпе, он подводит за руку к первому зрительскому ряду, где восседают члены афинского Государственного Совета, усаживает ее между ними. Девице надлежит отныне заботиться о зрелищах для народа, в том числе – о театре. А другую красавицу, Опору, служанки уводят в дом, чтобы подготовить к свадьбе. Свадьба, по указанию того же Олимпа, должна состояться сегодня.
Начинаются жертвоприношения. Пахнет вкусными дымками. Предстоящим свадебным торжествам не в силах помешать даже не заинтересованный в ней обжора-жрец. Тригей прогоняет его при поддержке многочисленных помощников.
Наступает такой желанный для всех землян мир, в ожидании которого находятся все присутствующие зрители и все жители афинского государства, как в амфитеатре, так и на орхестре. Но в амфитеатре еще только предчувствуют мирное время, а на орхестре им уже наслаждаются.
Как бы там ни было, передышка в кровавой бойне, по утверждению историка Фукидида, наступила сразу после городских Дионисий. Передышка эта вошла в историю под названием Никиев мир, поскольку окончательную точку в переговорах поставил именно этот полководец. Как и большинство афинян, Никий всецело находился под обаянием комедии Аристофана.
Женщины против войны
Никиев мир, заключенный между Афинами и Спартой в 421 году до н. э., обещал спокойную жизнь на протяжении ближайших пятидесяти лет.
Вполне возможно, что многим веселящимся зрителям, которые попивали вино и стонали до боли в животе, вызванной увиденным на орхестре, – и в жизни казалось возможным все то, что было придумано поэтом и воплощено актерами, что развлекало и увлекало публику. Однако вскоре, взвешивая результаты заключенного мира, они убедились, насколько действительность и выдумка рознятся между собою.
Никиев мир оказался глиняным. Он констатировал лишь усталость обеих сторон, отражал всеобщее желание передохнуть, прийти в себя, оглядеться вокруг.
Никиев мир не решал даже самых наболевших вопросов, не говоря уж о том, что нисколько не устранял направления мыслей, которое установилось в Элладе. Этот мир не подсказывал, какой строй является предпочтительней, справедливей: демократический ли, установившийся в Афинах и во всем подвластном им лагере, либо же олигархический, культивируемый в Спарте и в союзных с ней государствах.
Мир, сказано, не решал и насущных вопросов. Афины так и не получили назад утраченный ими Амфиполь, в результате чего фракийские города не признавали их власти или хотя бы подобия протектората. Стало быть, затруднения с подвозом корабельного леса ничуть не устранялись. Это притом, что афиняне, уступая миротворцу Никию, отпустили всех знатных спартанских пленников.
Спартанцы, казалось бы, добились большего, нежели афиняне, однако и они не получили назад ни Пилоса, ни Киферы. В дополнение Аргос, вышедший из союза с воинственными спартанцами, примкнул к Афинам, как бы подтверждая высказывания аристофановских героев, что аргосцы любят кормиться одновременно с двух столов.
Как видим, мир зависел теперь от того, кто окажется у государственного руля как в Афинах, так и в Спарте. Надо сразу сказать, что новые спартанские эфоры, высшие должностные лица, в руках которых, а не в руках двух традиционных царей, находилась фактическая государственная власть, – восприняли новый мир как унижение для своей страны. Готовя ответные действия, они предварительно заключили мир с Фивами, чем возбудили подозрения в Афинах, а, значит, ослабили в них партию мира, выпестованную Никием. Это тоже не прошло бесследно.
Еще необходимо отметить, что в Афинах к тому времени набирала сил роковая в них личность – неуправляемый аристократ Алкивиад.
Алкивиад родился в 450 году до н. э. Он происходил из знатного рода Алкмеонидов. Рано осиротев, Алкивиад воспитывался в доме известного нам Перикла, будучи его близким родственником, и Перикл стал для него очень чутким опекуном.
Красивый, одаренный, самый богатый в Афинах, если не во всей Элладе, представитель так называемой золотой молодежи, – Алкивиад принадлежал к числу тех людей, которые окружали философа Сократа. Вместе с Сократом, своим духовным наставником, они оба принимали участие в сражениях, где не раз помогали друг другу избежать смертельной опасности.
При всем этом Алкивиад прослыл человеком крайне импульсивным, склонным к различного рода авантюрным выходкам. Говорили, будто в ранней юности, заметив озабоченность Перикла по поводу отчета перед народным собранием, Алкивиад посоветовал ему подумать лучше над тем, как вообще избежать необходимости перед кем-либо отчитываться.
И вот этот человек, едва достигший тридцатилетнего возраста, сразу после заключения Никиева мира, избирается стратегом, что, по тогдашним меркам, считалось как бы недопустимым. Новоиспеченному стратегу хотелось проявить себя в чем-то исключительно ярком, сразу бросающемся в глаза, и, оказалось, помешать этому не в силах был даже Никиев мир.
Несмотря на противодействия Никия, военные акции вскоре возобновились, хотя афиняне участвовали в них как-то скованно, нерешительно. В 418 году до н. э. дело дошло до кровавого сражения при Мантинее (город в Аркадии). Спартанский царь Агис нанес своим противникам основательное поражение. А составляли противостоящую ему коалицию аргосцы, мантинейцы, элидяне и афиняне. После такой знаменательной победы спартанцы быстро воспрянули духом, как бы забыв о своих неудачах при Сфактерии. Союзники же афинян начали от них отмежевываться.
Да и в самих Афинах после этого никак не могли определиться, чему отдавать предпочтение: поддерживать ли политику мира, все еще пестованную Никием, либо же политику войны, приятную эффектному Алкивиаду.
Все решилось вроде само по себе. К Афинам обратились за помощью сицилийские греки, жители тамошнего города Эгесты, которым угрожали Сиракузы, проводившие все более четко выраженную экспансионистскую политику. Алкивиад ухватился за выпавшую возможность со всей присущей ему горячностью.
Собственно, в таком предприятии и не усматривалось чего-то необычного. Афиняне всегда поддерживали контакты с так называемой Великой Грецией, то есть с греками, обитавшими на землях Южной Италии и на Сицилии. Во времена Перикла там была основана колония Фурии, куда не раз направлялся афинский флот с теми или иными целями. Однако на этот раз Алкивиад настраивал соотечественников на что-то более грандиозное, рисуя планы подчинения не только Сицилии, но и всего бассейна Средиземного моря после победы над Карфагеном, который располагался уже на северной оконечности Ливии, по-нашему – в Африке. Афиняне слушали Алкивиада с неописуемым интересом. На песке, который покрывал палестры (площадки для борьбы) – они прутиками рисовали направления предстоящих ударов и вылазок, а также громких побед. Судьба морского похода вскоре была решена бесповоротно.
Правда, к самому Алкивиаду у его соотечественников не было особого доверия. Вместе с ним решено было отправить двух проверенных стратегов, предоставив им неограниченную власть. Этими стратегами избрали известных нам Никия и Ламаха. В Никии афиняне ценили осторожность, взвешенность, в Ламахе – боевой опыт и полководческий дар, настоящий талант. Сочетание этих качеств с энергией, смелостью, просто с наглостью Алкивиада, были уверены все на Пниксе, – сулит большой успех.
Огромный флот, состоявший почти из 300 различных судов, снаряженный запасами хлеба, рабочим людом и материалами, необходимыми для осады, был готов к отправлению, как вдруг какие-то злоумышленники повредили гермы, каменные статуи бога Гермеса, покровителя купцов, путешественников, можно сказать – авантюристов и смельчаков. Подозрение пало на Алкивиада. Первоначально ему разрешили отправиться в поход, однако мнение Пникса, то есть народного собрания, вскоре переменилось: Алкивиаду велено было возвратиться и оправдываться перед судом. Поначалу он вроде бы подчинился, но по дороге бежал и, в конце концов, оказался среди спартанцев, где дал им ряд очень ценных советов, как навредить афинянам: первым делом надо оказать военную помощь обреченным Сиракузам.
Это означало начало крушения афинского государства. В результате боевых действий на Сицилии сухопутные и морские силы афинян потерпели грандиозное поражение. Рядовые воины попали в плен, а кто среди них уцелел, были отправлены в каменоломни. Полководец Ламах погиб в бою, а Никий и прибывший ему на помощь Демосфен (также знакомый нам полководец, герой комедии Аристофана) – оказались в плену и были затем казнены.
И внешняя, и внутренняя политика Афин пришла в еще более страшный упадок. Алкивиад добился установления дружественных отношений между спартанцами и персами, что повлекло перемены в политических пристрастиях многих эллинских государств. От ослабленных Афин отложились ионические города на малоазийском побережье, в том числе даже многострадальный Милет. Отпали и перешли в Пелопоннесский союз также острова Лесбос, Хиос. С трудом удалось удержать от подобного шага Самос.
Ко всему этому надо добавить, что бедствиями поникшей афинской державы не преминули воспользоваться спартанцы, подзадориваемые новыми советами Алкивиада, человека как взбалмошного, так и мстительного. По его совету спартанцы захватили в Аттике крепость Декелею, через которую афинянам было привычно и очень удобно осуществлять постоянную связь с Эвбеей. Крепость взял царь Агис, совершив туда экспедицию вместо практиковавшегося прежде традиционного опустошения местности, прилегающей к Афинам.
И все же, несмотря на поражения, афиняне собрались-таки с духом и силами. Они начали сокращать свои внутренние расходы, стали подумывать о том, как возродить государственную финансовую систему. Обзавелись корабельным лесом, чтобы строить новые суда.
Ради всего этого была создана чрезвычайная, уже упомянутая магистратура с целью предварительной подготовки важнейших дел перед их разбором в Совете (буле), а затем и в народном собрании. Этот необычный орган состоял из десяти пробулов (советников, точнее – предсоветников). В число их входили самые авторитетные в государстве люди. Попал в них, как помним, и поэт Софокл, вступивший к тому времени уже в свой девятый десяток.
Правда, ни для кого уже не являлось секретом, что в афинском государстве, оплоте демократии, вызревают мысли об отказе от демократического строя, что в нем создаются сообщества заговорщиков.
И вот в этот период Аристофан создает свою новую комедию, известную под названием «Лисистрата», которая была поставлена на Ленеях 411 года.
Мной уже говорилось об особой терпимости в демократическом государстве ко всему привычному там вольнодумству, но все же некоторая осторожность автора пьесы в данном произведении ощущается постоянно. К этому надо добавить, что в 414 году, когда афинские воины изнемогали в роковой для них военной экспедиции на Сицилию, в Афинах был принят закон Сиракозия, в силу которого комедиографам запрещалось выводить на сцену государственных лиц, разумеется – в неприглядном к тому же виде.
Действие новой пьесы начинается опять же ранним утром. Оно разворачивается перед воротами, ведущими на Акрополь, перед так называемыми Пропилеями, хорошо хорошо различимыми из театра, где давалось само представление. Вход этот – центральная часть сцены. Один из так называемых параскениев (составная часть сцены, о чем еще будет рассказано) по всей вероятности, представлял собой дом Лисистраты, второй – ее соседки Калоники.
Перед Пропилеями собираются женщины со всей Греции, не только афинянки. Всех их тайно созвала предприимчивая Лисистрата. Вовсю шустрят здесь афинянки Калоника и Миррина, красавица Лампито из Спарты. Есть также женщины из Аргоса, Беотии и прочих греческих мест.
Лисистрата, чье имя означает «Распускающая войска», изо всех сил старается убедить собравшихся в правильности задуманных ею планов. Это вполне удается. Женщины клянутся друг перед дружкой, что отныне они не станут ублажать ласками мужей и любовников, пока те не прекратят бессмысленную войну.
Что же, сказано – сделано. Уже к концу шумного и необычного сборища можно было говорить о результатах конкретных, выработанных женщинами планов. У заговорщиц были предельно просты: захватить высокий Акрополь, который находится где-то сразу за сценой, овладеть на нем храмом Афины, где хранится государственная казна. Женщины решают запереться, забаррикадироваться в крепости, исключая Лампито, которая отправляется в Спарту, чтобы приобщить к заговору всех энергичных спартанок, ибо женщины везде одинаково страдают от войны, развязанной бездумными мужчинами.
Едва только женщины скрываются за воротами Акрополя, едва только затихает визг и лязг тяжеленных засовов, как в ответ на скрип металла на орхестру вбегает хор растрепанных стариков, вернее, лишь одно его полухорие, состоящее из двенадцати человек. Старики представляют собою стражу, которой поручено охранять Акрополь, поскольку молодые и крепкие воины находятся сейчас в походах. Старики не смогли противостоять напору женщин, уступили вход в Акрополь. Однако намерены взять реванш. Они сваливают в кучу перед воротами принесенный с собою хворост и поджигают его. Огонь и дым заполняют орхестру. Старикам остается дождаться, когда женщины в слезах выскочат на вольный воздух.
И все же радость престарелой стражи оказывается непродолжительной. На орхестру вваливаются старухи с огромными кувшинами в руках. Пытаясь залить огонь, старухи вступают в схватку и добиваются своего: дым и огонь сникают, побежденные старики опускают руки.
Более того, старики вынуждены вообще ретироваться под улюлюканье своих сверстниц. На смену хилой страже появляется важный пробул, один из десяти чрезвычайных советников. Пробул направляется в Акрополь, но дорогу ему загораживают старухи. Возмущенный, государственный муж призывает стражников-скифов и приказывает им немедленно ломать ворота. Выскочившие из Акрополя женщины, во главе с Лисистратой, прогоняют и эту, скифскую, стражу.
Начинается агон Лисистраты с пробулом. Смелая женщина объявляет тупому и недалекому, оказывается, человеку, зачем она со своими подругами захватила сердце афинского государства. Женщины хотят оградить государственную казну от произвола мужчин, которые используют средства на бессмысленную бойню.
Пробул возражает:
– Да что до всего этого женщинам, которые никогда не воюют?
– Как бы не так! – парирует Лисистрата. – А кто родил этих воинов? Кто вырастил сыновей, а теперь должен оплакивать их, отправляя на войну?.. А каково женщинам оставаться дома, стариться в неизвестности? Куда ни шло еще пожилым бабам. А что говорить о незамужних красавицах, женихи которых гибнут в глупых сражениях?
– Так ведь и мужчины не избавлены от старости! – не сдается пробул.
– Нет! – возражает Лисистрата. – Мужская старость – совсем иное. Седой воин, возвратясь с войны, берет себе в жены прекрасную молодую девушку. А кому нужна перезревшая красотка?
Пробул пребывает в нерешительности и недоумении.
– И как же вы намерены поправить наши государственные дела? – спрашивает он.
Лисистрата объясняет:
– Надо поступать так, как поступаем мы, промывая нужную в хозяйстве шерсть. Надо удалить все негодное, оставив только подходящее. Во главе государства должны стоять честные, благородные люди. Надо изгнать из правительства всех корыстолюбцев, наживающихся на войне!
Пробул пытается еще возражать, но женщины его прогоняют, и он торопится с жалобой в Совет.
Парабаза в этой комедии заменена перебранкой стариков и старух. Лисистрата меж тем рассказывает корифейке женского полухория, как нелегко ей удерживать укрывающихся на Акрополе соратниц. Все они рвутся домой. У одной из них, дескать, много неотложных дел по хозяйству, упустить решение которых нельзя. У другой приблизились роды, и ей необходим теплый уголок. Третьей не уснуть между крепостными стенами, поскольку она заметила в храмовом подвале большую змею, посвященную богине.
Тут же зрители получают возможность увидеть результаты женского заговора. К Акрополю является муж афинянки Миррины. Он умоляет супругу возвратиться домой. Ради этого велел рабу принести их кроху сына, которого Миррина безмерно любит. Миррина ласкает ребенка, но все-таки побеждает свои колебания. Нет, нет, она возвращается назад на Акрополь.
Между тем приходит гонец из Спарты. Он измучен дальней дорогой, однако настойчиво пробивается к афинскому Совету. Повстречавшийся ему афинский притан интересуется, что слышно в Спарте, и гонец выплескивает короб малоприятных вестей. Плохо, очень плохо в спартанской столице. А все из-за неугомонной красавицы Лампито. Она подбивает спартанок не подпускать к себе мужей, пока те не заключат надежного мира. Она взбудоражила всю Спарту!
Притан с ужасом понимает, что женским заговором опутана уже вся Эллада. Гонец обязан немедленно возвратиться домой и убедить свое правительство в том, что оно должно-таки отрядить в Афины посольство с мирными предложениями. Он же, притан, со своей стороны предпримет такие же усилия по отношению к афинскому правительс т ву.
Притан удаляется через правый парод (проход), и это означает, что он действительно торопится в Государственный Совет, тогда как спартанский гонец удаляется через левый – перед ним длинный и ответственный путь на родину.
На орхестре между тем совершается примирение мужского и женского полухорий. Люди чувствуют возникшее в воздухе настроение мира и всеобщей любви. Старый предводитель мужского полухория растроган добротой предводительницы женского. Объединенный хор поет назидательно-примирительную песнь, обращенную к зрителям.
Пока все это происходит – на орхестре возникают запыленные спартанские послы. Спартанцы готовы заключить мир на любых условиях! Они не могут жить без женской любви и ласки.
На эти умилительные звуки из Акрополя торжественно выходит Лисистрата, а на ее радостные призывы появляется рядом с ней прекрасная нимфа Примирения. Собрав афинян и спартанцев, обе красавицы упрекают их в преступной взаимной вражде и напоминают о прежних совместных действиях и взаимопомощи.
Лисистрата приглашает враждующие стороны в Акрополь, где всех ожидает роскошный пир, после которого они обменяются торжественными клятвами в пользу мира.
Так и получается.
Пир понравился всем. Спартанцы получают своих жен, находившихся на Акрополе как бы в качестве заложниц. Лисистрата выстраивает афинян и спартанцев парами, муж и жена, муж и жена, – и на орхестре, под звуки флейты и пение хора, начинаются всеобщие пляски…
Театральное царство
Авторы, судьи, награды…
Театральное дело в Элладе осуществлялось в том порядке, который выработался уже к началу расцвета Эсхилова таланта. В Афинах оно находилось в ведении первого архонта. Он же являлся председателем коллегии из восьми своих сотоварищей и выступал среди них вроде нынешних президентов. По первому архонту, носившему звание эпоним (дающий имя), в Афинах назывался весь календарный год, начинавшийся обычно с июля.
Как только этот названный архонт усаживался в свое должностное кресло – тут же к нему, как мухи на мед, слеталась толпа драматургов. Негодуя, толкаясь и презирая друг друга, прижимали они к груди свои шелестящие свитки, надеясь на собственный грандиозный успех. Толпа претендентов, разумеется, состояла из людей различных способностей, а все же в ней, чуть ли не всегда, находились обладатели первоклассных талантов: если не Эсхил, так Софокл, Еврипид. А то и два гения вместе – скажем, Эсхил и Софокл. Правда, не было недостатка и в людях сомнительных литературных данных. Случались даже такие, которые вообще не обладали каким-либо писательским даром.
На свитках, зажатых в руках у поэтов, стояли красиво выведенные тексты, у каждого автора – не менее трех трагедий, вдобавок – по одной веселой, сатировой драме. Охотников предложить свои сочинения скоплялось довольно много, но отобрать предстояло лишь самых талантливых. Попасть в число достойных, в этакий вроде шорт-лист, говоря современным нам языком, – само по себе считалось успехом и сулило большую известность.
Если учесть, что во все времена у поэтов существовал обычай «оплевывать друг друга», что за спиной у многих явившихся стояли их почитатели, если добавить к ним покровителей, которым не обязательно было являться лично, но достаточно было прислать свои отзывы или иным каким-нибудь образом известить о том архонта-эпонима, – то этому должностному лицу было над чем поломать себе голову. Задача представлялась нешуточной: произведениям предстояло быть показанными всему афинскому народу, первейшим знатокам, тончайшим ценителям поэзии не только в родном своем государстве, но и приезжим гостям со всего обширного эллинского мира. Разумеется, архонт руководствовался уже сложившимся мнением об известных авторах. Не было недостатка и в добровольных консультантах. Однако к нему ежегодно являлись никому еще не известные юноши, и он не мог прозевать появление нового яркого дарования.
Как бы там ни было, а все ж и при этой системе, не совсем совершенной, мимо внимания архонтов не прошли ни Эсхил, ни Софокл, ни Еврипид, о которых достаточно здесь говорилось. Отобрав произведения, быть может, даже потолковав с их авторами, архонт назначал так называемых хорегов, то есть людей, которым предстояло нанимать и оплачивать хоры. Собственно, эта процедура с поэтами и называлась «прошением о хоре». Именно хор на протяжении долгого времени считался главнейшим элементом будущего представления.
Хорегами, понятно, назначались богатые и весьма почитаемые граждане. В числе их мы видим знаменитого Фемистокла, победителя персов в Саламинском проливе, не менее знаменитого Перикла, богача Каллия и прочих.
Должность хорега требовала огромных затрат по найму хористов (12 человек, потом даже 15, а что касается комедии – так и целых 24). Хореги же нанимали учителей пения, учителей танцев, снимали помещения для репетиций, кормили хористов за свой счет и все такое прочее. А каких огромных средств требовала экипировка хоров – неимоверных! Порой это были экзотические одежды, дорогие украшения… Все зависело от выдумок автора, который выводил на подмостки фантастические существа, заморских сановников и тому подобное.
Конечно, недостатка в желающих стать хорегами обычно не отмечалось. Хорегия (так назывался весь комплекс этой непростой обязанности) сама по себе выглядела весьма почетной, но еще более важным считалось выйти победителем среди сонма хорегов! Рвение зажиточных граждан иногда достигало слишком высоких пределов, и они, становясь хорегами, настолько истощали личную казну, что им самим было впору отправляться с протянутой рукою.
В тот же день архонт назначал и актеров-исполнителей, прежде всего так называемых протагонистов, то есть – актеров на первые роли. Здесь необходимо сразу отметить, что первоначальные правила-обычаи, по которым требовался лишь один актер, когда этим единственным актером становился сам автор пьесы, как вот известный нам всем Феспид, – это правило ко времени Эсхила ушло или уходило в далекое прошлое. Начиная с Эсхила, быть может, – где-то с промежутка между Марафонским и Саламинским сражениями, четко определилась потребность еще в одном лицедее (девтерагонисте), а вскорости и в тритагонисте (третьем актере). Сам автор пьес далеко не всегда уже мог выступать лично в силу различных причин: при слабости голоса, при небольшом росте, боязни открытого пространства. Обычно второго и третьего актеров подбирали сами протагонисты из числа своих близких, собратьев по ремеслу, с которыми успели «спеться». Добавим, что в дальнейшем порою требовался еще и четвертый актер, но необходимость в этом возникла в более поздние времена, когда ограничения в их количестве отпали вообще.
Театральные представления, понятно, еще до появления пьес Эсхила, проводились в виде состязаний. Первые «прикидки» того, что получалось, также завершались предварительными состязаниями: это было нечто вроде генеральной репетиции, на которой знатоки и ценители могли заранее выяснить, чтó же будет показано на большом празднике в дни Великих Дионисий.
Предварительный просмотр начинался торжественными жертвоприношениями, после чего, по призыву глашатая, каждый избранный поэт-счастливчик, сгорая от волнения, теребя бороду и коверкая слова, объявлял названия собственных произведений, выводил хор, представлял хорега, исполнителей ролей, демонстрировал наиболее удачные и эффектные номера.
Знатоки при виде всего этого могли потирать руки, предвкушая будущее наслаждение. Об увиденном на репетициях распространялись по городу невероятные вести.
Главное же состязание поэтов происходило на празднике Великих Дионисий, которые отмечались в марте. Представления начинались ранним утром и длились на протяжении всего дня. Каждому автору, помимо трилогии, уже говорилось, надлежало продемонстрировать вдобавок веселую, легкомысленную и, чаще всего, непристойную сатирову драму, ради которой хористы, только что игравшие роли сановников, наряжались в козьи шкуры, изображая божков-сатиров с рогами, с длинными хвостами и прочими натуральными подробностями своего животного состояния.
Состязались не только поэты, хореги, но и главные актеры.
Вопрос о первом месте, то есть – о победителе, решался особой комиссией из десяти человек, по одному от каждой филы, территориально-административной единицы, на которые поделена была аттическая земля. Комиссию эту избирали перед началом соревнования, и составляли ее признанные знатоки. Уединившись, они выносили решения, сообразуясь со зрительскими впечатлениями и требованиями, причем каждый – непременно сообразуясь с мнениями представителей собственной филы.
Естественно, оценка произведения искусства всегда была делом нелегким, поскольку здесь примешивается много субъективных факторов, указанный процесс отягощен различными дополнительными моментами. Насколько объективно совершалось судейство в Греции – определить теперь затруднительно, если добавить к тому же, что все это было связано с вожделенными почестями и важными наградами.
Награды получали все участники состязания. Никто не должен был почувствовать себя обиженным. Однако выдавались они с учетом действительных заслуг. Третьим местом обычно никто не хвастался, даже если он уступал самому Эсхилу, Софоклу или Еврипиду.
Решения комиссии увековечивались на мраморных плитах, которые устанавливались в храме Диониса. Содержание надписей, так называемых дидаскалий, дошли до наших дней по различным источникам. Текст одной такой записи приводит Плутарх. Сообщая название пьесы и время ее постановки, она дальше гласит: «Фемистокл фририец был хорегом, Фриних – автором, Адамант – архонтом».
Что касается других праздников, то на Ленеях (в конце января) главное место занимали комедии. На Малых, или Сельских Дионисиях (в декабре) повторялись драмы, уже поставленные когда-то в Афинах на Великих Дионисиях. Организации деревенских праздников, этаких местных театральных представлений, все затраты, с ними связанные, – всё это было в ведении соответствующих должностных лиц – демархов.
Первое место, естественно, оставалось мечтою каждого соревнующегося, в данном случае – каждого поэта, будь он Эсхилом, будь мало кому известным посредственным рифмоплетом. В силу этого в Греции выработались какие-то приемы, какие-то меры обходного воздействия на жюри.
Но как ни старались, скажем, афиняне, избрать в число судей самых честных, неподкупных, умных и объективных сограждан, как ни призывали этих судей первые в государстве авторитеты оставаться выше мелких собственных интересов, быть учителями толпы, а не поддаваться ее меняющимся мнениям, – а все-таки многие арбитры были земными людьми и не всегда оставались на высоте своего положения. Имеется достаточно оснований полагать, что афинские судьи поддавались порывам публики, которая позволяла увлечь себя эффектным приемом того или иного драматурга, позабыв обо всем на свете. В результате истинно великое произведение уступало порою явно посредственному. Знаменитые авторы оказывались побежденными начинающими или вовсе лишенными таланта своими коллегами, если только последние были достойны называться их собратьями.
Не исключено также, что судьи уступали напору родственных, дружеских чувств, а кто-нибудь среди них оказывался просто-напросто корыстным человеком, взяточником, беспринципным по своей натуре. Указания на это довольно часто встречаются в литературе, которая, естественно, дошла до нас лишь в незначительной части.
Театры
Настало время поговорить о том, где и как осуществлялись намеченные представления.
Сразу необходимо заметить, что театральных зданий, вроде современных наших, в античной Греции не существовало вовсе. Театральное сооружение в античности напоминало скорее известные нам стадионы. Правда, во времена Эсхила уже не было тех «спектаклей», какие встречались во времена Феспида. Автор пьесы, хотя бы тот же Феспид, останавливал свою телегу в посвященном Дионису месте, водружал привезенный с собою жертвенник и, пока совершались дальнейшие церемонии, выстраивал хор, дожидаясь подхода любопытных зрителей…
Нет, во времена Эсхила в Аттике, в частности в Афинах, – то, что называлось театром, занимало отведенный должностными лицами земельный участок, к которому «привязывалась» площадка для будущих представлений. Сиденья обычно располагались по склону холма, с таким непременно расчетом, чтобы каждый отдельный зритель возвышался над всеми сидящими впереди него. Но деревянные сооружения были непрочны, неоднократно обрушивались под тяжестью возбужденных людей. После одной из таких катастроф, случившейся вроде во время постановки драмы Эсхила, афинские власти решили приступить к сооружению каменных сидений.
Афинский театр Диониса, помним, располагался на солнечном юго-восточном склоне Акрополя. Первые ряды в нем предназначались для людей, пользующихся почетом и уважением. Центральные места всего первого ряда отводились жрецам, затем – важным государственным лицам, почетным гражданам, знаменитостям.
Не забывались и уважаемые иностранцы.
Любой греческий театр состоял из трех образующих его частей, пусть и расположенных под открытым небом, но неразрывно между собою связанных. Это были зрительские места, то, что называлось собственно амфитеатром. Затем следовала орхестра, площадка для размещения хора, непременный элемент античного театра в начальном, не очень продолжительном периоде его развития, и театральная площадка, в нашем понимании – сцена.
Как был устроен античный театр, все тонкости, нюансы организации, разного рода детали, – все это вызывало и вызывает много вопросов, рождало и продолжает рождать различного рода споры. И это притом, что до нас дошли остатки древних театров! Располагаем мы и свидетельствами античных авторов. В частности, крупного римского архитектора Марка Витрувия, жившего в I веке до н. э. Античные греческие театры Витрувий видел собственными глазами. Даже бывал в них на представлениях и не одну страницу посвятил им в своем десятитомном труде, озаглавленном «Об архитектуре».
Однако, как ни странно, выработанный Витрувием взгляд на устройство зрелищных мест не вполне соответствует тому, что было на самом деле. К такому выводу пришли современные нам ученые археологи, раскопавшие и продолжающие раскапывать остатки древностей.
Зрительские места в античном театре подковой опоясывали его сердцевину, так называемую орхестру. Само это слово происходит от широко известного в древности глагола ορχέομαι (пляшу). Таким образом, термин напрямую указывает, что площадка предназначалась первоначально для плясок хора. Орхестра представляла собою круг, правильность которого четко соблюдалась там, где округлость его ограничивалась зрительскими местами. Это была утоптанная земля или просто каменистая почва, впоследствии вымощенная камнями. На ней располагался жертвенник бога Диониса, так называемая фимела. В самом начале представления возле фимелы появлялся флейтист, в длинной сверкающей одежде, под аккомпанемент которого хор исполнял свои песни и танцы.
Чуть дальше, уже за орхестрой, на заднем плане, виднелась обычно повозка, на которой, чаще в палатке, перевозился реквизит, а впоследствии и все прочее, необходимое по ходу представления. Повозка эта, надо заметить, называлась скене (σκηνή). В ней актеры переодевались, меняли маски, готовились к выходу.
С течением времени, когда театр начал обретать оседлость, когда отпала необходимость перевозить реквизит, – скене (сцена) превратилась в стационарную палатку, в этакий своеобразный шалаш. Затем – в деревянную будку. Там по-прежнему предпочитали хранить театральный реквизит. Первоначально будка была довольно незамысловатой, но со временем становилась все более вычурной и все разрасталась в своих размерах.
Все это, впрочем, казалось закономерным и не могло быть иначе. Вообразим себя зрителями описываемого театра, в течение многих часов внимательно следящими за площадкой, на которой разворачиваются занимательные события. Взгляды наши нет-нет да и соскальзывают с театральной площадки и устремляются в бесконечное пространство. Особенно досаждало бы это в Афинах, где с высоты любого зрительского места можно было созерцать отдаленное море, облака над его безграничным блеском, разноцветные ветрила, стаи обеспокоенных чем-то чаек. Кроме того, произнесенные на площадке слова мгновенно рассеиваются в открытом пространстве, несмотря на все ухищрения актеров, на силу их голосов.
И вот тут-то было замечено, что соседство палатки-скене, которая с течением времени превратилась в двух-, а то и в трехэтажное сооружение, с колоннами, с балкончиками и различными выступами, – усиливает звук. Оно как бы направляет его прямо в уши зрителям. Вскоре было замечено также, что и другие повозки, случайно обращенные в сторону амфитеатра, также усиливают его акустические данные. Их стали называть параскениумами. Затем принялись оставлять их уже с нарочитой целью. В результате между орхестрой и скене (сценой) получилось свободное пространство, так называемый проскениум. От зрительских рядов весь этот конгломерат сооружений отделялся двумя проходами (пародами).
Впоследствии как-то так получилось, что связь актеров с орхестрой утратилась вообще. Тогда и появилась необходимость поднять ее на более высокое место. Проскениум, достигавший уже значительных размеров (в афинском театре Диониса это была площадка 46,5 × 6,4 метра) начали приподнимать, устраивать на нем что-то вроде помоста, который постепенно стал доходить до полутора-трех метров в высоту. Актеры, в конце концов, оказались на этом помосте. За ним и закрепилось слово скене (в латинском варианте – scaena (сцена).
Всему сказанному, однако, еще только предстояло стать реальностью, но и в Эсхилову пору, когда организация всего театрального дела находилась только в начальной стадии своего развития, – возможности театральной площадки позволяли добиваться выдающихся эффектов, порою – настоящих чудес. Скажем, в эллинском театре без проблем удавалось изобразить полет человека. Для этого из окон скене (сцены), или с ее крыши, высовывался клюв своеобразного подъемного крана, не раз упоминаемого нами журавля. Актер, используя отвлекающие приемы, втыкал свисавшие с него крючки в заранее закрепленные в своем одеянии кольца и в нужный момент поднимался вверх. Он парил в высоте, исчезал на крыше, пропадал в высоком небе. Все это – к величайшему восторгу всего амфитеатра, наслышанного о полетах Дедала и его сына Икара.
С таким же успехом мог появиться любой из богов, вплоть до Громовержца Зевса, о чем предварительно свидетельствовали также звуки грома, раздававшиеся под чистым аттическим небом. Эти звуки издавали специальные металлические котлы, по стенкам которых колотили гигантскими топорами-молотами.
Если учесть, что всякие механические приспособления в Греции назывались словом μαχανά (по-латыни machina), то становится понятным, откуда взялось впоследствии выражение ϑεός από μηχανης (латинский вариант dеus ex machinа). Такое выражение мы произносим теперь при неожиданном, почти волшебном появлении чего-либо или кого-либо.
Если внутри здания, внутри скене, невидимо для зрителей, совершалось какое-либо важное событие, скажем, убийство Агамемнона в драме Эсхила, то из дверей дворца на сцену выдвигалась тележка (эккиклема). На ней, над окровавленными трупами Агамемнона и Кассандры, стояла с топором их убийца – царица Клитемнестра.
Впрочем, сцена убийства могла происходить и на глазах у зрителей, но обязательно на этой выехавшей повозке. Этим подчеркивалось, что зрители как бы заглянули за стены декорационного сооружения.
С таким же успехом можно было показать и появление подземных богов. Ради этого в полу орхестры устраивались специальные люки и лестницы, по ступенькам которых могли появляться актеры, изображавшие подземных богов, даже мрачного Гадеса (иначе Аида) или его жены Персефоны.
Как видим, в античном театре уже было предусмотрено многое из того, что в полном объеме расцвело впоследствии в театральном мире и на цирковой арене.
Зрительские места в античном театре также благоустраивались, облагораживались. Они тянулись правильными кругами, разделяясь на четкие сектора. Между ними и собственно зрительской площадкой устраивался широкий проход не только для зрителей, но и для актеров, особенно – для участников хора.
Что говорить, рассматривая уцелевшие до наших дней зрительские места в античных театрах, не можем отрицать доставляемое ими прямо-таки настоящее эстетическое наслаждение.
Все в античном театре было так здорово продумано, так гармонично устроено, что известный нам архитектор Витрувий, повидавший не одну сотню античных театров, пытался разъяснить присущую им гармонию при помощи алгебры. Он пришел к выводу, будто в основе устройства древнегреческого театра лежат круг и квадрат. Суть его заключения по устройству театра усматривается в следующем: чтобы построить театр, необходимо было подобрать благодатное для здоровья место, желательно у подножия холма.
Это облегчит строительные задачи.
Выбранное место должно было располагаться к тому же рядом с городской площадью: в театрах проводились народные собрания, объявлялись важные государственные документы. Затем следовало начертить на почве круг, сообразуясь с предполагаемыми размерами будущего здания и количеством устраиваемых в нем зрительских мест.
Суть дальнейших рассуждений Марка Витрувия сводится к тому, что он предлагает вписать в начертанный на земле круг три квадрата с таким непременно расчетом, чтобы выступающие углы их образовали двенадцатиконечную звезду. Отрезав в подходящем месте два зубца ее, архитектор получит свободную линию одного из квадратов, на которой можно разместить боковые параскении. Подобным образом можно определить и переднюю линию сцены, линию проскениума. Глубина же проскениума, фактически театральной сцены, определяется по границе круга. Зубцы вписанной в круг звезды, обращенные к зрительским местам, укажут направление лестниц-проходов для первого яруса. Если же амфитеатр предполагает наличие второго яруса, то между этими проходами во втором ярусе надо было сделать еще один проход. Если будет третий ярус – то и там целесообразно поступить аналогичным образом…
Естественно, эллинам оставалось только качать головою в ответ на рассуждения прагматичного римлянина. Сами же они были твердо убеждены: театр создается исключительно по воле богов! Если в нем получилось действительно отличное место для выступлений – все это произошло не в результате расчетов земного человека, но по божественному наитию.
Зрительские ряды в амфитеатре разделялись на ярусы, и даже входные билеты зрителям выдавались с указанием яруса, сектора, но без обозначения места. Человек должен был сам подобрать место по велению собственного сердца.
Надо заметить, что ни один эллинский театр, как утверждают ученые, не соответствует в точности доктрине Витрувия. Все в них вроде бы так, как рассуждал этот римлянин, все похоже. И все же – везде получалось по-разному.
В заключение надо добавить, что вход в античный театр, как правило, был общедоступен, бесплатен. Если потом и введена была незначительная входная плата, то государство вскорости постаралось ее компенсировать, выдавая гражданам деньги из общей казны – так называемый теорикон.
Несколько спорным считается вопрос, допускались ли на представления женщины и дети. Большинство полученных данных говорит за то, что существенных ограничений не было и в этом плане.
Актеры античных театров
Что он Гекубе? Что ему Гекуба?
А он рыдает…
В. ШекспирДля воплощения в жизнь всего того, что было задумано поэтом-драматургом, что еще лишь туманно мерещилось в его воображении, – требовались музыканты, плясуны, скульпторы и масса обслуживающего персонала. Только объединенными усилиями всех указанных мастеров на сценической площадке рождались образы людей и богов, творилось то, что называется емким словом искусство.
Однако из этой массы разнообразного, шумного, разбитного, одаренного и страстного народа вскоре выдвинулись деятели, прежде того неведомые и неслыханные в античном мире. Этими деятелями стали первоначально гипокриты, затем римские гистрионы, впоследствии – греческие актеры.
Первоначально, как мы уже знаем, все роли в пьесах исполняли сами авторы. Первым актером необходимо считать известного нам и древним поэта Феспида, прежде все прочих представившего свою во многом условную пьесу.
Такими же актерами были Фриних, Херил и множество других неизвестных нам авторов, вкусивших сладость восторженных аплодисментов.
Таким же актером, надо полагать, был и великий Эсхил.
Существует мнение, что Эсхил, а, значит, и его современники, так или иначе подпавшие под воздействие его могучего таланта, творили на подмостках величественные образы, подобные богам и героям.
Актеры на античной сценической площадке выглядели похожими на богов, героев и исторических личностей, изображенных на картинах тогдашних художников, в частности – на полотнах замечательного Полигнота.
Полигнот считался уроженцем острова Фасоса, расположенного в северной части Эгейского моря, так что людям, глядевшим на остров с европейского материка, напоминал он собою прилегшего отдохнуть осла.
Чем-то сродни упрямству помянутых животных отличались и люди на удлиненном этом клочке земли. Когда персидские сатрапы, подчиняясь воле царя, потребовали признать над собою царскую власть, то многие фасосцы, понимая безвыходность положения, предпочли оставить обжитые дома. Был среди них не последний в своем мастерстве художник Аглаофонт. Прихватив дорожный мешок из ослиной шкуры, где бултыхались нехитрые его причиндалы, при помощи которых удавалось изображать белогривых коней, – Аглаофонт лишь кивнул своему сыну-ученику: «Лодка на берегу, Полигнот! Не пропадем!»
И они не пропали. Живописцы требовались в любом значительном селении, не говоря уж о каждом только что выстроенном или обновляемом святилище. В большинстве своем это были бродячие мастера, среди которых попадалось немало одаренных изографов-художников.
Что касается Аглаофонта, он остался автором изображений богини Нике. А вот его сыну суждено было войти в историю под грифом «гениальный». Полигнот перебирался из одного государства в другое, однако главнейшие работы его оказались в Афинах и Дельфах.
Это было время патриотического подъема, и дух Полигнота сильнее всего проявился в росписи книдской Лесхи в Дельфах и Пестрой стои в Афинах. Книдяне, жители малоазийского полуострова, возвели многоколонное здание, вход в которое разместили в южной части его. Солнечный свет вливался вовнутрь сквозь отверстие в потолке. Покрытая росписью, Лесха служила укрытием для странников и прочих бездомных. Нечто подобное сотворил Полигнот и в других афинских храмах, в частности, посвященных Тесею. Но самой гениальной считалась его картина в уже упомянутой афинской стое, выстроенной то ли Каллием, родственником Кимона, сына Мильтиада, то ли самим уже Кимоном.
В Расписной, или Пестрой, стое красовалась не только живопись Полигнота, но и живопись его единомышленников и учеников – Панена и Микона. Изображенные люди выглядели могучими и суровыми. Казались воплощением красоты.
Между театральным и изобразительным искусствами всегда существовала прочная, хоть и незримая связь. Можно твердо сказать, что точно такими же выглядели и герои Эсхилова театра.
Эсхил очень быстро понял, что играть все роли одному актеру, пусть даже самого исключительного таланта, – задача непосильной тяжести. Она трудна даже просто в силу ограниченных физических возможностей человека, которому на глазах у зрителей приходится перевоплощаться в богов, богинь, цариц, царевен или царей… Эсхил, быть может, отчетливее всех собратьев по профессии понял это и постарался разрешить трудности введением второго актера. Нам даже известны имена беззаветных служителей сцены, с которыми он разыгрывал свои драмы, которым полностью доверял. Наверняка это были поразительно талантливые люди. Введение второго актера, без сомнения, означало подлинное рождение актерской профессии.
То, что Эсхил был сам представителем аристократического рода, а еще непосредственная связь актеров с культом бога Диониса, со жреческим, стало быть, сословием, – все это способствовало тому, что актерская профессия как-то сразу оказалась общепризнанной, уважаемой, соотносящейся с верхушкой афинского общества. Первоначально любители, очень вскоре, быть может, даже в кратчайшие сроки, актеры превратились в людей свободной профессии, оплачиваемой к тому же из государственной казны. Забегая вперед, укажем, что впоследствии они не без гордости величали себя «мастерами бога Диониса» и нисколько не грешили этим против истины. Впрочем, античные греки прекрасно понимали синтетическую сущность сценического искусства. Мало того, что главный человек в театральном действе, автор драматического произведения, поэт, пребывал под опекой всемогущего бога Аполлона, покровителя всех искусств. Вдобавок к этому греки назначили ему в помощь также специальных муз, которые в хороводе выступали вслед за играющим на кифаре Аполлоном где-нибудь на лесистых склонах Киферона или на восхитительно-чудесном Парнасе. Муза Мельпомена отвечала за драму, Талия – за комедию. Причастными к театральному искусству, конечно, со временем стали также Терпсихора, муза танцев, Каллиопа, муза эпической поэзии, Эвтерпа – муза лирической поэзии, и Полигимния – муза священных гимнов. Все перечисленные, так или иначе, оказались связанными с театром.
Актеры, надо сказать, заняли в театре столь важное место, что Аристотель, представитель уже IV века до н. э., поставил их даже выше драматургов. С этим, пожалуй, стоит нам согласиться, говоря непосредственно о спектаклях. Прозвучавшую на сцене фразу «Кушать подано!» настоящий мастер способен произнести настолько искусно, что публика застынет от сострадания или же захохочет от юмора.
Но дело заключалось не только в этом. Когда выбор пьесы в дни Великих Дионисий перешел в руки государства, то вместе с архонтом-эпонимом вопрос предстояло решать уже актеру-протагонисту, исполнявшему первые роли. Он действительно был теперь выше драматурга. Он стал подобным нынешнему режиссеру. Судьбу своего произведения, как и свою личную, драматург отдавал отныне в руки первого актера.
Актер-протагонист возглавлял всю труппу и всех прочих людей, связанных с театральным делом. В конгломерацию мастеров Диониса входили как актеры, так и музыканты, хореографы, художники и т. п. В этом сообществе определялся свой председатель, назначались казначей, писарь.
Став привилегированным сословием, актеры начали пользоваться различными льготами, в числе которых необходимо назвать освобождение от налогов и воинской службы. Авторитет их способствовал также тому, что они были в силе исполнять различные дипломатические поручения. В частности, нам известен актер Аристодем, проведший успешные переговоры с македонским царем Филиппом о выдаче пленных афинян, захваченных под Олинфом. По предложению оратора Демосфена Аристодем награжден был венком. Нечто подобное говорилось об актерах Неоптолеме, Феодоре и других.
Македонские цари, кстати, всегда проявляли большой интерес к эллинскому искусству, в том числе и к театру. Они выступали в роли меценатов. Много преданий в этом плане сохранилось о царе Филиппе и его знаменитом сыне Александре. Известен случай, когда македонский владыка рвал и метал по причине того, что актер Фессал осмелился выступить на съезде вождей в Коринфе. Разъяренный царь потребовал даже выдачи его в оковах. Любимыми актерами Александра стали Афинодор и все тот же Фессал. Еще только мечтая о царском троне, Александр уже делегировал последнего с серьезными поручениями к малоазийскому сатрапу Пиксодору. Об этом, наверняка, великом актере, Александр не забыл и во время своего знаменитого похода. Афинодор и Фессал состязались в искусстве в покоренном македонцами городе Трире.
Зная пристрастия Александра, актеры нередко прибегали к хитроумным уловкам. Именно так поступил лицедей Ликон Скафрийский. Воспользовавшись появлением царя в театре, хитрец вставил в текст своей роли фразу «О, если б я смог получить от Александра десять талантов!» – и тут же был одарен такой баснословной суммой.
Впрочем, сильные мира сего и сами были не прочь потолковать со всеобщими любимцами. Так, говорят, случилось с македонским царем Филиппом, только что захватившим дружественный Афинам Олинф. Повстречав комического актера Сатира, уроженца Афин, царь спросил: «Ты почему ничего не просишь?» Старик с достоинством отвечал, что ни в чем сейчас не нуждается. Когда царь удивился такому ответу, то Сатир рассказал о проблемах своих друзей, на что царь откликнулся с подобающей ему августейшей щедростью.
Цари и разного рода правители всячески старались продемонстрировать глубокое понимание актерского ремесла. Известный своей жесткостью и даже жестокостью тиран города Феры однажды попал на спектакль, в котором роль царицы Меропы исполнял уже упомянутый выше актер Феодор. Убийца ее сыновей и прежнего мужа принуждал несчастную женщину вступить с ним в новый брак. Актер настолько вошел в свою роль, что тиран расплакался при всем народе. В итоге он вынужден был удалиться из амфитеатра…
Что касается мастерства античных актеров, то им действительно было не занимать его. По сохранившимся свидетельствам, своей игрою они потрясали население целых городов. Жители города Абдеры, известные в древности собственной глупостью и невозмутимостью, настолько потрясены были игрой Архелая, изображавшего Андромеду в трагедии Еврипида, что при выходе из театра сводили счеты с жизнью.
Подобным же мастерством отличался и трагик Пол, доживший, кстати, до очень преклонного возраста. Однажды, исполняя роль царевны Электры в трагедии Софокла, взяв в руки урну с предполагаемым прахом Ореста, Пол так естественно зарыдал, что потряс всех афинских зрителей. Опомнились они лишь после того, как узнали, что актер недавно похоронил горячо любимого сына. Говорили даже, будто он доставил в театр эту скорбную урну с прахом милого ему отрока.
За отдельными актерами со временем закреплялись определенные амплуа. К примеру, зрители знали, что некий Димитрий великолепно изображает убийцу царя Агамемнона (он получил даже прозвище «Секира», поскольку покоритель Трои погиб именно от топора), тогда как актер Тимофей – с честью справляется с ролью героя Аякса. Богатырю Аполлогену, отличавшемуся великолепной рельефной мускулатурой, обычно поручали исполнение ролей Ахилла, Геракла. Для этого у него имелись прекрасные данные: до службы в театре Аполлоген выступал как кулачный боец.
Да, античные зрители высоко ценили и уважали своих актеров, и лишь иногда встречается нечто противоположное. Скажем, у спартанского царя Агесилая однажды состоялся разговор со знаменитым актером Каллипидом. «Ты наверняка меня знаешь, царь?» – спросил добродушный актер, на что получил неожиданный ответ: «Да, ты – шут гороховый!» Впрочем, говорили эллины, зачем удивляться спартанской грубости? Это у них – в порядке вещей.
Что же касается простого народа, то авторитету античных актеров могли позавидовать кумиры нашего TV. Скажем, на одной из могильных плит, дошедших до нашего времени, можно было прочесть: «Здесь лежит Феодор, непревзойденный мастер сцены».
Актеры, кажется, четко делились на трагиков и комиков. Упомянутый нами Сатир повсеместно хвастался, что запросто вызовет смех любой театральной публики. Возможно, он действительно располагал какими-то особыми данными, полученными от природы. Кроме того, много значила сама его репутация. Скажем, уже одно появление артиста любого жанра в наше время вызывает перемену зрительского настроения. Актер Феодор, наоборот, был уверен, что так же запросто может заставить зрителей плакать. Ко всему этому надо добавить, что подобные заявления оба актера делали отнюдь не в начале своего «изобразительного» пути, но ближе к его завершению.
Такое разделение актерских амплуа, впрочем, еще не говорит, что актеры замыкались на каких-то определенных ролях. Наоборот. В древности считалось, что настоящий актер обязан с одинаковым успехом исполнять как трагические, так и комические роли. То есть – с одинаковым успехом играть героев вроде вождя Агамемнона, выступавшего на подмостках в ярком плаще, в золотом шлеме, в сияющих доспехах, так и достойного смеха и порицания горбуна Терсита, выходившего на орхестру в весьма неприглядном наряде.
История называет также многосторонних мастеров, правда, живших в уже более позднее время. Скажем, некий актер Кефисий, который на Делосе выступал в комических ролях, в Афинах блистал в трагических амплуа. Причем – с одинаковым успехом.
Кем же были все эти замечательные люди? Из каких семейств, государств?
Где они учились?
Актерами становились уроженцы разных земель. Надо сразу заметить, что для актера ничего не значило ни его имущественное положение, ни то, откуда он родом. Важно было лишь то, свободен ли он. Правда, известны случаи, когда актерами становились рабы. Плутарх, к примеру, рассказывает о каком-то молодом человеке, красавце и силаче, который с необычайным мастерством сыграл роль бога Диониса. Раб принадлежал полководцу Никию. Потрясенный его успехом, Никий дал ему волю.
А так все прочее определялось степенью таланта. Эта закономерность отмечается уже с первых лет появления актерской профессии, начиная с первых же их собратьев. Скажем, Минниск, сподвижник самого Эсхила, а, значит, вообще один из первых профессиональных актеров – родом был с острова Эвбея, из города Халкидика. В более поздние времена, когда актеры составляли бродячие группировки, если угодно – труппы, наибольшей известностью пользовались актеры из Афин, Аргоса, с острова Кипра, из беотийских Фив.
Артистических школ в античности не существовало. Не было, разуме ется, никаких вступительных, отборочных мероприятий, вроде экзаменов, тестирования. Все делалось по наитию. Каждый маэстро подбирал учеников на свой страх и риск, при естественной конкуренции. Он же и обучал их.
Проверяли новичков и давали им свидетельства о пригодности зрительские массы. Если зритель не шел на спектакли (впрочем, это только предположение), если он негодовал по причине плохой игры того или иного юного, а равно и матерого актера, – виновник нес не только материальные убытки. По требованию зрителей такого актера могли наказать телесно, не говоря уж о том, что от его непригодности, неумения, страдали все собратья по труппе, которые нисколько не церемонились с неудачником. Так что отбор получался по сути весьма серьезным и довольно справедливым.
Помимо профессионального таланта претендент на роль лицедея должен был обладать крепким физическим здоровьем. Ведь ему предстояло оставаться на подмостках чуть ли не на протяжении всего светового времени суток, так как на протяжении целого дня ставилось несколько пьес одного и того же автора. К тому же актеры выступали в масках, которые все время приходилось менять.
Актер обязан был обладать сильным голосом, чтобы быть услышанным несколькими десятками тысяч зрителей – это безо всяких технических приспособлений, исключительно благодаря устройству сцены, о чем уже говорилось, благодаря наличию в театре специальных колосников и специально сконструированных масок, о чем еще будет сказано. Известно, что слабость голоса вынудила оставить сцену гениального драматурга Софокла, который также первоначально выступал в собственных своих трагедиях в качестве актера.
Ко всему прочему, кандидат в актеры должен был иметь импозантную фигуру: быть высоким, видным из себя, отличаться правильностью телосложения, крепким здоровьем. Известно, что идеальной фигурой в этом плане обладал Эсхин, ставший впоследствии выдающимся оратором, сторонником македонской партии в Афинах и противником знаменитого Демосфена, который, не без тайной зависти, называл его ходячей статуей.
Далее, актеру надлежало обладать великолепной памятью, отличной пластикой, большой музыкальностью. Известно, что Софокл в совершенстве владел музыкальными инструментами, в частности – лирой. Он прекрасно играл в мяч, что и продемонстрировал при исполнении роли царевны Навсикаи.
То, что актерам-мужчинам приходилось, как правило, исполнять все женские роли, естественно, также накладывало на их профессию особые трудности. Необходимо было создавать на сцене впечатление женской, порою – и хрупкой девичьей натуры, создавать впечатление женских голосов, женских эмоций. Это требовало глубокого знания жизни, величайшей наблюдательности, кропотливой подготовительной работы.
В заключение необходимо сказать несколько слов о театральных масках. По преданию, их впервые ввел драматург Херил, которому, быть может, показался неприятным и канительным процесс обмазывания лица перед спектаклем красным виноградным соком, как поступал еще Феспид. (Впрочем, стоит упомянуть, что идея маски в античности были ведомы еще в догомеровские времена). Обыкновенно они изготовлялись из ткани и гипса. Маски закрывали всю голову актера, надевались как нынешний противогаз. В верхней части к ним прикреплялись волосы, изображавшие прически. Первоначально все маски были пугающе белыми, с отверстиями для зрачков и рта, причем ротовое отверстие моделировалось в виде резонатора, усиливающего человеческий голос.
Вначале, наверняка, маски изготовлялись самими актерами, но вскоре это дело перешло в руки нарочитых мастеров. Последние всячески расписывали свои изделия. Сначала – только маски для мужских ролей, сохраняя белый цвет для женских, но затем решили покрывать все маски подряд, не нарушая, правда, принятых издревле градаций: маски для женских ролей всегда отличались более светлым оттенком.
Маски строго подразделялись. Одни среди них предназначались для трагических ролей, другие – для комических. Это опять-таки подчеркивалось условной окраской, свойственной характеру героя и понятной публике. Уже по одному цвету маски зритель сразу определял, кто перед ним: царь, вельможа, злодей, невольник и тому подобное. Более того, по ходу спектакля актер изображал своего героя то радующимся, то негодующим, то несчастным, достойным жалости. Стало быть, для спектакля требовалось несколько масок одного и того же лица, по крайней мере – для главного героя. Они отражали его различное состояние.
Маски стали необходимой принадлежностью каждого выступавшего на театральной площадке, будь он хористом, будь самым главным действующим лицом, роль которого исполнял актер-протагонист.
Менандр, или «Звезда новой аттической комедии»
Странное чувство овладевает археологами, когда лезвие их лопаты натыкается на любой затаившийся в почве предмет. Земля, расчерченная на квадраты, на которых ведутся вполне автономные раскопки, вмиг отодвигается куда-то в сторону…
Это чувство способно обеспокоить не только профессионала, всю зиму готовящегося к летней сезонной экспедиции, даже предполагающего, чтó именно удастся ему обнаружить, всегда нацеленного на большую удачу в поле, во время раскопок. Ожидание чего-то необычного наваливается также на равнодушных порою рабочих, явившихся на раскопки ради элементарных заработков.
А что говорить о моменте, когда сверкающий металл со скрежетом натыкается на камень? Когда этот камень выставляет свою обработанную инструментами грань? Зависшее над головою солнце, стекающие по шее струйки пота, не стихающий гомон на соседних раскопах, шорох осыпающейся земли, взорванная ветерками пыль, что лезет в горло, уши, глаза, – все нипочем! Дрожащими руками, уронив лопату, а то и свои записные книжки, сгорая от волнения, выхватив из сумки нож, щетку, оттолкнув порою не менее взволнованных рабочих, – археолог готов припадать к находке всем телом, защищать ее от посторонних воздействий, от малейшего гипотетического повреждения.
Прочь лопату!
Прочь все грубые инструменты!
Только руки, нож, только щетка и пальцы…
Скорее всего – только руки и только пальцы. Только им доверяется обнаруженная нечаянно древность…
Нечто похожее ощутил французский археолог Гюстав Лефевр на раскопках античного города, носившего некогда имя богини любви Афродиты, стоявшего невдалеке от египетских стовратных Фив, о которых повествуется еще в поэмах Гомера.
Раскапывая остатки древнегреческого дома, в одном из его помещений француз натолкнулся на терракотовый сосуд с ошметками загадочного папируса.
Сердце его чуть не остановилось. Он догадался, чтó это могло означать…
Дело в том, что находки подобного рода в Африке, с ее неповторимо сухим и жарким климатом, сулят неведомые открытия, связанные именно с папирусами. Папирусы в египетской почве хранятся тысячелетиями.
Шел уже 1905 год, а незадолго до этого, в 1898, в африканских песках обнаружили фрагмент аттической комедии, принадлежавшей перу поэта Менандра, которого очень ценили в древности, но от наследия которого почти ничего не осталось, кроме голых названий каких-то давно утраченных драм…
Невозможно вообразить себе радость француза, завидевшего на папирусе греческие литеры. Они показались столь ему четко выведенными, что наметанный глаз без труда определил их глубокую древность.
Концы папирусных свитков в античности прикреплялись к специальным палочкам, чтобы, по мере чтения, разматывая ленту одной из них, наматывать ее на другую. Затем ленту стали разрезать на куски, которые сшивались. Получалось нечто вроде нынешних наших тетрадей, даже книг. Собственно, наше слово «тетрадь» происходит от греческих слов со значением «четыре» – то есть, четыре сшитых вместе листа.
Именно такую книгу различил Лефевр в терракотовом сосуде.
Под нею, в вековой загустевшей пыли, покоились отдельные листики или даже просто куски папируса, содержащие канцелярские записи и прочие деловые бумаги.
По очертаниям букв Лефевр тотчас определил, что находка может относиться ко времени правления византийского императора Юстиниана (527–565). Что-то заставило ученого как можно скорее взяться за это чудо. Чудо было значительно повреждено. Начиналось с 29-й страницы. Однако на нем четко читалось заглавие и имя автора…
Почти два года длилась тайная неустанная работа с находкой, пока Лефевр окончательно не прочитал все то, что можно было вычитать на папирусе, и пока он, сгорая от нетерпения обрадовать ученый мир, не решился наконец опубликовать результаты своих стараний.
Это произошло уже в 1907 году. На страницах каирского издания появились тексты, о существовании которых было вроде известно, но никто из живших тогда людей не читал их и даже никогда не видел. Они почитались утраченными… навечно, навсегда. И вот… На папирусах, найденных Лефевром, стояли произведения поэта Менандра…
То было особый период, время, когда достижения греческой цивилизации гением Александра Македонского были вывезены за пределы собственно греческого мира и стали достоянием народов, проживавших на азиатских и африканских просторах. Когда все, что волновало афинян периода расцвета аттической комедии, стало волновать их соседей.
Разумеется, Аристофан не был забыт и через сотни лет. Его произведения по-прежнему ценились, считались образцовыми. Читатели, отнюдь уже не зрители, дивились состоянию афинского общества периода Пелопоннесской войны. Однако пришедшие на смену Аристофану мастера так называемой «новой аттической комедии» обращались скорее к сюжетам из современной им жизни…
Самым ярким представителем новой аттической комедии по праву считался поэт Менандр. Он родился в Афинах, в семье богатого человека, что позволило ему получить всестороннее образование, главным направлением в котором стали философия и риторика.
С философией Менандр ознакомился далеко не из третьих рук. Он был близок с учеником самого Аристотеля, с продолжателем его дела, ученым Феофрастом (372–287), ставшим руководителем школы своего учителя, так называемого Ликея. Особенно важным для Менандра считалось знакомство с сочинением Феофраста «Характеры», в котором разбираются типичные особенности, склонности и недостатки людей.
Большое влияние на будущего драматурга оказала также дружба с учеником Феофраста – Деметрием Фалерским (350–283), человеком разносторонне образованным, написавшим много трудов по истории, философии, грамматике и риторике.
В дополнение к сказанному, Деметрий зарекомендовал себя выдающимся оратором и практическим мудрым политиком. После смерти Александра Македонского, несмотря на попытки изгнать македонцев, несмотря на то, что во главе освободительного движения оказался его вдохновитель, оратор Демосфен, – афиняне все же вынуждены были подчиниться обстоятельствам, признать над собой чужеземную власть. Архонтом в Афинах суждено было стать Деметрию – на него пал выбор македонского правителя Кассандра, сына Антипатра, наместника Македонии еще при жизни Александра, оправившегося в поход. Архонтская власть означала теперь фактически единоличное правление, и это правление в лице Деметрия Фалерского оказалось весьма благодатным для всех афинян. Признательные, они поставили Деметрию массу памятников.
Когда же обстоятельства принудили Деметрия бежать из города, ему был предоставлен приют в Египте. Там его назначили советником по созданию Александрийской библиотеки.
Еще одним человеком, оказавшим влияние на Менандра, следует назвать философа Эпикура (341–271). Эпикур родился на острове Самосе, но вся жизнь его протекала в Афинах.
Еще в юности, познакомившись с философией Демокрита, Эпикур решил полностью посвятить свою жизнь философии. В 305 году он приобрел в Афинах участок земли вблизи рощи героя Академа, и этот участок впоследствии получил название «огород Эпикура». Мудрый самосец обучал там своих приверженцев, беседуя с ними на самые разные темы.
Следуя за Демокритом, будучи убежденным материалистом и сторонником теории атомистического строения мира, Эпикур, однако, признавал определенную свободу движения атомов, отрицая их полную детерминативность, свойственную учению Демокрита. В своем движении, поучал он, атомы получают возможность отклоняться от нормы. Это позволяло Эпикуру оправдывать выбор индивидуумом того или иного самостоятельного решения.
В учении об этике Эпикур придерживался теории так называемого гедонизма, выработанного Аристиппом из города Кирены. Указанный Аристипп считал, что целью человеческой жизни является стремление к наслаждению. Высшей точкой наслаждения называл он абсолютный покой, так называемую атараксию. Никто на земле не может быть счастливым, не будучи мудрым и справедливым.
Важным моментом в учении Эпикура стало его отношение к религии. Боги вообще-то существуют, по его признанию, однако они нисколько не влияют на мирские дела. А вот сама религия, страх перед смертью – все это утруждает и даже омрачает человеческую жизнь. Задача философов – освобождение современников от пут религии, от страха перед возможной смертью. Потому что смерть оказывается всего лишь распадом и очередным перераспределением вездесущих атомов. Человек же, избавившись от чувства страха, должен стремиться реализовать все возможное счастье, прожить отведенное ему время мудро, честно, справедливо, оставить после себя благородную память в сердцах людей.
Изо всего поведанного вытекает явно негативное отношение Эпикура к участию в общественной жизни, которая является не чем иным, как сковывающим своими предписаниям. Благородному человеку лучше держаться вдали от агоры, от сборищ толпы, ее криков и драк. Жить необходимо как можно незаметней (λάϑη βίоσας) – так гласили заветы Эпикура.
Подобное учение находило немало приверженцев в пору потери греками своей независимости, в пору усталости их от непрестанной борьбы, как внутренней, так и с неодолимой силой в лице македонской военной машины. Греки находили утешение в таких непременных учениях, которые перекликались с постулатами восточных мудрецов, призывающих человека сосредоточиться на внутреннем совершенстве, позабыв о страстях и порывах внешнего мира.
Эти взгляды и эти учения находили благодатный отклик в новой аттической комедии. В ней говорилось о том, что встречается вокруг. В новой аттической комедии интерес зрителей поддерживался изображением нравов, характеров, занимательной интригой. Семейные отношения, любовь, ревность, зависть, страдания – вот на чем строится и вот на чем держится новая аттическая комедия. Язык ее живой, народный, близкий к разговорному, сильно индивидуализирован.
Что же касается литературного творчества Менандра, то здесь необходимо отметить сильнейшее влияние на него сразу нескольких авторитетов.
Пожалуй, в числе первых назовем поэта Алексида, который приходился Менандру родным дядей, в силу чего и стал для юноши наставником в драматическом мастерстве, его непосредственным учителем.
Вторым в этом ряду (не по значению) следует поставить Еврипида, на произведениях которого Менандр воспитывался как литератор. Еврипид сделался его любимым автором. Именно Еврипид научил юного драматурга всматриваться в жизнь простого народа. Заглядывая в человеческие души, Менандр не мог не угадывать их настроения, чаяния, надежды.
Ну а третьим человеком в этом ряду была любящая его молодая красавица по имени Гликера, муза поэта, его вдохновительница, помощница, почти соавтор. Насколько можно видеть в ней соавтора – о том уже трудно судить, однако, по свидетельству древних, Гликера неустанно помогала Менандру на всех этапах его сочинительской практики и подготовки пьес к постановке. Вместе расписывали они театральные маски, вместе обсуждали одежду для действующих лиц, выстраивали мизансцены, сочиняли танцы и все такое прочее. Вместе готовили актеров к выходу.
Гликера присутствовала на всех представлениях пьес своего возлюбленного, волнуясь и переживая не меньше, чем он. Да и сам Менандр, по свидетельству тех же древних, наивысшим счастьем для себя считал короткие моменты, когда председатель судейской комиссии произнесет его имя в качестве победителя и вручит ему первую награду.
Уместно здесь также отметить, что сценическая площадка, вернее, совершающееся на ней действо, ко времени Менандра уже мало в чем походило на ту патриархальную картину, которую можно было наблюдать за сотню лет до описываемого периода. Тогда на ней бушевали политические страсти, выводились грозные, тут же сидящие, государственные деятели вроде Клеона, или поэты, вроде Эсхила, Еврипида, а также философы, вроде Сократа. Важное в то время место в пьесе занимал шумный хор, по которому комедия практически получала свое название, а хористы выступали в экзотических костюмах птиц, лягушек, коней. Яркие разрисованные маски привлекали всеобщее внимание и вызывали восторг уже одним своим сходством с живыми прообразами.
Во времена Менандра хор уже практически отсутствовал на орхестре, а если все-таки принимал участие, так только в виде дополнительного украшения действия, не имея органической нагрузки, практически будучи лишним. На комедийной сцене люди выступали уже в аккуратных масках. Правда, все еще в масках, но уже в небольших, не нарушающих параметры человеческих тел. На плечах у них были привычные для афинян одежды, в каких те обычно ходили по улицам.
Менандр родился в Афинах, и первая пьеса его была поставлена в 323 году до н. э., когда он едва достиг 20-летнего возраста. Однако первой своей победы юноше пришлось добиваться на протяжении еще восьми лет. За всю свою жизнь Менандр написал то ли 105, то ли 110 комедий, а победы добивался лишь 8 раз. Очевидно, ему оставалось довольствоваться примером великого Еврипида, который не гнался за сиюминутным успехом, но творил, по собственному признанию, для вечности, частенько будучи опережаемым своими современниками, которые не годились ему и в подметки.
Менандра чаще прочих побеждал родоначальник новой аттической комедии Филемон, выходец из Сицилии, написавший также вроде бы около 100 комедий, от которых преимущественно дошли до нас одни заголовки и небольшие фрагменты. Судить о них мы имеем возможность только по той причине, что они стали образцом для подражаний римскому поэту Плавту. Филемон, оказалось, поднаторел не только в искусстве писания комедий, но и в закулисных интригах, при помощи подкупов судей, личной дружбы и прочего. Менандр все это прекрасно понимал. Человек достаточно скромный, тихий, он укорял Филемона при встречах на улице:
«Скажи-ка, приятель, а ты не краснеешь, когда меня побеждаешь?»
Как бы там ни было, при жизни Менандра афиняне ставили его постоянно ниже удальца Филемона, но только впоследствии поняли свою сногсшибательную оплошность. Филемон пережил Менандра на три десятка лет, и лишь в конце жизни вынужден был признать, что соотечественники не зря отвели ему место после Менандра.
Популярность Менандра со временем сделалась настолько явной, что его портретные изображения получили широкое распространение и дошли до нашего времени. Нам известны сейчас как его мозаичные изображения, так и скульптурные. На них он представлен видным из себя мужчиной, которого, правда, портит слегка какой-то косметический недостаток, ассиметрия довольно привлекательного лица.
Жизнь Менандра оборвалась неожиданно, вскоре после достижения им 50-летнего возраста. Он утонул, купаясь в море на виду у своего приметного дома, возвышавшегося на фоне афинского Акрополя.
Вот и все, что мог знать Лефевр о Менандре. Комедий этой «звезды новой аттической комедии», как называли Менандра при жизни, к началу ХХ столетия никто не знал, кроме смутных представлений обо всем его творчестве, навеянных подражаниями вездесущих римлян. Да еще незначительных отрывков, найденных в глубинах египетских песков.
Исчезновение текстов столь любимого в древности автора объясняли по-разному. Скорее всего, причины сводились к следующему: изобразитель человеческих нравов, порою достаточно вольных, Менандр не вписался в мораль воцарившегося в Европе нового христианства. Христианство же, мягко говоря, не заботилось о сохранении его текстов, считая их абсолютно вредными. Точнее – тексты колоритных, ярких комедий Менандра просто-напросто предавались сожжению.
Еще одно, заслуживающее внимания, объяснение гласит, что причиной исчезновения их стало поразительное богатство его языка, насыщенного экспрессивной лексикой. Такой «неправильный» язык не вписывался в классически выверенную, дистиллированную речь. Не годился для переписывания и распространения в школьно-образовательной практике. Произведения Менандра изгонялись из учебных заведений, переставали тиражироваться в упражнениях, что, в конце концов, также способствовало их исчезновению.
Так что же оказалось в сосуде, попавшем в руки Лефевру?
На 29-й странице стояло имя Менандра. А вся рукопись вмещала четыре его комедии. Относилась она действительно ко времени правления императора Юстиниана и при каких тягостных обстоятельствах была втиснута в терракотовый сосуд.
Все содержавшиеся в находке произведения, сказано, были в очень плохом состоянии, однако же сохранились в таком объеме, что в комбинации с уже известными на ту пору отрывками их по другим источникам – ученый мир получил более или менее четкое представление о творчестве замечательного комедиографа.
У нас есть возможность рассмотреть одну из найденных Лефевром комедий Менандра, известной теперь под названием «Третейский суд».
Вот как, наверняка, увидели ее афинские зрители в своем театре, к тому времени, кстати, обретшем уже совершенно иной, обновленный вид.
Афинский театр Диониса на склоне Акрополя начал перестраиваться в 400 году до новой эры, еще при жизни Аристофана, но результатов этих работ Аристофан не увидел. Свое завершение они получили лишь в 326 году, благодаря рачительному ведению финансовой политики казначеем Ликургом (390–324), непримиримым врагом македонской экспансии, о которой мы уже вспоминали.
Ликург, друг и соратник великого Демосфена, сам выдающийся оратор, ученик Исократа и Платона (древность знала 15 его речей) – вряд ли смог бы остаться в живых в войне с македонцами после смерти Александра Великого, однако мучительную гибель отвела от него смерть в результате какой-то неизлечимой болезни. Новый афинский театр стал прекрасным памятником этому замечательному человеку, совершившему много добрых дел для увековечения великих драматургов, для сохранения их канонических текстов.
Новый афинский театр, в каменном его варианте, подвергался еще некоторой реконструкции, однако то, что уцелело и дошло до наших дней, позволяет представить это сооружение в его настоящем виде. Амфитеатр в нем обхватывал большую часть орхестры, размер которой, уже говорилось, достигал в диаметре 24 метров. Максимальная ширина амфитеатра – 100 м, глубина театральной чаши – 90. В театре насчитывалось 78 рядов сидений, разделяемых на три яруса нарочитыми переходами. Число зрительских мест добиралось до 17 000, однако в театре запросто вмещалось и 30 000 человек. Он часто использовался для проведения народных собраний и т. п. В первом ряду амфитеатра насчитывалось 67 мраморных кресел, центральное – предназначалось для жреца бога Диониса. Сидели там и высшие должностные лица, затем – представители дружественных государств. В новом театре, в чем позволительно нам убедиться воочию, значительно была расширена сцена, которую от зрительских мест отделяли широкие проходы для актеров и публики, известные нам пароды. Передняя часть сцены, то есть проскениум, была в самом деле поднята на значительную высоту и украшена колоннами, меж которыми вставлялись расписанные яркими красками доски, своеобразные декорации, изображающие лес, море, горы…
Действие описываемой комедии Менандра происходило на высоком проскениуме, на фоне сцены. Там были представлены два загородных дома весьма зажиточных обывателей. Пьеса начиналась прологом, что было почти привычно для зрителей. Уже в этом прологе они узнали, будто бы один из увиденных ими домов принадлежит богатому афинскому гражданину Харисию, другой – его другу Херестрату. Все это рассказывал им эконом Онисим, старый пронырливый человек, ведающий обо всем, что творится в доме его хозяина. Впрочем, рассказывал это вовсе не зрителям, но наемному повару Кариону, весьма привычному в жизни типажу, тоже непростому сплетнику, бродяге, авантюристу.
От Онисима повар, а равно и зрители, услышали, что Харисию не повезло с женитьбой. Будучи богачом, он выбрал в супруги дочь зажиточного афинянина Смикрина, человека очень и очень прижимистого. Поначалу у молодоженов все складывалось хорошо, да вот стоило Харисию, какое-то время спустя после свадьбы оставить молодую жену и уехать по неотложным делам, как случилось невероятное: она родила ребенка, хотя после свадьбы миновало не более пяти месяцев. Это и дураку понятно: дети в такие сроки не рождаются! Испугавшись, молодая женщина, по имени Памфила, велела подбросить родившегося младенца. Так и сделали. Однако подобный ход нисколько не помог.
Как только Харисий возвратился, он, Онисим, знающий все и вся, счел своим долгом раскрыть хозяину тайну его супруги. Да опять получилось не то, что предполагалось. Хозяин, оказалось, души не чает в пригожей женушке! Раздосадованный, он оставил свой дом и перебрался вот в этот, к приятелю Херестрату. Там Харисий нанял арфистку Габротонон, которая услаждает его своими песнями, игрою на арфе и своею любовью. Харисий, закутанный в чистую белую одежду, кутит напропалую, проматывая полученное за женой приданое. Чем все это может обернуться – известно одним богам.
Он же, Онисим, знает, что поведением своего зятя весьма недоволен и даже обеспокоен его тесть Смикрин. Старик не раз пытался урезонить Харисия, да пока понапрасну.
И вот уже зрители получают полнейшую возможность своими глазами увидеть Смикрина во время его возвращения из дома Харисия. Это очень важный, пожилой уже господин, с длинным посохом в руке, в чистой белой одежде, с кудрявою бородою.
Навстречу старику бросаются два раба, спорящие между собою. Один из них, Дав по имени, – пастух. Это простой, грубоватый, бесхитростный человек. Речь у него незатейлива, отрывочная, громкая, словно он и сейчас обращается к непослушным коровам. Второй раб, Сириск, – угольщик. Он поумнее Дава, душевнее, опытнее. Сириск побывал уже в городе, где посещал театр. Читал он и кой-какие книги.
Рабы продолжают спор, начатый еще за сценой. Суть же спора заключается в том, что пастух Дав, бродя со стадом в лесу, нашел там подкинутого ребенка. Обрадовавшись, принес находку домой, надеясь выкормить на старость помощника и опору. Однако, поразмышляв, пришел к заключению, что ничего из этого получиться не может, поскольку не имеется потребных средств. Повстречав Сириска, Дав предложил ему найденного младенца, на что Сириск согласился с радостью: его жена недавно потеряла собственного ребенка.
И все же, по прошествии нескольких месяцев, Сириск узнал, что с подкидышем были оставлены какие-то драгоценности. Сириск требует драгоценности себе, мотивируя это тем, что печется не о собственном благополучии, но об интересах ребенка, которому драгоценности принадлежат по праву. Он, Сириск, бывал в театрах, видел, что найденный в подобных ситуациях ребенок часто оказывается отпрыском состоятельных родителей. Узнать истинное происхождение младенца, его принадлежность удается именно по таким драгоценностям. Дав же, наоборот, со всею страстностью и с проснувшимся в нем своеобразным красноречием утверждает, что коль ребенок найден им, то он и стал его собственником вместе с прочими находками. А чтó из найденного следует оставить себе, чтó уступить кому-либо – вправе решать новый собственник.
И вот, завидев почтенного и благополучного Смикрина, гордо несущего длинный посох, – рабы умоляют рассудить их спор, стать третейским судьею (отсюда и название комедии).
Что же, как нам уже хорошо известно, Менандр недаром изучал риторику, философию и прочие науки. Мало того, что поэт изобразил живых, настоящих людей – он со всей убедительностью приводит доказательства за и против. Смикрин, человек, без сомнения, искушенный в праве, тут же выносит вердикт: вещи, найденные вместе с ребенком, принадлежат ребенку!
Возмущенный, Дав все же вынужден подчиниться приговору. Он уступает сумку с драгоценностями Сириску и удаляется, ворча и негодуя.
Удаляется и Смикрин, тоже в душе недовольный подобными поступками молодых матерей, которые так легкомысленно обращаются со своими детьми. Впрочем, он занят своими заботами, своей дочкой и своим зятем.
Тем временем, тут же на проскениуме, раб Сириск, получивший наконец сумку с драгоценностями, принадлежащими найденному младенцу, начинает их внимательно рассматривать, совместно с женою. Супруги так увлечены занятием, что не замечают, как и когда приближается к ним эконом Онисим. Среди находившихся в сумке вещей Онисим сразу узнает перстень своего хозяина Харисия. Услышав, о чем идет речь, Онисим нисколько не сомневается в том, что отцом подкинутого ребенка является его молодой господин.
Онисим забирает перстень с обещанием показать его Харисию. Сириск не спешит домой, он принес господину оброк. Обождет до завтра.
И вот на опустевшем проскениуме снова появляется раб-эконом Онисим, выходящий из дома. Сразу видно: хитрец пребывает в сильнейшем затруднении. Пообещав Сириску показать перстень своему господину, он по-прежнему уверен, что это его хозяин Харисий является отцом подкинутого ребенка.
Но как отважиться на столь дерзкое обращение?
Раздумья эконома прерываются криками гетеры Габротонон, той самой девушки, которую Харисий взял напрокат у Херестрата. Одетая в яркую нарядную одежду, с венком из роз – она искренне огорчена тем, что Харисий не любит ее, будучи всецело поглощенным любовью к своей супруге Памфиле. Расстроенную девушку напрасно пытаются удержать сотрапезники и клевреты Харисия и Херестрата. Нет, она больше не пойдет на этот пир к Харисию. Клевреты обреченно разводят руками и уходят в дом. Габротонон вдруг замечает перстень в руках Онисима, от которого ждет ответа Сириск.
Из разговора рабов Габротонон узнает, что чудесный ребенок, которого она только что видела в доме Херестрата, которого кормила грудью жена угольщика Сириска, – вовсе не приходится сыном рабской чете. Чудесный ребенок – подкидыш. Его родила, стало быть, какая-то несчастная девушка, быть может, подвергшаяся насилию. Одну из таких девушек она видела и даже утешала на ночном девичьем празднике в честь богини, на котором играла, не будучи еще гетерой.
Ба, да что она слышит! Отцом этого ребенка, без сомнения, является Харисий. Перстень, найденный при ребенке, принадлежит ему. Это признает Онисим. Но именно этот перстень Габротонон видела у той несчастной девушки. Она сорвала его с пальца насильника…
Несказанная жалость захлестывает добрую от природы Габротонон. Гетера решается на хитрость: она вынудит Харисия признаться, что он – отец подкидыша. Себя она выдаст за жертву той несчастной ночи, а в доказательство представит перстень. Это – пока. Сломив гордость Харисия, она разыщет настоящую мать ребенка, а тем временем, быть может, сама получит свободу и вырвется из рабского состояния.
Своими планами гетера делится с Онисимом. Тот ее поддерживает. Правда, без особого энтузиазма. Отдает ей перстень.
Надо сказать, что описываемая комедия в общей сложности дошла до нас только частично. От нее сохранилось примерно две трети. Однако дальнейший ход событий в пьесе все же вырисовывается довольно четко. Вот как он мыслится.
Старик Смикрин, между тем, пытается во что бы то ни стало уговорить свою дочь Памфилу развестись с гулякой-мужем, но получает решительный отказ. Памфила любит Харисия. Харисий же, став невольным свидетелем заявления супруги, озадачен им. Смятение Харисия становится невыносимым, поскольку явившаяся к нему Габротонон вынуждает его признаться, что он приходится отцом ребенку. Перстень в руках у ловкой гетеры сыграл свою роль.
И вот, довольная собой, Габротонон выходит из дома уже с ребенком на руках. Неожиданно ей навстречу попадается Памфила. Габротонон тотчас узнает в ней несчастную девушку, которую, как могла, утешала в ту страшную ночь.
Габротонон останавливает Памфилу – и та, в свою очередь, застывает на месте, учуяв в руках гетеры собственного сына. С ее уст срывается вопрос:
– Что это за ребенок?
Габротонон отвечает:
– Подкидыш. Хочу узнать, кто его мать.
– Мать? – колеблется в нерешительности Памфила. – А кто его отец?
– Отец известен. Отец его – Харисий… Но, пожалуй, теперь я знаю, кто его мать…
Между тем Харисий уже не в силах справиться со своим волнением. Он чувствует за собою грех, осознает его. Да, он вел беспутную жизнь, а обвиняет в беспутстве супругу, которая, оказывается, беззаветно любит его. Она ни за что не соглашается на развод!
Переживания комедийного героя обретают действительно драматическое звучание. Он, как и все остальные герои пьесы, становится воистину живым, полнокровным образом, жизненным типажом.
Неизвестно, как справился Харисий со своими переживаниями, узнав в довершение ко всему, что он-то как раз и выступил в роли насильника по отношению к своей будущей жене. Материал пьесы страдает лакунами, но и при этом чувствуется, с каким мастерством сотворены ее части, какого накала достигали в ней человеческие порывы.
Заключительная часть комедии тоже полна парадоксов. Старик Смикрин, не теряя надежды на то, что дочь его образумится, и, не зная, что уже произошло между главными героями пьесы, между дочерью и зятем, – не ослабляет своих усилий, направленных на то, чтобы разлучить-таки дочь с зятем. Полный решимости, он является к дому молодоженов, намереваясь действовать через старую няньку Софрону, а пока что ведет со старухой неспешный разговор, полный комизма.
Последнюю точку в фабуле пьесы ставит эконом Онисим.
– Иди, старик! – кричит он Смикрину. – Приветствуй своего внучонка. Ему уже пять месяцев!
Примирение супругов, их взаимное узнавание – состоялось на глазах у тысяч зрителей…
Да, на трех китах держались все пьесы Менандра, как и его собратьев, создававших новую аттическую комедию: изображение нравов, характеров, разработка интриги. И все же основным движущим стержнем в них всегда оставалась любовь. Это прослеживается во всем творческом наследии Менандра.
Очень важным моментом является находка, относящаяся уже к 1958 году. Это пьеса Менандра под названием «Дисколос» (Нелюдим, мизантроп, брюзга).
Для нас эта пьеса интересна, во-первых, тем, что это единственное произведение великого комедиографа, дошедшее до нашего времени в полном виде. Во-вторых, еще тем, что нам известна дата ее постановки – 316 год до н. э., то есть – всего за год до того, как молодой, 28-летний комедиограф одержал свою первую победу за комедию «Гнев». Стало быть, комедия «Дисколос» представляет собою ранний период творчества поэта. На примере ее четко видно, как разительно быстро развивалось мастерство драматурга, если сравнить эту комедию с другими его произведениями, относящимися к более позднему времени.
Комедия «Дисколос» начинается прологом, в котором выступает бог Пан. Ему-то, богу полей, пастбищ, так тесно связанному с природой, с миром пастухов и земледельцев, – поручено автором дать характеристику главному герою комедии. Это старик по имени Кнемон. Старик действительно является порождением природных сил, сродни чем-то дикому растению, грубому бурьяну. Ненавидя людей, даже своих близких, Кнемон создает для них невыносимые условия у себя дома. Что же, Кнемона бросила жена. Она уходит к своему сыну Горгию, рожденному ею в первом браке, так что Кнемон остается в свем в доме только с дочерью и со старой рабыней.
Но окружающая Кнемона действительность вторгается в его судьбу самым беспардонным образом. Старому брюзге опасность грозит в первую очередь со стороны молодого соседа Сострата. Богачу и красавцу Сострату достаточно было увидеть дочь Кнемона, чтобы без памяти влюбиться. Казалось бы, ничто не могло помешать счастью молодого человека, ан не тут-то было. Узнав поближе, кто таков Кнемон, Сострат понимает: ему не светит возможность стать зятем сумасбродного старика, который всех людей без разбора встречает градом камней, не подпуская близко к своему жилищу. Как же быть? Сострат решает, что действовать в его положении следует вовсе не напрямик. К заветной цели надо пробиваться окружными путями.
Сострату удалось подружиться с приемным сыном Кнемона, упомянутым нами Горгием. Богач помогает Горгию в ведении хозяйства, становится его приятелем, а затем и другом.
Влюбленным, как говорится, обязательно когда-нибудь должно повезти. Повезло и Сострату.
В один из жарких летних дней усталый Кнемон уронил в колодец ведро. Опасаясь, что ведро может запросто пропасть, старик во что бы то ни стало решил достать его. Но не рассчитал собственных сил: сам оказался в колодце рядом с ведром. На крики о помощи бросился Горгий. И вот тут-то Сострату открылась счастливейшая возможность для отыскания пути к сердцу будущего тестя. Он спасает старика, и тот, чувствуя себя обязанным перед юношей, отдает за него свою дочь.
Правда, даже счастливая судьба дочери нисколько не переменила характер мрачного нелюдима, однако все-таки на него подействовала.
Как видим, сюжет этой комедии не предоставлял автору возможностей развернуть во всем блеске свои способности.
Всё это было еще впереди…
Краткие сведения о великих драматургах
ФЕСПИД (VI век до н. э.). Современник реальных исторических личностей – Солона, Писистрата, «творец античного театра». В присутствии Солона «гастролировал» в Афинах. Там же завоевал первое место в состязаниях поэтов-драматургов (534).
ЭСХИЛ (525–456). Родился в Элевсине, умер на острове Сицилия, в городе Гела. Первую трагедию поставил на двадцать пятом году своей жизни, а первой награды добился лишь в 484 году до н. э.
Автор около 70 трагедий и 20 сатировых драм, из которых до нашего времени сохранились только 7: «Просительницы», «Персы», «Прометей прикованный», «Семеро против Фив», трилогия «Орестея» («Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды»).
Древние считали его «отцом трагедии».
СОФОКЛ (496–406). Родился в Гиппо-Колоне, предместье Афин, скончался в Афинах. Первую драму поставил в 468 году до н. э., сразу же добился победы, причем – над самим Эсхилом.
По некоторым сведениям написал около 120 трагедий и сатировых драм. Нам известны заглавия около 88 из них, однако располагаем сейчас текстами только 7 трагедий. Вот их названия: «Антигона» (443), «Царь Эдип» (429), «Электра», «Аякс», «Трахинянки», «Филоктет», «Эдип в Колоне».
ЕВРИПИД (480–406). Родился на острове Саламин, похоронен в македонской столице Пелле. Автор, предположительно, 92 драм. Из их числа до нас дошло лишь 17 трагедий, 1 сатирова драма и около 1000 разнообразных фрагментов. Впервые Еврипид выступил в 455 году до н. э., с неизвестной нам трагедией «Пелиады».
Названия сохранившихся драм: «Алкестида», «Андромаха», «Вакханки», «Просительницы», «Электра», «Финикиянки», «Гекуба», «Елена», «Геракл», «Гераклиды», «Ипполит», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде», «Ион», «Медея», «Орест», «Троянки» и сатирова драма «Киклоп».
Неоднократно состязался с Софоклом, но часто уступал ему первенство.
В 408 году до н. э., по призыву македонского царя Архелая (413–399), уехал к нему в город Пеллу, где продолжал творить. Там и скончался.
АРИСТОФАН (445–385). Родился на острове Эгина. В своих сочинениях отразил политическую и культурную обстановку, связанную с перипетиями Пелопоннесской войны.
Из 44 комедий, написанных им, до нашего времени дошло лишь 14. Вот названия главных из них: «Ахарняне» (425), «Всадники» (424), «Облака» (423), «Осы» (422), «Мир» (421), «Птицы» (414), «Лисистрата» (411), «Женщины на празднике Фесмофорий» (411), «Жабы» (405), «Женщины в народном собрании» (392), «Богатство» (388).
Своим творчеством заслужил себе звание «отца комедии».
МЕНАНДР (342–291). Родился и умер в Афинах. Уже в древности пользовался званием «звезды новой аттической комедии».
Написал, по некоторым данным, около 100 комедий, из них до нашего времени полностью дошла лишь комедия «Брюзга», папирус с которой был обнаружен совсем недавно – в 1958 году. Из других комедий ученые располагают лишь более-менее значительными отрывками («Третейский суд», «Самиянка», «Обрезанная коса» и пр.).
Примечания
1
Эту новую кличку, насколько мне помнится, дал ему наш университетский «ментор» – Никита Виссарионович Шебалин.
(обратно)2
Бог из машины (лат.).
(обратно)3
Фамилия, а также инициалы, изменены.
(обратно)4
О мертвых (позволено говорить) либо хорошо, либо – ничего (лат.).
(обратно)5
Последнее доказательство королей (лат.).
(обратно)6
Установлен на острове Паросе в 264/263 гг. до н. э.
(обратно)7
Согласно надписи на Паросском камне название Аттика связано было с именем какого-то местного жителя.
(обратно)8
Перевод с древнегреческого Л. Блуменау.
(обратно)9
Перевод с латинского А. А. Фета.
(обратно)10
Не следует забывать, что искусство перевоплощения культивировалось греками задолго еще до рождения Феспида: вспомним хотя бы хитрости Одиссея, прикинувшегося безумцем, когда ему чересчур не с руки пришлось отправляться на Троянскую бойню. Или его же, искусно сыгравшего роль безродного странника перед претендентами на руку его жены Пенелопы.
(обратно)11
Перевод с древнегреческого Я. Голосовкера.
(обратно)12
Слово трагедия означает буквально песнь козла или даже песнь за козла, которая, стало быть, служила наградой за удачное пение.
(обратно)13
561/560 год до н. э.
(обратно)14
Перевод С.Шестакова.
(обратно)15
При Солоне драхма равнялась медимну зерна, и люди, годовые доходы которых составляли свыше 500 медимнов (драхм), считались богачами. Иным ориентиром здесь, быть может, более понятным нам, является следующее: во времена того же Солона бык в Афинах стоил пять драхм; чтобы уплатить подобную «кучу» денег, драматургу понадобилось бы стадо из двух сотен быков.
(обратно)16
Перевод с древнегреческого Л. Блуменау.
(обратно)17
Перевод с латинского А. А. Фета.
(обратно)18
Тоже от древнегреческого глагола δράω – действовать.
(обратно)19
Юноши от 18 до 20 лет.
(обратно)20
Впоследствии афиняне утверждали, будто весь этот ужас на персов наслал козлоногий бог Пан, покровитель лесов и пастбищ, а равно и беззаботных нечесаных пастухов, постоянно играющих на своих свирелях. Бог якобы попался навстречу гонцу Фидиппиду, когда тот спешил к спартанцам или уже возвращался назад. Пан велел ему известить соотечественников, что они обязательно ощутят его поддержку.
(обратно)21
Перевод с латинского А. А. Фета.
(обратно)22
Происходило всё это следующим образом: в народном собрании официально ставился вопрос, не считают ли афиняне, что кто-нибудь среди них угрожает захватом государственной власти? Имя такого человека предлагалось написать на черепке (остраконе).
(обратно)23
Ввиду особого положения, постановлением Ареопага, Аристид Справедливый получил право возвратиться из ближнего изгнания.
(обратно)24
Ничего удивительного. Древнегреческая драма еще долго продолжала рядиться в одежды, из которых когда-то вышла.
(обратно)25
Перевод с древнегреческого В. Аппельрота.
(обратно)26
Разумеется, царская резиденция, где бы она ни находилась, мало напоминала ее же, увиденную на представлении драмы Эсхила.
(обратно)27
Перевод с древнегреческого Л. Блуменау.
(обратно)28
И все ж остается загадкой, каким намеревался изобразить Прометея Эсхил. Нам ведома, повторимся, только часть его драмы – «Прометей прикованный».
(обратно)29
Заметим, что превращение Эриний в милостивых Эвменид считалось самой грандиозной заслугой богини Афины.
(обратно)30
Намек на пелопонесский город Флиунт, откуда был родом основатель сатировской драмы Пратин.
(обратно)31
Перевод с древнегреческого Л. Блуменау.
(обратно)32
Перевод с древнегреческого Л. Блуменау.
(обратно)33
Перевод с древнегреческого Ф. Ф. Зелинского.
(обратно)34
Перевод с древнегреческого Е. Озерецкой.
(обратно)35
Территориально-административная единица (греч.).
(обратно)36
Верхняя одежда (греч.).
(обратно)37
Уместно здесь также заметить, что мудрец как бы предчувствовал отдаленное будущее. То, о чем говорилось в этой пьесе, способствовало мифу о нем как о заматерелом безбожнике и было на руку его обвинителям. Через 20 лет они добьются приговора о смертной казни ему.
(обратно)38
Не преминем заметить, что, по аналогии со строениями на площади Гелиоса, был выстроен так называемый дикастерий (здание городского суда) в более или менее известной нам черноморской Ольвии.
(обратно)
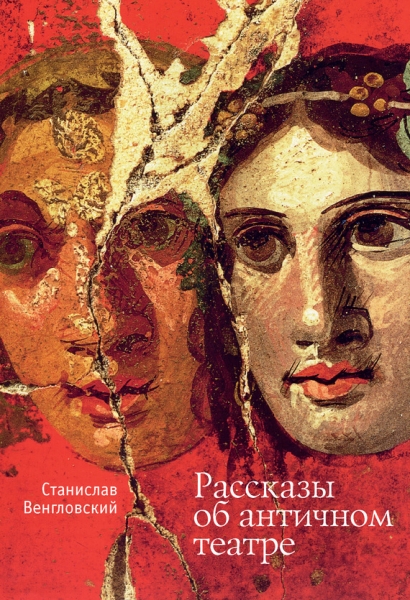


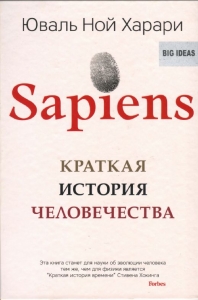

Комментарии к книге «Рассказы об античном театре», Станислав Антонович Венгловский
Всего 0 комментариев