Топография счастья: Этнографические карты модерна (Сборник статей)
Топография счастья, новый диффузионизм и этнографические карты модерна
Средь удовольствий ли, у власти ли высот, Скажи мне, человек счастливый край найдет? О, Мудрость! Разреши скорей мои сомненья И укажи мне путь в счастливые селенья! Гельвеций. «Счастье»Город с именем Счастье один.
Альманах «Счастьенский вариант» (г. Счастье, Луганская обл.)«Приз — в студию!» И с экранов телевизоров или со страниц глянцевых журналов нам улыбаются обладатели сиюминутного счастья — товара. В других шоу или на страницах журналов мы видим тех, кто «нашел свое счастье навек» — состоялся, стал решительно и бесповоротно успешным или просто нашел «свою половину». Погоня за счастьем — одна из навязчивых идей современного общества, а образы счастья практически повсеместны в массовой культуре. На волне этой глобальной индустрии поднимается и научный интерес к счастью[1]. Возник междисциплинарный журнал по изучению счастья — «The Journal of Happiness Studies»[2]. Появились большие статистические базы данных[3], а также такие исследования, как проект Адриана Уайта из университета Лестера, который в результате анализа данных ЮНЕСКО, ЦРУ, Фонда новой экономики и других организаций составил «первую в мире» карту счастья — распределения по странам мира оценок самоощущения, продолжительности жизни и удовлетворенности ею[4].
Постсоветское российское общество является полноправным участником этой глобальной индустрии. Появились ростки отечественной «социологии качества», которая спешит объявить качество жизни «новой цивилизационной парадигмой»[5]. Счастье демонстрируется как через потребление, так и на многочисленных новых или основательно обновленных праздниках и обрядах (от Дня города до Дня Святого Валентина и роскошных свадеб). Несколько менее броско, но повсеместно стремление к нему движет культурой нового среднего класса и влияет на его понимание качества жизни — того, что считается «нормальным», что должно быть у каждого. И в этом понимании не столь важно, идет ли речь о второй половине «нулевых» годов этого столетия, когда потребительство вообще и коммерческая индустрия счастья в частности достигают своего апогея, или о начале «десятых», когда кризис заставляет многих быть более скромными и экономными. Идиома «нормальности» с его компонентами потребления характеризует оба периода.
Эта погоня за счастьем пришла на смену советской стройке счастливого будущего всего человечества. Советское счастье — как коллективное, откладываемое в далекое будущее, так и счастье в простоте или счастье оттого, что государство не трогает лично тебя в данный момент, — также занимало центральное место в иконографии социального порядка[6], но обладало иной временной и пространственной организацией. Постсоветское счастье демонстративно индивидуалистично и, как броская упаковка товара или даже как сам товар, кажется доступным или, по крайней мере, близким, возможным здесь и сейчас.
Впрочем, значительная разница между советским и постсоветским пониманием счастья не мешает широкому использованию советскости в качестве товара или товарной упаковки в современной индустрии счастья. Как показано в предлагаемой читателю книге, постсоветскость, словно губка, впитывает различные культурные модели. Индустрия счастья находится на перекрестке всемирных культурных потоков, и историческая траектория социализма и советскости составляет только один из них. Глянцевые журналы, телешоу и их идиомы счастья и успеха — как правило, глобальные бренды. Каждая точка в этих потоках (например, «места счастья» каждой из глав этой книги, которые посвящены не только Россия, но и США, Великобритании, Индонезии, Индии) является подобным перекрестком, если не перекрестком перекрестков. Скажем, противоречие между счастьем отложенным и немедленным, между ориентацией на далекое будущее и немедленным удовлетворением характеризует не только советскость и постсоветскость, но и «американскую мечту», замешенную и на протестантской этике, и на потребительском материализме. Эта и другие идиомы счастья и социального порядка находятся в глобальном культурном дрейфе. Они путешествуют, пересекая границы, адаптируясь в новых культурных контекстах и одновременно перерабатывая сами эти контексты по своему образу и подобию. Например, «американская мечта», о которой идет речь в главе Дарьи Терёшиной, — это мечта российских сотрудников, хотя и транснациональной компании.
Топография названных процессов составляет предмет данной книги. Цель ее — набросать в первом приближении этнографическую карту модерна как отражение погони за счастьем, как карту социального пространства, отмеченного его образами. Эта территория новая в нескольких смыслах: массовая индустрия счастья стала и новым историческим феноменом, и новым предметом антропологического исследования. «Этнографическая карта модерна» предлагает новое и необычное для российской науки использование термина этнография.
Этнографическая карта здесь — это не карта народов, а пространственное отображение социальных практик и идей, которые изучаются этнографическими методами. Подчеркну, что это пространственное отображение не зависит от ответа на вопрос о том, что такое счастье и достижимо ли оно; в этой перспективе счастье остается «вечным вопросом», «черным ящиком»; его и вообще может не быть. Как этнограф я предлагаю зафиксировать не то, что есть счастье, а то, что существуют люди, которые задаются этим вопросом; я предлагаю наблюдать за их поисками, составляя «топографию счастья».
Наша карта состоит из двух частей. Первая часть — это карта предстоящего пути; ее составляют прежде, чем начать двигаться. Это план действий, который показывает, где и как люди намереваются искать счастье, чем руководствуются в своих поисках. «О, Мудрость! — возглашает Гельвеций. — Разреши скорей мои сомненья / И укажи мне путь в счастливые селенья!» Его поэма «Счастье»[7], которая была написана в 1740-х годах и строки из которой я взял в качестве эпиграфов к данной главе и ее разделам, — как раз и является описанием путешествия в поисках счастья. Вторую часть карты составляет топография уже пройденного пути. Пригородная застройка «одноэтажной Америки», дворцы счастья, великие стройки коммунизма — все это следы, которые люди оставили на этом пути, пространство, которое они создали, причем вне зависимости от того, нашли ли они то, что искали. Две эти карты, как правило, не совпадают. Первая часто так и остается утопией; это проекция как в будущее, так и в прошлое — в детство или в Золотой век.
В Украине, в Луганской области, есть город Счастье (укр. «Щастя»). Его история восходит к одноименному поселению, которое впервые упоминается в конце XVII века и находится на берегу Северного Донца, в то время — пограничной реки. По легенде, беглые крестьяне, пересекавшие границу и якобы основавшие это поселение, обретали свободу от крепостной зависимости, т. е. «находили свое счастье». Но существуют и другие легенды, связанные не с исконной волей, а, напротив, с крепостным землевладением. Известно, что Екатерина II подарила земли, прилегающие к Донцу, комиссару Таганрогской таможни Григорию Ковалинскому; и поселение Счастье, располагавшееся на так называемых ранговых дачах, получило новое название — Ковалинка. Казалось бы, переименование заменило счастье как волю именем владельца как печатью крепостничества. Но тут и возникают легенды, в которых это село называется Счастьем. Согласно одной, Ковалинский, будучи молодым придворным, поднес Екатерине шлейф «чуть не два метра», и довольная царица отблагодарила его земельным подарком, добавив: «Там ты найдешь счастье свое». Согласно другой, Екатерина даровала Ковалинскому эту землю, проезжая по Тавридии, и тот воскликнул: «О, счастье». Согласно третьей, эту землю выиграл в карты некий улан, который справедливо счел свой выигрыш счастьем[8].
Счастье как воля, счастье как императорский дар или счастье как удача в игре — все это исторические легенды. Первый вариант (Счастье как место свободы от крепостничества) основан исключительно на пограничном расположении этих земель. Но это предположение приобретает особую значимость в советское время. Сначала Ковалинке возвращают имя Счастье; затем там создается колхоз «Новая жизнь». А в результате строительства Луганской ТЭЦ, согласно местным изданиям, в Счастье «начинается настоящая новая жизнь»[9], устремленная в светлое будущее; наконец, в 1963 году село становится городом. Это уже советские идиомы счастья как «нового мира»; и так же как побег от крепостного ига или, наоборот, крепостное владение в Ковалинке, в советском случае эти идиомы включены в территориальные практики — строительство ТЭЦ и укрупнение города. Эти значения не противоречат, а скорее дополняют другие идиомы счастья как дара и удачи.
На этом примере видна гетерогенность смыслов счастья, которые связаны с множественностью значений места, что выражается через несколько сосуществующих в культурной памяти исторических нарративов. Но гетерогенность характеризует и смыслы пространства, и сами пространственные практики; счастье — это индикатор гетеротопии[10], которая умножает их смыслы, уплотняет и усложняет пространство.
Поясню это понятие — пространство. В данную книгу вошли материалы конференции, которая была проведена в рамках выставочного проекта «Топография счастья: современная русская свадьба» (куратор Ольга Соснина)[11]. Ключом и к выставке, и к конференции, и к топографическому подходу книги служит пространство свадебного ритуала, особенно тех мест, где принято фотографироваться в «самый счастливый день жизни». Как показывают глава — и выставка — Сосниной, любой современный город России обладает такой «топографией счастья», которая бросается в глаза благодаря обилию белых платьев невест. Пространство обряда построено по идеальной модели: ухаживание, сватовство, сама свадьба, будущая семья. Это карта социального пространства, каким оно «должно быть», — карта счастливого социального пространства. И дело не столько в том, что реальная семья не совпадает с идеальной моделью, сколько в том, что создание семьи (время) и день свадьбы (время) проходят по этому ритуальному маршруту (пространство). Более того, топография счастья предлагает также и идеальную модель города, с его достопримечательностями, памятниками победы в Великой Отечественной войне, новыми мостами и парками. И это, конечно, формирует еще одно пространство — пространство индустрии счастья как товара, с ее обязательными расходами, в том числе и на фотографа. Как подчеркивает Соснина, очертания этих пространств существуют одновременно. Топография современной русской свадьбы — это гетеротопия, представляющая гетерогенное пространство в его идеальных и реально обитаемых формах. Она включает в себя все эти измерения социального пространства (семья, город, рынок) плюс пересечение культурных потоков — например, канонов свадебного фото, которые сильно подвержены глобальной моде, и канонов советскости (фото на фоне Вечного огня или танка).
Понятие гетеротопия, которое Соснина использует для анализа свадьбы, фундаментально для всей нашей книги. В более широком плане можно сказать, что гетеротопия счастья — это пространство, которое сформировано несколько замедленными нами (исследователями) ритмами всех этих потоков, отображение этого постоянного движения. О свадебном обряде и его индустрии счастья пишут несколько наших авторов. Но темы глав не исчерпываются этой проблематикой. В одной из глав рассматривается социальное пространство, которое создано и освоено автомобилем как вожделенным предметом мечтаний советского и постсоветского потребителя; в другой — пространство праздников успеха, которое устраивают для сотрудников коммерческие компании. Ниже я представлю эти и другие главы как точки в линиях культурных потоков и связей. А также подробнее поясню, что такое пространственный подход, причем и как рассматривающий время в пространственном разрезе, и как использующий методы диффузионизма — одной из школ в антропологии, которая в новой форме проявляется в исследованиях глобализации. В заключение я предложу предварительную типологию этого пространства — набросок этнографической карты модерна. Но начать следует с вопроса о культурной территории счастья, о культурной специфике этой категории.
Homo felix, «человек счастливый»
Для наших первых дней полезен будет Локк, И начинающим он ценный даст урок. Хоть цели не достиг и этот мудрый гений, Он путь нам указал для новых достижений. Гельвеций. «Счастье»Вернемся к «первой в мире карте счастья» Адриана Уайта, которую я упомянул в начале данной главы. Это распределение по странам мира самооценок самоощущения и качества жизни. Предлагаемая нами топография счастья представляет собой совершенно иную карту. Исследование Уайта построено на универсальности понятия счастья. Оно универсально, поскольку, во-первых, объективно сопоставимо, т. е. сводимо к некой единой шкале, отражением которой и является его карта мира, и, во-вторых, субъективно узнаваемо. Один счастлив потому, что купил новый автомобиль, другой — потому, что имеет возможность заниматься искусством, а кто-то просто потому, что развел костер. Но спросить, узнать и оценить, счастливы ли люди, и если да, то насколько, можно везде и всегда.
Предположим, однако, что такое же исследование проведено не в пространстве, а во времени. В этом случае вполне возможно изучать, насколько позволяют источники, степень удовлетворенности жизнью не только в современности, но и в прошлом. Однако, как отмечает медиевист Павел Габдрахманов, «подавляющее большинство [средневековых европейских] исторических текстов не содержит вообще никаких прямых и эксплицитно выраженных представлений людей прошлого о счастье и несчастье. В них обычно нет ни развернутых рассуждений о счастье и несчастье, ни даже подробных описаний переживания чувства счастья и горя, ни часто и самих слов „счастье“ и „несчастье“ в них вообще найти не удается»[12].
Даже если мы имеем дело с культурными истоками западной современности (например, с «Никомаховой этикой» Аристотеля, в которой счастье — предельная тема политической науки), нам необходимо иметь в виду, что термины, о которых идет речь, не соответствуют нашему современному пониманию. Счастье Аристотеля — это греческие eutychia (добрая судьба, удача) и eudaimonia (благополучие). Но эти термины имеют религиозные корни: слово tyche (судьба) означает также акт божества, a daimon — божественную силу, определяющую назначение человека[13].
Исследования культурной истории счастья подтверждают то, что очевидно и антропологу, работающему в современности. Счастье и его поиск не являются кросс-культурными универсалиями. Даже если самому слову счастье можно подобрать эквивалент в различных языках, точность перевода теряется по мере удаления от некоего культурного круга. Чем шире сравнительная рамка проекта, подобного исследованию Уайта, тем более очевидно, что измеряется некая общая удовлетворенность жизнью, а это — другой вопрос, хотя и связанный с проблематикой счастья. Исследования такого рода включают в себя допущение «по умолчанию» не только того, что понятие счастья универсально, но и того, что наиболее глубоко и по-настоящему счастливы те общества, где в наличии демократия, потребитель и средний класс западного типа, а также что весь остальной мир стремится именно к этому счастью[14].
В этой посылке есть своего рода удовлетворение, если не счастье. Карта мира служит здесь зеркалом, в которое с удовлетворением смотрится западный социолог или психолог как представитель западного же среднего класса. Но при этом теряется из виду, что и неуловимость счастья, и его массовая индустрия (включая и подобные исследования, которые могут быть тесно связаны с маркетинговыми стратегиями этой индустрии) — это про здесь и сейчас; и что качество жизни — это прежде всего про то, как «нормально» должно быть у «нас», причем обязательно и скоро — потому что так «у всех». Главный антропологический вопрос этой книги, таким образом, состоит в том, кто такие «мы» и кто такие эти «все». Где начинается-кончается в пространстве и во времени ареал обитания, где вводится наш «человек счастливый»? (Предлагаю ввести в научное употребление такой «вид» и назвать его «по-научному» homo felix.)
Границы этого ареала хорошо видны на российском материале. В допетровское время размышление о «щастие» и его поиск не владели умами; и то и другое — культурный импорт эпохи Просвещения[15]. В истории происхождения имени города Счастье только одна легенда относится к допетровскому времени. Даже если версия о происхождения села Щастя в XVII веке достоверна, дискурс о счастье становится более насыщенным в послепетровское и советское время. Горе-Злосчастье русских сказок — это, конечно, яркий персонаж, который и подслушивает похвальбу молодца, и дает ему советы (в основном плохие, например «бить и грабить людей»). Даже если он и помогает молодцу (не дает, скажем, утопиться), то всего лишь затем, чтобы молодец «поклонился ему». Персонажу по имени Горе-Злосчастье не противостоит персонаж по имени Счастье. Горе-Злосчастье не столько «Не-Счастье», сколько Горе, которое, согласно А. В. Маркову[16], тесно связано с образом Смерти. Сказ же про то, как Иван за счастьем ходил, — это не русская версия универсального фольклорного сюжета, а, скорее, фольклорная реакция на диффузию западноевропейского абстрактного понятия счастье, которое само формируется в XVII и XVIII столетиях. Но в таком русском сказе счастье — это конкретно и просто: богатство, свадьба, удача. Иван далек от морализирующих персонажей повестей-притч эпохи Просвещения, таких как Добрый Брамин Вольтера, который провел всю жизнь в поисках счастья и, самое главное, по дороге много рассуждал о тщетности таких поисков.
Прослеживая линии этих поисков назад, мы приходим к точке, являющейся исходной в топографии счастья. Эта точка — культурная и философская система начала Нового времени, или классического века, которая формулирует идею современного общества, чья цель — счастье человека. Спиноза, Гоббс, Локк и следующая за ними плеяда мыслителей Просвещения рассуждают о счастье систематически и обстоятельно. И именно они понимают это счастье как мирское, светское, «простое человеческое», а не как, к примеру, древнегреческий экстаз слияния с божеством, или религиозное спасение эпохи Средневековья, или средневековые же мирские, простонародные и куртуазные понятия радости, удачи и богатства[17].
Здесь не место обзору идей о счастье классического века в сколько-нибудь исчерпывающем виде. Отошлю любознательного читателя к фундаментальным по широте охвата работам культурного историка Даррина Мак-Махона и философа Николаса Уайта[18]. Отмечу лишь, что особенно ясно эта новая точка зрения сформулирована Джоном Локком.
По Локку, современное общество должно быть осознанным договором индивидов о его устройстве. Индивиды, составляющие его, должны быть свободны вообще и, среди прочего, свободно следовать своим личным интересам и стремлениям. Единственное ограничение свободы здесь — интересы других членов общества. Конечно, теория общественного договора сама по себе практически ничего не говорит о счастье. Общественный договор не предписывает, к чему именно надо стремиться и что есть счастье. Он всего лишь предлагает формулу взаимоотношений людей, которые могут стремиться к разным целям. Однако размышления о счастье занимают видное место в теории познания Локка, выраженной в знаменитом «Опыте о человеческом разумении» (1689). С одной стороны, автор утверждает, что человек — это чистый лист бумаги (tabula rasa), который не обладает никакими врожденными понятиями и творит себя сам. Но, с другой стороны, этот чистый лист плавает в пространстве гравитации, т. е. влияния сил, которое он испытывает на себе, подобно телу из физических теорий Ньютона, современника Локка. Беспокойство, неудобство — это тяготение в одном направлении; желание разрешить проблему — это противодействие, т. е. движение в другом направлении. Но это противодействие не является действием самого плавающего чистого листа; это воздействие некой противоположной силы. Два полюса этого всемирного тяготения: страдания, невзгоды (misery) — и счастье (happiness):
Всякий жаждет счастья. Если, далее, спросят, что возбуждает желание, я отвечу: счастье, и только оно. «Счастье» и «несчастье» — вот название двух противоположностей, крайних пределов, которых мы не знаем, это то, чего «не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку»[19]. Но мы имеем очень яркие впечатления некоторых степеней того и другого… наслаждения и радости, с одной стороны, муки и горя — с другой[20].
Отметим, что счастье определяется через стремление к нему, а не через содержание самого счастья. Его «не видел глаз, не слышало ухо». Счастье, вместе с интересами и стремлениями, — это «черный ящик», у каждого свой. Это очень близко к тому, что говорит Гоббс в «Левиафане», несмотря на разногласия двух философов по другим, и очень важным, вопросам: «того finis ultimus (конечной цели) или Summum Вопит (высшего блага), о которых говорится в книгах старых философов морали, не существует… Счастье состоит в непрерывном движении желания от одного объекта к другому, так что достижение предыдущего объекта является лишь шагом к достижению последующего»[21].
Именно этот «черный ящик» — то, чего «не видел глаз, не слышало ухо», та finis ultimus (конечная цель), которой «не существует», — и возбуждает желание, т. е. энергию движения к этой несуществующей точке, аффект в том виде, как его понимает Спиноза: аффект, который кажется имманентным источником энергии сам по себе. Но движение — процесс во времени. Идиома счастья классического века — это временная категория. Счастья ждешь, долго к нему стремишься, сомневаешься, будешь ли счастлив. Когда счастье есть, оно мимолетно, преходяще. Русское слово счастье однокоренное словам сейчас и час (ср. французское bonheur). Счастье, когда оно есть, может быть незаметно — о нем вспоминаешь, когда оказывается, что его уже нет: «мы были счастливы». Оно среди тех вещей, которые, если воспользоваться английским выражением, красноречивы своим отсутствием.
Но обратим внимание на то, что у Локка это время представлено как пространство. Стремление к счастью — процесс во времени — представлено в виде поля тяготения с полюсами вселенского масштаба. В этом видении Локка налицо также историческая граница с более старым религиозным мировоззрением. Вселенское поле и человек — Божественное творение, а в полюсах счастья и несчастья Локк помещает Рай и Ад.
Это замещение времени пространством чрезвычайно важно концептуально. Мой главный тезис, который формирует главную аналитическую ось глав данной книги, таков: счастье не просто временная категория, но такая, в которой время постоянно меняется на пространство. Наш «человек счастливый» не столько счастлив уже изначально, сколько стремится к счастью. И так же как теория общественного договора не описывает интересы человека, которые он «свободен» удовлетворять, стремление к счастью само по себе не сообщает, в чем же это счастье состоит. Но как общественный договор задает форму социальных взаимоотношений людей в их индивидуальном стремлении удовлетворить свои интересы, так и пространство — это форма, в которой выражается стремление к счастью как категории времени.
Вспомним об универсальности и субъективности счастья, отраженного на карте Адриана Уайта (проект которого, так же как и западная универсалистская социологическая и психологическая традиции, — прямой наследник философии Локка). Дело не только в том, что один может стремиться купить новый автомобиль, другой — заниматься искусством, а третий будет счастлив, просто разведя костер. Может оказаться так, что в поисках счастья человек хотел купить автомобиль, а потом занялся искусством; или, приобретя автомобиль и занявшись искусством, так и не стал счастливым. Счастье не только мгновенно, но и переменчиво. Гораздо более постоянна и зрима карта поисков, а также пространство, в этих поисках созданное или освоенное.
Наблюдение, что «всякий жаждет счастья», быстро становится принципом желаемого в идеале общественного устройства, например французской Декларации прав человека и гражданина (1789) и республиканской Конституции (1793). Знаменитая фраза Томаса Джефферсона в Декларации независимости США: право на преследование счастья неотъемлемо — написана во многом под философским влиянием Локка. Отсюда следует, что ограничение свободы в поисках счастья является нарушением естественного права человека. То, что целью общества является счастье его членов, неоднократно повторяли отцы американской демократии. Каково же это счастье? Это счастье свободы, счастье независимости и того, что мы сегодня ассоциируем с материальной основой жизни среднего класса. Но счастье прежде всего — это возможность преследования счастья (pursuit of happiness). Это временная категория, но это еще и перемещение в пространстве. Топография счастья «американской мечты» включает в себя знаменитый Орегонский тракт (Oregon Trail) — путь, по которому отправлялись на запад повозки с пионерами и переселенцами[22]. Он начинается в основанном в 1827 году форпосте в штате Миссури с красноречивым названием «Независимость» («Independence»). По сторонам тракта, как грибы, вырастают земледельческие фермы, скотоводческие ранчо, маленькие городки — предвестники одноэтажной Америки, неотъемлемой части воображенной всемирной топографии запада США и «Запада» вообще как места прогресса, успеха и счастья.
Но уже в это время топография счастья уплотняется и усложняется. Наметим три линии этих усложнений и модификаций, которые важны для рассмотренных в этой книге тем. Первую линию условно назовем линией «американской мечты». Она, как Орегонский тракт, следует идеям Локка, но и перерабатывает их. Импульс силы преследования счастья здесь — не пассивное подчинение гравитации; источник энергии — сам человек, его активность. Это — энергия роста, миграции, экспансии. (Хотя на запад переселенцев вела не только энергия преследования мирского счастья, но и протестантское провидение. Тракт мормонов — это название одного из ответвлений Орегонского тракта, но также и один из его синонимов.)
Вторая линия — линия Романтизма, который гораздо более нормативен, чем у Локка, в понимании того, что именно считать счастьем. Романтизм видит счастье в простоте. Понятие простого, «элементарного» общественного состояния, конечно, разделяется и Романтизмом (Руссо), и более ранней философией. Таково у Локка общество американских индейцев. «Вначале, — пишет он, — весь мир был подобен Америке, и в еще большей степени, чем теперь, ведь тогда нигде не знали такой вещи, как деньги»[23]. Но эта Америка вовсе не является у Локка моделью счастливого социального идеала, а всего лишь — девственной территорией, открытой для освоения. Предметом собственности, по Локку, может быть только продукт труда, тогда как индейцы, полагал он, не только не знали денег, но и не обрабатывали земли, и, следовательно, «воистину» владели только охотничьей добычей, а не землей, на которой они охотились. Американское «право преследовать счастье» предполагало по умолчанию естественное право селиться на земле индейцев. Орегонский тракт идет прямо в «капиталистическое далеко» по индейским территориям, не замечая их сложной системы землепользования, в том числе и земледелия, и сметая на своем пути их хозяев. Руссо и последующий Романтизм видят исконное человеческое счастье и исконный социальный идеал именно в «элементарных» формах собственности, в простоте, отсутствии денег и неотчужденном владении землей и другой собственностью сообща. Романтизм добавляет образу агрессивного преследования счастья по Декларации независимости нечто противоположное: «острова счастья» — леса и прерии, населенные прекрасными и добрыми «дикарями» (bon sauvage), а также мотив ностальгии, которой исполнена фигура «доброго дикаря» в качестве уходящей натуры. Это счастье, переживаемое как невозвратная потеря.
Третья линия идет также от Локка, но проходит далее через Маркса и ведет в государственный социализм. Труд, по Локку, создает то, что «воистину твое», т. е. является естественной основой собственности. Именно это понимание лежит в основе трудовой теории стоимости Адама Смита и Маркса. Но для последнего, в отличие от Локка и Смита, труд — ценность сама по себе, а не просто средство создания собственности как основы счастья.
Марксово счастье в труде касается, конечно же, труда неотчужденного, т. е. не превращенного в товар — и даже, в конечном счете, говорит Маркс в «Немецкой идеологии», не детерминированного разделением труда как «чуждой, противостоящей ему [свободному труду] силой», которая угнетает человека, превращая его в заложника добывания средств к жизни:
…В коммунистическом обществе, где никто не ограничен каким-нибудь исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, — как моей душе угодно, — не делая меня, в силу этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком[24].
Счастье социалистической мысли строится на образе дороги, так же как «американская мечта» — на образе Орегонского тракта. Но топография этого счастья подразумевает долгий исторический путь «от ошибки и несчастья к правде и счастью», если цитировать подзаголовок газеты «Кризис» утописта Роберта Оуэна (1832)[25]. Социализм усиливает исторический нарратив Просвещения — нарратив перехода от «предрассудка» к «правде», т. е. к рационально и верно установленной и сознательно конструируемой модели общества, что эквивалентно переходу от несчастья к счастью. В эпоху якобинской диктатуры в начале 1790-х годов возникает план переустройства Парижа, на котором от Площади Революции широкая авеню вела бы к Площади Счастья[26]. План остался на бумаге, но эти пространственные аллюзии, которые на языке плана города воплощают идею прогресса от старого режима — через революцию — к счастью, предвещают язык советских архитектурных экспериментов. Но в отличие от века Просвещения предметом критики социалистической мысли являются не столько религия и иерархии феодального общества, сколько иллюзии, предлагаемые человеку самой «рациональной» (Локковской) современностью, сконструированной из критики классического века. Ее результат — капиталистическое общество, с его культом обогащения и буржуазных свобод, — и является той «ошибкой», от которой историческая дорога ведет к истинному счастью.
Интересно, что Марксов образ далекого будущего тесно связан с образом далекого же прошлого — первобытного коммунизма. «Утром охотиться» становится заглавием популярной этнографической работы об индейцах Амазонии, которая берет в качестве эпиграфа всю вышеприведенную цитату Маркса[27]. Иными словами, мы видим начала антропологии. Как бы ни оценивалась фигура первобытного человека — по Локку, по Руссо или Марксу, она становится вводной и для понятия человека вообще, и для понятия «человека счастливого». Замена времени пространством происходит здесь при помощи известного этнографического фокуса. Путешествие в пространстве (этнографическая экспедиция) считается путешествием во времени назад, к живой старине, к нашим давним предкам. Этот ландшафт поисков счастья в прошлом или строительство будущего не зависят ни от того, что само счастье понимается как непостоянная единица (что оно переменно), ни от того, что есть существенные расхождения между теми же Локком, Руссо и Марксом в том, куда ведет путь к счастью.
Новый диффузионизм
Прекрасно наблюдать и действия пружин, Что движет смертными сплетением причин… Глядеть, как нациям приносят просвещение — Искусства и закон, война и столкновение; Сословья нового следить обычай, нрав; Предвидеть мощь его или потерю прав… Гельвеций. «Счастье».Пока что мы определили одну только точку в нашей топографии — европейский классический век. Читая нашу книгу и имея в виду эту точку, можно увидеть некоторые современные контуры того ареала, которые, конечно, гораздо шире, чем Запад. Но это не означает, что мы, выставив универсальную карту счастья Адриана Уайта за дверь, тащим ее назад через окно. Предлагаемая читателю перспектива не универсалистская, а диффузионная. Хотя я определяю Запад как источник понятия счастья, в сегодняшнем мире четко определить границы «Запада» как культуры невозможно. Категории, созданные на Западе, обрели жизнь в других этнографических контекстах, благодаря его всемирной культурной экспансии, которая во многом была также продуктом системы Просвещения. Повседневная жизнь свадебных фотоальбомов в Индонезии, о чем пишет в своей главе Ник Лонг, невозможна ни без глобального распространения фотографии, ни без влияния европейской культуры в колониальную эпоху. Индуистская категория харма, о которой говорит Рэйчел Дуаер в главе о счастье в индийском кино, конечно, имеет свою сложную семантическую генеалогию в Индии вне культурного круга западной современности. Моральный дискурс хармы как основы социального порядка является важной чертой эстетики «счастливого конца» в Болливуде. Но, показывает Дуаер, эти смыслы сформированы как кино- и телеиндустрией Индии, где существует множество экранизаций классической мифологии, так и модернизмом Ганди и Тагора, который находится в диалоге с европейскими категориями Просвещения и Романтизма. Представления о счастливом будущем детей-эвенов северной Сибири (глава Ольги Ултургашевой) — это их реакция на «антиутопический» контекст российских и советских — по сути, колониальных — учреждений (таких, как школа-интернат и совхоз), а также образов жизни «на материке» (как на Севере называют Россию средней полосы) и особенно «в городе».
Мы видим, что на нашей карте уже не только общая точка исхода — система Просвещения, но и «этапы большого пути»: Индонезия, Индия и Сибирь, американская «глубинка» (глава Марии Золотухиной о деньгах и детях) и «американская мечта» российских сетевых торговцев (Дарья Терёшина). Эти и другие места, которым посвящены главы этой книги, — не культурные резервуары, которые подобны стоячим заводям и которые легко очертить контуром «страны и народы», а активные точки обмена, смешивания, слияния.
Ульф Ханнерс в своей работе, положившей начало антропологии глобализации, назвал современный мир «глобальной ойкуменой»[28], сознательно позаимствовав этот термин у Альфреда Кребера и диффузионистов начала XX века. Но дело не только в том, что некоторые понятия диффузионизма «работают» в изучении глобального культурного дрейфа. Наоборот, сам интерес к антропологии глобализации — это результат возрождения интереса к пространственным связям, и его можно назвать «новым диффузионизмом».
Обратим внимание, что антропология глобализации стоит на плечах постколониальных исследований, т. е. на исследованиях европейской территориальной экспансии Нового времени, а также на исследованиях этничности и национализма. Последние показали, что защита местной специфики — это не столько местная культурная реакция на имперскую и культурную экспансию, сколько заимствование современной западной матрицы этнической и национальной организации, созданной на Западе в эпоху Романтизма, иными словами — форма его культурной диффузии. В этих контекстах антропологическое внимание привлечено совсем не к «островам» культур, пока что не тронутых Западом или «современностью», а, напротив, к западным и современным культурным формам, которые глобально циркулируют, заимствуются, перерабатываются. Каналы и агенты этой диффузии в эпоху глобализации — не столько социальные группы, сколько сети. Арджун Аппадураи называет их гибкими шафтами (flexible scapes), от ландшафта (landscape) — этношафтами, медиашафтами, финансовыми шафтами (ethnoscapes, mediascapes, financescapes) и т. д.[29] Но каждый из этих шафтов, или потоков, — это не просто канал заимствования, это линия переработки, адаптации, преобразования. Таким образом, то, что я предлагаю назвать новым диффузионизмом, существенно отличается от диффузионизма рубежа XIX и XX веков. Это не исследование культуры путем сведения ее к точке заимствования, а рассмотрение исторически протекающего взаимовлияния и диалога. Как заимствование идей Локка в американской Декларации независимости и в понятии «американская мечта» является не просто копированием Локка, но и его модификацией, так же и линии связей в гетеротопии счастья — это именно линии связей, т. е. сложное сочетание единства и отличия. Рассмотрим теперь эту карту связей, или процесс диффузии, более подробно, с примерами из глав, которые составляют данную книгу.
Метаморфозы «американской мечты»
Достигнув высоты, он видит новый свет, Его несчастье в том, что здесь желаний нет. Что ж, — молвит он, — меня терзают подозрения, Мне душу жгут огнем мои же преступления, Вокруг меня стоит враждебная мне рать, Мне угрожает всё — и нечего желать! Гельвеций. «Счастье».По Гоббсу, счастье «состоит в непрерывном движении желания от одного объекта к другому, так что достижение предыдущего объекта является лишь шагом к достижению последующего»[30]. Эти шаги предлагают пространственный образ. Это — карта пути, по которому следуют человек или его желание. Обладание может быть материальным, сексуальным, творческим, духовным, любым другим или всеми вместе взятыми. Но главное — не само обладание, счастье от которого преходяще, а движение, перемещение.
Эта линия рассуждения важна для двух линий развития социальной теории. Первая линия — это экономическая теория «маргинальной стоимости», согласно которой субъективная ценность одного и того же типа предмета, полученного при рыночном обмене, имеет неизбежную тенденцию к уменьшению[31]. Такова денежная ценность в компенсации за хорошее поведение детей, о чем говорит Мария Золотухина в главе о детях, деньгах и счастье в США. Денежное пособие, когда оно привязано к требованию вести себя хорошо, быстро обесценивается с точки зрения желаемого родителями результата, и если идти на поводу у детей, то надо платить им все больше и больше. Но на теории маргинальной стоимости построена и рыночная модель потребления и инновации. Например, мода постоянно подбрасывает новые модели и таким образом поддерживает постоянную неудовлетворенность и постоянный рыночный спрос. Другая линия — теория аффекта; она ведет свое начало от Спинозы и в последнее время привлекает значительное внимание антропологов. Аффект — это энергия, порождающая действие, часто несознательное. Но, как показывает Бриан Массуми[32], аффект невозобновляем. Совершить что-либо «в состоянии аффекта» можно только один раз. Жизнь наполнена аффективными стимулами, но они неравномерны и неповторяемы (допустим, купить «эту сумочку»). Аффект, таким образом, — это не постоянная сила гравитации, как желание и счастье у Локка, а подобный пунктиру переход от одного желания к другому. Как говорит Гоббс, если в этом перемещении человек успешен, он счастлив: «Постоянная удача в достижении тех вещей, которые человек время от времени желает, т. е. постоянное преуспевание, есть то, что люди называют счастьем»[33].
Именно постоянное преуспевание, в гораздо большей степени, чем однократный Клондайк, ассоциируется с «американской мечтой». Ее обыденное, повседневное понимание выражается в формуле «каждое новое поколение живет лучше предыдущего». Эта формула — о том же движении к счастью как о пунктирной линии во времени, понимаемом как прогресс поколений. Но каковы образы этого видения времени как преследования счастья? Поиск образов американской мечты в Google дает совсем не временной результат, а пространственный имидж: дом и автомобиль. За этим — уже пространственным — образом стоит целый мир пространственных понятий, и уже не времени Джефферсона, Франклина и Декларации независимости, а эпохи промышленника Генри Форда, лозунг которого — «автомобиль для каждого» — стал символом «американской мечты» XX века. В топографии счастья американского пригорода, «одноэтажной Америки» именно автомобиль соединяет дом с местом работы, с центрами для шопинга, кинотеатрами, прачечными и т. д. Одноэтажная Америка пространственно выражает при этом и темпоральность социальной мобильности, создание массового среднего класса.
Эта перспектива благополучия, в бесконечной временной перспективе неотъемлемого права человека преследовать счастье, открыта всем. Этнография автомобиля в главе Ростислава Кононенко — не об американцах, а о россиянах, но идиомы независимости, процветания и, самое главное, организации пространства узнаваемы именно в контексте глобальной диффузии образа «американской мечты». Скорость и индивидуальность движения в машине, а не в общественном транспорте предполагает не только топографию счастья «одноэтажной Америки», состоящей из линии «работа — шопинг — дом» (совсем счастье минус пробки), но и новое пространство, освоенное при помощи более дальних путешествий. Это пространство безгранично и открыто бесконечному потреблению и неувядающей новизне обладания. Автомобиль, таким образом, существенно перекраивает и дом, и мир, который оказывается по-новому открытым и советскому автомобилисту, отправляющемуся в отпуск в Крым, и постсоветскому туристу, берущему автомобиль напрокат в Испании или Таиланде.
Если автомобиль создает топографию счастья «одноэтажной Америки» в связях, направленных вовне, то деньги, которые даются детям среднего класса США, формируют эту топографию изнутри. Мария Золотухина описывает, как счастливые дети сбегаются к микроавтобусам мороженщиков, которые летом кружат по американским пригородам. (Продолжая ее анализ, отмечу, что мороженщики высвечивают и «территоризируют» пригороды, как осы территоризируют сад, являясь его топографической проекцией, согласно Делезу и Гваттари[34].) На тротуаре рядом с домом дети продают домашний лимонад и раскрашенные булыжники из своих садов. Они ходят (а часто развозятся мамами на машинах) по соседям, которым продают домашнее печенье для сбора средств на благотворительность. Не говоря уже о широко известном способе зарабатывания денег детьми в качестве разносчиков газет. Владимир Познер вспоминал на радио «Эхо Москвы», как владелец газетного киоска сказал ему, что платить ему не станет, но предложил по выходным и праздникам стучаться в дома соседей и представляться «я — ваш мальчик-разносчик» в надежде получить чаевые[35]. Эти практики участвуют в формировании особого социального пространства. Сложно себе представить российских детей, продающих что-либо соседям по подъезду. Топография американской мечты — это отдельно стоящий дом, машина, достаток и особая автономность соседей. И, как показывает Золотухина, соседи часто покупают лимонад и печенье — потому что отдают дань стремлению детей заработать собственным трудом.
Деньги — противоречивый маркер счастья. Исторически протестантизм поощряет скромность, откладывание потребления и потребительства во времени, а также, согласно Максу Веберу, инвестиции, а не расточительные траты. Один из главных принципов обращения с деньгами применительно к детям из семей среднего класса, пишет Золотухина, — балансирование между комфортностью и весьма ранней ответственностью, чтобы в будущем этой комфортностью обладать. Именно воспитание в детях рассудительного отношения к деньгам видится основой их будущего преуспевания и счастья. И здесь важны не только траты и заработки, но и моделирование будущей жизни. Один из респондентов Золотухиной отметил: о том, «как устроен мир», он узнавал по игре «Монополия». Идея этой игры сводится к принципу перемещения и накопления — соединяя понятия жизненного пути, пространства и достатка как постоянного выигрыша[36].
Так же как и сама игра «Монополия», образы «нормальности», которые ассоциируются с американским пригородом, и американские понятия достатка и успеха легко путешествуют по миру, становясь предметами потребления и имитации. В главе Дарьи Терёшиной идет речь об «американской мечте» российских сотрудников международной компании сетевого маркетинга «Амвэй». «Американской» делают эту мечту не столько Америка как страна возможностей и как место успеха, сколько американизированные формулы успешности. «Амвэй» (сокращенное название от American Way — Американский Путь) — это не «путь в Америку», а «идти по-американски», «идти как американец».
В этом марше «по-американски» — топография счастья: не только в самом марше как воплощении игры «Монополия», но и в пространственной структуре торжественных залов, где происходят «праздники успеха». Различие между галеркой, партером и сценой отражает здесь разные степени успешности сотрудников компании, которая определяется через финансовую успешность их деятельности. Наиболее успешные в первых рядах. Но потенциально в первых рядах все; вернее, каждому свой срок. Пространство зала заседаний, с его ярко выраженной иерархией, — 1- это не застывшая схема неравенства, где каждый сверчок знает свой шесток, а описание времени — прогресса к успеху, потенциально открытого каждому. Праздник успеха — это всемирная карта счастья Уайта в миниатюре, пространственная репрезентация времени, во временной бесконечности которой все равны. Поэтому пространство зала праздников успеха переполнено «любовью к ближнему», а не завистью или ненавистью к успеху другого. Идеология этих праздников успеха отличается от идеологии социального пространства финансовой пирамиды, где успех — это быть впереди за счет тех, кто находится сзади, и от пространства советской очереди, где каждый ненавидит впереди стоящего и равнодушен к тем, кто стоит позади.
Романс о советскости
Ни радости любви, ни власти мощь, ни честь Не могут смертного в храм счастия привесть. Богатство, может быть, раскроет храм прекрасный? Нет, — Мудрость говорит, — надеешься напрасно И на богатство ты! Бесплодный тот металл Ни благ, ни горестей от века не рождал. Гельвеций. «Счастье».Юлия Лернер также занимается российским контекстом и описывает имитацию западных идиом массовой культуры и представлений о счастье. Но прежде всего она пишет о том, как эти заимствования перерабатываются в новом контексте. В ее главе речь идет о телевизионных программах об обретении счастья, которые как жанр были созданы на американском ТВ. Как правило, формулы счастья в этих программах следуют образцу шоу Опры Уимфри, шедшему с 1986 по 2011 год. Эта так называемая «терапевтическая» модель телевизионного обсуждения; она построена на доверительном разговоре ведущей с участником, чаще — участницей, которую приводят в программу некие жизненные затруднения. В результате разговора участница «находит себя», у нее наступает «просветление», и, таким образом, открываются ворота счастья. Топография счастья здесь — микротопография превозможения себя, работы над собой.
Как отмечает Лернер, в американском контексте и ведущая, и аудитория — не судьи, а терапевты-психиатры, помогающие участнику вылечиться как пациенту. Она говорит о возникновении на Западе «терапевтической самости» как новой формы создания «себя». Добавлю к этому очень интересному анализу, что здесь есть как новизна, так и очевидные культурные корни. Несмотря на присутствие ведущей и аудитории, чрезвычайно важными мне представляются символические и риторические истоки поиска себя в протестантской этике, где человек в активном диалоге остается один на один с Богом («железная клетка» Вебера). В этом случае топография счастья — в осознании себя локковским «чистым листом», который парит в поле Божественного провидения, но который творит себя сам. «Мы» (телевизионная аудитория) — не Бог и не судья, а мирской свидетель этого Божественного процесса.
Однако, по наблюдениям Лернер, российский контекст несколько иной. В таких программах российского ТВ, как ток-шоу «главного психотерапевта русского экрана» доктора Курпатова или «Жизнь как Жизнь» (ведущая Татьяна Устинова), поп-терапевтические формулы соседствуют с другими. Это и «задушевный русский» разговор, «пути которого неисповедимы», и идиомы русской классики (Анна Каренина) и «эмоционального социализма» (его Лернер представляет по фильму «Доживем до понедельника», где Генка Шестопал сжигает «счастье 9-го „В“», т. е. школьные сочинения о счастье, чтобы избежать их оценки учителем и таким образом отстоять невозможность его нормирования, предписанности).
Эта генеалогия российской «терапевтической самости» в российской же и советской культуре чрезвычайно важна для анализа Лернер. Траектория заимствования формы — в данном случае формы ток-шоу — оказывается погруженной во множественность этих форм и формирует, если перефразировать Александра Филиппова, «гетеротопологию русской души»[37]. Советскость («эмоциональный социализм» Лернер) ассоциируется с нормативным взглядом на счастье. Пройдем по этой генеалогической линии назад.
Большая советская энциклопедия определяет счастье как «нормативно-ценностное» понятие, поскольку оно «не просто характеризует определенное конкретное объективное положение или субъективное состояние человека, а выражает представление о том, какой должна быть жизнь человека». Здесь, как и по Локку, счастье — не столько состояние человека, сколько направление его движения. БСЭ признает, что в самом общем виде счастье соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения. Но «это не идиллическое состояние удовлетворенности существующим положением», а постоянное стремление к лучшему будущему[38].
Однако такой нормативный взгляд предписывает, что именно является счастьем, в гораздо большей степени, чем философия классического века. Для Локка важно следовать своим желаниям и интересам, какими бы они ни были, просто познавая себя. Здесь же задается не только топографический принцип преследования счастья, но и сама цель: «Сознательное служение людям, революционная борьба за переустройство общества, за осуществление идеалов коммунизма, за лучшее будущее для всего человечества наполняют жизнь человека тем высшим смыслом и дают то глубокое удовлетворение, которые приносят ему ощущение счастья» (БСЭ)[39]. Правда, следует заметить, что и Локк не столь индивидуалистичен, как его представляют. По Локку, самоопределение свободно — в конечном счете свободно как Божественное творение. Самоопределение человека изначально задано стремлением к Божеству, которое и является высочайшим счастьем. Более того, творить себя самому — это определение сущности и человека, и Бога. И дело не только в том, что по этой модели высшее счастье, которого «не видел глаз, не слышало ухо», дано, тем не менее, в конкретных наслаждениях и радостях, но и в том, что счастье предписано как сам процесс творения. И в этом, а не только в понимании труда как основы собственности, смыкаются философия Локка и марксизм. На вопрос анкеты своей дочери Женни «В чем счастье?»[40] Маркс ответил: «В борьбе»; в активной преобразовательной деятельности, в творении себя — если не с «чистого листа» Локка, то со стартовой точки того конкретно-исторического наследия, которое преодолевается или преобразуется в строительстве нового общества по Марксу.
Это было, во-первых, отложенное счастье, счастье как будущее, где оно неотчетливо сливалось со «счастьем всего человечества». Во имя этого счастья приносилась жертва в настоящем — на стройке или на войне. Но этому счастью, во-вторых, сопутствовало простое счастье внутри этой жертвенности и отложенного счастья всего человечества:
Пой, гармоника, вьюге назло, Заплутавшее счастье зови, Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви.Елена Богданова фиксирует пересечение идиом отложенного счастья всего человечества и «простого счастья внутри» в воспоминаниях строителей Байкало-Амурской магистрали, которые называют те годы «самым счастливым временем» своей жизни. БАМ был одной из последних Великих строек коммунизма в СССР. Причем устная история подчеркивает не только настроения ожидания коммунизма, но и опыт, переживаемый как близкий к коммунизму на самой стройке. Это опыт сообществ БАМовских поселков; они предстают как сплоченные сообщества единомышленников, где все делается коллективно: «Вот если свадьба, значит, гуляют все вместе… Концерт — гуляют все, работают все, и гуляют все»; «Там я просто мог начальнику сказать на „ты“, если что-то не нравилось, что-то не устраивало. Это было в порядке вещей». Это и опыт созидательной работы: «Было просто наслаждение смотреть, как ребята работали. Рельсы укладывают — как часы, все движения точные, слаженные. Тут подают, тут укладывают, тут следующие».
Восточная Сибирь, где проходило строительство БАМа, приобрела в воспоминаниях строителей характер утопии. Это отдаленное место кажется существующим в пустоте и подчиненным совершенно иным внутренним законам жизни. Но пустота пространства, в котором находится этот остров счастья, конечно, обманчива. Ольга Ултургашева рассматривает нарративы о будущем эвенов — одной из групп коренных обитателей подобных, как будто «пустых», территорий. Эвены не находились на обочине Великих строек коммунизма, они стали одной из точек приложения этого строительства. Гетеротопия «советского счастья» отводила им место «добрых дикарей» Руссо, обладающих собственной исконной формулой счастья («первобытный коммунизм»), которая полностью могла раскрыться только в новой жизни[41].
Одним из источников для работы Ултургашевой послужили автобиографические сочинения эвенских школьников, по жанру близкие сочинениям о счастье из фильма «Доживем до понедельника». Эти тексты гетеротопичны. Их можно считать микрокосмом советской гетеротопии Сибири. В них фигурирует смысловой треугольник «тайга — поселок — город», в котором нарратив счастья советской и постсоветской школы предписывает им и «стремиться» к развитию, и возвращаться к корням. Но при этом, показывает Ултургашева, само движение и представления о своем будущем выражены как онтология судьбы или удачи. Эвенское слово нёс (его можно перевести как счастье, удача) вплетено в совершенно иную космологию поведения. Как и охотничья удача, это воздействие силы со стороны (хозяина тайги, Байаная), которая направлена на удовлетворение нужды и которая движет и охотником, и добычей. Гетеротопия счастья — пересечение и сосуществование не только радикально отличающихся смыслов пространства (тайга как объект «развития» и тайга как место охотничьей удачи), но и различных темпоральностей и различных культурных форм будущего.
Рассказы и сочинения школьников-эвенов можно назвать «воспоминаниями о будущем». Они уверены в своей судьбе, что следует из онтологического статуса счастья/судьбы/удачи. Нечто похожее мы видим в воспоминаниях строителей БАМа, хотя и на иных онтологических основаниях. Эти воспоминания описывают прошлое (как часто бывает в устной истории советскости), каким это прошлое не столько могло, сколько должно было быть согласно советским идиомам счастливого будущего. В работе, посвященной памяти о советском, Ольга Соснина и я предложили рассматривать подобную память как следующую эстетике социалистического реализма. Эта эстетика подразумевала замену того, что существует в реальности, нарративом того, как должно быть в будущем этой реальности. Основанием этой эстетики является телеологическое время строительства светлого будущего, которое полагает цель и движется таким образом из будущего в настоящее. Память о советском превращает это телеологическое время, этот «музей будущего», в исторический музей, наделяя прошлое чертами социалистического реализма[42].
Каково пространство, создаваемое подобным «музеем будущего» и историческими нарративами, в главах Лернер, Богдановой и Ултургашевой? Это символическая карта России и СССР, «родные просторы», тайга, пространственное выражение концептов судьбы и удачи. Но в этих главах мы видим главным образом пространство самоопределения личности («Я», самости, self). В отличие от них глава Ларисы Пискуновой и Игоря Янского посвящена тем местам, где циркулируют сами образы счастья. Речь идет об образах советского счастья, но обращаются они в постсоветском Екатеринбурге в качестве товара. Авторы рассматривают примеры использования советской эстетики на юбилее одного из видных городских бюрократов, а также в рекламе банка и компьютеров. Образ советскости как счастья здесь вызывает позитивную реакцию аудитории и ответное действие (покупку товара). Но авторы описывают счастье и по-другому: во-первых, как радость творчества сотрудников банка и дизайнеров рекламы компьютеров, как их собственный счастливый момент; во-вторых — как игровую инверсию иерархических отношений на рабочем месте. Центральный концепт это главы — понятие символического обмена Бодрийяра, которое усложняет видение счастья как предмета купли-продажи или накопления в ходе жизни, построенной по игре «Монополия».
Счастливый конец, свадьба и типология пространства
Под сенью миртовой воздвигнут яркий трон, Искусно из цветов душистых он сплетен… Прелестный уголок исполнен уповения, То — сладостный приют царицы наслаждения. Гельвеций. «Счастье»Заключительный раздел книги составляют две главы, посвященные «счастливому концу» в литературе и кино (Дуаер, Сапожникова), и три, посвященные свадьбе (Штырков, Лонг, Соснина). Свадьбу можно считать вариантом сюжета о счастливом конце. Свадьба героев фильма часто предполагается благодаря соединению их вместе и «поцелую в диафрагму» перед титром «Конец». Подобный финал, социальный и художественный, рассмотрен в этом разделе как своего рода «тотальный социальный факт» Маселя Мосса, т. е. такой вид реальности, в которой, словно в капле воды, отражается интересующая нас проблематика. Повторю, что это пространство чрезвычайно гетерогенно; оно включает в себя траектории движения и смыслы, о которых шла речь выше. И подчеркну: я говорю о пространстве в различных его смыслах, но не выделяю социальное пространство как отдельный тип. Все нижеследующие формы пространства являются социальными.
Начнем с материального пространства. Глава Сергея Штыркова посвящена советскому городскому ландшафту 1960-х годов, на котором появляются «Дворцы счастья» — центральные отделы ЗАГС, где происходит бракосочетание. Это пространственное, архитектурное выражение счастливого конца в нескольких значениях сюжета. Как показывают архивные материалы, проанализированные Штырковым, идея назвать отдел записи актов гражданского состояния дворцом счастья возникает в результате обеспокоенности партии и правительства ростом популярности религиозных обрядов, особенно венчания в церкви, — вопреки тому, что молодое поколение, вступающее в жизнь в это время, должно было получиться самым светским из всех поколений советских граждан. Строительство Дворцов счастья повторяет нарративный сюжет, о котором я говорил выше, в разделе «Человек счастливый»: сюжет перехода от «предрассудка» к «истине» в светском понимании этого слова; и эта «истина» и является залогом счастливого финала в процессе создания советской семьи, Дворец счастья маркирует на карте города финальную точку этого перехода.
Добавлю, что это материальное пространство также гетерогенно. Во-первых, исторический нарратив, запечатленный в архитектуре, накладывается на нарратив личной судьбы молодых людей, создающих семью. Во-вторых, Дворцы счастья сосуществуют в городском ландшафте с храмами и с топографией венчания — иными словами, с другими культурными идеологиями брака и семьи, в частности с теми, от которых необходимо совершить (или завершить) этот исторический переход. С моей точки зрения, это пространство, даже если читать его через вектор «предрассудок — истина», можно пересекать в разных направлениях; в советском городе можно пойти и в храм (хотя это и сопряжено с определенными сложностями). Это пространство не линейно так, как линеен исторический нарратив советскости и светскости. Оно подобно гетеротопии личности и судьбы эвенов, которые населяют одновременно и советский/российский, и совершенно иной космологический мир (см. главу Ултургашевой).
В городе, где построен Дворец счастья, это пространство можно пересечь, просто гуляя, а в тайге — перекочевывая с таежного стойбища в поселок. Материальность пространства счастливого конца книг и фильмов иная. Счастливый конец в художественной литературе доносится не через Дворец счастья или храм, а через книжный рынок, с его транслокальными связями, магазинами и гетеротопией библиотечных собраний. Материальность кино включает сложную инфраструктуру кинопоказа, и прежде всего — кинотеатры[43]. Индийское кино, которому посвящена глава Рэйчел Дуаер, создано главным образом для похода в кинотеатр, хотя со временем также и для телеэкрана. Однако потребление этого кино шире; Дуаер отмечает его важность для индийской диаспоры. Следует отметить, что помимо стран третьего мира индийское кино было любимым жанром и в СССР.
Кинотеатр, телеэкран, книги маркируют в доме социальное пространство массового потребителя. Именно таков потребитель свадебной моды и ее индустрии. Глянцевые журналы, телешоу «Давай поженимся» и др., являются предметами массового потребления даже до того, как покупается свадебное платье. Как показывает в своей главе Ольга Соснина, таким же предметом потребления выступают и «свадебные достопримечательности» — те места, которые молодожены обычно посещают в день свадьбы для фотосъемки. Черты этого массового потребителя проступают в комментариях одного из престижных свадебных фотографов Москвы, которыми он сопровождает реестр адресов «для прогулки и фотосета» и которые приводит Соснина. У смотровой площадки на Воробьевых горах есть несомненные достоинства («голуби, парк — правда, вполне обычный») и недостатки: «слишком много свадеб и слишком мало места»; «На Васильевском спуске круглогодично строят разные сцены. Свадебная фотосъемка в этом месте для терпеливых невест — на каблуках ходить трудно. Брусчатка, сэр»; «Архангельское — шикарное место для свадебной фотосъемки, растительные галереи, скульптуры, архитектура. Все остальные природные места Москвы для свадебной фотосъемки попроще будут».
Соснина исследует точку пересечения материального пространства рынка свадебной индустрии, по которому пролегают индивидуальные пути молодоженов (брусчатка Васильевского спуска, путь от храма к Дворцу счастья или обратно) — и пространства памяти, которое создается свадебной съемкой. Именно через «места памяти» фотоснимок переводит материальное пространство массового потребления в более индивидуализированное социальное пространство семей и друзей молодоженов — потребителей фото. Память одновременно и индивидуализирована, и узнаваема, т. е. типична. Об этом свидетельствует реакция посетителей выставки «Топография счастья» на свадебные фотографии. Их отзывы Соснина использует в качестве одного из этнографических источников для своей главы о гетеротопии свадьбы: «Посмотрели с Верунчиком выставку, вспомнили молодость. Порадовались за других. Посмеялись, всплакнули». В данном случае сама выставка является этнографическим приемом, высвечивающим фотографию как «детонатор памяти». Но этот «детонатор», включающий материальные «места памяти», отсылает не к материальному, а к идеальному: к идеальной семье, к воображенному заново миру молодости. Тонкие наблюдения Сосниной о «фото на память» можно усилить: мы видим здесь как бы перетекание идеализированного настоящего («без изъянов»), созданного для будущего, в своеобразную «память о будущем». Мы видим ностальгию не по прошлому счастью, а по будущему, по возможности счастья, запечатленного на снимке как момент, как будто уже бывший, но где, говоря словами Окуджавы, мы не были, а только «будем счастливы, благодаренье снимку… на веки вечные мы все теперь в обнимку».
Социальное пространство, которое создается свадебной фотосъемкой и последующим обращением свадебных альбомов, рассматривает Ник Лонг на материале западных архипелагов Индонезии. Фотосессии происходят после самого обряда и занимают значительную часть времени свадебного приема и фуршета. Отличительная особенность этих фотосессий состоит в том, что, во-первых, для них приемлемо (и даже поощряется) взятие свадебных костюмов напрокат, и, во-вторых, то, что молодожены много раз переодеваются, фотографируясь все в новых нарядах и общаясь с несколькими сотнями гостей, которые один за другим подходят с поздравлениями. Пространство здесь принимает материальную форму очереди как людей, так и костюмов. Затем фотографии собирают в альбомы, которые показывают друзьям и родственникам во время их визитов к молодой семье. Визиты не имеют формы очереди в прямом смысле слова, но, как правило, это серия последовательных раутов. Они не похожи на коллективный просмотр индийского фильма (Дуаер) или на одновременное, хотя и индивидуальное, включение телеканала с определенным шоу (Лернер). Но, как и в этих случаях, домашние гости — часть пространства календаря свободного времени и выходных дней, по которому распределяются визитеры.
По этому пространству очереди или индивидуального распределения времени циркулируют свадебные фото. Они, пишет Лонг, циркулируют в качестве идеи о том, как молодожены могут и должны выглядеть. Это фантазия, дистанцированная даже от того, как они на самом деле выглядят в те моменты свадьбы, когда не позируют для камеры. Она создается, во-первых, ради получения одобрения и воспроизводит уже существующую идентичность родственников, и, во-вторых, для последующей имитации друзьями и родственниками. Таким образом, очередь или календарь времени посещений никогда не бывают единичными явлениями; посредством имитации и одобрения они воспроизводят «гнездящиеся» явления подобного характера — другие очереди и календари. Это социальное пространство и составляет канал «изобретения традиций» (становления канонов свадебного костюма — этнического, «современного» и даже королевского), да и канал создания моделей систем родства и отношений дружбы, на которых строится свадебный обряд. Именно таким образом социальное пространство растет «вширь» и приводится в отношение подобия — как в главе Сосниной, где свадебное фото узнаваемо независимо от того, чья именно свадьба запечатлена.
Но отметим: способ становления канона (подобие, узнаваемость, типичность) не обязательно является прямой имитацией или повторением. Современная английская литература и индийское кино, которые являются предметом изучения Марии Сапожниковой и Рэйчел Дуаер, совсем не повторяют «счастливый конец» в качестве финала своих сюжетов. Повести Дэвида Лоджа или Хелен Филдинг, которые рассматривает Сапожникова, скорее высмеивают счастливый конец как клише, а индийские фильмы часто заканчиваются трагически. Герой погибает, разлученные с младенчества братья становятся смертельными врагами, моральный облик изначально кристально чистого человека невозвратимо искажает месть, которую он должен совершить. Но индийские фильмы, пишет Дуаер, показывают, «как должно быть», — утверждают те моральные и социальные устои, на которых строятся ценности семьи «нормальной» и «счастливой». Трагический финал, таким образом, подтверждает моральный порядок как настоящий (и в смысле того, как должно быть, и в смысле того, что он, говоря топографически, «находится» вне фильма). В свою очередь, английские повести находятся в диалоге с голливудскими клише о счастливом конце через эстетику интертекстуальности. Эта эстетика подразумевает присутствие в тексте повести или романа кинематографической или текстуальной версии «счастливого конца». Такого рода финал является движущей силой сюжета: например, в повести Филдинг «Дневник Бриджит Джонс» героиня действует из желания именно такого счастливого конца — хотя сам этот сюжет, в свою очередь, не обязательно завершается именно таким финалом.
«Счастливый конец» в индийском кино и английской литературе принадлежит пространству смыслов. Его реальность или материальность — это не реальность фактического конца сюжета, который они завершают, и не материальность места, где живут эти произведения (кинотеатра или книжной полки), а материальность эффекта действия, который они оказывают внутри нарратива («Дневник Бриджит Джонс») и вне его («моральные устои индийской семьи»). Интересно, что само по себе это пространство смысла вообще не формирует определенное место. Точнее сказать, материальность этих мест такого же свойства, что и реальность счастья Локка, которого «не видел глаз, не слышало ухо». Таким образом, пространство смысла счастливого конца близко к счастью в том смысле, в каком я говорил о нем как о категории классического века (см. раздел «Homo felix, „человек счастливый“» в данной главе). Это поле силы, подобное тяготению, и ее действие подобно аффекту Спинозы. Да и само понятие счастливого конца широко распространяется именно в этот классический век — в особенности через появляющуюся литературную детскую сказку, отличную по жанру как от фольклора, так и от классических комедии и трагедии.
* * *
Пройдя, таким образом, полный круг, суммируем типы пространства, о которых идет речь в нашей топографии счастья, — начиная с энергии, стремления к счастью. Это пространство значения, которое наиболее близко антропологическому понятию культуры в смысле Клиффорда Гирца. Это пространство обуславливает мотивацию людей или воздействует на людей так, как эвенский Хозяин тайги имманентен движению зверей и охотников.
От этого пространства тяготения отличается пространство материальной среды. Но в последнем также есть существенные внутренние различия. Дворцы счастья, например, передают материальность карты поисков счастья, указание на счастье как возможное будущее («счастливая семья»). К этому же типу принадлежат другие карты или пути: Орегонский тракт, БАМ, очередь более или менее преуспевающих людей на «праздниках успеха» компании «Амвэй», игра «Монополия», которая построена по принципу перемещения и накопления, репрезентации исторического времени как перехода «от страдания к счастью» (Роберт Оуэн) — в материальном пространстве современного общества от социалистического города до эвенского поселка. Несомненно, что эти материальные пространства не только формируют карту поисков или строительства счастья, но и являются следами, материальными результатами или руинами самих этих поисков, которые, впрочем, зачастую являются материальными знаками их неуспеха — руинами проектов строительства счастья. Но в этой среде обитают следующие поколения строителей счастья и люди, вообще не имеющие отношения к этому строительству.
В отличие от этого «одноэтажная Америка» — не столько карта поисков счастья, сколько материальная среда обитания его строителей. Она кажется тем местом, где счастье уже достигнуто. Но это не совсем так. И дети американского среднего класса, и взрослые его члены продолжают это преследование, никогда не останавливаясь на достигнутом. Результат, взятый как чистое пространство вне времени («одноэтажная Америка» = счастье), обладает материальной эстетикой утопии, в этом смысле так же, как и коммунизм на БАМе.
В этом утопия «одноэтажной Америки» или советскости смыкается с пространством идей о счастливом конце, т. е. с невидимыми полями смыслов, которые формируют тяготение. Но карта поисков счастья также формирует стремление к счастью как сюжет. Это еще один своего рода нарратив, который ведет к счастливому концу. Иными словами, то, что я отметил в отношении мотива счастливого финала (счастье как поле тяготения), справедливо и в отношении пространства карты поисков или плана строительства счастья. Эта энергия разлита по материальному пространству и карты, и следов этих поисков. Топография счастья как энергии в пространстве этой материальной среды является, таким образом, топографией эффектов и аффектов этой среды.
Наконец, эти смыслы неотделимы от материальных носителей еще и по-другому. Они неотделимы от фотоальбомов, книг (философских или художественных), фильмов, ТВ-шоу, глянцевых журналов, денег, автомобилей. Даже архитектура, будь то Дворцы счастья или «одноэтажная Америка», выступает еще и носителем идей о том, что такое счастье, носителем смыслов счастья. Подчеркну: быть носителем смыслов — не то же самое, что быть наполненным смыслами как энергией. Смыслы являются не только аффектом этих предметов, но и тем, что переносится этими предметами, как контейнерами в символическом обмене (см. главу Пискуновой и Янкова) между системами рынка, советской индустриальной стройки или моральных и социальных норм семьи и родства. Например, этот обмен происходит, когда смыслы счастья циркулируют как товар и продукт или когда фотоальбом ходит по рукам родственников. По этим линиям передачи смыслов счастья и по линиям их обмена мы и можем видеть историческую диффузию идей о счастье классического века.
______________________
______________
Николай Ссорин-Чайков[44]Часть 1. Метаморфозы «американской мечты»
«Простор, безопасность и радость для тебя и твоей семьи!»
Автомобиль как движитель желания в обществе постсоветского капитализма
В социальных и гуманитарных дисциплинах счастье, как правило, интерпретируется в контексте субъективного благополучия, включая когнитивные оценки удовлетворенности жизнью и эмоциональное удовольствие или настроение, причем как в отношении ощущений от жизни в целом, так и в отношении различных ее сфер (таких, как труд, потребление, семья) и аспектов (например, восприятия смысла жизни). С этой точки зрения счастье можно изучать в перспективе социального конструктивизма — как продукт взаимодействия разных агентов и их интересов, включая личность, государство, рынок, профессионалов различного рода. Такое взаимодействие, в частности, возникает при попытке определить: что же такое благополучие, как выстраивается репертуар желаний, откуда берутся образы мечты и счастья? Удовлетворенность человека жизнью тесно связана с тем, насколько удовлетворены потребности и исполнены желания. Материальные объекты, вещи занимают в жизни современного человека важное место, существенно дополняя, а подчас даже заменяя контакты с другими людьми, группами и сообществами. Один из таких объектов — автомобиль — обусловливает очень многое из того, что составляет социальную ткань современного общества, делая людей теми, кем они являются, формируя многие отношения, создавая иерархии, возможности и выборы, позволяющие достигать удовлетворения или заставляющие ставить новые цели, устремляясь в погоню за счастьем. Проблемное поле, ограниченное рамками этой статьи, связано с дискуссией по социологии и антропологии (пост)советского потребления и с идеями автомобилизации, governmentality, социологии вещей и поведенческой экономики. Как связаны обладание автомобилем и удовлетворенность жизнью? Откуда у людей появляются потребность и желание иметь и использовать автомобиль, как легитимируется и осуществляется их выбор? В этой статье автомобиль рассматривается как объект желания и движитель счастья, как пространственно-временное расширение и одновременно ограничение человека, классово-стилевой маркер и элемент мироздания потребителя. Мы покажем, что автомобиль занимает прочное место в топографии счастья человека общества модерна, общества потребления. Это место очерчено символическими смыслами благополучия и соотнесено с культурными кодами социального класса, гендера и национальной идентичности.
Автомобиль и капитализация счастья: удовольствие обладать
Настоящий бум интереса к проблематике счастья переживают сегодня социальные и гуманитарные науки. Неподдельный интерес к исследованиям на ту же тему проявляют и ученые, которые представляют так называемую поведенческую экономику[45] и в процессе пересмотра традиционных представлений о ключевой роли индивидуальной рациональности и рыночной эффективности обращаются к антропологии, психологии и семиотике. Исследования субъективного благополучия людей проводятся в контексте их отношения не к товарам и услугам самим по себе, а к возможности достичь с их помощью таких нематериальных ценностей, как автономия и качество социальных отношений[46].
«Счастья алтыном не купишь» — гласит пословица. А вот удача, успех, достижение желаемой цели, исполнение мечты — все это залог счастья, но не всегда и везде, а в определенном историческом контексте, как пишет Н. Ссорин-Чайков во вступительной статье к настоящему сборнику. Томас Гоббс определял счастье (вернее, то, что люди так называют) как постоянную удачу «в достижении тех вещей, которые человек время от времени желает, т. е. постоянное преуспевание»[47]. Сразу подчеркнем, что и капитализм, и социализм декларировали счастье как цель существования общества.
И все же, вопреки народной мудрости, деньги имеют отношение к счастью, участвуя в практиках потребления, приводя в действие механизмы обмена, которые позволяют человеку получить желаемое — автономию и выбор, престиж и мобильность, достижение и свободу. Как раз то, что, по мнению многих, дает автомобиль. И, как полагают некоторые, капитализм[48]. Исторически автомобиль как раз и был символом прогресса капитализма, одним из элементов «американской мечты», характерным знаком престижного потребления, метафорой мобильности и независимости, желанием-на-колесах. Популярность автомобиля в США росла в геометрической профессии начиная с 1920-х и до начала Второй мировой войны, в период изменений пространственных характеристик американского образа жизни и культуры в целом, который некоторые авторы называют «аутопией»[49]. Еще в 1933 году Мэри Росс опубликовала в журнале «Survey Graphic» статью о положительных и отрицательных сторонах социальных изменений в США в эпоху автомобиля[50]. Она писала о том, как человек подчиняет себе пространство и время, но как при этом сокращается его жизненное пространство, занимаемое теперь автомобилями; расширяется потребительский выбор, но в то же время происходит углубление неравенства. Исследователи раскрывают изменения в культуре повседневности[51]; трансформации образа жизни американских фермеров и целых поселений[52]; модификация представлений о пространстве-времени: растет свобода перемещений благодаря строительству дорог[53], мотелей, придорожных ресторанов и других элементов инфраструктуры[54], влияющих не только на культуру повседневности и представления о пространстве-времени, но и на национальную идентичность[55] в целом комплексе инструментальных и экспрессивных аспектов. В частности, К. Сейлер говорит о том, что практика вождения вызывала особые эмоциональные переживания в условиях развития капитализма и политической либерализации в XX веке. Другими словами, он предлагает анализировать, каким образом использование автомобиля заставило американцев чувствовать, думать и действовать определенным образом, а также описывает, каким образом можно жить и воспринимать мир вокруг нас как организованный посредством вождения[56].
Массовый выпуск «фольксвагена» позволил удовлетворить прежде невыполнимые потребительские мечты немцев; в условиях массовой автомобилизации он стал культовым символом нового быта и индикатором возвращения устойчивости социального порядка в 1950–1960-х годах. Успех «жука» за рубежом воспринимался в ФРГ как сигнал того, что страну вновь принимают как полноценный субъект в международной системе отношений — как небольшое, но сильное государство[57]. А автомобиль «Трабант», пишет Эли Рубин, был частью «социалистической головоломки», поскольку руководство ГДР тоже рассматривало эту культовую автомашину в качестве части более широкой «системы движения» (Bewegungssystem), в качестве средства передвижения людей к месту назначения, что укладывалось в утопические проекты городского планирования 1960–1980-х[58].
Автомобиль был предметом мечтаний и для советских управленцев — как символ социалистических успехов (догнать и перегнать!). В более широком смысле он олицетворял и усугублял разрыв между тем, что поощрял советский коммунизм, и тем, что предоставлял потребителям, привнося в жизнь практики и эмоции, схожие с практиками и эмоциями, свойственными западной культуре, для которой характерны частная собственность и личная свобода. Идеальной партией считался мужчина с квартирой, дачей и машиной. Машина стала ассоциироваться со свободой личности в аспектах передвижения, уединения и независимости от административных ограничений в официальном пространстве. Салоны автомобилей и гаражи служили альтернативными жизненными пространствами для мужчин, искавших приватности, места, где можно скрыться от семейных конфликтов и рутины. Хотя пространство салона ограничено, зато оно личное (его можно украсить как вздумается: бахромой и вымпелами, наклейками и игрушками) и дает автономию. Тогда же начал развиваться советский автомобильный туризм, в том числе и поездки на курорт «дикарем», что предполагало ночевку в машине[59]. Кроме того, неженатым парочкам это компенсировало невозможность снять номер на курорте. Надо сказать, что официальная публичная сфера представляла образ советской женщины за рулем, но в основном — за рулем (или штурвалом) индустриального, общественного средства передвижения. При этом женщины практически не владели личным автомобилем и не водили его (хотя и реклама, и художественные произведения соцреализма активно задействовали символическую связку «женщина — автомобиль» еще с начала XX века).
Даже на начальной стадии формирования культуры автомобилизации ее было трудно контролировать: практики использования советского автомобиля и вдохновленной им мечты то и дело отклонялись от предписанных норм. Публично люди делали вид, будто отвергают идеологию американского консюмеризма, а в «параллельной реальности» пытались обойти существующие ограничения, чтобы получить автомобиль в личную собственность. Увеличивались статусные разрывы между собственниками машин и теми, кому в жизни повезло меньше: «Ты вообще живешь на свете по доверенности… Машина на имя жены, дача на мое имя… Ничего у тебя нет! Ты голодранец!» (цитата из к/ф «Берегись автомобиля», 1966, реж. Э. Рязанов).
В поздней советской экономике попытки государства «управлять желанием» людей иметь собственный автомобиль, сдерживая потребительский спрос, приводили лишь к еще большей эскалации частных интересов: миллионы советских собственников машин развивали частные бизнес-отношения, которые работали вовне и часто входили в прямое противоречие с формальными рычагами государственного управления.
Льюис Зигельбаум даже усматривает подрывную функцию в этих гомосоциальных сетях (в основном в них были вовлечены мужчины), в этих частных, полулегальных практиках, идеологически неправильных, которые опутывали граждан и разрушали социализм[60]. И постсоветская «автомотомания» (выражение Зигельбаума), которую ежедневно можно наблюдать на улицах и переулках Москвы, по телевидению и где угодно еще, есть прямое следствие этого сдвига и долго сдерживаемого желания выразить богатство и статус посредством автомобиля. Здесь следует подчеркнуть, что и капиталистический, и социалистический модерн находились в состоянии постоянной конкуренции, и «подрывная функция» относится именно к этому контексту: имеется в виду, что эскалация частных интересов фактически вела к делегитимации советского строя.
Образ автомобиля как движителя модернизации и личного благосостояния к 1960-м годам объединил экономические и политические устремления советского правительства (обеспечить каждого гражданина доступным автомобилем европейского качества) и потребительские устремления советских людей[61]. Автомобилизация, начавшись в СССР, ускорила преобразование социалистической культуры потребления в капиталистическую. Речь идет о модификации жизненных стилей, о формировании новой культуры мобильности, которая в сочетании с материальными объектами, видами деятельности и символическими формами, включающими идеалы свободы, приватности, движения, прогресса и автономии, называется сегодня (вслед за Джоном Урри) «автомобильностью»[62]. Очень многое из того, что сейчас считается «социальной жизнью», не было бы возможно без автомобиля[63]. Идеалы движения и прогресса входили в число официально одобряемых советских ценностей, однако под вопросом оказывались свобода и автономия. Эту позицию Зигельбаум аргументирует так: хотя массовое производство автомобиля и распространение его через продажу означало отказ от идеологических целей в пользу частного владения, такие условия «автоводительской» мобильности, как скоростные трассы с качественным покрытием, мотели, ремонт и чистота дорог, доступные запчасти и топливо, а также ряд других характеристик «дорожного ландшафта», принимаемые как должное на Западе, оставались в СССР в начальном полуоформленном виде.
Именно недостаток этих удобств и позволил сформироваться особой национальной культуре автомобильности, которая не была, конечно, гомогенной, а имела своеобразную культурную топографию: в связи с особенностями хозяйственного уклада горожан и сельских жителей, вариативными жизненными стилями различных страт и профессиональных групп; в связи с неоднородными условиями жизни в различных республиках; в связи с характером практик социально-экономических взаимодействий. Амбиции правительства «догнать и перегнать» создали динамику, которая была столь же соблазнительной, сколь и разрушительной для советской цивилизации. И многие ценности и практики, сложившиеся в то время, оказались чрезвычайно жизнестойкими и распространились в автомотокультурах постсоветского капитализма[64].
После распада СССР старые ценности, которые поддерживало государство, ушли в прошлое, стали непопулярными. Открытые «окна в Европу» — телепередачи, фильмы о капиталистическом мире, более частые контакты с иностранцами — стали каналами трансляции новой культуры потребления, привлекавшей граждан постсоветской России. А хлынувший сюда в начале 1990-х поток автомобилей иностранного производства дал возможность приобщиться к западному образу жизни. Автомобили тут же разделились на «наши» и «иномарки», и число импортированных машин с каждым годом росло (правда, интенсивность их ввоза менялась в зависимости от пошлинной политики государства и ценовой политики автозаводов в России)[65]. Как показывает В. Ильин, по мере насыщения отечественного рынка импортными товарами бренд «иностранный» утрачивал свою символическую силу. Рынок стал заполняться поделками «made in», и «потребительская элита начала внимательно изучать более изощренный язык брендов, оперируя конкретными марками производителей, а там, где этот символ недостаточен» (например, на рынке автомобилей), — конкретными моделями. Резко возросла роль автомобилей как товара, символическую ценность которого очень трудно подделать[66]. Участвуя в массовом потреблении автомобилей в целом и в престижном потреблении иномарок в частности, бывшие советские граждане быстро «капитализируются».
Становятся ли россияне от этого счастливее? Некоторые западные авторы убеждены, что «либеральный капитализм дает людям больше счастья, чем все его альтернативы»[67]. Правда, американский экономист Артур Брукс уточняет этот тезис, развивая известную метафору: ключ к нашему «валовому внутреннему счастью» есть капитализм, укорененный в надлежащих ценностях честности и справедливости[68]. Согласно выводам американского политолога Ч. Мюррея, люди в СССР были менее счастливы, чем граждане Запада, поскольку меньше контролировали важные функции в их социальной жизни, которая подвергалась распаду из-за чрезмерной централизации, лишавшей граждан возможности принимать важные решения по многим вопросам. Следуя за традицией определения, исходящей из Аристотелевой «Никомаховой этики», Мюррей полагает счастье длящимся и оправданным удовлетворением жизнью в целом. И качество личной и общественной жизни, по его мнению, при капитализме выше, хотя и на Западе тенденции отчуждения и атомизации усиливаются. Вот почему в своей статье 1992 года «В поисках счастья при социализме и капитализме»[69] он пишет, что россиянам следовало бы воспользоваться положительным опытом капитализма, но только не в современной им Америке, а лет эдак на 200 раньше. «Тем более, — пишет Мюррей, — что наследие России — это не материальность, а духовность. И в этой стране следует ставить вопрос не о способности правительства обеспечить своих граждан большими автомобилями и комфортным жильем, а о предоставлении людям возможности для удовлетворения душевных потребностей»[70].
Между тем, по данным опросов ФОМ, в 1994 году покупка автомобиля среди потребительских желаний россиян занимала третье место, следуя за покупкой квартиры, а также вариантом «одежда, обувь, мебель, ковры, бытовая техника»[71]. И спустя почти двадцать лет строительства капитализма в России автомобили из недавней непозволительной роскоши превратились в необходимый и более доступный предмет ежедневного пользования, став для российского среднего класса само собой разумеющимся основанием нового быта[72], но даже такое привычное восприятие отнюдь не лишено удовольствия от обладания:
Счастье от того, что это твое, это чудо твое и никого другого, этот предмет чьих-то восхищений стоит у тебя в гараже (Валентин, Украина, Днепропетровск, 2009)[73].
При этом наблюдается дифференциация в уровне удовлетворенности жизнью в зависимости от экономических факторов, и в частности, от наличия автомобиля. Так, поданным опроса РЛМЭЗ 1994 и 2007 годов, члены домохозяйств, располагавших автомобилем[74], в большей степени довольны своей жизнью, чем те, у кого машины нет (на 9,4 % в 1994-м и на 14,7 % в 2007-м), а среди неудовлетворенных их значительно меньше (почти на 13 % в 1994-м и 18,2 % в 2007-м).
Впрочем, сама по себе экономическая система общества здесь, вероятно, ни при чем: ведь и при капитализме есть бедные и несчастные, да и владение автомобилем, телевизором и холодильником, по выражению размышлявшего на эти темы в 1950-х годах австрийского экономиста Людвига фон Мизеса, еще не делает человека счастливым[75]. Эхом отдаются недавние опросы: экономический рост вовсе не гарантирует рост количества людей, чувствующих себя счастливыми (по данным исследования в США, Японии и России[76]). По результатам опросов в европейских странах бывшего социалистического блока[77], возможность жить в капитализме и даже рост ВВП в стране делает людей счастливыми в меньшей степени, чем их собственная экономическая стабильность, доступность здравоохранения, пенсионного обеспечения и системы ухода за детьми. Но и автомобиль не есть лишь элемент системы материального производства и потребления. Значение его еще и в том, что он преобразует гражданскую жизнь, жилье, путешествие и социализацию посредством «автомобилизированного» хронотопа[78]. Покупка, владение позволяют человеку состояться как собственнику, а использование автомобиля формирует особый жизненный стиль, меняя ощущение пространства и времени. В любом обществе модерна, а особенно в капиталистическом, это входит в систему либеральных ценностных координат, где свобода ассоциируется со скоростью передвижения, а благополучие — с независимостью. Так и гласит один из рекламных слоганов: «Автомобиль в рассрочку в Autotak — это выстрел в десятку. Теперь вы более независимы и счастливы»[79]. Одновременно автомобиль является продуктом воображения производителей, рекламщиков и продавцов, частью мироздания потребителя и практики заботы о себе в смысле ежедневной работы над стилем в соответствии с разделяемыми представлениями о классе, поле, профессии и других категориях статуса.
«Теперь вы более независимы и счастливы!»
Автомобиль как продукт управляемого воображения
По мысли Мишеля Фуко, для понимания концепта govern-mentality (иногда переводимого как «управленитет») следует задуматься не только о технологиях доминирования, но и о техниках «самости»[80]. Дискурсы о стилях жизни, потребления ведут «политику истины», продуцируя новые формы знания, внедряя новые понятия и значения, создавая новые сферы жизни человека, доступные ненавязчивой регуляции. Фактически мы можем посмотреть на практики потребления как подконтрольные, с одной стороны, власти государства, рынка и медиатехнологий, а с другой — власти тех форм знаний и дискурсов, которые производятся самими потребителями в отношении самих себя (т. е. власти «самоуправления»), В новой книге поведенческих экономистов Р. Тайлера и К. Санстайна говорится о том, как люди принимают решение относительно своего здоровья, благосостояния и счастья. Сталкиваясь даже с простыми вариантами выбора, люди поступают непоследовательно, не самым оптимальным образом (с точки зрения классической экономической рациональности). Вместо того чтобы мыслить «рационально» (в логике Homo Есопотicus), они полагаются на свою практическую мудрость[81]. Потребители ощущают мягкие «подталкивания» к определенному выбору, в частности, со стороны государственных и рыночных агентов, т. е. такие элементы управления желанием, которые, не исключая других возможностей, предсказуемым образом меняют поведение людей.
Осуществляемый ежедневно выбор жизненного стиля становится частью более широкого проекта «самореализации», осуществляемого при помощи терапевтических дискурсов по поводу обеспечения индивидуального благополучия[82] и удовлетворения желания посредством все «более свежих психологических формул»[83], используемых в рекламе. Надо сказать, что назначение автомобиля в качестве главного приза во всевозможных лотереях легитимировалось государством еще в СССР, где это давало редкую счастливую возможность стать автовладельцем. Но и постсоветское управление желанием осуществляется с участием властей. Например, региональные администрации пытаются реализовать повестку государства по стимулированию рождаемости, назначая автомобиль главным призом в этой своеобразной лотерее: с 2005 года по инициативе губернатора в Ульяновске начала действовать акция «Роди патриота в День России!»; суть ее состоит в том, чтобы родить ребенка 12 июня, причем среди преуспевших разыгрывается автомобиль УАЗ «Патриот»[84].
Но государственные агенты играют на этом поле вторичную роль. Большинство потребителей, по мысли Бодрийяра, «остается во власти магических сил и товарного фетишизма. Активно манипулируя знаками, это большинство само превращается в объект манипулирования»[85]. Реклама создает «возможность иных, более эффективных стратегий управления, нежели те, что опираются на репрессивные инстанции страха, долга, вины и стыда, по отношению к которым всегда сохраняются определенная дистанция и возможность бунта. Она указывает на возможность социального контроля, принимающего форму собственного желания потребителя и осуществляющего так, как „если бы“ индивид действовал по собственной воле»[86].
Наружная реклама, телевидение, глянцевые журналы руководят потребителями в запутанном лабиринте «выборов», с которыми те сталкиваются[87], и «[потребность, способная противостоять центральному контролю, уже подавляется контролем индивидуального сознания»[88]. Дискурсивное управление автомобилем-как-желанием в определенных исторических контекстах включает коды национальной идентичности[89], классовых и гендерных различий. Визуальный язык и вербальные коды рекламы создают автомобиль как воображаемый «объект желания и движитель счастья»[90], элемент в образной системе власти, скорости и сексуальности. Реклама автомобиля Honda CR-V строится вокруг слова «Crave» (страстное желание)[91], и другие бренды не отстают: «Astra Suzuki — чистое удовольствие!!! Наслаждение — погрузиться целиком в живые формы, открытые для тебя. Каждое твое желание исполнено. Safrane — автомобиль, который разбудит твои чувства»[92]. В некоторых сообщениях женщина и машина на изображении объединяются в один прекрасный и желанный образ-мечту. В этих случаях коммерческие нарративы включают категории «мечта», «счастье»; широко используют эротические символы, рисуя порой и физиологические ощущения; ключевые слова — удовольствие, любовь, страсть, чувства, желание: «Есть в его плавных линиях нечто неуловимое, тайное, страстное…»[93] (Toyota); «Заводится от одного прикосновения! Любимой — не откажешь!»[94]; «Удовольствие от вождения» (Volkswagen Touareg, Citroën С5); «Моя маленькая любовь» (Matiz). Эротизированные образы автомобиля в рекламе напоминают о машине как месте для развлечений, но не только: женское тело и сексуальные мотивы — известный прием повышения соблазнительности товара[95].
Очень часто в коммерческих сообщениях автомобиль ассоциируется с приписываемыми мужчинам качествами: силой, уверенностью в себе и скорости; как правило, эти сообщения одновременно оперируют также символами богатства, престижа, исключительности и успеха. Приведем примеры нескольких рекламных слоганов:
VOLKSWAGEN TOUAREG. Все реально. Чтобы оставаться на высоте в любых обстоятельствах, Вам нужен особенный автомобиль… элегантность и мощь вызывают уважение, а технические инновации превращают вождение в удовольствие… без усилий покоряет стихию… это оптимальное соотношение качества, функциональности, надежности и стоимости.
ФОРМУЛА УВЕРЕННОСТИ: везде чувствует себя победителем, передавая это чувство тебе (MITSUBISHI 4WD).
CITROËN С5 ВЫШЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. Комфорт никогда еще не был таким роскошным, а удовольствие от вождения — таким ощутимым… почувствовать себя выше обстоятельств.
Иногда к этому набору присоединяются семейные ценности: надежность, вместительность, удобство и безопасность. В рекламном плакате Chevrolet Blazer, в котором едет большая семья:
CHEVROLET BLAZER: «Все в одном ключе»
А в следующем примере «мобильный капитал» как объект потребления символизируется при помощи образа киборга. Капитализированный автомобиль и некапитализированная дикая природа[96], означающая мощь техники и ее владельца и привлекающая покупателя так же, как и сексуальность, объединяются при помощи ассоциативного ряда, где автомашина сравнивается с животными.
ВПЕЧАТЛЯЙ! НОВАЯ MAZDA3 …изменилась, повзрослев и став харизматичнее. При этом она осталась той самой Mazda3, знаменитой своим живым характером.
Очевидная направленность сообщения на женщин встречается довольно редко. Вот один из ярких примеров, где автомобиль воплощает ее образ жизни — канон, идеал, отражающий типичный для современной эпохи уклад: на рекламе «SUZUKI — образ жизни» — коллаж из фотографий женщины в разных ракурсах.
SWIFT Look at me SUZUKI Way of Life! стильный автомобиль, отвечающий всем требованиям городской жизни. Им легко и приятно управлять, его габариты не создают проблем с парковкой, а современный дизайн вызывает восхищение у всех, кто понимает в автомобильной моде! Посмотри на меня — Образ жизни.
Коннотации с «женскими» ценностями контрастируют с перечисленными выше символами маскулинности. Даже цвет автомобилей, по мнению организаторов Студии художественной аэрографии и дизайна, указывает на гендерно-специфическую (в данном случае «некорректную, рискованную») манеру поведения за рулем: «Салатовый. Считается, что этот цвет в большинстве выбирают женщины… Автомобили такого оттенка могут неожиданно заменить один маневр другим или в последний момент резко поменяют полосу движения. …Розовый (фламинго). Этот цвет автомобиля в основном преобладает у женского пола, так как он является цветом жизни и говорит о мечтательности, романтичности и чувствительности. Водители розовых автомобилей часто бывают рассеянными и невнимательными. У прагматичных водителей такие автомобили на дороге могут вызвать раздражение»[97].
Отметим, что вопреки официальной пропаганде гендерного равенства женщина за рулем в советское время была чем-то из ряда вон выходящим, особенным, неповседневным; она становилась предметом восхищения и удивления, а иногда и насмешек. В обществе постсоветского капитализма происходит ренессанс патриархатных ценностей, и хотя число женщин быстро растет среди владелиц и водителей легкового транспорта, их нередко изображают как менее опытных, смешных, непредсказуемых и потому даже опасных водителей, подчеркивая их вторичность в «автомире».
Сообщения диктуют потребителю не столько функциональные качества автомобиля, сколько обобщенные категории управляемого желания, находящегося в рамках классового и гендерного порядка. За коммерческими категориями стоимости, качества, иных технических достоинств автомобиля стоят ценности потребительской идентичности, созвучные идеалам стабильности политической системы и индивидуализма. Техники самости как те формы знаний и дискурсов, которые производятся самими потребителями в отношении самих себя, во многом согласуются с диктатом коммерческой рекламы и социокультурных норм (в том числе классовых и гендерных). Но в своих личных, семейных практиках, благодаря участию в социальных сетях, пользователи формируют пространство неподконтрольных смыслов, которое отличает их от среднестатистического потребителя и не умещается в ячейки «психотипов потребителей», заботливо приготовленные маркетологами.
Двигатель внутреннего горения: удовольствие желать
В XI главе «Левиафана» Гоббс говорит о счастье как о последовательном процессе достижения одной цели за другой, мечты за мечтой: «Счастье состоит в непрерывном движении желания от одного объекта к другому, так что достижение предыдущего объекта является лишь шагом к достижению последующего»[98]. По сути, речь идет о социализации и социальной мобильности желания, подобно той, что пережила героиня «Сказки о золотой рыбке». Социальная мобильность желания раскрывается в нарративе одного из наших информантов:
Счастье… Оно такое разное… И разные автомобили его приносили по-разному, коих хватало в моей жизни. Первое счастье в моей жизни случилось, когда я, будучи студентом, в Германии, купил себе Гольфика 20-летнего за триста евро с пробегом 42 тыс. Вот ЭТО счастье! Мой первый личный автомобиль! Я не спал в первую ночь, когда купил его и катался без прав даже несколько дней, в перерыв выходил на стоянку машинкой полюбоваться.
Но, проездив полтора месяца, я испытал новое счастье, пересев уже на третий гольфик, да ещё и GTI! И тут счастью не было предела!
Потом Ситроен пришёл в мою жизнь, опять же — счастье. Но все проходит — доказано временем, и сейчас, накатавшись на ино, хочется чего-то для души. Вот и занялся классикой (Украина, Донецк, 2009).
Н. Ссорин-Чайков во вступительной статье к этой книге развивает мысль Гоббса, говоря о том, что понятие счастья в модерне конструируется через темпоральность рынка, потребления и обладания. Фактически в нашем случае мы можем говорить о хронотопе автомобиля как о специфическом пространстве-времени новой среды, в которой оказывается человек, приобретая, а вернее, начиная управлять «желанием-на-колесах». В приведенном выше фрагменте интервью звучит особая темпоральность потребления, которая выражается в замене одной машины на другую. Напомним, что еще в СССР автовладельцы испытывали муки, попав в колесо потребительского вечного двигателя, как это афористично выражено в фильме «Берегись автомобиля»: «Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останешься без машины». А рыночная экономика дает представителям постсоветского среднего класса «почти бесконечные возможности для стилистических игр потребления. Всегда найдется более престижный ресторан, лучшая марка автомобиля или „исключительный курорт, где почти нет русских“»[99]. Исследователи потребления показали, что его объемы зависят не от абсолютного, а от относительного уровня дохода, поскольку потребители сравнивают свои возможности с потреблением других, более обеспеченных групп, которые тем самым оказывают на них постоянное культурное давление, принуждая наращивать объемы потребления.
Давление возрастает еще и потому, что значительная часть процесса потребления осуществляется на виду у других, в отличие от сберегательного поведения, остающегося личной или семейной тайной[100]. В этом смысле происходит, можно сказать, гонка потребления, когда «твоя машина всегда хуже, чем у соседа», что вызывает желание сменить свой автомобиль на более дорогой:
Ну, хочется лучшего, едешь на машине, допустим, примерно, грубо говоря, есть отечественная, наша, смотришь на иномарку, допустим, у, классная, ну хочется ее, ну покупаешь иномарку, ну допустим… Среднему классу хочется, чтобы джип был большой, ну не можешь остановиться, ну все больше и больше (М., 27–34, Москва, материалы фокус-группы 2006).
Некоторые потребители переживают это давление на эмоциональном уровне:
…Психологически надоедает машина. Чем дальше, тем больше (М., 27–34, Екатеринбург, владелец «Rexton», материалы фокус-группы 2006).
Однако так бывает не всегда. Нередко автовладельцы ощущают долгую и нежную привязанность к своей машине. Как выразился участник сообщества drive2, «для кого-то и „Запорожец“ — счастье, а кто-то тихо ненавидит свою „Ауди“. Залог счастья — чтобы владелец любил свою машину» (Украина, Донецк). То, что с автомобилем связаны эмоциональные, даже личные отношения, становится элементом общего фона удовлетворенности жизнью. Это подмечает Эли Рубин, реконструируя социальную историю «Трабанта»: простота управления и ремонта этого автомобиля позволила выстроить между ним и его владельцами куда более тесные индивидуальные взаимосвязи, чем характеризовали отношение западных автолюбителей к их машинам[101]. Действительно, автомобиль нередко становится чем-то вроде домашнего питомца: в каждой шестой семье, владеющей автомобилем, машина имеет имя — как правило, уменьшительно-ласкательное; а из тех, кто сами водят автомобиль, каждый пятый сказал, что использует для автомобиля имя собственное. Некоторые клички являются фольклорными названиями моделей (например, «копейка», «шоха» соответствуют ВАЗ-2101 и 2106). Наиболее часто упоминаемое автомобильное имя — Ласточка, но есть и другие ассоциации с животными (Лошадка, Лягушонок, Заинька, Пчелка, Орлик, Барбос) и людьми (Невеста, Партнер, Подруга, Пацан)[102].
Надо ли говорить, что это потребление имеет отчетливые специальные характеристики — как в отношении внутреннего (частного, своего, интимного, безопасного) пространства автомобиля, так и в аспекте возможности покорять пространства внешние, сокращая их, подчиняя собственному ритму и расписанию. Но речь идет не только об освобождении и расширении, но и об ограничении возможностей. Поиски места для парковки, проведение времени в гаражах и на станциях техобслуживания — все эти и многие другие потребности формируют особый эмоционально наполненный хронотоп жизненного мира автовладельца.
Повреждения автомобиля воспринимаются, как правило, очень эмоционально, вызывая чувства стыда, вины и сопереживания будто бы живому существу:
Было как-то дело в прошлом году, покрасил машинку с ног до головы и через месяц меня резанула газель и уходя от газели задел крылом автобус (в этот момент я расстроился не из-за денег, а из-за чувства что я лошара, расквасил крыло… из-за мысли о том что этого можно было избежать… и вид у машины был как будто её побили (так оно и есть конечно) и она так грустно светила фарами что я не мог на неё смотреть, следущим вечером от валил 5000 и на следущий день она была как новая и я наконец-то успокоился (Михаил, Санкт-Петербург).
Порой истории о повреждениях рассказывают в телесных терминах. Царапины на кузове переживаются некоторыми информантами как свои собственные: «вобще то мене нравится когда мафынка в идеале, и в случае царапин чувствую утрату хор. настроения, как будто сам себя поцарапал…» (Евгений, Свердловск); «да лучше я 11 раз себя поцарапаю чем один раз машинку!» (Украина, Днепропетровск). Впрочем, статус вещи, определяемый через отношение к ней хозяина, гарантирует ей определенную степень защиты, как это видно из высказывания одного из наших информантов, коллекционера раритетных автомобилей «Волга»: «…волги свои я бы вообще не хотел царапать, а повседневную машину, у меня рено лагуна, так вообще на раз-два, не парюсь» (Ростов-на-Дону). Испытания и переживания, выпавшие на долю автолюбителей, нередко наполняют особым смыслом их понимание счастья.
Морфология автомобильного счастья: удовольствие переживать
Люди не достигают счастья, сталкиваясь с неприятностями и трудностями, но, преодолевая их, некоторые чувствуют себя счастливее, чем раньше[103]. Эту идею Людвига фон Мизеса почти 60 лет спустя развивает психолог из Гарварда Даниэль Гилберт в своей книге «Спотыкаясь о счастье»[104]. Большинство из тех, кто пережили сильную травму, преодолели серьезные испытания, смогли вернуться к стабильному состоянию, подтверждают, что стали счастливее, чем раньше. Характерно, что формула «не было бы счастья, да несчастье помогло» иногда применима и к ситуациям серьезных повреждений на дорогах:
Ну а этим летом машина была разбита в почти мясо <…>, но нет худа без добра, за время ремонта передка приделал пару тюнингов, которые никогда не стал бы делать если б не пилить передок, с задом тоже много мыслей по усилению кузова, да и обзавёлся компрессором и сваркой, и получил безценный опыт, так что сейчас я даже рад что это произошло (Михаил, Санкт-Петербург).
Воспользовавшись метафорой Гилберта, можно сказать, что в нас есть гедонистический термостат, который постоянно возвращает нас к эмоциональной норме. Для одного из наших информантов преодоление препятствий, незапланированность, автономия и свобода обусловливают состояние счастья:
НО главное счастье для меня… ДА! ДА! ДА! Это чувство свободы! Это дорога, она и я. Это незабываемое удовольствие от процесса. Чем выше класс авто, чем больше комфорта и обузданности, чем больше всяческих ГУ, АБС, чем легче крутится руль:), тем меньше удовольствия я получаю. Такая бадяга) (Украина, Днепропетровск, 2009).
Преодоление расстояний и независимость от посторонних факторов здесь объединены в единую секвенцию с лейтмотивами контакта с техникой, единения с машиной, без какого бы то ни было технологического облегчения усилий. Собственная машина сегодня — это не только удобный транспорт для поездок на работу, но и возможность быть полноценным взрослым субъектом, соответственно, обладать властью беспрепятственного доступа повсюду в пространстве, границы которого быстро раздвигаются. Как гласит рекламный слоган: «Представь себе простор, безопасность и радость, которую доставит твоей семье поездка на новом, твоем Opel»[105]. Машина стала частью «технологического расширения человека» в плане личного потребления как права попасть куда бы то ни было[106]. При этом, хотя число женщин-автолюбителей в России с каждым годом растет, пока что в силу господства норм традиционной гендерной социализации и структурного неравенства в экономике, этот тезис по большей части по-прежнему относится к мужчинам. Овладение техникой, ее «магическое обуздание»[107] находится в символическом центре мужской идентичности.
Однако автономия и власть касаются не только свободы передвижения, покорения пространства и технического превосходства, но и независимости финансовой черты «настоящего самостоятельного мужчины». Именно этим заявлением оканчивается гендерно-маркированный нарратив нашего следующего участника:
первая моя машина была ВАЗ 21093… 94 год выпуска, купили ее с братом одну на двоих за 300 USD. машина была в ужасном состоянии, кузов гнилой, подвеска кончившаяся, 2-ой передачи не было, но… ЭТО БЫЛА НАША ПЕРВАЯ МАШИНА, в итоге машину перебрали, прогнившие места проварили, кузов перекрасили в темно-зеленый металлик, посадили ее на 17-е колеса, спортивная подвеска, коробка заняли место штатных, мотор перебрали, в итоге сняли с него 170 сил… и тачка полетела! сделали шумку, музыку, тонировочку;) куча приключений с ней были связаны… (дядька на audi а8 на рублевке когда нас догнал просил тачку ему продать) чему она нас научила? в полевых условиях с помощью ключа на 12, молотка и всем известной матери устранять 99 % неисправностей, она научила нас водить, она прощала нам много чего, а мы ее очень любили;)
потом у меня появился Opel Vectra В 2002 года выпуска, мотор 1.8 МКПП. после 9-ки был верхом комфорта… с ним я познакомился со своей девушкой, он меня возил в универ, он был честным трудягой… тоже любил его!
чему научил: что все это бред про то что любая машина станет опелем! если руки из попы растут то и мерс развалится через полгода, дальше в моей жизни появился Сервант… Honda CR-V 1998 года. Это была мамина машина… как же я ее любил! и как ее любили все друзья! Настоящий боевой друг! он меня научил ездить там где дорога, и хоть это всего-то паркетник, но лазил он будь здоров как! ваше не обламывали снег и зима, обочины и грязь! это была не тачка, а сплошной секс! а 2.0 от Honda это нечто! пер как танк, неубиваемое двигло!
а потом появился мой Volvo, этот Шведский парень научил меня не давить тапку в пол как потерпевший, пристегиваться за рулем, а главное я понял что такое премиум класс: отношение к тебе на дороге, сервис дилера (такси, подменные машины в случае ремонта, обеды за счет дилера и т. д). и как-то я к этому привык… вот теперь и мучаюсь выбором машины, что терять в качестве не хочется, как-то так…
P.S: все свои машины я покупал себе сам (Москва, 2009).
В этом рассказе содержится подробная карта мужского «автомобильного взросления», с расставленными на ней содержательными акцентами (братство, техническая сноровка, девушка, машина-вездеход, дорогое респектабельное авто, дружба) и характерными лексическими маркерами (жаргонизмы и заменители ненормативной лексики). Пространство, в котором размещаются и взаимодействуют символические указатели мужской идентичности, представляет собой сеть людей и вещей — вещей как гибридов общества и природы[108]. Автомобиль здесь — настоящий друг и волшебный помощник, который не только унесет куда угодно, от кого угодно и как угодно быстро, преодолевая пространство (физическое и символическое), но и превратит «иванушку» в царевича. Нарративный переход от мастера на все руки к пользователю сервиса экстра-класса, достигнувшему крепкого финансового положения, заметен и в том, как меняется язык повествования, становясь более размеренным и литературным. Появляется и новый мотив — интеллектуальные усилия, рефлексия по поводу проблемы потребительского выбора.
Для многих автомобиль стал агентом первичной социализации, причем еще и в качестве источника эстетического удовольствия:
Для кого как не знаю, а меня авто заинтересовали тогда когда я набросал первые наброски машинки карандошом и потом поехало (Казахстан, Алма-Ата, с. Шелек, 2009).
Для других автомобиль был предметом технического любопытства:
Я с детсва интересовался машинами. Говорил о них, читал, смотрел, спрашивал. Но это была лишь теория… Когда купил свою машину ваз 21011 жизнь поменялась однозначно… Стал появляться опыт в ремонте, большой интерес в улучшении всех узлов автомобиля: двигателя, ходовой и кузова. Возможно я даже нашёл себя. Сейчас ей занимаюсь, есть желание облазить в ней всю изучить и починить то что не так). Я стал проводить свободное время с Огромной пользой..! Сейчас занятие машиной для меня самое главное это и отдых, хобби, получение опыта и т. д. (Саратов, 2009)
Нередко здесь срабатывали гендерно-специфические механизмы идентификации с автовладельцами из числа родственников:
мой первый пока единственный автомобиль, это заз 968-м! доставшийся мне от отца в подарок на 18-ть лет! на нем то я и научился ездить! теперь я могу неделями пропадать в гараже и не приходить дамой так как машина для меня это единственный мой самый, самый верный друг! (Украина, Запорожье)
Интересно, что испытание автомобилем дает также и терапевтический, и профилактический эффект. Один из наших информантов рассматривает автомобиль как условие спасения от вредных привычек: став новым увлечением, машина отвлекла его от пустого времяпрепровождения за бутылкой и с сигаретой, позволив сбежать, переместиться из социально неодобрямого состояния к достойному статусу. «Верный конь» спасает от власти неумолимого времени и необъятного пространства; теперь наш герой — сам себе хозяин, может располагать собой независимо от траектории движения и расписания общественного транспорта:
наверное жизнь изменил, так бы я сейчас был бы алкоголиком или наркоманом, а так авто спас, о машинах промолчу, скажу об нынешней, спасла от курения! именно в гараже когда работал возле неё мне стало от сигареты плохо, до сих пор не курю с самого июля) и вообще, автомобиль учит логики, развивает координацию, вносит новые возможности быстрого передвижения, например когда уж ооочень надо быть в пункте А в 12 часов дня, а к нему маршрутка будет выезжать только в 14 часов, значит спасает время и жизнь =) к тому же возможность просто расслабиться и получить удовольствия от езды в 3 часа ночи, подумайте сами, чем бы ещё я добрался бы домой в 3 часа ночи? (Украина, Черкассы)
Именно просторы американских дорог, их пустота, горизонтальность ландшафта, а также скорость передвижения символизировали свободу — американскую мечту — на раннем этапе автомобилизации, — рассуждает Дж. Урри[109]. На второй стадии, по его выводам, возникает феномен «жизни в машине», чему способствовало повышение безопасности автомобилей для водителей и пассажиров (экстернализация рисков, перенос их на тех, кто снаружи), герметизация пространства как в физическом смысле (защита от запахов и звуков дороги), так и в социальном (контроль над составом посетителей салона по аналогии с домашним пространством). По мысли Карин Кнорр-Цетина, индивиды устанавливают связи с мирами объектов, пользуясь плодами современных свобод, иногда даже за счет утраты тех благ, которые они прежде извлекали благодаря связям в сообществе[110]. Один из участников нашего форума положительно оценивает замкнутость автомобильного пространства, т. к. оно создает у него ощущение безопасности, ощущение уютной ниши, того места и времени, где можно быть наедине с тем, с кем хочется, общаться с ними на природе, на отдыхе. Автомобиль представляется здесь как счастье частной жизни:
Автомобиль объеденил многих людей. Это люди не обязательно знакомые, это может быть семья, когда с семьей выбераешся куда нибудь (на природу или дачу) то стараешся делать ээто на автомобиле, а нет ничего лучше чем тот момент когда с тобой родные и близкие тебе люди которые тебе не безразличны. На мой взгляд это и есть счастье (Москва, 2009).
Вот как размышляет на эту тему Джон Урри: машина становится вторым домом, местом осуществления деловых, романтических, семейных, дружеских отношений, совершения преступлений и воплощения детских или взрослых фантазий. В отличие от общественного транспорта личный автомобиль предоставляет домашнюю среду, обитатели которой окружены системами контроля над своим собственным пространством[111]. Особую роль в хабитуализации внутреннего пространства автомобиля играет радио и населяющие машину вещи: игрушки, дорожные карты, музыкальные диски, подушки, разнообразные следы присутствия владельца и близких ему или ей людей. На третьем же этапе автомобилизации намечается тенденция переселяться в «умные машины», обученные принимать и обрабатывать цифровую информацию, а также переход к малым автомобилям[112]. Кстати, последний из указанных трендов в России пока не отмечается, а вот в Европе потребители активно поддерживают эстетику малых форм, экономящую городское пространство и несущую антидемонстративный экологический символизм. Между тем экономические ловушки снижают эффект от влияния богатства на счастье; рост демонстративного потребления ведет к росту расходов и, следовательно, к усилению стрессов из-за необходимости все большего заработка. Тод Литман[113], занимающийся исследованиями транспортного планирования, утверждает, что публичная политика могла бы повлиять на формирование ценностей экономии и экологического потребления.
Машина с историей: удовольствие принадлежать
Самым распространенным, «народным» автомобилем в нашей стране по-прежнему является ВАЗ (машина от этого производителя в 2009-м есть у 21 % россиян[114]), но особый интерес для нас представляют практики потребления так называемых олдтаймеров. Речь идет о довольно небольшой, но любопытной для исследователя группе поклонников советских автомобилей. В данном случае можно говорить о биографии автомобиля, задаваясь вопросами Игоря Копытофф[115]: каков статус вещи в контексте конкретной эпохи и культуры; какова была карьера вещи и что люди считают идеальной карьерой для подобных предметов; каковы общепризнанные «эпохи» или периоды в «жизни» этой вещи и как они культурно маркированы; как меняется использование вещи с течением времени?.. Проходя сквозь череду владельцев, продавцов, покупателей, перекупщиков, авторынков, объявлений о продаже, советские легенды и предметы мечтаний прежних поколений автолюбителей попадают в руки новых владельцев. Советский культ автомобиля отражается в практиках новых поколений, романтизирующих реальные и воображаемые характеристики этих транспортных средств в массовых ритуалах типа автошоу (например, «Автоэкзотика») и многочисленных электронных сообществах, посвященных «копейкам», «Волгам», «москвичам» и «Победам». Такие автомобили были приобретены, по словам респондентов, «для души», а примерно половина «Волг» и «Побед» досталась нынешним владельцам по наследству. Среди мотивов были отмечены не только прагматические («это лучшее за эти деньги»), но и эмоциональные: «увидел — и полюбил»[116], «приятно иметь машину с историей» (из интервью). Фактически речь идет об укорененности материального объекта в нарративе[117].
Далеко не все владельцы олдтаймеров считают свой автомобиль идеальным, в их планах купить себе вторую машину: «если с работой нормально все будет, возьму что-то более удобное» (участник автоклуба ВАЗ-2101 SeregaBur). Правда, они отнюдь не собираются продавать свою теперешнюю. Почитатели «копейки» и ее модификаций любят свои машины отнюдь не за их удобство и практические качества; они даже видят, что это далеко не идеальный автомобиль. Однако информанты отметили те черты и свойства автомобиля ВАЗ-2101, которые делают его уникальным. Кто-то говорил о технических характеристиках, кто-то о большом поле для тюнинга, а кто-то любит эту машину просто потому, что она досталась ему от любимого деда или отца.
Автомобилями я интересовался всегда! Но не какой любви к отечественному автопрому я некогда не чувствовал. Благодаря именно своей Волги я по началу полюбил ГАЗ а за тем уже весь отечественный автопром. В данный момент я горд за наши державы, и большой патриот наших автомобилей. И ничего так не радует Глаз увидев то ли 21 Волгу, то ли Патриот!
А по жизни, возможно больше бы тратил те деньги которые лежат в волге на пиво или другую хрень.
А так же, моя Волга познакомила меня с многими автолюбителями и не только, за что я ей очень благодарен.
И наконец если бы не она, то я щас бы не писал эти слова, и не было бы меня на Драйве (Украина, Харьков).
Владельцы таких старых автомобилей, как ВАЗ-2101, вынуждены постоянно покупать запчасти и делать ремонт. Так как модификации этой модели выпускались до недавнего времени, многие элементы двигателя, ходовой части и другие детали продаются достаточно свободно. Но запчасти именно для этой модели уже не выпускают, и чтобы их достать, владельцы часто пользуются помощью друзей, соратников по клубу и объявлениями в Интернете: «Я доставал задние фонари 01. Упало у меня все, хочу их и все!» (из интервью на форуме). Среди любителей «копейки» есть и женщины, причем они поднаторели в автоделе не хуже мужчин: «они только подсказывали. Гайки я крутила». В противовес гендерным стереотипам участница клуба «ВАЗ—2101» в своей нарративной идентичности подчеркивает самостоятельность и способность управляться с ремонтом автомобиля.
Но социальная жизнь вещей — это также и пространственное их перемещение, что относится не только к олдтаймерам, но и к любому автомобилю. Трассы, маршруты, пути наполняются социальными отношениями владельцев, их авто и членов их социальных сетей. Клубы — это системы общения, налаженные сети для обмена товарами и для взаимопомощи. В клубе «Daewoo Nexia», например, организован специальный список участников, которые готовы помочь на дороге в сложный момент. Приведем несколько кратких и сочных топографических сообщений о рисках, окружающих автолюбителей, и взаимовыручке в их сетевом пространстве:
Ехал сегодня из Подольска по Варшавскому шоссе в сторону Москвы и вдруг ремень ГРМ приказал долго жить
Спасибо огромное пользователю Jah Вадим (Подольск) за оперативную поездку за запчастями и обратно к машинке.
Сегодня ночью с Казанского вокзала эвакуаторщики забрали мою малыффффку
Спасибо Alex_Koresh,aleks99 за телефонную помощь и respect и уважуха Snaryad,Nez-z-zlobina за то, что забрали меня с вокзала и помогли забрать машину со штраф стоянки!
Автомобиль используется как пространство самовыражения, в том числе национальной идентичности. В 1991 году словенские водители наклеивали на бампер картинки или надписи, касающиеся политических и религиозных убеждений. Эти символы выполняли функцию метафорической поддержки государственной независимости Словении[118]. Георгиевские ленточки, российские флажки, прикрепляемые к автомобилям в День Победы, выражают солидарность с национальной трактовкой истории, символизируя патриотизм, а порой становясь поводом радикальных реакций националистов в политически накаленной среде[119]. Потребление советских олдтаймеров и использование автомобиля как средства выражения национальной идентичности — это не индивидуальные, а коллективно ориентированные практики, укорененные в коммуникациях; это специфическое символическое потребление, в рамках которого ценятся не столько и не только комфорт, скорость, связанные с современным автомобилем, но и символы поколенческой связи и социальной принадлежности. Все это поддерживается не только патриотической риторикой, но и утверждением качеств, востребованных в современном горожанине: технократическая ориентация в потреблении, техническая подкованность, ловкость в оперировании ресурсами. Это не просто потребление само по себе; это культурная практика, погруженная в городской опыт, тесно связанная с представлениями о цивилизованности, с коммуникацией и формированием идентичности.
* * *
Воображаемый автомобиль-как-желание не только воплощает в языке рекламы мечты различных социальных групп, но и конструирует стили жизни. Культурные коды дискурсивного управления желанием в советском контексте содержали двусмысленные указания на индивидуальные мечты и общественные потребности: желать машину лично для себя и нуждаться в машине в целях повышения производительности труда предприятия. Обсуждая государственное управление желанием иметь автомобиль в СССР и в постсоветской России, мы видим, как прежние метафоры реконструируются в практиках символического потребления и новом культе советского автомобиля-мечты. Стратегии власти, которые развертываются в «потребительских обществах» (в отличие от индустриальных) и основным проводником которых является реклама, изначально нацелены на производство не «дисциплинарного», а «нормализованного» индивида с желанием, адаптированным к нуждам социального контроля.
Участвуя в построении капиталистической системы ценностей в стране победившего социализма, автомобиль аккумулировал вокруг себя и вызвал к жизни новые идеалы и практики — противоречивые, но достаточно устойчивые, чтобы воспроизводиться и в постсоветской реальности. Управляемая ментальность потребителя подчиняется подталкиваниям со стороны рынка и государства, считывая в рекламных сообщениях подсказки, сообразуясь с канонами гендерной и классовой идентичности. Однако рассмотрение опыта автолюбителей на микроуровне их переживаний высвечивает более тонкие нюансы в социализации их желаний. Желание иметь автомобиль формулируется в соответствии с разнообразными биографическими факторами и структурными обстоятельствами.
______________________
______________
Ростислав Кононенко[120]Деньги в мире детей США: Маршруты по дороге к счастью
Словосочетание «дети и деньги», перефразируя давно транслируемую рубрику одной из известных отечественных радиостанций[121], скорее всего вызовет сложные ассоциации и размышления на тему чистоты мира детства, натиска мира взрослых, в том числе и коммерческого, необходимости приучать детей к ответственности и проч. Это в том случае, если говорить о дне нынешнем, т. к. восприятие детей в качестве потенциальных (и реальных) рабочих рук, использование детского труда (в семейной и отчужденной форме) — хорошо известные страницы из истории европейского Средневековья и Нового времени, включая и американский опыт. Сегодняшние столкновения детей и денег, как в форме абсолютно абстрактной, так и весьма предметной — монетно-купюрной, кажутся вполне естественными, если речь идет об обществах и культурах, которые принято считать коммерциализированными. В этом смысле ни одна страна мира не пользуется столь очевидной репутацией коммерциализированной, как США. Поэтому вопрос о взаимодействии денег и детей в США сторонний человек может воспринять как саркастически-риторический. Не быть этих отношений не может, ибо таковы основные «ценности» американской культуры, и эти взаимоотношения едва ли должны (или могут) служить золотым стандартом с точки зрения защиты детей от «мира чистогана». В то же время реалистичный взгляд подсказывает нехитрый вывод: преследование собственных целей и стремление к личному счастью так или иначе связаны с установлением и реализацией неких принципов вовлеченности личности в денежный обмен и умением управлять своими денежными потоками (бюджетом и т. д.). Возникает вопрос: как именно и когда учить детей обращаться с деньгами и принимать финансовые решения (независимо от избранного пути самореализации); какое место занимает этот сюжет на раннем этапе человеческой жизни, в детстве? И клишированные утверждения «деньги не могут купить тебе счастье» («money can’t buy you happiness»), «есть другие ценности» и проч. не отменяют необходимости указывать детям путь (или пути) управления финансовыми средствами. Конечно, финансовая грамотность не является обязательной и непреложной дорогой к счастью, так же как и неумение обращаться с деньгами не обязательно станет препятствием на той самой дороге. Сама концепция счастливого детства и счастливых детей утвердилась в западном мире сравнительно недавно — к XX веку, однако в современном мире право детей на счастье кажется неоспоримым. Остается проблема: как сохранить за ними это право в будущем[122]. С точки зрения здравого смысла задача каждого современного поколения взрослых — помочь детям выстроить свои приоритеты (в большей или в меньшей степени совпадающие с родительскими) и отвести в них должное место денежным сюжетам. Взаимовлияние детей и денег становится предметом исследования представителей разных дисциплин: психологов, педагогов, философов и проч. Рекомендациями по поводу того, что именно соответствует универсальным задачам такого обучения, пестрят многие западные издания (от публикаций в прессе и Интернете до специальной научной литературы).
Цель данной работы — не столько создание многоплановой и сложной картины мира детства через призму денежных отношений в современных США, сколько обозначение тех пунктов на карте детского мира, которые представляются в этом смысле узловыми, и тех принципов перемещения, которые обеспечивают безопасное продвижение вперед, навстречу миру взрослому. Установки по социализации детей, бытовавшие в США первой половины XX столетия (вплоть до конца 1950-х гг.), издавна утверждали известные ценности (в первую очередь протестантские): приветствовали труд, накопление, оправданность денежного вознаграждения. Однако в связи с изменениями в системе ценностей опыт детского и подросткового существования в обществе массового потребления меняется, особенно за последние десятилетия. Установки и практики семейного воспитания в отношении индивидуального успеха ребенка, бедности других и проч. не избежали мощного влияния феномена политкорректности. Социализацию как таковую продолжают обозначать вполне универсальными для американского среднего класса (и простирающимися за его пределами) вехами.
Освоение разнообразных практик и постепенное раздвижение границ денежного мира детей в современных США по-прежнему обусловлено узнаваемыми традициями и устоями среднего класса — самой многочисленной, хотя и не исчерпывающей палитру населения, категории. Именно его аттитюды и практики (при известной своей дифференцированности) принципиальны для восприятия не просто бытующих, а определяющих установок применительно к современным США. Средний класс семиотически обозначает Америку как таковую. Ведь некоторые ценности из области американских семейных отношений действительно носят универсальный характер. Включение детей в личную трудовую деятельность; денежные операции; социальные отношения, имеющие элемент денежного обмена, — все это имеет особое звучание в контексте американской концепции автономии и постепенно возрастающей самостоятельности ребенка, тесно сопряженной с индивидуализмом, причем на всех этапах жизненного пути. С точки зрения большинства американских родителей (особенно тех, кого условно называют родителями европейского происхождения), именно «независимость является самой важной долгосрочной целью (курсив мой. — М.З.) для ребенка»[123]. Она имеет безусловное финансовое измерение и выражается в известной (правда, относительной) автономии по отношению к родителям. Предпочтительно покинуть родительский очаг при поступлении в колледж, превратив дом в «опустевшее гнездо» (empty-nest), — для родителей это переходный период от счастья с детьми и от непосредственного общения с ними к счастью без детей. Подобная система должна рассматриваться в контексте всех межпоколенных отношений, причем двусторонних, и в конечном итоге — торжества индивидуализма (что не исключает возможности оказания финансовой помощи в чрезвычайных ситуациях). Экономическая ситуация вносит коррективы в то, как именно реализуется концепция финансовой взрослости или зрелости — некоего конечного пункта в продвижении ребенка по пути взросления. В идеале окончание школы, поступление в университет или колледж как раз и служат смысловой и временной границей самостоятельности (хотя именно родители, как правило, оплачивают высшее образование). Предполагается, что теперь ребенок будет жить автономно. Однако в результате экономического кризиса многие молодые американцы, окончившие четыре года колледжа (т. е. первую ступень высшего образования), возвращаются в родительский дом — в первую очередь ради экономии средств. Об этом еще пойдет речь ниже.
Следовательно, траектория «подготовительный класс школы — колледж/университет» может разниться не только под влиянием таких субъективных факторов, как родители, сиблинги, опыт дружбы, наконец, личные предпочтения, но и в результате финансовых возможностей, продиктованных общим экономическим климатом. Разнообразие — в духе политкорректной атмосферы приветствуется — во всяком случае, это декларируется, но некоторые культурные универсалии сохраняются, и они очевидны. Каждый ребенок постепенно создает собственный мир денежных представлений и действий, связанных с деньгами, знакомясь с элементами жизни, имеющими денежное выражение, в первую очередь — вполне конкретное, во вторую — абстрактное. Путешествие ребенка по «денежному миру» происходит при постепенном смещении его деятельности от игровой активности и роли получателя денежных благ в любом виде к деятельности трудовой и роли не только реципиента, но и активного «тратящего» и даже «зарабатывающего» начала. Чем дальше, тем больше ребенок приобретает самостоятельность в выборе сумм для трат и конкретных сфер их приложения. Дети заняты созданием своего ареала денежных практик и представлений, связанных с деньгами: с ростом возможности собственной «настоящей» деятельности расширяется и география использования денежных средств — сейчас, благодаря Интернету, уже безграничная. Это — почти «стройное» — шествие усложняется противоречивыми и порой откровенно конфликтными установками, которые призваны одновременно взрастить трудовую, самостоятельную и самодостаточную в материальном смысле личность (чтобы можно было тратить) — и, с приобретением этих навыков, отгораживаться от чрезмерного консюмеризма, помнить о необходимости постоянного самоограничения, планирования, точных расчетов и проч.
В этой связи возникает вопрос: что предлагается в качестве универсальных рецептов обращения с деньгами, чтобы деньги в детском восприятии, но опосредованном взрослыми ожиданиями, укладывались в концепцию счастья, достижения мечты, успеха, но не становились самоцелью? И в этом контексте звучит еще одна проблема: каков на практике гарантированный залог возможности достичь счастья в будущем и какова его денежная составляющая?
В сюжеты для рассмотрения мною включены: символика монет в жизни детей американского прошлого; обладание собственными деньгами (и монетами в том числе) как знаковый символ самостоятельности сегодня; коллекционирование монет, их использование в начальной школе; получение денег в качестве родительских пособий и их распределение, возможность их траты, накопления (копилки, распределение денег на категории) и др. Изначально эта тема интересовала меня больше с точки зрения финансовой ответственности детей/родителей, ее границ и их подвижности, (псевдо)самостоятельности решений и проч. Однако не менее любопытен и маршрут, по которому следует ребенок в освоении денежного мира, которое происходит и в хронологическом измерении — по мере взросления, и в географическом, а теперь еще и в виртуальном. В качестве источников я использовала мини-интервью, анализ родительских блогов и форумов, Интернет- и печатных публикаций, детской литературы, данные включенного наблюдения.
Изучение разных аспектов детства как феномена происходит усилиями представителей разных дисциплин, не говоря уже о смежных направлениях. К тому же речь идет о совокупном анализе фактически нескольких составляющих: собственно детства, родительства, других социальных институтов (школы и проч.)[124]. Даже беглый обзор этой все набирающей популярность области исследований не мог бы войти в формат данной публикации. Отмечу лишь, что при работе над ней я учитывала несколько подходов: более современную трактовку функционализма с точки зрения социализации индивидуумов как социального процесса взаимодействия, предполагающего освоение социальных норм и родителями, и детьми; концепцию «жизненного пути» и маршрута освоения социальных ролей; положения о выраженной возрастной стратификации в США; социальное конструирование — как родителями, так и детьми. Полезны новые исследования в жанре «географии детства», учитывающие пространственные и топографические параметры «прохождения» детьми пути взросления. Все эти направления так или иначе касаются предмета моего интереса — денежных элементов жизни детей на разных этапах и в разных контекстах. Что касается социальной обусловленности денег, взаимоотношений их и человека, то и эти направления давно разрабатываются на стыке разных дисциплин: экономической социологии, экономической антропологии, психологии и проч. Подробное освещение того, что уже сделано (западными исследователями, а также отечественными специалистами), опять-таки стало бы слишком амбициозным начинанием[125]. Для моей темы важна трактовка индивидуума (и ребенка в том числе) как социального и экономического актора. Освоение детьми множественных и вариативных ролей в этой и смежных сферах и сопряжение их действий с предлагаемыми нормами и составляет смысл перемещения ребенка в денежном мире — как, повторюсь, «диахронного», связанного с личным взрослением и весьма стремительным изменением внешнего мира, так и «синхронного», топографического, с той лишь разницей, что современная топография детского мира обязательно подразумевает виртуальное пространство и значимость его в «денежном вопросе» увеличивается с возрастом ребенка.
Отправной точкой для меня является хорошо известный тезис ведущего американского эксперта в изучении денег Вивианы Зелизер (к чьим работам я еще буду возвращаться) об их социокультурной обусловленности, символическом и практическом значении[126] и также ее идея об эволюции восприятия ребенка в XX столетии — от экономически полезного, но эмоционально не оцененного до эмоционально бесценного[127]. Вывод Зелизер о «сакрализации» детских жизней, о превращении детей в объекты нравственного и религиозного порядка, в ценность социального плана базируется на анализе их постепенного отлучения от рабочей силы, а также на изучении детского страхования, которое получило распространение в последней четверти XIX века. В 1896 году в США было застраховано полтора миллиона детей, однако в это же время в стране возникло движение, выступающее категорически против такой аморальной коммерческой эксплуатации детских жизней — «дьявольской» практики, которая являла собой профанацию, денежное осквернение святости ребенка[128]. Оппоненты же утверждали, что как раз страхование и символизирует сакрализацию ценности жизни ребенка, особенно бедного, в случае смерти которого страховка смогла бы обеспечить достойное христианское погребение. Зелизер обращает особое внимание на многофакторность процесса, в результате которого жизнь ребенка стала восприниматься как однозначная эмоциональная ценность, а безвременная кончина — как трагедия, которую к началу XX века и страховые компании интерпретировали с точки зрения моральных, а не материальных потерь.
Действительно, в США (как и во многих европейских странах, и в России) подавляющая часть общества (к примеру, американский средний класс) в течение прошлого столетия перестала относиться к детям как к некоему рыночному источнику доходов или ресурсов, компенсирующему неминуемые траты и имеющему денежный эквивалент. Вместо этого дети видятся как источник эмоционального удовлетворения и радости, т. е. они стали одним из главных способов и путей самовыражения, прохождения важного этапа жизни, достижения личного счастья, для кого-то являясь абсолютной ценностью и самоцелью. Речь идет о характерном для модерна детоцентристском императиве, приоритете детских интересов, перестановке их на первое место — в сравнении с родительскими[129]. Это объясняет многие современные элементы воспитания (и, в частности, «общение» ребенка с деньгами).
Среди отечественных исследователей антропологии денег, безусловно, заслуживают упоминания тексты Н. Н. Зарубиной[130], С. Б. Абрамовой[131]; собственно этнографический аспект представлен в цикле статей, опубликованных в журнале «Этнографическое обозрение». Он открывается некоторыми замечаниями С. П. Тюхтеневой о необходимости этнографического/этнологического/антропологического изучения денег — хотя бы потому, что «вся наша сегодняшняя реальность полна упоминаниями о них… и изменение социального контекста отношения к деньгам меняет систему ценностей и культуры в целом»[132]. Это наблюдение, конечно, применимо не только к российской действительности. А разнообразная — с этнической точки зрения — «окраска» социокультурной функциональности денег подчеркивается в другой статье уже упомянутой Н. Н. Зарубиной, которая повторяет тезис признанного американского эксперта по социологии, антропологии и истории денег Вивиан Зелизер об их (денег) множественности[133]. Весьма подробный материал содержится в работе Светланы Махлиной, которая рассматривает происхождение денег, их знаковые особенности, этнографические различия (касаясь, в частности, и США). Она же вспоминает значимую для данной статьи мысль Сципиона де Грамона (1620), воспроизведенную Ф. Броделем в его труде «Структуры повседневности»: «Деньги, говорили семь греческих мудрецов, суть кровь и душа людей; и тот, у кого их нет, свершает свой путь (курсив мой. — М.З.) подобно мертвецу среди живых людей»[134]. Антрополог С. П. Тюхтенева отсылает к целому ряду обзоров по «денежной» проблематике, включая и работы западных специалистов, — к примеру, исследовательский проект по антропологии денег в Калифорнии[135]. Правда, общее число трудов по теме денег и культуры, и особенно культуры детства и денег, остается не столь значительным — не случайно известный антрополог Кит Харт неоднократно высказывал свое сожаление по поводу отсутствия достаточной рефлексии о мейнстримовских денежных практиках в США[136]. Однако некие академические изыскания встречаются. Так, Рубин Джордж Оливьен полагает, что в Америке, в отличие от Бразилии, деньги являются абсолютным социальным фактом[137]. Их сакрализация в разных обществах, включая американское, возможна, если они «сакрализуются особыми процессами»[138].
В своей статье я хотела бы выдвинуть следующие положения:
— В продолжение тезиса В. Зелизер о дорогостоящем бесценном ребенке обращает на себя внимание то, что предполагаемый итог усилий воспитания и взращивания детей включает их финансовую компетентность как залог будущей возможности их собственной счастливой жизни. Более того, этот цикл может повторяться — и будущие независимые взрослые смогут обзавестись собственными детьми и т. д. Такова четкая, культурно одобряемая для среднего класса цель к моменту окончания детства — восемнадцати годам, поступлению в колледж и, в идеале, покиданию родительского дома.
— Таким образом, при утверждении принципа безусловной эмоциональной близости ребенка и родителя путь во взрослую жизнь во многом сводится к активному утверждению одной из главных американских ценностей — независимости и к важнейшей ее составляющей — финансовой самостоятельности. Родители не ожидают «финансовой отдачи» от ребенка и в будущем (оговорюсь, что данный вопрос не входит в рамки статьи).
— И в детстве деньги также определяют отношения между родителем и ребенком[139].Отчасти поэтому одним из ключевых элементов нормативной культуры детства и родительства становятся весьма сложные, меняющиеся со временем «договорные» отношения между родителями и детьми, предполагающие обмен (например, стипендию/пособие родителей). Высокая стоимость ребенка не должна приводить к его избалованности и финансовой безграмотности, несмотря на неизменный фактор коммерциализации детства.
— Несмотря на декларируемое многообразие семейных образов жизни, денежный опыт американских детей среднего класса характеризуется некоторыми универсальными практиками и ритуалами, которые обусловлены как средой обитания (преимущественно пригородной), так и высокой степенью структурированности детского мира. Физическое обладание деньгами продолжает играть достаточно важную роль, несмотря на растущее значение электронных денежных операций.
— Финансовый кризис, поразивший США в 2008 году, вызвал некоторые (временные) изменения в том, насколько молодые американцы действительно отвечают ожиданиям родителей в плане ощутимой финансовой самостоятельности, — но не изменил общую концепцию.
Итак, эмоциональная бесценность детей увеличивает их стоимость — «в среднем и высшем классе царит дорогой бесценный ребенок», утверждает Зелизер[140]. Счастье от детей возможно при условии счастья самих детей, которое в немалой степени обуславливается денежным эквивалентом стоимости элементов счастья. Рост затрат на ребенка связан и с тем, что большая концентрация ресурсов на одном ребенке сопряжена с постепенным снижением рождаемости в течение последних пятидесяти лет. Поэтому «стоимость» ребенка расценивается не столько и не только как «ущерб» бюджету взрослых (подобные настроения, от шутливых до полусерьезных и серьезных, социально приемлемы), а как необходимое условие обеспечения высокого качества жизни самому ребенку. Иными словами, эмоциональное удовлетворение могут и должны принести те дети, расходы на которых «правильно» подсчитаны. Погружение «бесценного» ребенка в мир подсчетов и расчетов начинается с того момента, когда обсуждается возможность появления его у родителей. Этот шаг в идеале предполагает очень четкую калькуляцию ресурсов — неслучайно многие сайты, предназначенные для родителей, предлагают детальный расчет этого проекта, когда учитываются состав семьи, доход, место проживания, будущие образовательные амбиции и многое другое. В калькуляцию входят: время, которое ребенок будет проводить с родителями или с их максимально адекватной заменой; пространство и место детского этапа жизни; игрушки, образовательные программы, занятия и опыт (experience), в том числе культурный; одежда (с девочками, по мнению многих, получается дороже); возможные дополнительные занятия (от тех, которые приятны или увеличивают будущую конкурентоспособность, до тех, которые необходимы для коррекции проблем); наконец, медицинская страховка. Современная «стоимость» ребенка до поступления в колледж колеблется от 170 тыс. долл.[141] (минимум, не включающий популярные занятия музыкой и плаваньем, летние лагеря или походы к ортодонту — что принципиально, учитывая внимание американцев к состоянию зубов) до 300 тыс. долл.[142], что составляет почти 50-процентный прирост за последнюю четверть века. Обучение в колледже может стоить еще столько же. В этих расчетах не учтена потеря в заработке при отсутствии оплачиваемого ухода за детьми-дошкольниками[143] (включая потери от не-работы матери или отца или их не-продвижения по карьерной лестнице из-за нехватки времени). Прогнозы свидетельствуют: ребенок, рожденный в 2009 году в семье со средним доходом, к восемнадцати годам обойдется родителям в 222, 350 тыс. долл., не считая главного финансового обязательства по отношению к детям — оплаты учебы в колледже[144]. Рачительность людей, задумывающихся о детях, вовсе не считается предосудительной или социально табуированной, хотя почти любой текст с финансовыми выкладками сопровождается пояснением: «голый экономический подход к деторождению все же расценивается как моветон». Но журналисты вполне позволяют себе говорить о «финансовой кровопотере» (financial bleeding), связанной с детьми. Нередко следует обращение к эмоциональной стороне дела: «как говорила мама (в собирательном смысле. — М.З.) — в жизни есть не только деньги»[145]. Правильно распланированное количество детей, время их появления и даже затраты на рождение (это актуально для семей или индивидуумов, испытывающих сложности с естественной фертильностью[146]) — свидетельство того, что и родители, и ребенок могут получить лучшие шансы в жизни благодаря реализации большей ответственности. Главным в совокупных подсчетах становится расчет стоимости будущего образования (так или иначе, оплата обучения ребенка, включая, хотя бы частично, университетский уровень) — давний и непреходящий элемент американской мечты. Правда, экономические флуктуации неминуемо влияют на способность родителей оплатить весь цикл обучения. Так, сейчас многие американцы жалуются: экономический кризис настолько ухудшил их финансовое положение, что опыт старших детей оказался несопоставим с опытом младших. Речь идет о том, что ресурсы, которые семья может позволить себе потратить на ребенка, более ограничены — в первую очередь, из-за изменения ситуации на рынке рабочей силы, включая риск безработицы.
Наконец, родители должны реализовать принцип личной ответственности за себя на будущее (что особенно четко видно в условиях возросшей продолжительности жизни), он же подразумевает и то, что родители не могут пожертвовать всем ради детей — иначе они безответственны[147].
В идеале коллективное счастье всех детей и каждого ребенка должно было бы распространиться по всей территории США. С точки зрения давно идущего общественно-политического дискурса главный и по-прежнему невыполняемый гарант этого счастья в настоящем и возможности его в будущем — решение проблемы детской нищеты и бедности (childhood poverty). Статистика печально красноречива: около 39 % детей растут в семьях с низким доходом[148], более 22 % — в нищете. Этот показатель рассчитывается весьма сложным образом, и не все тенденции за истекшие двадцать лет столь малоутешительны, однако общую картину американские эксперты признают негативной[149]: к осени 2012 года 16 млн детей в США считаются бедными[150]. Нехватка средств проявляется и у семей (особенно неполных), и на разных муниципальных уровнях (от графств до федеральных программ); она, увы, хорошо документирована и активно обсуждается[151]. Экономический кризис 2008–2010 годов лишь усугубил ситуацию. Весь цикл вхождения ребенка в монетарно-денежный мир, конечно, существенно зависит от финансовых возможностей семьи и от того, насколько стабильно это положение. Чем менее стабильна экономика, тем больше вероятность, что один и тот же ребенок на протяжении своего детства будет оказываться в разных экономических ситуациях (не говоря о болезнях, несчастных случаях и т. п.). Поэтому предлагаемые «рецепты счастья» выписываются не всем. Неоспоримые основы правильного воспитания и социализации не могут быть эффективно распространены на любого американского ребенка. Но задача (и надежда) родителя — создать максимально уютный мир и одновременно указать путь к автономии, оградив ребенка от потрясений, и тем самым подсказать дорогу к возможному обретению счастья.
Счастливое детство и счастливое будущее требуют постоянного финансового сопровождения, а стоимость компонентов детства весьма прозрачна. Порой бесхитростны и рецепты экономии: грудное вскармливание, собственное приготовление детского питания, полудомашние формы яслей (стандартный дневной центр по уходу за детьми может стоить до 15 тыс. долл. в год в штате Массачусетс — существенная часть от общего заработка обоих родителей; менее формальный вариант — на 5 тыс. долл. дешевле) и, конечно, все те вещи (одежда, игрушки и т. д.), которые принято передавать друг другу. Вероятно, от того, что именно удается сэкономить, зависит и разнобой в оценках затрат самих родителей на появление малыша: от «я не ожидала, как это недорого, все эти цены накручиваются СМИ, а ведь нужны лишь памперсы…» до «так дорого, что не хочется знать, сколько именно мы потратили»[152].
Социально приемлемыми считаются обсуждения дороговизны детских товаров, услуг, школ и особенно финального этапа родительского пути — обучения в колледже.
Моему сыну предложили продолжить образование в Бостоне. Но он выбрал менее престижный вариант. У нас просто нет таких средств (П, 56).
Однако обращение к стоимости неизбежных (по крайней мере, теоретически) затрат вызывает некоторые, впрочем не всегда громкие, оговорки:
Конечно, когда наша дочь тяжело заболела в десять лет, мы не думали о деньгах, но лечение стоило так дорого — без страховки Blue Cross Blue Shield мы бы не обошлись (Реклама по телевидению).
Или:
Это было ужасно. Мне позвонили ночью и сказали, что сын в реанимации, у него полностью разбита челюсть — и это после того, как мы несколько лет платили за ортодонта (П, 56).
Морально-этическая оправданность дискуссии о «стоимости» уже появившихся детей и «доходов от них» представляется спорной некоторым исследователям: Квортруп считает, что дети превращаются в «позиции бюджета родителей, т. е. в дорогие объекты — как жилье, машина, бытовые приборы»[153]. В других работах утверждается, что дети — и «источник радости, и бремя», но эти противоположные характеристики уравновешивают друг друга[154]. Здесь кроется ответ на вопрос, который присутствует в сегодняшнем дискурсе: если в условиях современного американского общества дети не являются экономической помощью (родителям) в детстве и не становятся ею в будущем, не означает ли это, что люди с детьми менее счастливы, чем те, кто предпочел бездетный образ жизни? Разница, судя по различным опросам общественного мнения, непринципиальна: значительно более несчастными оказываются вообще одинокие, т. е. несемейные, люди. Основной разрыв в ответах приходится на момент появления первого ребенка, а большинство родителей не жалеют о том, что завели детей. Рекомендуя избавиться от стресса, связанного с оплатой «качества» детства, некоторые авторы ссылаются на мнения биогенетиков, которые утверждают, что эффект родителей на результат воспитания невелик: можно иметь много детей, более спокойно относиться к их выращиванию и просто получать удовольствие — т. е. быть счастливыми. К тому же, по мнению экономиста Теда Бергстрома, и среди охотников-собирателей, и в сельскохозяйственных обществах дети потребляют больше калорий, чем производят. Иными словами, ответные экономические действия детей в далеком прошлом были просто невозможны, а значит, концепция их исконной экономической целесообразности — миф[155].
Однако большинство исследователей не сомневаются в том, что занятость совсем юных детей представляла собой повсеместное явление во многих обществах, отличались конкретные обстоятельства (где именно трудился ребенок, в какой форме получал оплату, подвергалась ли его жизнь опасности и проч.)[156]. Подобный труд в любом случае был не источником личного удовлетворения, хотя и имел образовательную ценность (подмастерья), а способом избежать несчастья, выжить. К началу XX века, учитывая повышение возраста, начиная с которого дети могли работать, и реформирование законодательства, можно говорить о постепенном переходе от детского труда к «хорошей, приемлемой» работе детей. Это не остановило многолетние дискуссии об определении понятий «детский труд», «трудовая занятость дома», «индивидуальная деятельность» (скажем, мало кто считал возможным лишить отчаянных и быстрых мальчишек, стремительно передвигавшихся по улицам, заработка от продажи газет). Особенно много споров вызывали дети-актеры. К 1930-м годам (особенно ближе к окончанию Великой депрессии) работа американских детей в значительной степени превратилась из инструментальной в образовательную, т. е. полезную для ребенка. Помощь по дому приветствовалась, но — применительно к среднему классу США — как интересная и обучающая. Менее обеспеченные соотечественники в юном возрасте продолжали работать и отдавать весь свой заработок или его часть семье. Именно в этот переходный период оформляется сама концепция родительского пособия или стипендии— allowance, заключает Зелизер, сразу превратившаяся в образовательный инструмент для ребенка, который мог научить правильно сберегать (откладывать) и тратить деньги, делиться с нуждающимися (save, spend and share)[157].
При всех этих переменах детский труд, который влияет на качество жизни взрослых, в известном смысле встречается даже среди современных семей среднего класса: именно на детей (а не на мужей) работающих матерей приходится часть домашней работы. Но в гораздо большей степени это характерно для девочек из испаноязычных и афроамериканских семей[158]. Еще более принципиальную экономическую помощь оказывают дети иммигрантов первого поколения[159], становясь переводчиками в весьма широком смысле слова (вплоть до уплаты банковских счетов, налогов и организации крупных приобретений).
Несмотря на торжество декларируемой политкорректности в отношении прав детей, они сами (их внешность и/или способности) также продолжают представлять некий монетарный эквивалент (всеобъемлющее рассмотрение этой проблемы представляется мне в данном формате невозможным). В большинстве случаев подобная ситуация опосредована не просто согласием, а деятельным участием родителей. Спрос на детскую карьеру в модельном бизнесе увеличился из-за экономического кризиса 2008 года. Несмотря на то что первоначальные затраты на фотосессии и проч. достигают нескольких сот долларов, а юные модели зарабатывают 100–120 долл. в час, родители признаются, что «готовы использовать любые ресурсы», если в будущем нужно накопить на пять университетских образований[160]. Политкорректные переживания о том, что для девочек вредно излишнее внимание к внешности, уступают место прагматичным соображениям. Один из самых одиозных примеров родительского тщеславия (но лишь отчасти маргинальный — с точки зрения американского мейнстрима) — детские конкурсы красоты, которые словно специально для этой публикации блестяще изображены в недавнем американском фильме «Маленькая мисс Счастье» (правда, в оригинальном названии слово счастье не фигурирует — «Little Miss Sunshine»).
Итак, первое персональное столкновение ребенка с личными деньгами, ему предназначенными, может произойти еще до рождения, например во время недавно появившейся, но весьма популярной традиции «праздника по поводу появления будущего первенца» (baby shower): его организуют друзья и/или родственники, и он предполагает одаривание семьи ожидаемого малыша (впрочем, сегодня можно направить эти деньги и на благотворительные нужды)[161]. Обычно речь идет о весьма практичных подарках. Но есть и те, что несут скорее символическое значение (связанное одеяло, вышитое полотенце и проч., иногда — серебряные монеты). В последнее время все чаще могут подарить деньги, но американцы считают подобное прочтение традиции «неамериканским» (скорее европейским или азиатским) вариантом и относятся к этому несколько скептически. Во всяком случае, открыто заявлять о своем желании получить подобный обезличенный подарок будущим родителям не рекомендуется — это считается невежливым, даже грубым[162]. Когда же знаменательное событие свершается и малыш появляется на свет (или — и это не праздная оговорка — в семье новоиспеченных родителей, коль скоро речь идет об усыновлении), то серебряный доллар (silver dollar) или даже целое дерево, сделанное из подобных монет, считается достойным, традиционным подарком наряду с другими изделиями из серебра или высококачественного мельхиора. В некоторых случаях первые монеты становятся началом будущей коллекции или остаются «на память» (keepsakes). В прошлом не менее традиционным считалось открытие банковского счета на имя ребенка или приобретение облигаций. И сейчас можно услышать немало рекомендаций о том, что «копить на колледж никогда не рано…» и детский счет, который до восемнадцати лет подлежит лишь пополнению, нужно открывать как раз после рождения малыша.
Ранние детские впечатления от денег, тактильный контакт с ними опосредован присутствием взрослых или заменен на предлагаемый суррогат — пластмассовые или пластиковые монеты, бумажные деньги (как реалистичных, так и более мелких размеров) и, конечно, игрушечные или старые кредитные карточки родителей, а то и просто картонки. Традиционная игрушка для детей обоих полов — касса (почти обязательный атрибут дошкольных учреждений, изначально приспособленный для подсчета наличности, что следует из названия — cash register) в современном исполнении представляет скорее вариант для электронного считывания пластика. Еще в недавнем прошлом были популярны кассовые аппараты для банка (bank register). На рекламе детского банковского аппарата для подсчета наличных образца 1940-х годов крупными буквами написано «Богатым быть весело!» («It’s fun to be wealthy»): «Складывайте монетки и всегда будете знать, сколько их у вас, а когда накопите 10 долларов, то аппарат откроется».
Существует и весьма экологичный заменитель монет, бумажных денег и пластиковых карточек одновременно — некий универсальный эквивалент, использование которого мне приходилось неоднократно наблюдать. Речь идет о садоводческих деревянных опилках, которыми (для безопасности) посыпаны детские площадки. Как правило, на площадке (и для малышей от 2 до 5, и для следующей возрастной категории) есть некое окошко со столиком, и оно регулярно используется для игры «в магазин». Задолго до специальных опилок и площадок дети находили иные подручные материалы: так, в Новой Англии лунник обыкновенный (Lunnaria annus), которым нередко украшали дома перед Рождеством, служил денежным эквивалентом, за что и получило название «деньги в обоих карманах» (money-in-both-pockets)[163].
Как ни странно, собственный физический контакт современных детей с монетами будет в некоторой степени ограничен — лет до трех-четырех, и не потому, что деньги в их материальном воплощении являются источником инфекции (что было бы понятнее родителям российским), а потому, что монетами можно подавиться (choking hazard). Двести лет тому назад, однако, в одной из самых известных книг по воспитанию детей доллар или монетка, напротив, используются как подсобный материал: «если вы крутите монетку, вы вполне можете указать малышу на то, что она круглая и плоская»[164]. Судя по воспоминаниям взрослых респондентов из раннего детства, монеты им попадались и имели дополнительный, символический смысл, не обязательно привязываемый к реальной их стоимости:
Я хорошо помню, что когда мои пять центов (nickel) родители поменяли на десять (dime), я очень расстроилась и горько плакала — ведь новая монета была меньше по размеру. Мне было года четыре (Валери, 48).
Поле восприятия детьми денег в раннем возрасте быстро расширяется. Дети осваивают систему эквивалентов — что в их детском мире куплено за деньги или указывает на денежную составляющую; сюда входит очень многое, начиная с пространства обитания ребенка (личная комната, игрушки, чуть позже — одежда). Ежедневные наблюдения детей за взрослыми предполагают разную и предсказуемую (повторяющуюся) форму денежных операций. Во-первых, это покупки в супермаркетах или других магазинах, куда ребенок скорее всего отправляется с матерью или отцом, потому что посещение магазинов с детьми любого возраста считается абсолютно нормальным, экономящим время и нередко единственно возможным (ребенка не с кем оставить). Во-вторых — оплата счетов (paying the bills); это отдельная категория домашних обязанностей, нередко женская (особенно если женщина остается дома с детьми), в последнее время несколько упростившаяся благодаря Интернет-опциям. Меньше стали прибегать и к чековым книжкам. Но количество присылаемых по почте счетов все еще существенно, и дети нередко помогают родителям вскрывать конверты. Ребенок не может не слышать: необходимо «заплатить», «оплатить», «послать счет»… В-третьих, это оплата пошлин при передвижении по автотрассе (хотя и здесь сегодня существуют электронные варианты), оплата парковки — дети часто опускают монетки в счетчик. Наличные деньги в ходу на рынках, в маленьких магазинчиках или кафе, которых достаточно много, особенно в открытых торговых центрах пригородов. Дети заходят с родителями и в банки:
Мама, я хочу, чтобы мне тоже сегодня сделали счет, открыли счет. Я тоже хочу свой счет. (Мама объясняет девочке лет четырех, для чего существуют банки.)
Иногда монеты используют при посещении другого важного американского института — почты или же дают на благотворительные нужды небольшого масштаба (когда не выписывается чек или не осуществляется электронная пересылка средств). Именно монеты участвуют в таких проектах, как «Марш десяти центов» или сбор 25-центовиков[165]. Призывы к благотворительности публичны и важны потому, что неучастие хотя бы в какой-то форме практически невозможно. Другое дело, что наряду с этим дети рано начинают слышать, как взрослые пытаются избавиться, а вернее, оградить себя от тех, кто звонит по телефону, присылает электронные письма или даже ходит по домам — и собирает деньги. Но, как мне представляется, баланс с воспитательной точки зрения будет все равно в пользу пожертвований — пусть на уровне монет. Малюсенькая возможность счастья обязательно передается другим. Как будет показано ниже, дети и сами участвуют в более масштабных благотворительных акциях, таких как «требования повысить зарплату рабочим-иммигрантам за счет увеличения стоимости помидоров на один цент» (Валери, 47) или всем известный и существующий много лет сбор монет во время праздника Хэллоуин на нужды фонда ЮНИСЕФ.
Наша школа — там человек триста — в прошлом году собрала 3 тысячи долларов во время Хэллоуина на строительство школы в Африке. И это здорово, что мы детям могли объяснить — на что конкретно они собирали деньги (С, 48).
В дошкольный период многие дети уже осознанно располагают так называемыми «своими» деньгами, которые они в виде подарков получают от родственников, что для такого возраста считается более чем приемлемым. По моим наблюдениям, чем старше ребенок, тем больше вероятность получения подарка именно в денежной форме: наличные, чек (особенно для детей помладше — поначалу в небольшом количестве, 5–10 долл.), подарочный сертификат (как пластиковый, так и электронный).
Сколько дней до моего дня рождения? Десять? Скоро по почте должны будут мне присылать 25-долларовые чеки! (Саша, 7)
(«Родители мужа на прошлый день рождения подарили именно эту сумму… Странно, что не попросил увеличения стипендии — по-прежнему один доллар в неделю», — комментирует мама.)
На Рождество дети уже не ищут монетки в оставленных Санта-Клаусу чулках-носках, хотя именно этого и требует традиция. Вместо того им — даже дошкольникам — вполне могут достаться специальные бумажные деньги, например редкие купюры в 2 доллара. И все же именно монеты дарят — на счастье!
Кульминация собственно детского денежного счастья при участии родителей — подарок от Зубной феи (the Tooth Fairy; отечественный аналог — вероятно, то, что дарит мышка «на зубок»). Если положить выпавший молочный зуб под подушку (т. е. речь идет как раз о тех детях, которые или собираются, или пошли в школу), то Зубная фея заберет зуб и оставит «денежку». С 1970-х годов получили распространение специальные «саше», в которые и нужно упрятать зуб, а предприимчивые производители предлагают наборы для их изготовления. Замена зуба на монетку практически универсальна и, судя по всему, имеет двойной смысл: компенсация «утраты» и, что более важно, маркировка этапа взросления. «В Америке деньги — символическое средство для обладания властью и независимостью», — утверждает Синди Кларк, автор статьи об этой традиции. Она убеждена, что эти деньги не предполагают родительского контроля и вызывают ассоциации: «куплю то, что захочу», «мне нравится носить свои деньги, я чувствую себя более взрослой и какой-то особенной» — ведь «когда ты становишься старше, ты получаешь деньги» (ответы детей 6–8 лет)[166]. И только в немногих семьях фея предпочитает оставлять интеллектуальный эквивалент — книги.
Сладкое «монетарное» впечатление — действительно ощущение счастья — связано с приобретением мороженого на свои деньги, причем не только в магазине, но и в специальном кафе или на улице, когда к дому приезжает мороженщик. Подобная традиция зависит от климата и потому носит сезонный характер. Мороженщик оповещает о своем прибытии легко узнаваемой мелодией. На его машине нарисованы сорта мороженого и схожих продуктов всех цветов радуги. Дети, включая совсем маленьких, либо просят родителей, либо, что гораздо более типично, решают тратить собственные деньги на мороженое. Отметим, что в решении именно финансовая сторона дела является определяющей, соображение медицинского порядка (мороженое нельзя, потому что болит горло) в американской антропологии детства нерелевантно. Напротив, ребенок может получить дополнительную возможность съесть мороженое или замороженный лед, если у него болит горло или повышена температура. Ну и совсем «торжественное объедание» мороженым происходит, тоже по старой традиции, в рамках специального выхода в кафе (ice-cream parlour), где — опять же за наличные деньги — можно выбрать любимое из множества сортов. Эти приятные денежные впечатления ассоциируются с местностью, которую ребенок довольно быстро начинает считать своей. Обычно это пригород (сабербия), где дети проводят основное время, причем имеют возможность осваивать этот мир и с родителями, и (вокруг дома) самостоятельно.
Мелочь («собственная» и/или выданная непосредственно перед событием) используется детьми и в более дальних походах (в парки аттракционов или игровых автоматов), как правило, в весьма строго ограниченном объеме. Наконец, поездки и путешествия связаны с приобретением сувениров или желанных предметов.
Вчера долго решали с Корой (6 лет), что она хочет купить в Нью-Йорке. Выбрала вот этого единорога, пришлось к ее пяти долларам добавлять — своих денег не хватило, она собрала все, до последней монетки, — объясняет ее мама.
На уровне другого, не сводимого к топографии мира в буквальном смысле, фантазийного перемещения возможность путешествия и знакомства с миром денег безгранична. Детские книжки «про деньги», рассчитанные на совсем юный возраст, конечно, не сводятся к прекрасной Зубной фее. Отметим, что один из первых памятников детской англоязычной литературы (не столь популярный сегодня, но все же переиздаваемый) — «Песенки матушки Гусыни и другие народные побасенки»[167] — упоминает монеты: «Sing a Song of Sixpence»; «Show me first your penny» в известной песенке про пирожника Саймона «Pieman Simple Simon»; знаменитая кривая монета crooked sixpence и замечательный гимн монете — «I love sixpence, pretty little sixpence, I love sixpence better than my life». Правда, вывод разумный: если ничегошеньки не осталось, то лучше жены и нет ничего[168].
Весьма богатая современная детская литература о деньгах повествует о разумном сбережении, рациональном выборе и проч. (об этом еще будет сказано ниже). Популярный детский герой — муравьед Артур решает купить на скопленные деньги некое приспособление, которое приглянулось ему в телепередаче. Он даже зарабатывает дополнительные средства и берет деньги у сестры. В итоге приобретение оказывается совершенно ненужным[169]. Помимо идеи самостоятельного труда здесь озвучена мысль о предсказуемом (родители предупреждали) вреде и обмане рекламы. Есть и сентиментальные сюжеты — воспоминания о детстве и родственниках именно в связи с их подарками, в частности с чудесными серебряными монетами[170]. В книге Патриции Полакко дети, чтобы поблагодарить старую Юлу за ее прекрасные обеды, продают «крашенки» и покупают пасхальную шляпу[171]. Встречаются идеи «накоплю именно на то, что хочется»[172]; смешные рассказы о неурядицах после открытия собственного зоопарка[173]; простые истории (вещи создаются трудом, потом они продаются и таким образом зарабатываются деньги; затем цикл повторяется)[174]; истории о том, как важен правильный выбор[175]. Подробно денежные сюжеты рассматриваются в известной детской серии про медвежат: как перестать клянчить, как не тратить все сразу, как помочь маме с семейным бизнесом[176]. В последнее время выходит особенно много образовательных книг, например серия о Пенни (Pretty Penny). Эта маленькая девочка в высшей степени изобретательна и предприимчива и при этом очень социально ответственна: она продает старые ненужные вещи с бабушкиного чердака, чтобы скопить деньги на день рождения бабушки; помогает подруге восстановить утраченные деньги — вдвоем они начинают стричь собак, и т. д.[177] Именно после 2008 года Элмо из передачи «Улица Сезам» учится ждать и не тратить средства попусту в целом цикле серий, посвященных денежным сюжетам[178]. И, конечно, сегодня не забывают о классике. Очень любимый в Америке и теперь более известный в России поэт Шел Силверстайн написал стихотворение о бестолковых тратах с ироничным названием «Умник» («Smart»), которое давно используется в школьной программе; еще более философский урок преподносится в его книге «Щедрое дерево» («The Giving Tree»), многократно издававшейся в нашей стране.
Я считаю, что в школе нужно гораздо больше внимания уделять тому, как обращаться с деньгами. Ну что они учат эти абстрактные алгебру и геометрию, а потом ничего не умеют. У нас в школе были основы бухгалтерского дела. Я потом всю жизнь оплачивала счета. Конечно, для сложных вопросов даже при блестящем финансовом образовании мужа (он работал в Гарвардской школе бизнеса) мы обращались к специалистам. Ведь постепенно и налоговую декларацию заполнять стало очень сложно. Но все-таки нужно их учить именно в школе (Джин, 76).
Некоторые эксперты считают, что школа должна принимать еще большее участие в развитии финансовой грамотности или, как это называют, фискального фитнеса[179], хотя нельзя сказать, что программа лишена вполне прагматических соображений. Почти в любом учебнике по математике для нулевого класса есть специальный раздел, им посвященный. Детей учат легко и быстро считать монеты (5-, 10- и 25-центовые). Есть игра, в которой выдаются монеты разного достоинства, и нужно посчитать общую сумму. А некоторые школы и вовсе приобретают специальные образовательные программы финансовой грамотности — даже для семилетних детей[180].
В школе (2-й класс. — М.З.) мы иногда говорим о деньгах — считаем, складываем, я ненавижу, когда нужно набрать доллар и шестьдесят восемь центов четырнадцатью разными способами. А может быть, их даже 15 (С, 9).
Большинство детей в Америке начинают посещать аналог нулевого класса школы (kindergarten) с пяти лет и уже сами регулярно сталкиваются с наличными деньгами, покупая еду. Американские антропологи отмечают примеры денежного обмена среди детей, которые вызваны скорее желанием установить дополнительный социальный контакт («Я могу дать тебе мелочь на ланч, хочешь?») или оказать помощь в том случае, если по какой-то причине друг не успел купить еду сам[181]. Вместе с этим типичны и случаи украденных денег на еду (stolen lunch money); избежать этого можно с помощью предоплаты завтраков и обедов. В отсутствие денег эквивалентами обмена между детьми служат другие предметы, что характерно и для городской среды (металлические обрезки выполняли эту функцию еще в начале XX века)[182], и для колыбели американского детства — пригородов. Как и в других культурах, эквивалентами в первую очередь выступает то, что имеет популярность и коллекционируется: мягкие игрушки Beanie Babies, книжки с комиксами, карточки с героем Покемоном (в пик популярности этого персонажа некоторые карточки продавались за 375 долл.)[183], карточки с изображением бейсболистов и т. п.
Истинный масштаб другого увлечения — коллекционирования монет — оценить непросто. Примечательно, что в американском варианте речь идет скорее не о нумизматике как способе знакомства с другими странами и культурами, а о коллекционировании тех монет, которые имеют хождение собственно в США. Собирают чаще всего 25-центовики, которые печатаются по разным поводам и существенно различаются по рисунку. Так, с 1999 года выпускаются монеты для каждого штата; для 25-центовой монеты существуют пять типов дизайна; в 2009 году была отлита первая индейская монета, прославляющая сельское хозяйство. Подобная информация содержится на сайте американского монетного двора, который предлагает разнообразные занятия для детей, тем более что с 1963 года третья неделя апреля считается монетной[184]. Способы хранения коллекционируемых монет весьма разнообразны — от специальных кляссеров, альбомов и подарочных рамок до коробочек. Один из вариантов коллекционирования связан с дополнительной возможностью сохранить или создать семейную традицию. Коллекционировать начинает дедушка или бабушка, пока подрастает будущий обладатель коллекции, который и продолжит это хобби. Собранные монеты в будущем могут даже пойти на оплату обучения в колледже. Для некоторых игр (и коллекционирования) монеты продаются в специальном «закатанном» состоянии.
Другое любимое развлечение американских детей в музеях (детских, художественных) — бросать монеты в специальные контейнеры или воронки, где те стремительно движутся и в итоге оседают. Этот монетный вихрь завораживает детей. Еще одна забава — из монет или специальных жетонов выдавливать сувенирные монетки. Подбрасывание монет, перемещение их по заданной траектории уже не особенно популярно. Правда, все еще можно встретить упоминание классической игры «Подбрось монетку» («Toss the Penny»: с расстояния десяти шагов нужно попасть в форму для выпекания маффинов)[185]. Остаются популярными и фокусы с монетами (главная идея — имитация исчезновения монеты)[186]. Зато получает распространение игра с «„помеченными“ долларами, путь которых с помощью специального штампа можно проследить по Интернету» (Сью, 45).
Разбросанные по дому деньги детям нередко разрешают собирать, складывать их в копилку или отдавать родителям (хотя известны примеры, когда мелочь низкого достоинства выбрасывают):
Папа разрешает мне подбирать любые монеты — кроме 25 центов («Они и дороже, и могут понадобиться», — разъясняет папа) — я их складываю в копилку (Саша, 8).
Верность свинье-копилке нерушима, что подтверждают современные производители игрушек и детских поделок. По одной из версий, происхождение именно этой формы связано с тем, что раньше глиняные горшки-копилки изготовлялись из определенной глины — pyyg, название которой созвучно англ. Piggy (свинья). На рекламе копилки 1940-х годов мальчик лет пяти-шести владеет своими акциями — как почти каждый американец: «Капитализм — хорошая система, которая помогает Америке быть великой и будет открывать новые возможности всем мальчикам и девочкам с их копилками». Свинья-копилка XXI века поражает своим совершенством (и стоит всего 16 долл.!): каждый раз опуская монетку, ребенок осуществляет выбор между четырьмя отверстиями — траты, накопления, благотворительность или инвестиции (save, spend, donate and invest). Создатель столь продвинутой копилки Сьюзан Бичем уверена, что таким образом деньги визуализируются (копилка прозрачна); автоматизируется множественность денег; у детей закрепляется привычка откладывать деньги; если к этому прибавить цель (для чего они это делают), то можно не сомневаться: вырастет поколение, которое знает, как обращаться с деньгами, — money savvy generation[187].
Другой традиционный способ хранения денег — стеклянная банка для денег (the coin jar). Неслучайно и его — в гораздо более современном варианте — используют другие популярные сайты финансовой грамотности[188]. Одна из героинь известной кукольно-книжной серии «Американская девочка» («American Girl»), к которой я еще обращусь, живет в семье, где считают каждый цент в буквальном смысле и складывают монеты в стеклянную банку: семья после пожара покупает маме ее любимое кресло.
Конечно, одна из очевидных ассоциаций, связанных с играми и деньгами (и скорее всего заслуживающая отдельного исследования), — игра «Монополия». Как отметил респондент А (46): «Мы так и узнавали, как устроен мир». (Он добавил, правда: «Первыми главными контактами с деньгами виртуальными были биржевые сводки, которые я старательно зачитывал дедушке».) Примечательно, что совсем скоро должна появиться электронная версия, и она неминуемо изменит идею физического перемещения по игральному полю. Кстати, идея этой бессмертной игры и схожих с ней (например, «Лайф» — «Жизнь») сводится к принципу перемещения и приобретения/накопления трат и действительно имитирует жизнь и ее меняющиеся социальные ценности. В первоначальном варианте «Лайф» целеустремленность и правильные решения вели к успеху — игра была призвана научить детей отличать, что такое хорошо, что такое плохо, и принимать верные решения. В версии 1960 года выигрыш наступал при максимальном обогащении. В варианте 1992 года игроки поощряются за добропорядочное поведение: помощь окружающим и переработку мусора.
Насколько рано дети начинают осуществлять самостоятельный выбор, имеющий денежный эквивалент, с целью трат и даже сбережения? Практически универсальным считается мнение, что к трем-четырем годам многие понимают принцип обмена и его денежной составляющей. Родители и эксперты считают, что более близкое знакомство ребенка с личными деньгами и обстоятельствами их владения должно состояться, как только ребенок произносит первое «дай» или «купи» («gimme»). Радикальных способов противодействия таким настоятельным просьбам не так уж много — американские родители, особенно находясь на публике, крайне ограничены в выборе средств, дисциплинирующих детей и останавливающих их просьбы о приобретении. Следовательно, выходом оказывается некий договор, делегирование полномочий («вот тебе столько-то, и ты можешь купить…»). Вся система воспитания и обращения с детьми указывает на целесообразность введения в отношения с ребенком некоторых контрактных основ и системы выбора при участии денег. Это служит тому, чтобы успокоить возбужденного ребенка, который в данный момент требует выполнения своих условий, т. е. передать ему часть контроля над ситуацией и научить делать выбор — «а потом они уже могут замучить, выклянчивая пяти- и десятицентовые монетки» («nickel and dime you to death»).
Американцы придумали, как кажется, простой и логичный способ — регулярно наделять детей собственными деньгами, т. к. истинная ответственность постигается через личную с ними (средствами) связь. Это и есть знаменитое пособие, или содержание, или стипендия — allowance, о чем написаны бесконечные рекомендации и статьи; едва ли найдется хоть один сайт по родительству, на котором избежали бы этой темы. В конце 1990-х дети получали: 16 % денег от родителей в качестве подарков, еще 8 % от других дарителей, 45 % — от пособий, выдаваемых в семье — allowances (стипендии), 10 % — от работы вне дома и 21 % — от работы по дому[189]. По другим данным, порядка 61 % американцев выплачивают детям стипендии[190].
На вопрос, «когда начинать?» выдавать пособия, чаще всего отвечают так: когда ребенок заинтересовался деньгами и научился считать. Некоторые эксперты не видят особой необходимости давать пособие, по крайней мере, до шести лет. Но «как только за ерундой побежал, пора стипендию выплачивать». 54 % начинают выплачивать пособие в восемь лет или раньше[191] — даже с трех лет. Коллега Валери Сперлинг — профессор политологии из Университета Кларк, Массачусетс, — сказала, что ее шестилетний сын просил стипендию лет с пяти. Логика выдачи пособия подкрепляется так: «дети все равно вытащат деньги из родителей, лучше они будут знать, как ими управлять»[192]. Пособие — это «финансовый обряд перехода (rite of passage) из мира детства в мир взрослых»[193].
В. Зелизер нашла свидетельства тому, что пособиями наделяли детей и на рубеже XIX и XX веков. Но в целом представляется резонным, что тогда это было исключением и что нынешние бабушки и дедушки (по крайней мере, старшая их часть и особенно те, кто так или иначе помнят период Великой депрессии) скорее всего воспитывались в более строгом духе по целому ряду позиций.
Никаких пособий не помню, да и подруги мои — кого ни спрашивала — тоже. В моей семье о деньгах говорили с негативным оттенком, и деньги ассоциировались с чем-то страшным. Говорили так много, что я вспоминаю это с ужасом — не хотела потом, чтобы подобное повторилось с моими детьми. Попросить деньги на что-то — легче было добраться до Южной Каролины (из штата Массачусетс. — М.3.) Я работала с пятнадцати лет в магазине, после школы часов до 5, а иногда и дальше, каждая зарплата шла моим родителям. Потом я ее просила. Мы покупали на эти деньги облигации, что-то откладывалось. Очень многое считалось слишком дорогим. На что тратили? В кино, вот — значительная часть досуга. Просили то, что должно было оплатить недельные расходы. Что-то лишнее считалось пустыми тратами. Старшие сестры работали, был создан семейный «трест», и благодаря ему старшие сестры смогли выехать из нашей квартиры и обзавестись собственным жильем.
Деньгами в доме заправляли и мама, и папа. Но мама была центральной фигурой. Идея экономии была подчинена тому, чтобы выехать из Дорчестера — опасного района (Бостона. —М.З.), где жили семьи с низкими доходами… То, что денег не хватало, об этом все время говорили, все лишнее запрещалось — все это привело к тому, что деньги представлялись в очень негативном свете, но, с другой стороны, мы выросли в уважении к ним… Главной была «трудовая этика» — нужно было работать и зарабатывать. Мои братья начали еще раньше, чем я, — с десяти лет начищали ботинки. И сестры работали. Это было абсолютно естественным (Джин, 76).
Тем не менее система вознаграждений и поощрений, особенно в обеспеченных семьях, существовала: например, автор известного и многократно переизданного пособия по воспитанию детей с характерным для 1940-х годов названием «А прутик гнется»[194] считает 10 центов приемлемым вознаграждением за хорошее поведение — на конфетку. Как ни странно, в целом вопросу денег автор пособия уделяет очень небольшое внимание, что характерно и для более ранних, классических изданий по воспитанию. Предлагался следующий подход: если нет лишних средств на садовников и прислугу, нужно предоставить возможность детям получить школу жизни с точки зрения заработка, причем заработанные деньги окажутся «гораздо более цельной подготовкой, чем любая сумма, выданная родителями», поскольку родительское пособие (allowance) «дает девочке и мальчику ожидания того, что они получат нечто ни за что»[195]. Уроки распределения денег просты и лаконичны: чтобы хватало и не нужно было врать[196]. В уже упоминавшейся «Книге матери» есть косвенная ссылка на то, что дети тогдашнего среднего класса могли распоряжаться собственными деньгами: «как только у тебя будет достаточно денег, куплю книгу, в которой будет все рассказано об… этом»[197]. Мотивирующая сила денег не представлялась очевидной: деньги вовсе не должны были служить поощрением за надлежащее (т. е. ожидаемое) поведение или похвалой, т. к. иначе в привычку вошел бы только лишь эгоистичный восторг по их поводу.
Судя по данным работы А. Фурнамс и М. Аргайл[198], основанной на исследовании в 1945 году 100 американских семей, тогда имели место вполне очевидные гендерные различия, т. е. у мальчиков было больше возможностей обрести опыт по использованию денег и обращению с ними, чем у девочек. Интересно, что в этом же издании поднимается вопрос об эффективности пособий.
Некоторые информанты свидетельствуют, что в 1950-х годах специальные педагогические усилия порой и не предпринимались:
Помню, что получал какие-то деньги. Наверное, как пособие, но особых разговоров в этой связи не было. Что-то нам (четырем братьям) родители давали. А вот с работой — уже другое дело. Я подрабатывал — не потому, что было так уж нужно на тот момент, а с точки зрения вложения в колледж, ведь у нас было достаточно дорогое образование. Мои родители хотели, чтобы я как-то участвовал (Ричард, 62).
Есть подобные примеры и из более поздних поколений — уже со стороны родителей:
Деньги мы давали нашим детям? (Смеется.) Главное — поменьше! Вообще не помним. Явно были какие-то по этому поводу разговоры и действия (муж тоже не припоминает). Нет, нереально так старательно контролировать, чтобы у каждого пособия, да еще и каждую неделю… У нас был самый маленький ящик дома — крошечный, и вот там мы для всех троих детей (росли в 1990-е годы) держали конверт. Мы его пополняли, не они, конечно. Но надо им отдать должное: брали очень разумно. Там лежали долларовые купюры — перекусить, вдруг на такси понадобится. Нет, на такси, они, конечно, не ездили (меня вызывали). Но обязанности отдельно (ты — член семьи), деньги тебе выдают отдельно (по той же причине), смешивать категорически нельзя (Барбара, 56).
Ой, я не помню никакой системы с моими детьми. Да я бы с ума сошла за всем следить — это же надо фиксировать (Сюзанна, 62).
Некоторые воспоминания трогательные:
Помню так называемый wheat back penny (старая монета с изображением пшеницы. — М.З.), сейчас стоит центов 25, тогда 1 цент. Потом последний доллар, который мне подарил дедушка; они жили через дорогу, и он мне просто так давал доллар — типа я тебя люблю, нá тебе доллар. Умер, когда мне было двенадцать, так что памятный момент. Ну и серебряный доллар всегда, потом с изображением баффало.
Порой наряду с ними слышна очевидная досада, которая влияет на формирование установок в отношении собственных детей:
Помню себя в детстве, детский опыт. Нам тоже платили, не слишком регулярно. Судя по всему, меньше — потому что назад только на две недели можно было отследить. Мы с братом напоминали (наши сейчас тоже напоминают). А уж первое пособие вообще никогда не забуду.
На что тратить? Мы относимся спокойно: все, что угодно, кроме игрушечных пистолетов. Мы можем посоветовать, убедить (например, когда мой сын Джейсон покупал десятый по счету меч). Мои родители были строже, я прямо замораживаюсь до сих пор. Я купила смешную книжку, а мама так не думала, заставила меня ее вернуть. Сейчас говорит, что не помнит.
Если моим детям нравятся идиотские вещи — ради бога, пусть узнают истинную цену дешевых пластиковых вещей. Ну взять «волшебные карточки» — мне бы не разрешили. А я разрешаю. Рассчитываю на то, что они станут более просвещенными, умными покупателями в будущем. Уилл получает карманные деньги — 20 долларов на транспорт и ланч. Купит шоколадку — пожалуйста. Он же по-прежнему мой иждивенец, поэтому одежду и транспорт я должна обеспечивать. А на кино я даю деньги (Джули, 46).
С помощью денег (и ради управления ими) ребенок обучается принципу грамотного выбора и поставленной цели. То есть распоряжению деньгами придается смысл, опосредованный желаниями ребенка. За счет пособия ребенок может накопить монеты и на свои собственные деньги выбрать тот йогурт (скорее всего сладкий и менее ценный с точки зрения родителей), который ему нравится. Но это будет собственное решение, повторение которого естественным образом ограничено: деньги закончатся. При этом дети в достаточно раннем возрасте демонстрируют и вполне сознательное отношение к распределению средств:
А раз в месяц или в два мы идем в банк и часть стипендии, и собранных монет, и подарков откладываем; я получаю процент — доллар в месяц. Стипендию я получаю, кажется, раз в неделю (Саша, 8).
Достаточно распространена практика, когда родители сами платят процент, если дети деньги откладывают. В современном подходе есть общее: хотя дети остаются на иждивении родителей, по крайней мере до окончания школы, и хотя в течение этого периода сохраняется ответственность родителей за базовые вещи, финансовые компетенции детей должны постоянно расширяться. То есть обучение детей грамотному обращению с так называемыми или приписываемыми собственными деньгами — элемент просвещенного родительства: после акта передачи деньги, как правило, начинают считаться неродительскими. Большинство родителей (по некоторым данным, более 80 %) считают, что пособие — это хорошая, здравая идея, еще 13 % не определились[199]. Но с регулярными пособиями сталкиваются не все дети, и точную статистику найти непросто: по данным одного исследования, 40 % опрошенных не обеспечивали пособие детям от шести до восьми лет и около трети — детям в возрасте двенадцати — семнадцати.
Ой, я про деньги ничего не знаю, т. е. мы с деньгами ничего не делаем. Тут Лео (6 лет) недавно получил от Зубной феи золотую монету (вероятно, шоколадную. — М.З.), так он думал, что это что-то связанное с пиратами (Сюзи, 42).
Нет, мы по-прежнему не платим пособие. Не знаю, они как-то не говорят об этом. Свои деньги у них есть — от подарков. (Смеется.) Вообще, не знаю откуда, но есть. Они уже многое знают. Может быть, потом придется (Сюзи, 42).
На сегодня средняя стипендия в год составляет около 780 долл., на что можно купить один ай-пад и три киндла[200]. По наиболее свежим данным, дети от 4 до 12 лет получают менее 6 долл. в неделю, в возрасте от 13 до 15 — около 15 долл., от 18 — до 25–35 долл. в неделю (как посчитала организация CPF Institute of America)[201]. Здесь обращает на себя внимание последняя возрастная категория: границы достижения самостоятельности весьма раздвинуты именно в связи с экономическим кризисом. Так называемые дети-бумеранги или позднее «начинают» жизнь, или нуждаются во втором старте. В 2010 году 21 % американцев в возрасте от 25 до 34 лет либо проживали дома с родителями (в 2000-м — 15,8 %, а это несколько миллионов человек, а в 1980-м — всего 11 %), но в первую очередь в этой ситуации оказываются люди в возрасте от 18 до 24 (в целом подобный опыт отмечают 39 % в возрасте от 18 до 34). Примечательно, что 35 % из них радовались качеству своих отношений с родителями и финансовым перспективам, потому что они могли откладывать (на ипотеку) — чтобы в итоге уехать (хотя многие отмечают и положительные эмоциональные стороны ситуации, когда выгоднее и разумнее остаться с родителями). Окружающие недоумевают: почему родители не научили этих детей рассчитывать на себя и содержать себя? Один из предполагаемых ответов: они всегда приходили им на помощь с деньгами. Правда, сами американцы, оказавшиеся в подобной ситуации, утверждают, что они как раз учатся у родителей. Большинство принимает денежное участие в домашних делах — ¾; 35 % даже платит арендную плату. Но и родители «подкидывают»[202]. Эксперты настаивают: задача детей — делать шаги по дороге во взрослую жизнь. Следует отметить, что взрослая жизнь часто обозначается как настоящий (реальный) мир (real world) — принципиально отличный от детства. Для этого вполне подходят партнерские отношения между ними и родителями — иначе «они никогда не вырастут»[203]. Предлагаемые советы вновь обращают внимание на важность детства, на идею работы (a money spent is a money earned), сбережения и — снова полезности пособий[204].
Существует несколько подходов к расчету суммы; наиболее распространенные: 1 долл. / год жизни ребенка / в неделю или 1 долл. / класс обучения в школе / в неделю. В некоторых случаях сайты, предлагающие рассчитать пособие, учитывают еще и год рождения родителей и их личный опыт — с поправкой на инфляцию (если такого опыта нет, сайт выражает сочувствие). В блогах родители все время расспрашивают друг друга, «как сейчас принято», что особенно понятно применительно к школьникам: дети легко используют информацию о пособиях других как средство давления. Одна из довольно известных и часто цитируемых экспертов рекомендует:
Давайте достаточно, чтобы растратить, но не настолько, чтобы вы по этому поводу расстраивались… и не в совершенно прямой зависимости от финансового положения семьи — первоклассникам нужен, по крайней мере, доллар в неделю[205].
Еще один способ — посчитать, сколько именно дети просят у родителей. Многие эксперты почти единодушно признаются: чем старше ребенок, тем больше сумма, и есть резон давать пособие-стипендию не раз в неделю, а раз в месяц — зона ответственности увеличивается.
Хотя среди родителей бытует убеждение, что сумма зависит от возраста, не все эксперты рекомендуют чрезмерно этим увлекаться, чтобы не ущемлять права младших сиблингов.
Мы платим обоим 4 долл. в неделю — хотя одному 8,4 года, а другому — 6,2 (Лиза).
Денежные сюжеты порой весьма существенно влияют на взаимоотношения детей в семье, которые на уровне заявляемых приоритетов должны быть максимально справедливыми (родители часто переживают, что на одного ребенка тратят больше, чем на другого, или что дети слишком разные, и к ним трудно подходить с одинаковой меркой). Попытка одновременно учесть индивидуальность и соблюсти справедливость — обособление собственности детей в семье (и, что очень важно, часто отдельное проживание ребенка, в собственной комнате), явное предпочтение индивидуальных, а не общих подарков (даже на Рождество или аналогичный сезонный праздник). «Джейсон в какой-то момент упрекнул нас в том, что мы Уилла любим больше, т. к. платим ему больше» (Джули, 46). Но особенно интересен поворот, который приняла идея распределительной справедливости по правилам: сколько положено — столько получаешь, сколько вложил — столько получил:
Сначала мы думали, что младший будет пользоваться видеоприставкой четверть времени, т. к. именно эту сумму он вложил в ее приобретение. Но эта система не работает — младший (7) обижает старшего (13), причем старший не сопротивляется.
Примечательно объяснение:
Он знает, что младший так или иначе потратил много, т. е. не 5 %, вот если бы совсем чуть-чуть, то тогда старшему было бы неприятно. Пользуются сейчас одинаково. Это была идея старшего скинуться — с практической (!) точки зрения. Но когда тяжеленное Лего тащили из Диснейленда (ничего не поделаешь), то тут, наоборот, младший уговорил.
И вывод: «Их деньги — ничего не поделаешь…»
Структурированность пособия, которая подразумевается, не мешает его периодически корректировать:
У нас заведено давно (младшему было года 3): они получают стипендию. Если выполняют определенные требования — например, читают по двадцать минут в день, убирают комнату. Если это не выполняется, стипендии не будет. Правда, они так мотивированы, так позитивно настроены, что все происходит на автопилоте. И даже если приходится немного идти на компромиссы (младший не особенно любит читать), то он чем-то заменяет полезным, но такое мы позволяем всего дня на два-три. Они теперь получают доллар в день — уговорили нас поднять с 50 центов. А еще добились, чтобы мы и в воскресенье платили — они же в церковь собираются, готовятся, это тоже должно засчитываться как их работа (Кара — мать Илая, 8, и Майки, 10).
Интересно, что старший уговорил маму не спорить с младшим: «Пусть он тратит свои деньги на карточки — тогда нам будет интереснее играть». Надо отметить, что бабушка детей усомнилась в реалистичности подобного подхода:
Все это хорошо на бумаге. В реальной жизни очень трудно отслеживать. Я пыталась это делать со своими детьми — меня не хватало. Может быть, потому, что их было четверо. Но, мне кажется, важнее, чтобы дети советовались, учились, смотрели, как тратят взрослые, наконец, я хотела бы, чтобы они просили деньги у меня — тогда я могла бы больше участвовать и контролировать… А увязывать с чтением… А разве они просто так читать не должны? А потом они в школу будут ходить за деньги (Джин, 76).
И все же зерно сомнения остается: «Наверное, это правильно — пусть учатся считать и экономить. Другой вопрос, когда они должны этому учиться, так рано?»
Главный вопрос с точки зрения получения стипендии: должна ли стипендия обуславливаться поведением детей, их участием в домашних обязанностях (chores) или других эпизодических делах по дому? Пребывание ребенка в семье не исключает домашнюю работу: по некоторым исследованиям, дети выполняют около 11 %[206]. В стране давно идут жаркие споры, как правильно поступать:
Мне кажется, большинство против того, чтобы давать деньги за выполненные домашние обязанности. Но вообще какая-то система должна быть? Ну не давать же детям деньги бесконечно просто так, пока они не смогут работать. Дочь не любит тратить лишнее (Сюзанна, 62).
Неоднозначность отношения к этому вопросу подтверждают и некоторые эксперты: «Вроде бы хорошая идея заработать, но это подрывает восприятие семьи как нравственной единицы»[207].
Мы не даем деньги за то, что дети делают что-то по дому, — ведь они же поддерживают собственную среду. Вообще к деньгам надо подходить по-деловому, денежные вопросы и так имеют тенденцию становиться эмоциональными[208].
То есть дети — такие же «граждане» дома, как и взрослые, они имеют право на семейные ресурсы:
[Для многих] это никак не связано с обязанностями детей по дому (Джули, 45).
Я не думаю, чтобы мы платили детям за то, что они будут делать по дому. Что-то в этом есть неправильное, что-то мне не нравится. А ведь некоторые родители и за оценки платят (Сюзан, 42).
Другая система рассуждений тоже представляется логичной: «нельзя допускать, чтобы у них было ощущение безусловного права (entitlement)»; «я не собираюсь просто так раздавать деньги»; «деньги зарабатываются».
Наделение детей их собственными деньгами в прямой зависимости от выполнения детьми обязанностей по дому приводит к тому, что дети активно требуют выплаты содержания и многие тщательно отслеживают действия родителей в этом направлении, считая и каждый свой шаг. Другие вступают в весьма сложную систему переговоров (напоминание, упрашивание, сопоставление с другими детьми, инициатива сделать то, что больше ценится)[209]. Одни родители (и специалисты) считают, что система «взяток», тем более денежных, опасна: «это становится похожим на переговоры с профсоюзами — сегодня они хотят больше денег, завтра меньше и т. д.». К тому же ценность компенсации постепенно снижается, а плохое поведение лишь усугубляется[210]. Другие успокаивают, вовсе не страшась контрактных элементов в семейных отношениях: «пусть вступают в переговоры, это полезно»[211]. По данным одного из «финансовых» сайтов[212], около половины родителей считают, что пособие должно быть увязано с постоянными обязанностями (30 % не согласны), а уж что касается отдельных проектов (odd jobs) — то 78 % считают необходимым их оплачивать. Даже четырехлетний ребенок в состоянии убрать постель и получить за это 25 центов. Конечно, здесь нужно делать поправку на выборку: речь идет об ответах родителей, которые очень заинтересованы в финансовом обучении своих детей. Но есть данные, согласно которым большинство родителей сегодня утверждают: дети работают, по крайней мере, один час в день за пособие[213].
Когда я получал пособие — где-то в старшей школе, я помню, что мне платили 5 долларов за выстиранную порцию грязных вещей (по тем временам адекватная оплата труда. — М.З.). Т. е. я не получал деньги просто так. А вот что я буду делать с детьми — не знаю пока… (Даг, 37).
Я обычно не плачу, еще не хватало, чтобы меня шантажировали пятьюдесятью центами за что угодно, ну уж если она сделает что-то совсем исключительное… (Д).
То есть акцент делается либо на то, что ребенок является членом семьи и поэтому обязан выполнять домашние дела (но даже если он этого не делает, он не лишается части ресурсов), либо на то, что ребенок выполняет свою долю работы, и она должна быть компенсирована (некоторые родители, правда, признаются, что просто есть дети, которых легче заставить убираться за деньги — а убираться же нужно). Но копья ломаются вокруг фиксированных, рутинных обязанностей, причем эта дискуссия продолжается уже не первое десятилетие (еще в 1950-х был известен стишок: «Take our the papers and the trash, / Or you won’t get no spending cash» — «Вынеси-ка газеты и мусор, / А то не получишь ничего, что можно было бы потратить»). Надо отметить, что американское видение домашних дел подразумевает очень дробное, дифференцированное их подразделение. Наиболее типичный базовый (бесплатный для родителей) пакет включает уборку своей комнаты, разгрузку посудомоечной машины и вынос мусора. Это — собственно обязанности (chores). Во многих случаях оплата поступает как денежное поощрение работы, выполненной сверх нормы, — проектов (odd jobs). Вот примеры тарифов: помыть пол на кухне (1 долл.), вымыть ванну, помыть машину или ее пропылесосить (5 долл.), пропылесосить комнату, подмести гараж (2 долл.), протереть верх холодильника (1 долл.), разобрать один шкафчик на кухне (1 долл.), вытереть пыль, хорошо протереть раковину на кухне (0,5 долл.). И совсем уж запредельным проектом (т. е. точно нуждающимся в оплате) считается ручная прополка сорняков.
В свое время президент Обама подвергся критике (44 % опрошенных) за то, что своим дочерям (тогда 7 и 10 лет) он выплачивал слишком маленькие пособия — 1 доллар в неделю, а ведь они и игрушки убирали, и стол накрывали, и посуду грязную со стола уносили[214].
Оценка эффективности подобной системы зависит от того, какие уроки поставлены на первое место. Дети учатся предприимчивости и ответственности:
Я так рада: мой сын начал настоящий бизнес после того, как он у нас дома за деньги мыл холодильник. Он ходит по соседям и очень активно предлагает свои услуги — всего несколько долларов, в зависимости от того, очень грязный или нет.
Но уроки заботы о ближнем и ответного добра могут изрядно пострадать: несмотря на то что бабушка 11-летнего Д. уже много лет возит его на занятия дважды в неделю (и даже специально завозила домой школьный рюкзак — для дополнительного комфорта, чтобы не носить с собой слишком много вещей), она сочла правильным предложить ему деньги за двухчасовую уборку листьев. Он напомнил об оплате и не сразу согласился предоставить бабушке скидку в 2 доллара, получив 8. Сверстник Д. (его кузен, живущий в России) предположил,
что это неверно. Даже если бы она ничего не делала. Она же бабушка. Так дети начинают неправильно относиться к родителям (Т, 12).
Обязанности могут трактоваться и как зоны ответственности (responsibilities), тоже монетарно поощряемые: ребенок получает очки за то, что «вышел из дома и не плакал, почистил зубы, вовремя лег спать (примерно по 20 центов)» (Мэг).
Итак, если некоторые открыто возражают против обезличивания отношений — «не превращать же дом в офис» (Ж-М), других это не только не пугает, а наоборот, радует — по принципу подготовки к тому самому большому, или настоящему, миру:
Сколько жизненных уроков извлекает мой сын из пособия: и как вести бюджет, и стоимость самых разных услуг, отложенное удовольствие. Я просто обожаю эту систему — мы действительно нашли то, что работает. Он даже специально заполнял квалификационные требования к выполнению работы! То есть там подробно описывалось то, что входит в «уборку листьев» (П).
Вполне предсказуемо практикуется и прямо противоположное: папа убирает постель дочери за высчитанные полтора доллара из стипендии; пятилетняя «платит» за отказ чистить зубы; «потерял ортодонтическую пластинку — помогал печенье печь для школы»; прыгать по мебели стоит доллар, не закрывать входную дверь — столько же, сколько и перечить родителям, — 50 центов. Для того чтобы дети не сталкивались с прямым уравниванием денег и обязанностей, пособие относят к категории привилегий больших детей (big kids privilege) и выдают на том условии, если работа сделана («когда комната чистая» — Б). Так, кстати, думают и некоторые эксперты[215]:
Наши дети получают небольшие стипендии: 2 доллара — десятилетняя Кэти и 3 доллара в неделю — четырнадцатилетняя Эмили. В основном они копят средства. Если они не выполняют свои домашние обязательства по дому, то мы им не платим. Если же мы забываем — они всегда напомнят (М, 43).
Дети (15 и 11) должны делать ряд вещей, чтобы получать стипендию. Райан хочет вести переговоры по этому поводу, но его позиция не является позицией власти в данном вопросе! (Дайэна, 48).
Поначалу мы платили Уиллу и Джейсону (14 и 8 лет) за то, что они сидели дома одни, но потом как-то перестали (Брайан, 46).
У нас был опыт, когда дочь вообще целый год не получала стипендию — это когда мы ее привязывали к домашним обязанностям (Дж).
Пытались наказывать деньгами за невыключенный свет (К).
Детям это не нравится, но они признают, что становятся более ответственными[216]. В итоге, оправдываются родители, деньги все равно идут на нужды детей. Даже в детской настольной игре «The Allowance» ты получаешь 1, 50 доллара за то, что моешь машину, но если ты не сделал уроки — пропускаешь ход (а для выигрыша требуется накопить 10 долларов). Подобные вычеты-штрафы имеют свое название — docking.
Чтобы быть во всеоружии при финансовых переговорах с детьми, американские родители очень активно советуются друг с другом, хотя и они и эксперты все время делают акцент на разнообразии семейных ситуаций и, главное, детских характеров. Ведь есть дети, которые совершенно равнодушно относятся к пособию, да и деньгам, — и не все они избалованы родительским вниманием. Нередко рассуждения о пособии уводят дискуссию к серьезному нравственному вопросу: может ли денежное поощрение как таковое за счет своей монетарности снижать ценность похвалы и одобрения? Влияет ли на это неоднозначная моральная ценность денег (они одновременно и хороши, и нужны, и обезличенны, и циничны)? Бросается в глаза и весьма специфическая тональность, в которой говорят о необходимости учить детей финансовой грамотности эксперты: в ней нередко чувствуется раздражение по отношению к детям: пусть, мол, работает, нечего развивать в себе чувство права на все, что захочется.
Надо пояснить, что тема излишней похвалы детям и их избалованности в последнее время обсуждается весьма широко. Выросло первое поколение американских детей среднего класса, воспитывавшихся в духе постоянного утверждения высокой самооценки, и выяснилось, что во взрослой жизни им оказывается непросто. Примеры денежного вознаграждения учеников в школе со стороны учителей имели место и в 1970-х годах — «был у нас такой преподаватель в школе» (Г, 44). Несколько лет назад экономист Роналд Фрайер (Roland Fryer Jr., сам окончивший Гарвардский университет) на частные средства провел эксперимент в четырех американских городах (включая Нью-Йорк и Вашингтон) с целью понять, работает ли финансовая мотивация. Условия эксперимента разнились (четвероклассники, т. е. девятилетние дети, получали 25 долл. за хороший тест, а 8-классники — уже 50 долл.; согласились на этот необычный опыт 82 %). Результаты оказались противоречивыми — и с точки зрения конкретного города, и с точки зрения эффективности (больший эффект наблюдался в отношении мальчиков и в случаях простых заданий)[217]. Подобная практика наблюдается и среди семей: «пятерка» (в американском варианте «А») стоит 16 долл. 60 центов[218], некоторые родители платят по 10 долл.
Неоднозначность отношения к деньгам как таковым объясняет и попытку в некотором смысле отдалить от непосредственного контакта с ними детей: продающиеся (!) варианты «обезденеживания» денег — вместо монет для поощрения предлагаются специальные жетоны (kids coins). Родители, не видящие смысла в «приобретении» подобных приспособлений, прибегают к системе очков. В некоторых семьях физический контакт с реальными деньгами действительно не считается строго обязательным:
С собой они деньги не носят, они мне потом отдают. Иногда я добавляю. Доллар в неделю — стартовая сумма, теперь у Джейсона— 3, у Уилла — 5. Они нам напоминают. Некоторые родители дают больше, некоторые — меньше. Как-то Джейсон сказал, что знает ребенка, которому в принципе не дают деньги. Но вообще об этом они не очень много разговаривают (Джули, 45).
Однако дети нередко «редактируют» изначальные представления родителей, явно защищая тезис о важности тактильного контакта с деньгами:
Младший еще обожал пересчитывать деньги — обменивал мелочь на купюры, больше, чем другие дети. Считал до последнего цента (Джули, 45).
Мои дети обожают смотреть, как мы меняем их монеты на купюры (Лиза).
Наш сын просит настоящие деньги — он просто хочет играть в банкира (М).
Вполне возможно, что детей младшего возраста завораживает как раз прикосновение к деньгам. На этом настаивают и некоторые специалисты: именно физическое их ощущение влияет на то, как распоряжаются деньгами; оказывает воздействие и то, даете ли вы монеты или целую купюру (ее потратить сразу сложнее, а вся идея как раз в том, чтобы замедлить процесс растрачивания). Ну и сдача с целой купюры приобретает особый смысл — дети относятся к ней как к собственной[219]. Очень важно, есть ли у них физическое ощущение карманных денег (pocket money). Наконец, старые деньги «с историей» или их эквивалент, например старые облигации, обеспечивают больше чем тактильный контакт — они являются связью поколений[220].
Некоторые схемы не просто минимизируют физический контакт с деньгами, но и облегчают учет поступлений самими детьми.
Когда дети были совсем маленькие, мы ничего им не давали. Потом они достигли возраста, когда им хочется что-то покупать себе самостоятельно, и мы пытались давать им стипендию. Но это не очень получалось — трудно было запомнить, сколько мы должны платить, и нужно было выдавать деньги каждую неделю. Они не так-то уж часто тратили, так что деньги терялись в комнате, — или у нас не было мелких купюр, чтобы их распределить. И потом, если они хотели купить что-то, что им не особенно было нужно, но очень хотелось, мы начинали спорить — что, по моему мнению, не очень честно. Наконец мы разработали систему, которая работает очень здорово. У каждой есть специальная записная книжка — что-то наподобие банковской книжки. Они получают по доллару в неделю на каждый год жизни (сейчас им 17 и 14). Когда им нужны деньги, они их вычитают из этого баланса. Если они получают деньги в качестве подарков (обычно чеки), мы их туда добавляем. Мы так делаем уже несколько лет, без особых проблем — вносим деньги на наш счет (Кэтрин, 48).
У моего сына «зоны ответственности» с четырех лет: убрать игрушки, кровать, отнести грязную одежду в бак; когда он все это выполнил, он делает то, за что получит очки: накрывает на стол, разбирает покупки из супермаркета, выносит мусор, пока без наличных, за награду, но счет в банке у него уже открыт. Если первая часть не выполнена, все равно будет убирать, но уже без награды. Так меня саму воспитали, и я очень благодарна за это (Д).
Допустимость (и полезность) виртуального подхода использована авторами специальных он-лайн программ[221], которые позволяют детям в электронном режиме отслеживать свои поступления, траты, накопления и дотации по принципу «родительских облигаций» (IOU — «я тебе должен») — те материализуются в зависимости от конкретного договора. Критики, правда, жалуются, что виртуальные программы почти неосязаемы.
Наиболее важным в обучении детей основам правильного восприятия денег практически универсально признается само ощущение собственности, владения и распоряжения деньгами:
И у Джейсона (8), и у Уилла (14) есть пособие. С подготовительного класса. Наша основная мотивация такая. Идем с Дж покупать подарок, и он начинает просить. А вот свои деньги он с меньшей вероятностью потратит. Т. е. с ним это работает: вначале они ему прямо руки жгли — надо было потратить, а потом он научился (сдерживаться. — М.З.). А то куда бы мы ни ехали — в магазин, в музей, — они что-то всегда хотели купить.
И далее следует очень интересный поворот — не запретительного толка, а, скорее, наоборот, разрешающего, т. е. речь идет о делегировании ответственности за решения:
Я не хочу же всегда говорить нет. Я же сама себе что-то покупаю, т. е. как-то на себя трачу деньги. Но они хотят купить просто для того, чтобы купить. Вопрос собственных денег такое желание конкретизирует: а на это ты потратишь? (Джули, 45).
Пособие как раз и нужно для дифференциации того, что ребенок хочет купить на свои деньги и что ему приобретать на родительские средства. Очень многие американцы утверждают, что для их детей разница принципиальна. С таким делением — сколь бы условным и выдуманным оно ни казалось — детям гораздо легче усвоить еще один серьезный урок: иногда приходится ждать приобретения, т. е. в оборот вводится принцип отложенного удовольствия (delayed gratification). Приоритетной в обучении тому, как разумно обращаться с деньгами и воспринимать их, становится идея компромисса и уступки (tradeoff): возможность — ограничение, самостоятельность — зависимость от источника средств, удовлетворение индивидуальных желаний — общепринятые нормы или та же мода, импульс — умение подождать.
В идеале принцип обращения с деньгами применительно к детям из семей среднего класса сводится к балансированию между комфортностью (и ощущением достаточности) и обязательной ранней ответственностью, чтобы в будущем той комфортностью обладать. Ради этого детей и «отделяют» специально от родителей, выдавая им свои средства и призывая к самостоятельным решениям. Для большей эффективности такого подхода эксперты пугают и тех и других консюмеризмом, жизнью в кредит, т. е., казалось бы, — основами существования среднего класса в США. Логика проста: нужно учиться правильно обращаться с подобными жизненными принципами, не превращая их в свое злокачественное продолжение: расточительность, неумную страсть к приобретению, неумению ждать. Таким образом, для того чтобы не прийти к НЕ-счастью, поможет аккуратное, грамотное обращение с деньгами — чуть ли не один из главных залогов жизни, освоить которые нужно с детства. «Наставьте детей на путь ответственного обращения с деньгами» («Put your child on the road of handling money responsibly») — призыв многих специалистов, озвученный разными средствами медиа, включая и специальные сайты[222].
Все эти практические усилия не могут заменить обсуждения с детьми покупок, цен, спроса и предложения, а когда они становятся постарше — обсуждения семейных финансов, совместной оплаты счетов[223].
Пусть слышат от вас, что вы тоже не все можете купить, пока глазеете на витрины. Собираетесь в кино — обсудите, что помимо стоимости билета нужно оплатить бензин, попкорн и время[224].
По некоторым данным, около 20 % родителей вообще не обсуждают деньги с детьми[225], т. е. о них говорят меньше, чем об отметках, вреде наркотиков или даже о хороших манерах. Получается, что парадоксальным образом деньги все же табуированы. Так, вопросы денег остаются максимально частными и связанными с личной или внутрисемейной финансовой ситуацией. Маленькие американцы к школьному возрасту в какой-то мере усваивают правило этикета: о наличии детей (как и братьев-сестер) у человека спрашивать можно, а о деньгах, приоритетах семейных трат, принципах принятия решений относительно денег — нет.
Друг моего сына, Эван (9 лет), плохо воспитан. Более того, он недобрый. Он не просто спросил, почему у нас такой небольшой дом, он явно намекал на то, что у них больше дом, лучше машина, больше денег (С, 48).
Неправильное отношение к деньгам означает неумение быть ответственным, что интерпретируется как проблема. Но старые нормы, делающие акцент на трудовой этике, вступают в противоречие с новыми, ратующими за терпимость и принятие разных ситуаций. К примеру, героиня уже упомянутой серии «Американская девочка» («American girl») в одной из книжек (рассчитанных на 8–12 лет) сталкивается как раз с бедной, лишенной не просто средств, но и постоянного дома подружкой. Реакция родителей юных читательниц была весьма неоднозначной: от неудовольствия тем, что люди бедные описаны с излишним сочувствием и пониманием, до обвинений в их стигматизации. Возмущение вызвало и то обстоятельство, что кукла бездомной подружки (как и другие куклы этой серии) стоила 95 долларов…
Из-за политкорректности, призывающей к утверждению и прославлению разнообразия, даже в рамках американского мейнстрима трудно говорить о полностью единообразной системе ценностей в вопросе, как правильно обучить детей думать о деньгах и обращаться с ними. На сегодня идея свободы выбора принципов воспитания остается преобладающей. Однако распространенные, широко признаваемые идеи существуют. Речь идет о делегировании принятия решений, о постепенном наделении ребенка не просто большей самостоятельностью, но и большей ответственностью. Нейтрально позитивными считаются общие рекомендации добиться зрелого восприятия материальных и финансовых ценностей, которые могут помочь сформировать легкое и счастливое отношение к деньгам и ресурсам: ценить «простоту, красоту, практичность и способность делиться». Последнее — sharing — представляет одно из ключевых понятий правильной жизни. Нужно делиться, когда ты в состоянии это делать, и надеяться, что ты можешь рассчитывать на подобное отношение к себе и в более глобальном смысле[226].
Универсального стандарта распределения детских средств, включая и пособие, так же нет, но абсолютным большинством считается, что правильный подход должен включать их (средств) дифференциацию. А это в первую очередь предполагает накопление и откладывание. Моделируются реальные ситуации — как немедленных трат, так и уже упоминавшегося великого принципа отложенного удовольствия. Наконец, деньги должны «работать» на их владельца — и многие рекомендуют платить процент: например, по 25 центов на каждый сэкономленный доллар.
Некоторые дают детям деньги и затем требуют, чтобы треть откладывалась, треть использовалась на благотворительные цели, а оставшаяся треть — на собственные нужды. Мы решили давать ему доллар в неделю, а раз в год (на Хануку) решать, сколько и какой организации он захочет отдать средства. В этом году он решил дать доллар (ОЧЕНЬ щедро) фонду Питания в графстве Арлингтон (где живет семья. — М.З.). Мы открыли счет в банке — он накопил 7 долларов под 0,25 %. Так что с 50 долларов он будет получать 12 центов!!! Почти то же самое, что хранить деньги под матрасом. Все равно он был в большом воодушевлении по поводу банковского счета — и каждый раз, что мы идем мимо банка, ему хочется говорить о своих сбережениях и о том, как он на них купит Лего. Я только что рассказала ему, что ты пишешь статью. Он ухмыльнулся и сказал «Я ЛЮБЛЮ деньги». Чтобы развить у него щедрость, я пыталась сделать акцент на том, как много я трачу на благотворительные нужды, — но он все равно больше сконцентрирован на мысли о том, что деньги нужно иметь, чтобы покупать то, что тебе хочется. Когда бы он ни находил монетки, он всегда спрашивает, можно ли взять. А сегодня хотел взять чек за оплату дома. Я объясняла, что если бы мы не платили деньги по ипотеке, то у нас отняли бы дом. Его бабушка и дедушка сделали вклад от имени Саши в Проект Хейфера, и ему было трудно понять, почему это должно было считаться подарком. Вообще мы воспитываем его, как и меня. У меня не было пособия, потом я стала его получать. Но я как-то все складывала и складывала, в основном подарки от родственников, потом, когда я стала постарше, из моего счета изъяли по моему же желанию 250 долларов на занавески. А потом опять складывала. Наверное, мои родители были достаточно комфортны в плане денег, если учесть, что у меня все было. Я не помню, чтобы они мне особо отказывали, но и не помню, чтобы я что-то просила. Саше мы разрешаем подбирать мелочь — до 25 центов, остальное он отдает папе (Валери, 45).
Предлагаемых формул очень много, но всех их объединяет структурированность и стремление к постоянству. Например: треть на сбережения, треть — на благотворительность (!), треть — на немедленные траты. Или: половина откладывается, по четверти тратятся и раздаются на благотворительные цели. «Щедрый вариант»: по 10 % на накопление, инвестирование и благотворительность (to tithe the Lord — на церковные нужды), а остальные 70 % — потратить. Есть и такой вариант расчета: каждый ребенок получает 25 центов на год возраста в неделю — и это предполагается использовать на личные траты. Часть средств откладывается (как правило, на колледж), и именно подобным образом осуществляется важнейший принцип: ребенок учится в первую очередь платить себе, обеспечивать себя. Деньги могут понадобиться в чрезвычайной ситуации (emergency fund), копятся на черный день (по-английски — дождливый, rainy), хотя в идеале день должен быть как раз светлым и солнечным, но требующим предоплат. Затрата на образование — в известном смысле гарантия того, что эту «солнечность» легче будет обеспечить.
Есть усложненные варианты: сбережения и деньги, предназначенные на колледж, разделяются. Тогда из сбережений те же 30 % идут на немедленные расходы; это так называемые «быстрые деньги» или «быстрые наличные» — название говорит само за себя и почти созвучно старой поговорке «что накопил, то заработал» («а penny saved is a penny earned»). Как уже отмечалось, та часть, которая идет на благотворительность, — это некий допуск в правильный мир, где ты обязан делиться, пусть ограниченно и продуманно. Некоторые родители считают, что важен порыв («взял и спонтанно потратил на экологические цели 40 долларов»), но большинство все же настаивают на подобном выборе. Важное правило для освоения базовых денежных принципов: дело не в том, сколько ты зарабатываешь, а в том, сколько ты тратишь. Копить же просто так сложно — нужны цели[227]. Детский «заработок» может быть косвенным:
Вот Джейсон участвовал в изучении мозга — 200 долларов заработал. Много. Я сказала: 65 долларов трать, 65 долларов — в банк, 65 долларов — на благотворительность; перечислила все сферы благотворительности, рассказала ему, как еще можно помочь людям. Он выбрал фонд Джимми Картера «Habitat for Humanity». Уилл — то же самое, он потратил на параолимпийские игры. Но это — с большими суммами. Я согласна, что маленькие суммы — если еще и делить, то не научатся дети быть ответственными (вероятно, в отношении себя. — М.З.) (Джули, 45).
Примерный график роста финансовой сознательности (в несколько сокращенном варианте) выглядит следующим образом:
— Раннее (три-четыре года) ознакомление ребенка с идеей денег включает рассказ о работе (правда, родителям не рекомендуют увязывать работу только с деньгами). Те, кто предполагают платить детям за их «работу», считают, что это можно начинать делать лет с четырех.
— Умение ждать вполне доступно пятилетнему ребенку, равно как и осознание ограниченности возможностей; это нужно всячески поддерживать и развивать.
— Начиная с шести лет, когда дети оказываются под давлением сверстников (т. к. идут в нулевой класс школы), полезно начинать прививать элементы критического восприятия действительности, в том числе рекламы. Тогда же еще больше детей начинают получать пособие.
— Многие родители считают, что к восьми годам можно периодически выдавать большую сумму (к примеру, на одежду) и предлагать самому чаду решать, что именно купить. Известно, что маленькие дети легче накапливают деньги («восьмилетний сын получает 8 долл. в неделю и не любит, чтобы его сбережения были менее 100 долл.»), чем подростки, которые не только тратят, но и менее склонны обращаться за советом к родителям.
— В одиннадцать-тринадцать лет большую ценность приобретает идея прироста (хотя бы 10 %) и понятие «сложного процента» (compound interest): «если родители видят, что ребенок старательно копит, то они могут и сами „подкинуть“» (Стефани); уже можно объяснить принцип кредитования. Дети могут и акции приобретать[228] — по данным исследования Мерил Линч (Merrill Lynch Survey) 1999 года, 11 % американских детей в возрасте от двенадцати до семнадцати лет владели ценными бумагами. Эксперты считают, что инвестирование в знакомые компании при контроле со стороны родителей может оказаться прибыльным и полезным — ведь менее 20 % старшеклассников имеют представление об инвестировании[229]. Здесь работает простой принцип: если инвестируют — пусть умеют нарисовать схему инвестирования. При этом хорошо известны случаи, когда несовершеннолетние интернет-предприниматели ворочали миллионами долларов[230].
Но главное — нужно работать (о чем еще будет сказано ниже).
— С четырнадцати лет пора подбирать университеты и сравнивать цены на образование, приучаться как можно меньше платить по кредитной карточке. Пора говорить о налогах и о пенсии.
— В восемнадцать лет, к моменту поступления в колледж, умение обращаться с текущим счетом, кредитной карточкой (кредит — привилегия, а не право), займами на обучение — не менее важно, чем собственно учеба.
Насколько самостоятельны решения детей по вопросу, что им хочется купить? Вопрос, как и на что потратить, становится более острым с течением времени — ведь примерно к восьми годам оценка детьми себя имеет и вполне материалистическую основу. Несмотря на все усилия, ни государственные, ни частные учебные заведения не могут добиться, чтобы дети не смотрели на то, у кого сколько возможностей. Сюда относятся и месторасположение, и размер дома (соответственно, и качество государственной школы, если речь не идет о частных образовательных учреждениях), в несколько меньшей степени — стоимость машины. Колоссальную роль играют социальные сети: теперь дети соревнуются не с американскими «Ивановыми» по соседству (the Joneses), а со всем Фейсбуком.
Один из путей — решать, что именно покупать: «Мне исполнилось четырнадцать, и я получила чековую книжку и карточку для банкомата… Теперь карточка пополняется каждые три месяца»[231]. Другой — серьезно относиться к покупкам: «Конечно, сын — член семьи, не будем же мы его шантажировать деньгами, но сразу съесть все купленные конфеты — нельзя» (Б).
Независимость выбора в любом случае относительна — из-за активного предложения со стороны взрослых рекламодателей. Поэтому американских детей рано учат «правильно» оценивать рекламу, которая подкреплена дорогостоящими и прекрасно организованными маркетинговыми исследованиями, или просто пытаются ограничить ее воздействие (например, дозированным просмотром телевидения, ограниченным доступом к Интернету или заменой телевидения и Интернета дисками). При этом хорошо известны бренды, достаточно активно использующие все возможные рычаги вовлечения детей, к примеру, «Макдоналдс», который и «кормит детей, и кормится с них»[232].
Мысль о том, что чрезмерная коммерциализация детства[233] в глобальном масштабе извращает идею чистого детского счастья и портит восприятие жизни в будущем (лишнее внимание к деньгам в детстве и вокруг детства мешает счастью и плохо готовит к будущей самостоятельной жизни) звучит очень часто. Дети с младенчества (а вернее, с пренатального периода) оказываются невольной целевой аудиторией для массового производства и потребления, постепенно превращаясь во вполне сознательных двигателей рекламной индустрии. Проблемой видится не только сама коммерциализация, но и превращение детей в чрезмерно активных потребителей и сопряженное с этим раннее взросление, идущее вразрез с идеей гармоничного и своевременного развития счастливого ребенка. Критика консюмеризма — практически общее место современного американского дискурса, но особенно ярко подобная риторика представлена в работах марксистского толка. В одной из них как раз предложена концепция размывания границ между детьми и взрослыми — классического принципа модерна, падения детства как последнего бастиона, который также не устоял перед натиском капитала[234]. Уместно ли приглашать десяти-одиннадцатилетних девочек в спа-салоны, тем самым закладывая основы будущего повторного обращения и повторных трат[235], фактически занимаясь тем, что социологи называют «возрастной компрессией» — агрессивным продвижением товаров (косметики, одежды), изначально предназначенных для взрослых[236]? Психологи полагают, что именно факты посещения (особенно если они несут дополнительное символические значение — отметить день рождения) таких коммерческих заведений, как «Макдоналдс», может привести к формированию устойчивых лояльностей. Известно, что детский консюмеризм коррелирует с явлениями тревожности и депрессии, психосоматическими жалобами. Претензия к компаниям состоит в том, что они, вместо того чтобы помочь детям и особенно подросткам выбраться из переходного возраста, пройти его, используют психологические особенности возраста: получается, что не дети учатся управлять деньгами, а деньги начинают управлять детьми.
Оказываются ли дети моральными инвалидами в результате чрезмерного консюмеризма? — задается вопросом Вивиана Зелизер. Должны ли родители ограничивать запрос на бесконтрольное потребление? Наконец, в какой степени дети могут контролировать свои средства, если они поступают в виде стипендии / домашнего пособия от родителей?[237] Речь идет о весьма внушительных суммах: на рубеже XX–XXI веков совокупный годовой доход американских детей от вышеупомянутых пособий, денежных подарков и собственных заработков составил 27 млрд долл., из которых 7 млрд долл. были потрачены на «перекусы» (snacks), а еще 7 млрд долл. — на игрушки, игры и спортинвентарь. Покупки, произведенные детьми в возрасте от четырех до двенадцати лет за 1990-е годы возросли втрое[238]. По другим подсчетам, в 2002 году американцы в возрасте до тринадцати лет потратили 40 млрд долл. своих денег (интересно, каким образом это было рассчитано?), тогда как в 1994-м — всего 17[239]. Они также влияют на 500 млрд покупательских решений, которые принимают родители[240]. В начале 1990-х шопинг представлял собой самое любимое занятие для большинства американских детей[241].
Эксперты по маркетингу давно узрели в детях свою целевую аудиторию — и именно с точки зрения траты детьми своих денег. Противодействие этому видится в том, чтобы не «уступать семейный нарратив, посвященный проблеме денег, культуре консюмеризма, которая совершенно не заинтересована в том, чтобы у детей развивались навыки здорового обращения с деньгами», построенные на компетентности и чувстве уверенности[242].
Комментарии родителей так или иначе акцентируют момент самостоятельного управления деньгами: от заявлений «да, это его/ее деньги, ребенок ими распоряжается, в этом весь смысл стипендии» до «мы должны иметь возможность сказать тебе нет». Выбор ребенка может быть как ограничен, так и откорректирован: 78 % опрошенных родителей считают, что и они сами, и их дети должны принимать участие в принятии решения, как потратить деньги. Но 19 % готовы переложить контроль только на ребенка[243]. То есть для довольно большого количества родителей контроль сам по себе не является самоцелью. Сама идея распоряжения деньгами (даже для маленьких детей) сводится как раз к стимулированию самостоятельности (или ее ощущения):
Когда ему исполнилось четыре, мы решили: пусть он сам будет выбирать свои любимые лакомства в магазине, какие хочет — те и выбирает, на свои деньги (Разговор в супермаркете с отцом мальчика).
Я даже радовалась, когда они покупали дешевый пластик. Пусть учатся делать ошибки. Теперь перестали (Джули, 45).
И та и другая категория родителей согласны: главное — подвести детей к тому, чтобы они осознали разницу между «хочу» и «нужно». Если дети не могут позволить себе все, что они хотят, на свои имеющиеся в распоряжении деньги, им можно помочь: деньгами же, идеей поработать; решить, чего же все-таки больше хочется[244]; а главное — формировать такой важнейший навык, как отслеживание трат. В раннем возрасте это легче реализовать — «снять дополнительные страховочные колесики с велосипеда — и пусть падают в маленькую канаву», пока речь идет о небольших суммах, которые они могут неправильно потратить[245].
Физический контроль родителей над тратой легче осуществлять при традиционных формах покупок (когда сохраняются чеки и проч.), когда их присутствие в магазине подразумевается (кроме специально оговоренных выходов детей с друзьями или подругами). А вот в отношении виртуальных трат и расчетов предлагаются разнообразные схемы. Как отслеживать интернет-покупки детей, которые владеют собственными карточками (таких около 12 % в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет, после восемнадцати их количество существенно возрастает, как и случаи задолженностей и финансовых рисков)[246] или имеют подарочные сертификаты? Все большая независимость от родителей предполагает, что, если дети занимают деньги у мамы и папы, они должны не просто их возвращать, а с процентами. То же самое делают и родители, если «берут взаймы» детские деньги (стипендию-пособие). Причудливым образом контроль не всегда увязывается с пособием:
У большинства моих друзей нет пособия как такового, мы просто аккуратно просим (деньги у родителей. — М.З.), а если уже есть кредитки, то аккуратно тратим деньги. Раньше я почти всегда звонила и спрашивала папу, можно ли потратить. А теперь просто подразумевается, что ничего неразумного я не сделаю. Правда, кредиткой я пользуюсь очень редко, толком и не привыкла (Эмма, 17).
Вообще есть мнение, что родители (особенно мамы), обеспечивающие пособие, более щедро оплачивают другие траты детей — эсэмэски и проч.
Дети же настолько различаются в своих личных практиках, что некоторых еще нужно уговаривать потратить[247].
Да, нам очень повезло, мы были благословлены детьми, которые готовы сберегать (Лиза).
Кора (6 лет) строго сказала: если у меня всего 10 долларов, я эти книжки за 11 долларов покупать не буду, а то я и так уже должна папе 5 долларов (С, 45).
Данные исследований, напротив, показывают, что девочки и больше тратят, и больше зарабатывают: «им больше надо»[248].
Итак, экономическая деятельность детей, как пишет Вивиана Зелизер, включает производство, потребление и распределение. Обмен деньгами, едой и другими объектами в школе, на детских площадках и проч. свидетельствует о том, что дети вовсе не «невинны и неискушенны» в экономическом плане; напротив, они активно вовлечены в сложную «систему распределения, касающуюся широкого спектра объектов и представляющую как солидарность среди сверстников, так и их разделение»[249]. Зелизер утверждает, что, несмотря на попытки родителей удержать детей от потребления, дети вовлечены в частично автономные сферы производства, потребления и распределения и, соответственно, — в социальные отношения с родителями, другими институтами и детьми[250] (сверстниками и сиблингами), в отношения, подразумевающие, в свою очередь, разные практики и договоры[251].
Важнейший источник доходов и контакта с личными деньгами — собственные заработки ребенка. В пригородах до сих пор традиционно можно делать следующее: развозить газеты (это занятие стремительно уходит в прошлое), убирать снег (особенно учитывая печально знаменитые снегопады во многих штатах) и листья, стричь газоны, следить за домашними питомцами (а также брать их к себе или заходить, чтобы покормить хомяка или кошку), поливать цветы, мыть машины, сидеть с детьми. Бэбиситтерство в некоторой степени обусловлено спецификой американского законодательства: во многих штатах детей до двенадцати лет нельзя оставлять без присмотра, но зато с двенадцати-тринадцати лет (как будто в момент вхождения в мир подростков происходит что-то магическое) им уже можно самим оставаться с другими детьми. Это более типично для девочек. Среди знакомых или родственников бэбиситтерство осуществляется как за плату, так и — редко — бескорыстно. Вообще, альтернативная точка зрения (мол, на соседях таким образом зарабатывать нельзя, им можно и должно помогать просто так) представлена очень слабо. На первый план часто выходит ценность оплачиваемого труда, и она легко перекрывает важность родственных связей (рационализация такова: неловко просить присмотреть за ребенком бесплатно, особенно на постоянной основе, если это может предоставить подростку такую прекрасную возможность заработать). В конце 1980-х годов многие девочки (да и мальчики) работали бэбиситтерами, причем некоторые предварительно получали специальную подготовку в обществе «Красный Крест». По воспоминаниям, им порой попадались весьма «прижимистые» родители. Кто-то не платил за те первые 45 минут, что одиннадцатилетняя няня находилась в доме вместе с родителями; кто-то вместо того, чтобы заплатить мелочью из сумки (час стоил 2 доллара), выписывал чек. Отношения между родителями и временными нянями всегда подразумевали напряжение, т. к. первые подозревали вторых в том, что они неправильно обращаются с детьми. В то же время для нянь это был единственный способ заработать, для родителей — способ сэкономить[252]. Считается, что в последнее время девочки-подростки начали получать более существенные стипендии от родителей, и поэтому бэбиситтерство стало менее привлекательным, да и родители не столь заинтересованы в том, чтобы нанимать подростков. И все же какие-то формы этого вида деятельности сохраняются; например, упрощенный вариант — «маленькая мамина помощница» (девочка десяти-одиннадцати лет в присутствии мамы развлекает малыша за почти символическую плату — 1–2 долл. в час); иногда дети остаются на полное попечение подростков (как правило, учащихся старшей школы). Кроме того, родители тех подростков, которые ищут подобную работу, могут помочь разместить их рекламу (используя, скажем, возможности церковной общины). Но в отсутствие должной заинтересованности со стороны подростка они, возможно, скажут: «Нет, она должна сама проявить инициативу» (М, 44). Бывает, родители жалуются, что современные дети, выросшие в комфортных условиях, мало мотивированы, и если и готовы работать, то с минимумом усилий и за хорошую плату[253].
Ситуация контроля над деньгами имеет все больше шансов отдалиться от вмешательства родителей — если подростки начинают не просто символически подрабатывать, а именно зарабатывают. Причем во многих случаях это совпадает с принципиально возрастающей возможностью индивидуального перемещения — благодаря вождению и наличию автомобиля (после шестнадцати лет).
В этом году мы разработали другую систему для Лоры, потому что она водит машину и работает (преподает синхронное плаванье) в двух бассейнах. Т. е. у нее есть настоящая зарплата. Около тысячи долларов. Для ее возраста — огромные деньги! Ее баланс — по сравнению с прошлым — стал огромным. Она постоянно проводила время с друзьями (рестораны, кино) и вела образ жизни, о котором мы можем только мечтать. Я знала, что когда она окажется в колледже, ей придется научиться жить на бюджетной основе, иначе она попадет в очень неприятную ситуацию. Поэтому мы посчитали, сколько ей нужно на обеды в школе, бензин, и добавили ее стипендию. Теперь мы выдаем ей 45 долларов, и этого должно хватить на целую неделю. У нее есть и карточка с предоплатой в супермаркете, чтобы она от меня не зависела, если ей нужно что-либо купить там. Эта система сработала вполне удачно, и она существенно сократила свои сумасшедшие траты. Надеюсь, что, когда она будет жить самостоятельно, у нее будут навыки, чтобы разработать и соблюдать свой бюджет (Кэтрин, 46).
Практические навыки контролирования средств (и своих устремлений) предполагают примат разумности трат — вне зависимости от того, как именно получены деньги.
Не помню, как мы беседовали с детьми о деньгах, когда они были маленькими, но уверена, что говорили. Сложно пытаться привить детям уважение к деньгам, когда они растут без необходимости о них волноваться. Сейчас они большему учатся, потому что у них уже есть способность совершать ошибки (типа недавнего образа жизни Лоры, который весь был направлен на траты) и следом видеть нашу реакцию, полную ужаса. Да и трудно быть экономным, когда у детей есть друзья, которым не задумываясь покупаются сапоги «Угги», одежду «Holister» and «Abercrombie clothes» и зимние куртки «North Face». Грейс особенно примечает ярлыки, но в то же время она не так уж много тратит, потому что возможности у нее ограничены, а мы стараемся подвигать ее на то, чтобы она покупала то, что действительно хочет (Кэтрин, 46).
Заинтересованность детей в заработке и ожидание работы — культурный императив. Популярный способ, доступный и для совсем маленьких детей (еще один обряд перехода), — организация продажи тех продуктов, которые предсказуемо находят спрос, — к примеру, лимонада в жару. К слову сказать, американский лимонад кардинально отличается от российского, представляя собой лимонный сок, разведенный с сахаром и водой. В 1980-х годах, правда, дети чаще продавали упрощенную версию, разводя совсем ненатуральный едкий порошок «Кул-эйд» («Kool-aid»). Такие мини-киоски с лимонадом в жаркую погоду появляются вдоль дорог на тротуарах (где таковые есть) или на участках во многих пригородных местечках. Общество готово платить не столько за прохладительный напиток (его можно купить самим), сколько за готовность детей заработать. Еще более очевидным этот мотив становится, когда дети продают раскрашенные камни (булыжники), которые находят у себя в саду. Однако бывают и совсем другие мотивы, как в истории с девочкой Алекс, которая в четыре года начала собирать деньги на борьбу с раком, сама будучи неизлечимо больной. С ее помощью был собран 1 млн долл. Эта история описана в книге, которую написали родители Алекс[254]. Усилия по сбору средств предпринимаются до сих пор в память о девочке.
Дети в США знакомы с масштабными проектами по сбору средств: уже известные в российских школах продажи выпечки (правда в американских школах ситуация усложнилась — приходится ограничивать ярмарки-продажи домашних изделий из-за риска аллергии), старых книг буквально за символические суммы и проч. Вырученные средства идут на общие благие цели (ремонт школы, детской площадки и т. д.). Но особый драйв имеют пользующиеся сегодня спорной репутацией кампании по сбору средств, которые организуют школы (и частные, и государственные) и известные на весь мир американские детские организации, например девочек-скаутов. Их классический формат: дети ходят по домам, опять-таки в знакомом для них районе, и продают печенье. Нередко география продаж существенно усложняется: задействованы мамы, которые развозят детей. Задача состоит в том, чтобы продать максимальное количество упаковок. Ухищрения, на которые идут и дети, и — преимущественно — родители, хорошо известны даже по теле- и кинопродукции. (В известном гротескном телесериале «Отчаянные домохозяйки» матери договариваются с коллегами и т. д., ожидая или почти требуя выполнения обещаний купить некоторое количество печенья и пытаясь опередить друг друга.) Почти все родители сталкиваются с необходимостью что-то покупать для школы («необходимое и неизбежное зло»), но их раздражение и беспокойство вызывает чрезмерная задействованность именно детей: «нехорошо заставлять детей продавать, а ведь ходят орды детей, которые что-то предлагают»; «иногда проще просто выписать чек на определенную сумму, чем покупать эту оберточную бумагу»[255].
При этом детям легко убедиться в том, что подарок тем же учителям не призван быть приравненным к денежному эквиваленту, ценность его (и приемлемость) — в том, что было потрачено время, собственные силы. Прилично вручить подарок, сделанный только своими руками, а не купленный: такие этикетные правила действуют в отношении школьных учителей, которым на праздники приносят сувениры собственного изготовления (вместе с детьми или нет) или ту же выпечку.
Многие установки в отношении денег хотя и не всегда претендуют на универсальность, но понятны большинству американцев: как те, что более стабильны, так и те, которые подвержены изменениям, тесно связанным с общей эволюцией ценностей. Так, шестилетняя Фиона изводит родителей, заставляя их экономить электричество, и выделяет по 25 центов из 1, 50 долларов, которые получает каждую неделю, на различные экологические нужды. И хотя речь в данном случае идет скорее о возрастающем числе детей, которые обеспокоены экологией и весьма активно борются за свои идеи, с точки зрения распоряжения деньгами подобные решения заслуживают внимания: это сознательная и правильная благотворительность[256]. По мнению некоторых родителей, дети вполне имеют право высказывать свое мнение и по поводу родительских трат (ведь их воспитывают как людей, которые могут высказать свое мнение) или по поводу общесемейных предпочтений (почему ребенок должен хотеть идти в ресторан с родителями, если ему не нравится данный вид кухни?)[257].
Другие ценности уже существуют в форме приемлемых вариантов, порой противоречивых. К примеру, из-за экономического кризиса резко возросло и количество вопросов и обсуждений денежных проблем с детьми, и глубина погружения в них детей. Интересно, что некоторые американские дети заняли весьма активную жизненную позицию (т. е. именно такую, о которой и мечтают многие родители), а именно продавали свои старые игрушки, чтобы помочь Санта-Клаусу найти средства для новых. Сентиментальность расставания с любимой игрушкой компенсируется ожиданием новых впечатлений, данью традиции (именно на Рождество — как бы ни называли зимние праздники — принято дарить особенно много игрушек) и сознанием того, что ты делаешь правильное дело[258]. Подобные примеры покажутся менее удивительными, если учесть, что традиционные и распространенные повсюду распродажи старых вещей (garage sales, yard sales) связаны не только с переездом (moving sales), но и с перемещением во временном смысле — дети становятся старше и расстаются с уже ненужными им вещами. Это «работает» и в том случае, если ребенок просто хочет заменить одну игрушку на другую. Так происходит с дорогостоящими куклами серии «Американская девочка» («American girl»). Возможно, вынужденная экономия приведет к тому, что понятная и постоянная озабоченность многих американских родителей и педагогов по поводу того, что медиа постоянно атакуют детей идеей «деньги — это власть», несколько снизится[259]. Защита от неуемного потребления необходима и потому, что если раньше игрушки действительно дарили в основном на Рождество и дни рождения, то в современном детстве возможностей получения небольших подарков гораздо больше, не говоря уже о том, что чем меньше семья по количеству человек, тем больше денег приходится на каждого ребенка.
* * *
Итак, способы освоения денежного мира юными американцами весьма разнообразны, путей получения денег и способов их тратить самостоятельно становится предсказуемо больше по мере взросления ребенка.
Основой является общая идея финансового планирования, которая так глубоко вошла в культуру американского класса. Это выражено намного сильнее, чем в России, и именно азы этого опыта и пытаются передать детям как можно раньше, что особенно заметно людям, знакомым с обоими обществами (Александра, 18).
Дети знакомятся с миром денег, поначалу сталкиваясь с ними как с эквивалентами и как с предметами, почти что игрушками — в максимально простой, приятной форме (подарок родных или Зубной феи и проч.), часто ритуализованной. Постепенно баланс сдвигается не только в сторону личного обладания, собственных трат и компромиссов, но и в сторону усложнения условий, ролей, своеобразного торга с родителями. Деньги часто фигурируют в осязаемой форме, а самым важным становится их роль эквивалента. Локус контроля сдвигается к ребенку, которому предлагаются варианты обращения с деньгами и управления ими. Со стороны родителей денежная составляющая продолжает видеться как важнейшая часть социализации («money and kids», или, наоборот, практически обязательная рубрика любых материалов по воспитанию): от разговоров и обсуждений до выплат и связанных с ними условий. Данная траектория движения к независимости вообще и финансовой как ее важнейшего компонента сопровождается существующими социальными нормами. Они призывают к балансу, компромиссу, выбору как высшей ценности. Сама идея выплачивать стипендии детям и подвигать их к распоряжению деньгами представляется вполне универсальной установкой, в то время как варианты связанных с этим практик разнообразны. Множественность денег прекрасно иллюстрируется дифференциацией детских средств (я трачу сейчас 25 % — я трачу потом на себя 50 % — не-я (а те или тот, кому я отдал на доброе дело) трачу когда-либо еще 25 % денег — или любой подобный вариант) и неприемлемостью принципа «только тратить». Жизнь по принципу «тратить только на себя» также не приветствуется, хотя есть точка зрения, согласно которой дети должны сами проникнуться идеей благотворительности, а не по указке родителей. В каком-то смысле множественность денег оказывается «помноженной» на вариативность выбора, как именно с ними нужно обращаться (при универсальности идей сбережения, ответственности, готовности делиться и пр.)
Бесценный ребенок, который предполагает сильную эмоциональную связь с родителями, становится все более дорогостоящим в плане того, чтобы его или ее детство и вступление во взрослую жизнь было максимально полноценным — и счастливым. Именно для этого освоение денежного мира должно происходить с постоянным и выраженным акцентом на самостоятельность; для того, чтобы обрести в будущем ту самую независимость и компетентность и — возможно, впоследствии — стать родителем следующему поколению дорогих (по стоимости и по эмоциональной привязанности) — «бесценных» детей. Парадокс заключается в том, что высокая «стоимость детства» и ее последствия должны ограничиваться — в интересах ребенка, его сиблингов и родителей. Можно говорить о более тонкой настройке, о балансе между финансовой ответственностью и отрицанием оголтелого материализма, об умении получать и тратить на себя и других. Безусловная и бесценная эмоциональная привязанность не исключает педалирования независимости и отделения от родителей, призывая к утверждению собственного пути и обусловливая наличие денежных отношений между родителями и детьми. Пример более гибкой трактовки прежних финансовых установок: вынужденное раздвижение рамок приемлемого родительского участия деньгами в жизни уже выросших и даже окончивших колледж детей как одного (!) из возможных жизненных сценариев — но временных, на период финансового кризиса. Причем для реализации подобной версии дети физически возвращаются домой, путешествие во взрослый (настоящий) мир может идти по менее традиционному пути, который на настоящий момент оказывается финансово более простым. Кстати, интерпретация экономического кризиса, по советам экспертов, может сводиться к «новым вариантам выбора в новых условиях»[260]. Таким образом, сегодня достижение возраста восемнадцати лет, и даже двадцати одного года, не является нормативным социальным маркером окончательного или полноценного личного финансового взросления, однако означает принципиально иной уровень финансовой самостоятельности и ответственности ребенка — и его стремления к независимости как черты сформировавшейся личности и базовой ценности.
Мои дети так не делали, но вообще представляю себе, что кто-то из них позвонил бы из колледжа и сказал: папа, у меня чеки остались, а денег на счету чековой книжки нет. Как быть? (Смеется.) (Джон, 58)
Вместе с тем символы взросления (и «пункты и объекты», с этим ассоциирующиеся) — собственная машина, законченное образование, перемещение по стране все дальше от родного дома и, наконец, дом собственный — по-прежнему желанны и достижимы, просто на все это может уйти больше времени, чем раньше. Дети позже становятся окончательно независимыми, в первую очередь как раз в финансовом смысле[261]. В обществе придумываются и формы рационализации такой ситуации: дорогой подарок (новая машина на окончание школы) оправдан, если будет обеспечено ответственное пользование ею, включающее и оплату бензина, и страхование. Помощь деньгами со стороны родителей обуславливается экономией времени на получение хороших оценок и проч.[262] Частичная финансовая независимость или частичное финансовое участие, растянутое во времени и вызываемое не бездельем молодого человека, а изменившимися экономическими условиями, означают новый, менее резкий и очевидный переход во взрослое состояние — по крайней мере, на период рецессии.
Две другие составляющие «взрослости» в ее современной интерпретации — это способность потреблять и способность самостоятельно зарабатывать на себя (если в начале XXI века работало около 43 % подростков — примерно в равном гендерном «исполнении», то полвека назад среди представителей среднего класса их было в 2,5 раза меньше). Это как раз и приводит к тому, что дети в каком-то смысле снова воспринимаются как «маленькие взрослые», однако принципиально отличные от взрослых настоящих. Эффект их особости усиливается и за счет большей изолированности, а также изменившейся географии жизни детей: в отсутствие заброшенных мест, лесов и других подобных рисков внешнего мира дети либо проводят время в одиночестве (виртуальном общении), либо делят места своего физического пребывания со взрослыми (к примеру, «тусуясь» в торговых центрах)[263]. Безграничный рост стоимости товаров и услуг, отчасти навязываемый извне, может нанести ущерб не только родителям, но и детям, а следовательно, в силу вступают механизмы, ее удерживающие. Поскольку во взаимоотношениях детей и родителей существенная часть денежных вопросов не может носить полностью обезличенно-эквивалентный характер, немаловажным является сакрализация денег[264]. Правда, сакральность денег, как мне представляется, скорее будет подчиненно-функциональной, чем и характерна система семейных взаимоотношений в постиндустриальных обществах — сакральность предлагается, но не навязывается.
Насколько успешны эти рецепты финансового здоровья? Те, кто их активно защищают, как родители (вспоминающие при этом свое детство), так и эксперты, делают акцент на продвижении вперед (getting ahead) и возможности обретения большего счастья. Ощущение счастья от собственных денег знакомо и маленьким детям — недаром они лучше читают книги, которые купили сами. В одном из рекламных роликов, предлагающих он-лайн услуги по обучению детей финансовой грамотности, изображены счастливые дети и счастливые родители (happy kids and happy mom and happy parents): 85 % детей хотят, чтобы родители не поддерживали их в финансовом плане после 25 лет[265].
Один из лучших подарков ребенку — самодостаточность, когда они вырастут… В какой-то момент вам придется сказать, банк «Мама-Папа» (очень распространенное клише. — М.З.) должен быть официально закрыт[266].
Полная денежная самостоятельность продолжает видеться как идеал — с тем чтобы для «лучшего из своих вложений — детей» добиться лучшего (с точки зрения родителей) будущего — финансовой независимости этих двух поколений[267].
______________________
______________
М. В. Золотухина[268]Топос «американской мечты»: Семинары, сети и сетевой маркетинг компании «Амвэй»
Сетевой (или многоуровневый) маркетинг, МЛМ (от английского MLM — Multilevel Marketing), стал известен в России сравнительно недавно — в постперестроечный период начала — середины 1990-х. Изначально МЛМ-компании импортировались в Россию из стран Запада: в 1993 году на территории РФ была зарегистрирована компания «Цептер», чуть позже, в 1995-м, — «Гербалайф». Вскоре стали появляться отечественные аналоги, копировавшие западные бизнес-технологии для продвижения продукции российских производителей. С каждым годом количество сетевых компаний в России неуклонно возрастало, так же как и количество участников, решившихся в той или иной мере сотрудничать с подобного рода фирмами (таких людей, работающих на основе контракта с МЛМ-организацией, принято называть дистрибьюторами, распространителями, продавцами, консультантами или — на жаргоне — «сетевиками»). По подсчетам Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж[269], в 2011 году на территории РФ насчитывалось более 4 млн распространителей (Global Statistical Report). Всего в России было зарегистрировано более ста компаний прямых продаж (Сетевой бизнес…).
Первый опыт столкновения с сетевой коммерцией отпечатался в коллективной памяти россиян в виде набора штампов и стереотипов, легко всплывающих на поверхность сознания при одном упоминании словосочетания «сетевой маркетинг». У многих представителей старшего и среднего поколения еще живы воспоминания середины 1990-х о компании «Гербалайф» и ее дистрибьюторах, выделявшихся своими нагрудными значками с надписью «Хочешь похудеть? Спроси меня как!» и предлагавших продукцию (разного рода пищевые добавки) для похудания и оздоровления. Именно тогда сформировался устойчивый стереотип о назойливости дистрибьюторов, стремящихся во что бы то ни стало навязать ненужный товар сомнительного качества по завышенной цене и — самое страшное — заманить доверчивого покупателя в свою «секту»[270], где обычные люди под влиянием гипноза или других неведомых технологий воздействия на психику превращаются в «зомби», стремительно меняют свои интересы, ценности, привычный круг общения, мечтают разбогатеть, но в итоге остаются ни с чем, обманутыми и покинутыми (см., напр., Eisenberg 1987; Nelson 1998; Аракелян 2001 (а, Ь); Голубицкий 2003; Стрельников 2003; Латова 2007; Редозубова 2010). Со времени появления сетевых организаций на российском рынке прошло уже больше пятнадцати лет, однако до сих пор в их оценке мало что изменилось. Сетевой маркетинг считается одной из наименее престижных форм занятости; преимущественно женским занятием («бизнес для отчаявшихся домохозяек», как презрительно отзываются о нем недоброжелатели), несовместимым с идеалами мужественности и представлениями о достойной карьере. Однако, несмотря на отчетливую стигматизацию отрасли, статистика свидетельствует о неуклонном росте приверженцев прямых продаж. В этой статье на примере этнографического изучения одной компании я попытаюсь понять, что именно привлекает участников сетевых продаж в подобного рода бизнес-проектах; какие образы и модели будущего, ответственные за формирование определенных ожиданий и представлений о счастье, транслируют сетевые корпорации, претендующие на то, чтобы быть чем-то большим для своих продавцов, нежели простым механизмом для извлечения прибыли. Необходимо оговориться, что выводы, полученные мною на основании единичного случая, не должны распространяться на всю отрасль в целом, но могут оказаться полезными для предварительного знакомства с объектом исследования.
Компания «Амвэй» («Amway»), о которой пойдет речь, является одной из наиболее известных и крупномасштабных организаций в сфере сетевого маркетинга. Сегодня «Амвэй» фактически превратилась в олицетворение всей отрасли сетевого бизнеса в целом: самые яростные противники сетевой коммерции видят именно в «Амвэй» средоточие наиболее отталкивающих черт МЛМ-технологий[271], тогда как адепты сетевых проектов отдают должное успешному продвижению компании, ее «стремительной глобальной экспансии» и «революционным новшествам» в области прямых продаж (По 2001). На страницах одного из популярных изданий, посвященных истории становления сетевого маркетинга в США, его автор, горячий поклонник нетрадиционных форм предпринимательства, связывает с «Амвэй» целую «революцию в индустрии прямых продаж», «новую волну» в развитии сетевого бизнеса. Суть этой революции состояла в том, что с момента своего возникновения в 1959 году компания активно развивала и воплощала в жизнь концепцию многоуровневого маркетинга, согласно которой дистрибьюторы получали прибыль в виде комиссионных процентов со всех уровней своего даунлайна (от англ. downline), т. е. со всей совокупности рекрутированных в сеть продавцов (рис. 1). Не вдаваясь пока в терминологические тонкости устройства сбыта в МЛМ, отмечу, что это новшество имело принципиальное значение для развития сетевого маркетинга, так как именно многоуровневые планы давали возможность дистрибьюторам существенно увеличивать свои доходы согласно геометрической прогрессии роста прибыли, тогда как традиционные (в смысле, более распространенные в те годы) маркетинговые схемы ограничивали комиссионные сборы только первой линией даунлайна. Начиная с 1980-х годов большинство компаний прямых продаж вслед за «Амвэй» приступили к внедрению многоуровневых планов (По 2001: 94–95). В данном контексте для нас важно не столько то обстоятельство, что «Амвэй» выступил в роли локомотива развития МЛМ-технологий, сколько тот факт, что с самого начала своей пятидесятилетней истории руководители компании и ее стремительно разраставшаяся армия дистрибьюторов осваивали и распространяли вместе с товарами «Амвэй» этос «успешных предпринимателей», рассчитывающих на «алмазные россыпи» богатства и безграничный карьерный рост.
1. Структура дистрибьюторской сети. Иллюстрации автора.
Ориентация на кардинальное изменение социального положения, подкрепленная риторикой «американской мечты», явилась краеугольным камнем идеологии «Амвэй», получив свое наиболее зрелищное выражение в ходе регулярных собраний, т. н. Уикенд-семинаров (или Семинаров выходного дня). На подобных собраниях репрезентации счастья (успеха) обретают свое видимое, материальное воплощение в образах тех, кто уже стал их обладателем, получив право на рассказ о личной истории успеха перед многотысячной аудиторией благодарных слушателей. Каждый раз, покидая очередной «праздник мечты», вдохновленные дистрибьюторы с усиленной энергией приступают к созданию собственных воображаемых проектов будущего, к описанию и анализу которых мы и обратимся в этой статье.
Класс и пространство ритуала
Перемещения в социальном пространстве традиционно рассматриваются исследователями в терминах (вертикальной) социальной мобильности и оказываются неразрывно связанными с различными стратификационными теориями, задающими перспективу анализа проблем социальной классификации и соответствующий понятийный аппарат, на языке которого очередная версия социальной реальности получает право на существование.
Одним из вариантов концептуализации социального неравенства, пустившего глубокие корни в социальных науках, особенно в отечественной (преимущественно советской) традиции, стало описание общественного устройства с точки зрения взаимоотношений между классами. Эта линия рассуждений традиционно связывается с макроструктурными моделями марксистского толка; правда, понятие «класс» широко используется представителями самых разных теоретических школ и направлений в социальных дисциплинах, поэтому его содержание будет каждый раз переопределяться в зависимости от контекста употребления (Радаев, Шкаратан 1995: 36–40). Тем не менее исторически сложившаяся монополия марксизма на понятие «класс» способствовала возникновению устойчивого набора ассоциаций, связывавшего классовые различия с признанием антагонизма, противоположности интересов больших социальных групп, выделяемых по признаку отношений собственности на средства производства. Кроме того, для Маркса и его последователей классы представляли собой объективную данность, независимо от того, насколько сами общественные группы осознавали свою принадлежность к той или иной категории: отсутствие представлений о своей коллективной идентичности, например, среди групп рабочих не мешало исследователям усматривать наличие некоей общности, пребывающей в пренатальном состоянии «класса в себе» — в отличие от «класса для себя», осознавшего общность своих интересов по мере «созревания объективных условий».
Марксистский подход с его экономическим детерминизмом, широкими обобщениями и очевидным идеологическим подтекстом не раз становился предметом многосторонней критики как со стороны самих последователей Маркса (например, в работах неомарксистов, пытавшихся примирить марксизм с новыми историческими реалиями и новыми концепциями, в том числе структурализмом), так и среди тех, для кого марксизм оставался чуждой методологией. Пьер Бурдье критиковал увлечение марксистов трактовать социальные различия через экономические отношения и придавать выделяемым группам статус реально существующих общностей; он определял класс как результат символической борьбы между социальными группами и агентами, занимающими различные позиции в социальном пространстве, за навязывание собственных представлений о социальном порядке, или за «стиль легитимной перцепции». Обладание символическим капиталом дает агентам право на «монополию легитимной номинации», на «управление названиями», т. е. право производить различия путем их публичной артикуляции (например, право государства производить официальную классификацию, известного критика — выражать свою точку зрения по поводу того или иного произведения, института статистики — определять официальные таксономии профессий и фиксировать иерархии и т. д.). Благодаря тем же процессам происходит рождение классов, этой «реальности магической, которая (вслед за Дюркгеймом и Моссом) определяет институции в качестве социальных фантазий» (Бурдье 1993: 92). Те классы, которые для марксистов были реальными и объективными группами, для Бурдье выступают лишь «классами на бумаге», теоретическими абстракциями, политическим продуктом, навязанным определенной частью интеллигенции в ходе борьбы за перераспределение капитала.
Как известно, отечественная (советская) традиция изучения социального неравенства базировалась на положениях марксистской теории, сквозь призму которой идеологически выверенные, «стерильные» концепты увязывались в целостную картину, описывающую уникальность советского общественного устройства. Судьба классов в Советском Союзе могла бы стать замечательной иллюстрацией к тезисам Бурдье, когда класс как базовая категория идентичности приписывался советским гражданам подобно имперским сословиям, наделяющим социальные группы (рабочих, крестьян, служащих, интеллигенцию и др.) набором прав и обязанностей по отношению к государству (Fitzpatrick 1993). Правящий слой советского государства, выступавший от лица Пролетариата, становился легитимной инстанцией по производству социальных различий, невзирая на то что принципы насаждаемой им категоризации имели мало общего с каноническим марксистским определением классов, предполагавшим опору на «объективные» социально-экономические показатели. Социальные различия, сконструированные по принципу сословных, имели правовой характер (были закреплены в конституции СССР) и на ранних этапах существования советской республики превращались в инструмент политической борьбы с неугодными правительству лицами через лишение их гражданских прав и свобод (так называемые «лишенцы»). Как отмечает Шейла Фитцпатрик, процедуры дискриминации имели во многом случайный, неформализованный характер и до известной степени служили предметом переговоров, когда попавшие под ярлык «буржуа» или «кулак» стремились избавиться от навязанной им негативной идентичности (Fitzpatrick 1993: 753–754). Активный вклад в создание «виртуальных классов» вносили переписи населения, благодаря которым «реальность» классовых различий подкреплялась социально-экономическими показателями, призванными засвидетельствовать строго научные — марксистские, а значит, объективные — принципы социальной классификации.
В 1930-х годах, когда революционные страсти стали утихать, а ситуация в стране стабилизировалась, значение класса как средства стигматизации политических врагов постепенно стало сходить на нет, уступая место новым формам институциализации классовых различий, утверждавшихся все по тому же сословному типу (как, например, система внутренних паспортов, введенных в 1932 году, с обязательным указанием «социальной позиции»). В 1936 году официальная советская пропаганда провозгласила победу социализма в стране. С этого времени вплоть до конца 1980-х партийно-государственная концепция социальной структуры основывалась на провозглашенной Сталиным формуле о наличии в Советском Союзе трех классов: рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции (Шкаратан 2000: 65–66).
Исследования, посвященные вопросам изучения социальной структуры советского общества, неизменно воспроизводили трехчленную формулу как некую неоспоримую данность, хотя с 1960-х годов наметилась отчетливая тенденция к усложнению, дифференциации базовой социальной матрицы. Часть советских социологов (М. Руткевич, Ф. Филиппов, О. Шкаратан, Т. Заславская, Ю. Аратюнян, В. Усенин и др.) начинает писать о «социальной неоднородности» классовой структуры, выделять внутри классов «социальные группы» и пограничные слои (рабочих-интеллигентов, рабочих-крестьян и др.); появляются исследования социальной мобильности (Голенкова, Игитханян 2008, Радаев, Шкаратан 1995: 183–190). И хотя авторы этих работ строго придерживались исходной формулы базовой классификации (так называемой «трехчленки») и всячески демонстрировали лояльность официальной доктрине, их выводы породили целую волну дискуссий и лавину критики, обрушившейся со стороны коллег по цеху и партийных идеологов. Вероятно, причину столь острой реакции следует усматривать не только в том, что подобные исследования очевидно противоречили текущим партийным установкам (о классовой однородности советского общества, о руководящей роли рабочего класса, о возможности бесклассового общественного устройства), но и в том потенциальном ущербе, который мог быть нанесен самим основаниям официальной классификации через размытие ее четких границ, «стирание классовых граней» (так, интеллигенция практически растворялась в двух основных классах) и дробление монолитных классов на множество мелких подгрупп / социальных слоев. Появление новых элементов в социальной структуре лишало модель общественного устройства ее прежней ясности и логической непротиворечивости. Разобрав общество на слои, исследователи принимались переставлять созданные ими кусочки социальной мозаики с целью найти для них более подходящее место внутри классовой матрицы (одни включали техническую интеллигенцию в состав рабочего класса, другие нет, третьи ставили под вопрос правомерность отнесения к рабочему классу сельских рабочих или служащих государственных предприятий и т. д.[272]). Однако в советском обществе, где правом производства господствующих номинаций обладало государство, а роль интеллектуалов определялась задачами легитимации режима[273], подобные исследования несли в себе потенциал «осквернения» основ официальной классификации и требовали оправдания своего существования (например, практическими нуждами «социального планирования» и решением конкретных социальных проблем).
Впрочем, после падения режима некоторым из группы «опальных» социологов удалось восполнить свой символический капитал, поставленный под угрозу в советский период их карьеры, — теперь они стали живыми классиками, авторами стратификационной концепции отечественного происхождения, утверждавшей свою преемственность с первыми попытками изучения социальных групп еще в советские годы. В поисках «реального социализма» авторы стратификационной теории отказались от использования марксистского понятия «класс» применительно к специфике советского общественного устройства, где в качестве главного критерия социальной стратификации выступали не отношения собственности, а ресурсы власти — «право контролировать и перераспределять финансовые и материальные средства, рабочую силу и информацию» (Радаев, Шкаратан 1995: 200). Место главной стратификационной единицы было занято понятием «социальный слой». Термин «класс» если и появлялся на страницах их работ, то уже в другом значении — как синоним социального слоя, независимо от того, шла ли речь об изучении советского общества или современного (Заславская 1999, Шкаратан 2000, Радаев, Шкаратан 1995, гл. 11).
По мере вытеснения марксизма на периферию социальных наук отечественные социологи начинали открывать для себя новые методы, подходы и концептуальные аппараты, адаптируя импортированные инструменты анализа к изучению современных российских реалий. В то же время в области исследований социальной структуры, как в советское время (что вполне объяснимо), так и до сих пор (что уже менее очевидно), доминирующая роль отводится количественной социологии с ее вниманием к статистике, традиционным опросам общественного мнения и построением объективных формализуемых моделей.
Что касается собственно этнографических методов и их применения в изучении проблем социального неравенства, плодотворным представляется подход Бурдье и его понимание класса. Отталкиваясь от критики марксистского толкования классов как реальных групп, Бурдье в то же время отвергает другую крайность — взгляд на социальную дифференциацию с позиций чистого номинализма (радикального конструктивизма), сводящего социальные различия к чистой фикции, «теоретическим артефактам» (Бурдье 1993: 59–60). Классы не существуют как реальные группы, но тем не менее их природа носит объективный характер и базируется на структуре пространства отношений. Сами агенты в своих ежедневных практиках и повседневных заботах постоянно воспроизводят социальные различия и иерархии, порождают и поддерживают классификации, утверждают свою социальную идентичность, исходя из смутно ощущаемого и трудно вербализируемого «чувства позиции», занимаемой в пространстве («чувство того, что можно и что нельзя „себе позволить“») (Бурдье 1993: 65). Такими различительными признаками обладает большинство будничных практик и суждений, вовлеченных в поле символического производства и борьбы за навязывание своего понимания здравого смысла и «естественных» установок; сюда попадают: выражение осуждения или неприязни (нечто кажется нам вульгарным, претенциозным, брутальным и проч.), способы ухаживания, внешней самопрезентации, привычка проводить свободное время, музыкальные или спортивные предпочтения, политические мнения, манера их выражения и т. д. Эти различия, проявляющиеся как бы спонтанно, как нечто само собой разумеющееся (если только они не задуманы как средство намеренно подчеркнуть свою обособленность и исключительность), выражаются посредством суждений вкуса и соответствующих практик культурного потребления, функционирующих в ансамбле стилей жизни. Вкус, определяемый Бурдье как «система классифицирующих схем», как «склонность и способность данного класса к присвоению (материальному и (или) символическому) классифицированных и классифицирующих объектов», становится «порождающей формулой», лежащей в основе стиля жизни (Бурдье 2005: 26–30).
Сама идея о том, что вкус и практики культурного потребления лежат в основании социальных различий (точнее, порождают их, будучи в то же время продуктом усвоения деления на социальные классы), позволяла отойти от механистического понимания классов как производной от уровня дохода или места в отношениях собственности. Однако до сих пор остается открытым вопрос, насколько универсальным является представленный Бурдье и его соавторами механизм соотнесения вкусовых предпочтений и социальной дифференциации (Волков, Хархордин 2008: 159). Например, исследования практик культурного потребления на американском материале (Bryson 1996, Erickson 1996, Peterson & Kern 1996 in: Lamont a Molnar 2002: 173–174) показали, что широкий культурный кругозор и приятие «чужой» культуры представляют довольно ценный ресурс среди высшего и высшей части среднего класса (upper and upper-middle class). Эти результаты противоречат тезису Бурдье об исключительности доминирующего слоя и его нетерпимости к культурам других классов. В итоге изначальная картина выглядит более усложненной — исследователи настаивают на многообразии измерений в понимании культурного капитала, не сводимого к логике бинарных оппозиций, которые использует Бурдье для описания социальных суждений вкуса.
В то же время наша область применения идей Бурдье ограничивается преимущественно обращением к специфике ритуализованного поведения, когда именно двоичные оппозиции, избавляющие от двусмысленности и неправильного прочтения сообщений, оказываются наиболее востребованными (и в этом смысле сама логика бинарных оппозиций становится стратегией ритуала); тогда как в «естественных» (здесь — более спонтанных и менее сознательно организованных) ситуациях могут быть задействованы другие, более сложные и многомерные схемы и принципы конструирования границ. Другими словами, следует различать ритуальное поведение от неритуального.
Кэтрин Белл в своей работе, посвященной концептуальному переосмыслению ритуала с точки зрения теории практик (с опорой преимущественно на изыскания П. Бурдье), пишет о том, что результатом действия ритуала является производство «ритуализованного тела», наделенного особым ритуальным «чувством», которое представлено в виде имплицитного разнообразия схем и оппозиций. Вписанные в социальное тело и свободно согласованные между собой наборы оппозиций позволяют производить такие стратегические схемы, которые в дальнейшем будут господствовать в других социокультурных ситуациях или предопределять их. Производство «ритуализованного тела» подчиняется круговой логике: с одной стороны, через организацию пространства и времени оно конструирует ритуальную среду в соответствии со схемами привилегированных оппозиций, а с другой — является продуктом этой среды через усвоение ее принципов (Bell 1992: 94–117). Использование этой идеи позволяет нам рассматривать семинары и «мечты» (как особый способ создания образов будущего) в качестве ритуализованной практики, в ходе которой происходит формирование «ритуализованного тела» через организацию соответствующей среды и усвоение лежащих в ее основании схем.
То, что в «Амвэй» принято обозначать широким понятием «работа над мечтой», подразумевает некое абстрактное, умозрительное освоение новой потребительской культуры с ее взаимосвязями символов, значений, образов, дискурсивных форм, организованных вокруг представления о «великолепном» стиле жизни, доступ к которому открывается только для тех, кто достигает вершин сетевого бизнеса. В этих «мечтах», наполненных яркими образами предвосхищаемого счастья, воображаемое будущее утверждается через противопоставление себя настоящему, реальной практике потребления, на фоне которой изысканная роскошь дорогих интерьеров или экзотические ландшафты «лучших курортов мира» становятся еще «роскошнее» и «экзотичнее», тогда как реальный (настоящий, практикуемый) образ жизни с его недоделанными ремонтами в старых квартирах, отдыхом на загородных дачах и непогашенными кредитами стремительно теряет свое очарование, подвергается переоценке («жизнь в нищете») и символическому отречению в пользу (пока) недоступного, но невероятно привлекательного будущего. Одновременно с освоением языка «мечты» и его грамматики потребления новичок учится ориентироваться в той системе координат, которая будет помогать ему оценивать личный уровень достижений и измерять степень близости/дальности относительно реализации «мечты» о новой жизни на фоне стандартизированной системы уровней достижений[274], маркирующей статус продавца в сообществе.
Уровни достижений, отмечающие местонахождение продавца на «шкале успеха», выступают в качестве своеобразной матрицы, отвечающей за формирование упорядоченного, иерархизированного пространства социальных отношений между участниками сети. Это пространство материализуется, обретает свои зримые формы, разыгрывается самими участниками в ходе организации регулярных встреч — семинаров, объединяющих до нескольких тысяч дистрибьюторов с самым разным опытом работы в сетевом маркетинге. Организация физического пространства семинара предусматривает четкую сегментацию участников по критерию их принадлежности к определенной ступени статусной иерархии. Пересечение значимых рубежей на «лестнице успеха» подразумевает переход в новую социальную группу, члены которой осознают свое единство через противопоставление и проведение границ по отношению к тем, кто находится на соседних ступенях иерархии. Пространство семинара устроено таким образом, что делает эти границы предельно очевидными и осмысленными, побуждая тем самым представителей высших уровней иерархии («лидеров») демонстрировать свою избранность, ассоциированную с принадлежностью к высшим классам; тогда как рядовые участники семинара из постоянного наблюдения за поведением своих лидеров, за их манерой держать себя, из услышанных со сцены историй успеха получают знание о том, как должен вести себя представитель высшего класса, к которому каждый из них мечтает принадлежать в обозримом будущем.
Мой основной тезис состоит в том, что посредством конструирования определенной ритуализованной среды (физического пространства семинаров или воображаемого пространства будущего) и сопутствующего воспроизводства социальных классификаций и оппозиций участники сетевых продаж осваивают тот тип предпочтений, который Бурдье назвал «вкусом к роскоши (свободе)», противопоставив его «вкусу от нужды» (Бурдье 2005: 32). И если обычно вкус — эта «нужда, ставшая добродетелью» — в той или иной степени соответствует характеристикам социального и экономического положения индивида, то в нашем случае формирование вкуса с присущими ему культурными знаниями и потребительскими привычками опережает обладание (или предшествует обладанию) ресурсами (позицией в социальном пространстве, объему капитала), которые позволяют вкусовым предпочтениям реализоваться, т. е. быть воспроизведенными в конкретной практике потребления. Подобная структура (вкус, не соизмеримый с ресурсами) сохраняется и активно поддерживается на протяжении всей карьеры дистрибьютора, выступая в качестве постоянного стимула карьерного роста. Обратная ситуация (удовлетворение потребностей вкуса) табуируется в коллективных страхах по поводу «комфортной зоны», когда постоянное напряжение между желанием (мечтой) и возможностью ее реализации ослабевает либо сходит на нет. И если в привычных ситуациях (хотя далеко не во всех) стиль жизни начинает играть все большую роль и становится осмысленным по мере восхождения вверх по ступеням социальной иерархии, то в сетевом маркетинге ставка изначально делается на мотивацию к изменению своего социального и экономического положения посредством принудительной силы потребностей вкуса, удовлетворение которых зависит от достижения позиций в иерархии. Перефразируя высказывание Бурдье «вкус — это то, благодаря чему мы имеем то, что любим, потому что любим то, что имеем» (Бурдье 2005: 30), дистрибьюторы «Амвэй» не имеют того, что любят, потому что любят не то, что имеют. Этот пример позволяет нам еще раз оценить силу действия вкуса (подобную силам гравитации в философской системе Локка: полюсам «счастья» и «несчастья», между которыми вечно дрейфует человек), что в нашем случае выражается в стремлении привести в соответствие вкусовые предпочтения и наличные ресурсы, позволяющие реализовать их на практике.
Для начала мы рассмотрим, каким образом устроены дистрибьюторские сети и как функционирует сетевой механизм, а затем перейдем к анализу ключевых понятий и практик, ответственных за формирование представлений о счастье и его пространственной локализации в среде дистрибьюторов.
Сеть
Главное отличие сетевого маркетинга от привычной розничной торговли заключается в способе распространения продукции. В сетевой коммерции товар движется от производителя к потребителю в обход традиционных торговых точек (магазинов, рынков и т. д.) через сеть распространителей (дистрибьюторов), которые сами ищут потенциальных клиентов, демонстрируют им товар и, в случае благоприятного исхода коммуникации, продают его клиенту. Но основной задачей дистрибьютора компании являются не столько личные прямые продажи, то есть непосредственная торговля товаром «из рук в руки», сколько рекрутирование, «подключение» новых агентов сбыта к разветвленной сети распространителей. Экономические преимущества «вербовочной» стратегии объясняются просто: в отличие от кратковременной, разовой прибыли, которую дают прямые продажи (за счет разницы оптовой и розничной цен на продукцию), сеть гарантирует «долгосрочный» и «неограниченный» доход, так как прибыль начисляется в виде комиссионного вознаграждения от товарооборота всей созданной дистрибьютором сети. Любые усилия «одиночки» оказываются заведомо менее эффективными по сравнению с возможностями, которые сулит «пчелиный рой» сбытовых агентов, разрастающийся по законам геометрической прогрессии (По 2001).
Чтобы понять, как устроена сеть, представим себе, что некто А (рис. 1) подписывает договор с сетевой компанией и становится ее дистрибьютором. Далее А убеждает двух своих знакомых (В1 и В2) подписать договор и тем самым стать его партнерами. Те, в свою очередь, рекрутируют новых продавцов и т. д. Сбытовой агент А будет получать прибыль в виде процента от товарооборота, произведенного созданной им сетью дистрибьюторов, т. е. своего даунлайна (здесь — совокупностью всех продавцов, «подписанных под» А). Аплайн (от англ. upline — верхняя линяя) состоит из «спонсоров», т. е. людей, пригласивших дистрибьютора в компанию (в нашем примере А будет выступать непосредственным спонсором для всех своих В, составляющих его первое «поколение» или «фронт»; В1 будет приходиться спонсором для С1 и т. д.).
Изобретение сетевого маркетинга обычно приписывают коммерсанту из США Карлу Ренборгу. В 1930-х годах он основал компанию «Нутрилайт», занимавшуюся распространением пищевых добавок методами прямых продаж (довольно известной к тому времени технологии сбыта), а в 1945-м разработал новый «план вознаграждения», согласно которому дистрибьюторы могли рассчитывать на «многоярусные комиссионные» в виде небольшого процента от продаж рекрутированных ими в сеть продавцов (По 2001:41). Подобное новшество, положившее начало индустрии сетевого маркетинга, должно было стимулировать продавцов к формированию собственных сбытовых организаций. В эти же годы будущие основатели компании «Амвэй», два предприимчивых друга из Мичигана Рич ДеВос и Джей ван Андел, после серии не слишком удачных попыток наладить собственное дело познакомились с бизнесом «Нутрилайт» и стали дистрибьюторами компании. Как гласит официальная история «Амвэй», на этом поприще их ожидал невероятный успех. Заплатив несколько десятков долларов за пару упаковок с пищевыми добавками, друзья в течение года создали собственную сбытовую организацию, объем продаж которой достигал 85 тыс. долл. (Ван Андел 2007: 66). Но из-за внутренних распрей, вспыхнувших среди руководства компании и значительно ослабивших энтузиазм ее работников, ДеВос и Ван Андел решили оставить «Нутрилайт» и в 1959 году основали собственную компанию — «Амвэй», перенявшую основные принципы организации многоуровневой модели сбыта от своего предшественника. Постепенно большая часть активных дистрибьюторов «Нутрилайт» покинула компанию, пополнив ряды «Амвэй», руководство которой обещало им более совершенные методы работы и, что немаловажно, иной ассортимент продукции, потребность в котором стала ощущаться после серии судебных разбирательств с «Нутрилайт», завершившихся наложением существенных ограничений на способы презентации товара (дистрибьюторы больше не имели права сообщать о лечебных свойствах пищевых добавок, что моментально сказалось на уровне их продаж) (Ван Андел 2007: 73–75). Руководители «Амвэй», учитывая все трудности с распространением витаминов, изначально делали ставку на товар, который будет «легко продаваться», и в итоге остановились на моющих средствах (первое «революционное» средство для уборки, не содержащее фосфатов, было запатентовано в год основания компании) и декоративной косметике. В 1970-х годах «Амвэй» покупает компанию «Нутрилайт», расширяя свой ассортимент продукции за счет пищевых добавок. Сегодня «Амвэй» реализует свыше 450 наименований товаров собственного производства (моющие средства, косметику и пищевые добавки) и 6500 товаров других фирм (бытовую технику, продукты питания, автомобили, средства связи и др.).
С 1960-х годов дистрибьюторские сети «Амвэй» пересекают границы США и попадают на рынки других стран (Канады, Европы, Австралии). Особенно удачными для компании оказываются 1990-е годы, когда объемы продаж резко возрастают за счет открытия множества новых рынков сбыта в странах Азии, Южной Америки и Восточной Европы. В 2005 году открывается официальный рынок «Амвэй» в России, хотя еще задолго до этого события дистрибьюторские «ветки» из Венгрии, Польши, Австралии, США и других стран проникают на территорию РФ, оставляя после себя молодую поросль российских продавцов, действовавших на свой страх и риск в ожидании официальной регистрации компании в России. По статистике, на начало 2008 года в России насчитывалось около 700 тыс. распространителей (Amagram 2008: 7). В целом российский рынок «Амвэй» оказался одним из наиболее перспективных и многообещающих: страна занимает пятое место по объемам продаж после Китая, Японии, США и Кореи (данные на ноябрь 2009 года).
Принципы организации дистрибьюторских сетей, разраставшихся за счет территориальной экспансии и расширения собственной географии, становятся более наглядными при сопоставлении их с метафорическими «машинами войны», представленными в работе Жиля Делеза и Феликса Гваттари. В своем проекте структуралистской критики авторы акцентируют внимание на бесструктурных, неиерархичных свойствах социальных форм, «внешняя» природа которых полемически противопоставляется структурам власти и контроля упорядоченного Государства (Deleuze, Guattari 1987). Дистрибьюторские сети демонстрируют нам пример того социального образования, в котором отсутствует единый управляющий центр, а власть более или менее равномерно диффузно распределяется между всеми участниками сети; во всяком случае, каждый из дистрибьюторов находится одновременно на пересечении двух властных позиций: субъекта влияния (по отношению к своей нижней линии, даунлайну) и объекта воздействия (со стороны вышестоящих спонсоров, аплайна). Но в отличие от иерархически организованных структур, где статус индивида определяется его местонахождением в цепочке вертикальных связей, в пространстве децентрализованных сетей принцип вертикального соподчинения участников не является абсолютным. Сетевая топография, организованная по принципу очереди, где участники выстраиваются друг за другом в порядке случайной, временной последовательности (В оказывается «подписан» под А только потому, что А первый узнал о компании, а уже затем пригласил В), предполагает множественные возможности для вступающих в эти цепочки отношений. В отличие от той же очереди, где возможности каждого ограничены занимаемой позицией, а от самих участников мало что зависит (любой из них достигает своей цели только после того, как это сделают те, кто заняли свое место в очереди раньше), в сетевой организации партнер, «подписанный» под своим спонсором, впоследствии может получить гораздо более высокий статус, опережая любого из «вышестоящих» членов сети по темпам развития своего бизнеса, по уровню получаемого дохода и, наконец, по званию в принятой иерархии. Например, спонсором Бриллианта может оказаться дистрибьютор, чей «уровень достижений» не поднялся выше 3 % или 6 %, т. е. начальных позиций в иерархии. И чем больше величина такого разрыва, тем стремительнее спонсор лишается авторитета в глазах своего более успешного партнера, а заодно и роли наставника, которая переходит к вышестоящему, более титулованному спонсору.
Подобно ризоме (корневищу без единого центра), дистрибьюторские сети разрастаются за счет своих боковых элементов, в совокупности образующих неструктурированное, лишенное единого стержня множество ветвящихся отростков (Deleuze, Guattari 1987: 11–26). Система начисления прибыли в сетевом маркетинге является той невидимой «рукой рынка», которая обеспечивает постоянный баланс «ширины» и «глубины» сети, побуждая продавцов непрерывно расширять свою торговую организацию через создание дополнительных, «боковых», ветвей (или «ног»), тогда как стратегия, направленная только на «углубление» сбыта, оказывается экономически неэффективной — сеть, состоящая из одной, даже очень длинной, ветки, не принесет дохода ее создателю, так как вся прибыль, как говорят в этом случае, будет «уходить в глубину» (т. е. достанется нижестоящим продавцам). Как и ризома, сеть может быть разорвана на любом своем участке и возобновиться на той же линии роста. Для сетевого маркетинга постоянная «текучка кадров» является вполне обычным явлением. Если дистрибьютор выходит из игры, это означает только то, что сеть лишается одного звена, а образовавшаяся лакуна срастается за счет соединения двух ближайших звеньев цепи. Конечно, механическое устранение разрыва еще не гарантирует того, что вышестоящий спонсор, чей партнер покидает поле, сможет преодолеть моральные последствия от выбывания участника, уход которого может подорвать «боевой дух» созданной им торговой организации. Но подобные ситуации встречаются довольно редко; чаще всего из сетевого маркетинга уходят либо те дистрибьюторы, кому не удалось построить собственных сетей, либо те, чья «команда» представляет собой немногочисленное и неустойчивое образование без ярко выраженных лидеров, приверженных сетевому предпринимательству. Как правило, последствия от выбывания такого рода игроков удается преодолеть без существенных потерь.
Сеть как механизм, построенный на рациональных основаниях экономической выгоды, имеет единственный смысл своего существования — она должна непрерывно расширяться. Принципы освоения пространства, территориальной экспансии сетей напоминают логику продвижения «машин войны», бесцельно перемещающихся в «открытом», «гладком» (smooth) пространстве, лишенном привычных ориентиров в виде дорог, пунктов отправления и назначения, т. е. всех тех знаковых средств, которые отвечают за семантизацию пространства (Deleuze, Guattari 1987: 351–424). В нашем случае любой локус, в который попадает очередной отросток сети (в зависимости от избранного масштаба детализации таким локусом может быть страна, населенный пункт, район, отдельная квартира или комната), имеет характер «связки», промежуточного звена или «плацдарма», значение которого определяется с позиции борьбы за дальнейший «захват» территории. Государственные границы, неизбежно возникающие на пути продвижения сетей, становятся либо трудно преодолимым барьером, подобным хорошо укрепленным фортификационным сооружениям противника (например, если в стране нет официального представительства компании или действующее законодательство страны накладывает серьезные ограничения на работу сетевых продавцов, как это произошло в Китае), либо почти незаметным препятствием, вроде речки, которую необходимо переплыть, чтобы попасть на противоположный берег (скажем, необходимость соблюдать визовый режим, учитывать бюрократические тонкости или культурный контекст соседней страны). Довольно сложно спрогнозировать, в каком направлении будет расширяться сеть, так как этот процесс происходит во многом под влиянием случайных, слабо поддающихся сознательному контролю и предсказанию факторов. Отросток сети может неожиданно попасть из Москвы в Тулу и пустить там глубокие корни только потому, что кто-то в этот момент приехал в Тулу в командировку, встретился там со своим старым приятелем и, «прочитав» тощ маркетинг-план, обрел в его лице надежного партнера-дистрибьютора. И наоборот, тщательно спланированная поездка в другой город или визит к лучшему другу с целью рекрутирования могут оказаться совершенно провальными. Сетевые эксперты советуют дистрибьюторам всегда учитывать этот фактор случайности, неизбежный в процессе поиска и рекрутирования продавцов. Нарративный репертуар рядовых дистрибьюторов изобилует поучительными рассказами о том, насколько часто их партнерами становились люди, от которых они ожидали этого менее всего, в то время как «прирожденные лидеры», обладавшие всеми задатками для того, чтобы стать успешными продавцами, или родные и близкие, на поддержку которых особенно рассчитывал рассказчик, увы, не оправдали возложенных на них надежд и всячески уклонялись от предложений о сотрудничестве.
Вместе с тем, как мы увидим далее, пространство социальных отношений, скрепляющее участников сетевой торговли в рамках отдельного сообщества, устроено на совершенно иных началах, имеющих мало общего с логикой функционирования децентрализованных сетей. Внутренняя иерархия, в основе которой лежат количественные показатели величины товарооборота, выступает основным элементом, упорядочивающим взаимоотношения участников внутри огромного транслокального сообщества продавцов. Усилия «обучающих систем» компании во многом затрачиваются не только на сам процесс обучения (если под ним подразумевать передачу новых знаний и навыков), но и на создание таких условий, которые бы давали возможность поддерживать представления об особом значении рангов и статусов, которые теряют всякий смысл, как только они перемещаются в иной контекст, выходящий за пределы группы сетевых предпринимателей. Быть Бриллиантом почетно в окружении коллег, но это звание вряд ли принесет дополнительный символический капитал его обладателю среди тех, кто не является дистрибьютором «Амвэй».
Участие в столь масштабном коллективном ритуале, как семинар, позволяет продавцу, кроме всего прочего, ощущать себя частью огромного сообщества, значительно превосходящего тот узкий круг лиц, с которым он вступает в непосредственное взаимодействие в ходе повседневной практики. Образ этого сообщества формируется одновременно с вовлечением продавца в серию социализирующих мероприятий, подразумевающих помимо регулярного посещения семинаров участие в еженедельных встречах, чтение обучающей литературы и корпоративной периодики, прослушивание аудиозаписей с избранными выступлениями лидеров. В результате полученная картина оказывается несколько упрощенной, но вместе с тем вполне систематичной и имеющей мало общего с теми бесструктурными социальными моделями (типа ризомы), которые хорошо подходят для анализа сетевого устройства с позиции внешнего наблюдателя, но оказываются не совсем уместными при обращении к точке зрения «туземца», склонного наделять «гладкое» пространство значением и видеть структуру там, где ее может не быть. Для продавца сеть предстает не в образе ризомы (бесструктурного множества, состоящего из беспорядочно ветвящихся отростков), а, скорее, в виде противоположного по типу образования — генеалогической древовидной структуры, уходящей своими корнями к отцам-основателям группы и включающей в себя всех тех, о ком дистрибьютор когда-либо слышал, видел выступающим на сцене или с кем имел дело в повседневной практике. «Генеалогия» в данном случае помогает дистрибьютору не «потеряться», обозначить собственное местоположение в пространстве сети (что подразумевает знание не только своего непосредственного спонсора, но и его предшественников — спонсоров спонсора, многие из которых могут проживать в других городах или странах). Выстраивание подобных связей, тождественных генеалогическим цепочкам, неизменно упрощает реальную картину устройства сетей, но в то же время позволяет упорядочить бессистемное множество составляющих ее агентов. При этом руководящим принципом в отборе значимых персонажей, достойных быть увиденными и услышанными другими участниками сети, выступают каноны внутренней иерархии; эти каноны способствуют тому, чтобы запоминать и узнавать только тех, кто имеет высшие титулы, и с легкостью забывать имена и лица тех, кто сильно уступает в этом. В отношении своего ближайшего окружения это правило трансформируется в стремление признавать авторитет только тех спонсоров, которые имеют более высокий статус: так, если расхождение в статусах спонсора и его партнера начинает возрастать не в пользу первого, такой спонсор лишается авторитета в глазах своего партнера вместе с возможностью влиять на него (обучать, наставлять, давать советы) — и это право негласно переходит к следующему по «старшинству» спонсору, чей уровень достижений должен превосходить уровень партнера или быть равным ему.
Мечта
В том мире идей и ценностей, который несет с собой «Амвэй», центральное место отведено фигуре предпринимателя, «владельцу бизнеса»[275]. В 1960-х годах, в период своего расцвета на родине, в США, сетевой маркетинг утверждался в качестве альтернативной формы капитализма, отвоевывая свое право на существование через критику традиционной корпоративно-бюрократической модели экономики с ее низким уровнем жизни рабочих, несправедливыми нормами распределения собственности, невниманием к человеку и окружающей среде (Wilson 1999: 405). Идеология альтернативного или «сострадательного» капитализма с ее риторикой спасения и самопомощи (self-help) базировалась на идеях обновления капитализма, возрождения «настоящего духа свободного предпринимательства» как неотъемлемой составляющей национальной самобытности США. Учредители «Амвэй» видели в своем детище «символ Американской мечты в ее чистейшей и наиболее вдохновляющей форме», оплот традиционных американских ценностей и идеалов нации (Ван Андел 2007: 1). Характерно, что любое открытие и закрытие семинара «Амвэй» сопровождалось коллективным исполнением песни «God Bless America» перед развевающимся на гигантском видеоэкране флагом США (По 2001: 80). Неслучайно и название компании — аббревиатура Amway расшифровывается как American Way, американский путь, отсылая нас к вполне определенным и хорошо узнаваемым дискурсам эпохи капитализма (организованным по модели «сделай себя сам»), культурным сценариям и идиомам счастья, транслируемым компанией из недр американского континента в самые разнообразные географические зоны и культурные контексты.
Исторически идея предпринимательства оказалась тесно связанной с той формой вкусовых предпочтений, которую Бурдье назвал «вкусом к роскоши (свободе)», ориентированным на «дистанцию от сферы необходимости» в противовес «вкусу от нужды» с его приспособлением к более ограниченным ресурсам и материальным условиям существования (Бурдье 2005: 32). Понятие свободы как воплощения финансовой независимости, позволяющей реализовать любые мечты, занимает почетное место в арсенале провозглашенных компанией ценностей наряду с семьей и путешествиями. Мечта (или цель) — это всепоглощающее желание обладать чем-то, не считаясь с материальными возможностями и любыми другими ограничениями, — становится краеугольным камнем философии сетевого предпринимательства, соединяя категории мечты и свободы в единое целое. Мечта — это то, с чего начинается карьера дистрибьютора, ее отправная точка; свобода, финансовая независимость — это результат, к которому приходят далеко не все, а только самые настойчивые и целеустремленные, уверенно шагающие к вершинам социальной иерархии.
Но мечта — это не просто отвлеченная категория, которой можно пренебречь на практике; напротив, она становится активным организующим началом в формировании тех потребностей и нужд, которые лежат в основе вкусовых предпочтений дистрибьютора. Мечта мотивирует человека на будущий успех, она как «бензин, который вы заливаете, чтобы двигаться» или «путеводная звезда на небесах, зовущая за собой». Многие продавцы объясняют свои неудачи/простои в бизнесе именно тем, что они так и не смогли определиться со своей мечтой (целью)[276]. Выступающие на семинарах лидеры постоянно повторяют со сцены, насколько важно «учиться мечтать», «ставить правильные цели и высокие планки», «не бояться мечтать», а это значит, что мечты должны выходить за рамки тех предрасположенностей, которые накладывают на человека его прежняя среда, воспитание, усвоенные с детства привычки, материальное положение, т. е. все то, что формирует сферу вкуса. «Мечты — это причина того, что независимые предприниматели воспользовались этой возможностью и превзошли даже собственные ожидания (курсив мой. — Д.Т.)» (101 мечта). Многие представители старшего поколения (в возрасте 40–60 лет) признаются в том, что они совсем «не умели мечтать», списывая это на особенности советского образа жизни и присущую ему идеологию потребления: «Я не умела ставить цели, я не умела мечтать, я ничего не умела. Потому что как было раньше? По доходам — расходы. Правильно? И все. Это другое поколение совсем» (Ж, 66 лет, Изумруд-основатель). В то же время среди молодежи эта проблема встречается реже, вплоть до того, что некоторые (правда, ретроспективно) осмысляют свою жизнь как протекающую в двух параллельных плоскостях — реальности и возможности:
…До этого бизнеса я всегда мужу говорила, что «Кость, вот ты понимаешь, у меня такое ощущение, что мы как-то параллельно идем в своей жизни и живем не так». То есть вот рядом постоянно в моей голове была другая машина, была другая квартира, другая обстановка, другая одежда, там, какие-то украшения, да, еще что-то, да. То есть какой-то стиль жизни… путешествия. Параллельно что-то шло такое, что я по-другому могу жить. Вот. Он мне говорит: «Ну, в Талаги (имеется в виду психиатрическая больница. — Д.Т.) надо тебе лечиться» (смеется), что «все это ерунда, что ты выдумываешь». Вот. Я говорю, что я не создана для той системы, где мы с тобой работаем. <…> Если раньше это было — желания эти, еще что-то, — и они давились внутри, куда-то глубоко засаживались, и не позволялось думать об этом, вот да, то сейчас это просто получило выход, потому что есть возможность такая это сделать (Ж, 30 лет, Платина-основатель).
По нашим наблюдениям, в сетевой маркетинг чаще всего рекрутируются люди из той социальной среды, которую условно можно обозначить как низшие и средние социальные слои. Приблизительный спектр: студенты, рабочие, продавцы, работники образования (воспитатели детских садов, учителя, преподаватели), мелкие чиновники и служащие, врачи средней квалификации, менеджеры и офисные работники, мелкие предприниматели, военные, пенсионеры и др. Что касается возрастных характеристик, среди сетевых предпринимателей с уверенностью преобладают люди старшего возраста (от 40 до 60 лет), хотя в последние несколько лет наметилась тенденция к увеличению доли молодежи (притом что молодые люди чаще всего покидают сферу сетевых продаж на ранних этапах карьеры). Большинство рекрутированных продавцов, особенно старшее поколение, имеют весьма приблизительное представление о том, что именно скрывается за понятиями «финансовой независимости» и «свободы», в то время как огромные усилия «обучающих систем» «Амвэй» затрачиваются именно на то, чтобы конкретизировать, обжить, наполнить содержанием непривычные понятия, соотнести их с определенными образцами и фантазиями о «достойном» будущем. Существенно, что освоение новой потребительской культуры происходит преимущественно за счет усвоения образов, визуализированных отпечатков тех воображаемых потребительских привычек и предпочтений, которые еще не успели реализоваться на практике, но уже стали неотъемлемой частью самовосприятия продавца[277]. Помимо семинаров, в ходе которых новый стиль потребления предстает в эффектном обрамлении тщательно срежиссированных выступлений, повседневная часть «работы над мечтой» предполагает несколько иные формы вовлеченности — например, создание собственной коллекции образов будущего — «альбомов мечты».
Практически каждый активный дистрибьютор ведет так называемый альбом мечты (иногда его называют журналом успеха или картой сокровищ). В такие альбомы, изготовленные, как правило, из обычных детских альбомов для рисования, продавцы записывают все свои текущие желания (мечты), сопровождая их красочными вырезками из глянцевых журналов и наклеивая свои собственные фотографии на фоне дорогих интерьеров, вещей или пейзажей с видами океанов и вечнозеленых пальм (т. н. техники визуализации мечты). В этом случае глянцевые журналы выступают в роли своеобразных «словарей потребления», из элементов которых автор альбома собирает свой собственный проект будущего (рис. 2).
2. Альбом мечты. Фото автора.
«Сетевые» эксперты постоянно артикулируют важность «работы над мечтой», которая воспринимается в качестве главного «секрета успеха» (см. популярный среди адептов МЛМ фильм «Секрет»), ведь «успех на 99 % зависит от мечты». По выражению одного из дистрибьюторов, «переход, он же в голове начинается. Не то что я становлюсь богатым и думаю как богатый человек, а наоборот — начинаю думать как богатый человек и богатею» (М, 22 года, 3 %).
Мечтать нужно «конкретно», т. е. стремиться максимально детализировать воображаемый образ будущего, наполнить его содержанием за счет тщательной прорисовки черт и обстоятельных подробностей (например, не стоит мечтать о машине вообще, нужно четко знать марку машины, ее цвет, оснащение салона и проч.). Подобное внимание к деталям позволяет дистрибьюторам расширить рамки привычных «словарей потребления», ввести в оборот новые эстетические формы, свежие образы и метафоры, не отягощенные прошлым (советским) опытом потребления или, напротив, одиозными клише и стереотипами из жизни «новых русских» (см. Ушакин 1999). Организуемые компанией поездки и путешествия (об этом речь пойдет ниже) выполняют ту же функцию обновления репертуара желаний. Одновременно с новыми образами и нарративами о будущем «Амвэй» предлагает своим дистрибьюторам «словарь, при помощи которого можно артикулировать неудовлетворенность», разочарование нынешним образом жизни, требующим активного преодоления (Wilson 1999: 416).
Несмотря на обилие деталей, потребительские запросы дистрибьюторов (а точнее, их воображаемые образцы) довольно устойчивы, повторяемы и в своем идеальном воплощении ориентированы на потребительские стандарты среднего и высшего класса на Западе. Титулованная семья американских предпринимателей, занимающая топовую позицию в сетевой иерархии, в своем наставлении ко всем тем, кто еще не «вспомнил», зачем он «строит этот бизнес», как бы невзначай предлагает читателю свой, образцовый, перечень желаний:
Мы надеемся, что эта книга вдохновит вас на мечты и поможет вспомнить, зачем вам нужно строить этот бизнес. Съездить с детьми в Диснейленд (и не один раз), посмотреть мир, порадоваться новой машине, яхте или самолету, построить прекрасный дом или купить домик для отдыха где-нибудь в горах, получить признание на семинаре и уважение друзей и родных, обеспечить родителям достойную старость или отправить подрастающее поколение в частную школу… о чем бы вы ни мечтали, запишите это (101 мечта).
В своей адаптированной к российскому контексту версии «американская мечта» чаще всего сводится к трем главным составляющим «достойного качества жизни»: квартира (дом), машина и путешествия. На первое место российские дистрибьюторы, как правило, помещают мечту о собственной квартире или частном доме, и в этом, пожалуй, можно усмотреть наследие еще советского потребительского канона (во всяком случае, можно утверждать наверняка, что желание изменить свои жилищные условия в той или иной степени одолевало почти всех наших информантов еще до того, как они начали дистрибьюторскую карьеру).
«Мечтайте смело», «ставьте планку высоко», «парите в своих мечтах» — призывают сетевые профессионалы. А это значит, что мечтать следует, например, не о «маленькой дачке в Подмосковье» (намек на советские потребительские запросы), но о собственном «доме с белыми башенками», затерявшемся высоко в горах; отдыхать не в Ленобласти по принципу «дешево и сердито» (с непременными атрибутами опять-таки советского туристического быта — «байдарка, тушенка, сгущенка, макароны»), но в пятизвездочных отелях Сардинии и Тенерифе. Отметим, что в отличие от дистрибьюторов-иностранцев, выступающих на уикенд-семинарах со своими историями успеха, российские лидеры часто прибегают не столько к риторическому противопоставлению, условно говоря, стиля жизни «бедных» и «богатых», сколько к апелляциям в сторону советского опыта и порожденных им потребительских привычек, усвоенных еще с детства (речь идет преимущественно о дистрибьюторах старшего поколения — именно они составляют костяк лидеров, практикующих выступления на семинарах). В этих рассказах «советское», артикулированное чаще не прямо, а посредством многочисленных намеков, цитаций, упоминаний, маркирует весь привычный образ жизни в целом, который обесценивается на фоне новой идеологии потребления. Переосмысление, переоценка ценностей преподносится как естественный, почти механический процесс, следующий сразу же за открытием горизонтов нового, неведомого до сих пор образа жизни (источником, открывающим эти горизонты, выступает, конечно, компания «Амвэй»), С этой точки зрения опыт «советского» потребления осмысляется и оправдывается только тем, что он был навязан извне — ближайшим окружением, идеологией, историей, инерцией привычки и т. д. — и до поры до времени не имел альтернатив:
А у меня весь отдых был по принципу «дешево и сердито», у меня отпуска, по сути, не было, поэтому мы отдыхали просто — байдарка, тушенка, сгущенка, макароны. Мы все это съедим, а там рыбки, глядишь, поймаем, пообедаем. (Смех в зале.) Ленобласть. Хорошо! Мне так нравилось. Я думал, как это классно! Вся одухотворенная интеллигенция так отдыхала! (Смех в зале.) Меня никто не звал на Сардинию, в Анталию, пять звезд. Даже мысли не было (Из истории успеха Изумруда, уикенд-семинар).
Новые мечты и желания становятся не только знаками принципиально иного образа жизни, контуры которого приобретают большую отчетливость, будучи противопоставлены «советским» потребительским шаблонам. Мечты выполняют и другую семиотическую функцию — функцию разметки того воображаемого пространства, по которому дистрибьютор движется к успеху: от мечты к мечте, от образа к образу, от уровня к уровню. Приобретая топографические характеристики, объекты желания становятся маркерами этого поступательного движения, его указателями, ориентирами и, будучи реализованными на практике, служат доказательствами «роста» и «развития» предпринимателя и его бизнеса. Помимо «долгосрочных» (или «глобальных») целей, реализация которых откладывается на момент достижения высших ступеней в сетевой иерархии, дистрибьюторы тщательно прописывают в своих альбомах «краткосрочные цели», задающие ориентиры движения на ближайшее будущее и более короткие промежутки перемещения по шкале успеха (например: купить холодильник с достижением уровня 15 %). Считается, что у желания, записанного на бумагу и датированного временем предполагаемого исполнения, практически нет шансов не исполниться — ведь был сделан соответствующий «запрос во Вселенную». При этом датируют чаще всего именно «мечты по бизнесу», т. е. планирование достижений новых рубежей в иерархии («Мы Бриллианты. 2010 год»; «Делаю сестру Платиной в 2012 году» и т. п.), тем самым приписывая им первостепенное значение как необходимому условию осуществления желания, как тому материальному ресурсу, благодаря которому желание получает возможность реализоваться, будь то приобретение новых вещей, поездка за границу или прибавление потомства. Однако, как показывают материалы интервью, эта связка (достиг значимого уровня — заработал деньги — исполнил желание) в большей степени имеет символический характер и поддерживается независимо от того, гарантирует ли достигнутый уровень необходимое финансовое вознаграждение или приходится изыскивать средства на покупку, скажем, нового холодильника из других источников (надеяться на заработную плату по месту основной работы, использовать банковские сбережения мужа или дожидаться в качестве подарка от коллег или близких)[278].
В практике сетевого предпринимательства особая значимость символических вех на пути продвижения к успеху становится хорошо заметной на фоне того парадокса, с которым периодически сталкиваются продавцы, чей уровень материального благополучия был относительно высоким на момент регистрации в компании (чаще это относится к «традиционным» предпринимателям, а также лицам, занимающим высокие административные посты или любые другие престижные, высокооплачиваемые должности). Несмотря на то что для них определенный уровень финансовой независимости является скорее нормой жизни, нежели предметом фантазий о будущем, они, сознательно или нет, стараются подстраиваться под общую концепцию компании: добросовестно вклеивают в альбомы мечты иллюстрации с разнообразными «безделушками», откладывая их покупку на будущее (хотя могут позволить себе приобрести эти вещи здесь и сейчас) — только для того, чтобы поддерживать видимость происходящих изменений:
Иногда просто, знаете, себя обманываешь, не знаешь чего… прилепить (в альбом мечты. — Д.Т.). Так вот. Вот часики вот купила. Купила часики… (Показывает на картинку с часами в альбоме мечты.) Вот, понимаете, что касается купить какую-нибудь безделушку, это я и без «Амвэя» могу. Вот там, и сапоги, и шубу. Этот доход тут… может даже никакой роли не сыграть (Ж, 47 лет, Серебряный).
Функционируя в качестве знаков счастья (успеха), желания (мечты) настолько прочно срастаются с уровнями достижений в принятой иерархии, что становятся взаимозаменяемыми и синонимичными понятиями (ср. запись в альбоме мечты: «Мы свободны, богаты, успешны. Мы Бриллианты!!!», где первая часть высказывания по смыслу равноценна второй). В альбомах мечты «цели по бизнесу» (достижение уровней) свободно переплетаются с обстоятельно прописанными подробностями воображаемого стиля жизни, сливаясь в единый текст желания:
Хочу иметь домработницу, пожилую и очень аккуратную; хочу машину; хочу квартиру на набережной; хочу съездить в Париж; хочу найти партнера номер один; хочу спать до 11 часов каждый день; хочу заниматься йогой три раза в неделю; хочу научиться рисовать; хочу иметь лошадь и собаку лабрадор; хочу быть 21 %, Серебряным в мае 2007 года; хочу иметь уровень 18 % в январе 2007 года; …хочу иметь шубу норковую; хочу кормить белку с руки в красивом парке… (Ж, 47 лет, Серебряный).
Из этого слияния двух иерархически организованных систем — репертуара желаний и уровней достижений — рождается упорядоченная сеть означающих, задействованных в формировании пространства жизненных стилей. Это пространство неоднородно, оно основано на противопоставлении двух качественно различных состояний: того стиля жизни, который подразумевает высокую степень зависимости от материальных условий существования («вкус необходимости», в терминологии Бурдье), и той жизненной стратегии, которую настойчиво пропагандирует компания («вкус к роскоши»). «Лестница успеха» упорядочивает (картографирует) это пространство жизненных стилей, задает видимые границы перемещения и отмечает значимые рубежи с помощью специальных знаков-индикаторов — уровней достижения. Передвижение по шкале успеха (заметим, что двигаться можно только вверх — приобретенные звания не отнимаются, поэтому понижение по статусу, движение вспять оказывается принципиально невозможным) репрезентируется как последовательный, поступательный процесс приближения к той заветной точке, которая символизирует переход к качественно иному стилю потребления (не воображаемому, но реализованному на практике). И этим рубежом становится уровень Бриллианта.
Принято считать, что переломным моментом карьеры дистрибьютора, ее апофеозом становится достижение именно этого уровня. В иерархии дистрибьюторских целей уровень Бриллианта приобретает значение «последнего рубежа», с которым связывается реализация самых «смелых» и «заветных» желаний, другими словами, долгосрочных целей, запротоколированных в альбомах мечты. Весь сетевой дискурс словно нанизывается вокруг драгоценной лексемы и порождаемых ею значений: любое лидерское выступление на уикенд-семинаре заканчивается лаконичным призывом «Будьте Бриллиантом!» («Go Diamond!») и соответствующим жестом, иконографически воспроизводящим символ успеха — бриллиант (большие и указательные пальцы соприкасаются вместе, образуя ромб); в любом альбоме мечты будет указана предполагаемая дата достижения уровня Бриллианта; наконец, организация специфических «ритуалов перехода» направлена на формирование и поддержание представления об особом статусе Бриллиантов. С самой первой «встречи по бизнесу» будущий дистрибьютор узнаёт, что ему предлагают потратить «всего» пять лет своей жизни на то, чтобы стать Бриллиантом, а после этого открывается новая веха в его жизни — «этап наслаждения», когда выстроенная сеть функционирует как бы «сама по себе», во всяком случае не требует вложения значительных трудовых и материальных затрат, приносит стабильный (предположительно высокий) доход и позволяет предпринимателю «отойти от дел» и наконец ощутить тот аромат свободы, о которой он так долго мечтал:
А через пять лет я как смогу путешествовать? Да я смогу, блин, сесть на самолет и летать по всему миру, вообще не вылезая из него, например. Я смогу вот… я смогу вообще всё! Понимаешь, как это — свобода? Вообще вот… вот всё-ё-ё!.. И всего пять лет (М, 31 год, 6 %).
Но если для основной массы рядовых дистрибьюторов, не имеющих высоких титулов или существенного стажа работы в сетевом маркетинге, подобная жизненная стратегия («всего пять лет», а затем «свобода») представляется достаточно привлекательной, чтобы стать основным источником мотивации к «тяжкому труду», то среди опытных и одновременно успешных продавцов преобладают менее утопические настроения. В их рассуждениях о природе сетевого предпринимательства[279] работа дистрибьютора предстает в принципиально ином свете: как процесс непрерывного, ежедневного, рутинного труда, сопоставимого в этом отношении с работой по найму, с тем «наемным рабством», от ига которого мечтает избавиться любой сетевой продавец (во всяком случае, противопоставление работы по найму и «свободного предпринимательства» занимает видное место в арсенале риторических средств, используемых сетевыми ораторами). Любая остановка или «уход от дел», с точки зрения опытных продавцов, представляются одинаково невозможными, причем подобная невозможность аргументируется двояко: утилитарно-прагматически (сеть дает прибыль только в том случае, если она расширяется, т. е. растет число рекрутированных продавцов) и психологически (работа становится привычкой и потребностью):
Это не такая вещь, которая может… такая вот, всё, вечная машина: ты ее запустил, ты группу создал, ничего не делаешь — такого не бывает. Здесь нужно всё равно работать, все время. И все время работать, и все время тебе нужно сбоку строить (расширять сеть за счет новых «ветвей». — Д.Т.), потому что если не будет сбоку — ты бездействуешь, ты ничего получать не будешь… Надо постоянно здесь немножко работать. Лучше много работать, чтобы хорошо зарабатывать (Ж, 51 год, Платина).
…Здесь нельзя останавливаться. Просто это уже становится потребностью… А потом уже приходит осознание, что… это как работа! Ну вот ходим же мы на работу, делаем же мы какие-то действия, которые нам и не хочется делать: вставать на работу с утра, давиться в транспорте, выслушивать начальство. Особенно когда этот директор тебя вызывает, и думаешь, Господи, ну что же там такое будет? И думаешь, Господи, пронеси только… Понимаешь, это же тоже цена, но мы же это делаем. Только потому, что идет вознаграждение денежное. Вот. А здесь это тоже потом привычка (Ж, 54 года, 21 %).
Социально-психологические корни этой привычки, побуждающей продавца к беспрестанному труду, хорошо продемонстрированы в работе Мишеля Пратта, посвященной анализу «идентификационного менеджмента» («identification management») компании «Амвэй». Пратт приходит к выводу, что компания заинтересована в поддержании среди своих консультантов постоянного «дефицита идентичности», выражающегося в остром переживании несоответствия между идеальным «я» продавца (образом себя, обращенным в будущее, например: «я — тот, у кого через год будет семья, свой дом и спортивный автомобиль») и настоящим «я», которое всегда служит поводом для сожаления, беспокойства, разочарования, что, в свою очередь, порождает «динамичную мотивацию» к преодолению разрыва между двумя моделями самовосприятия («я — тот, у кого до сих пор нет семьи, своего дома и спортивного автомобиля, — значит, надо усерднее трудиться»). При достижении поставленной цели (мечты) дистрибьютор формулирует новую, превосходящую прежнюю по масштабам и уровню амбициозности, тогда как обратная ситуация — удовлетворение достигнутым — воспринимается как угроза, как знак будущих потерь и выхода из игры (Pratt 2000). Описанный Праттом механизм самоидентификации проясняет особую темпоральность сетевого дискурса, обращенного в будущее. Воображаемые образы счастья (успеха), ставшие неотъемлемой частью идентичности продавца, стремятся утвердить себя в настоящем за счет постоянного взаимообмена настоящего и будущего времен[280]. В этой логике вечного откладывания, принципиальной незавершенности образа самого себя и неудовлетворенности одним настоящим можно усмотреть общие типологические черты, схожие как с протестантской этикой, так и с более поздней советской «поэтикой временности» («poetics of the temporary»), застывшей в фазе бесконечного перехода от состояния хаоса к новому социальному порядку (Ssorin-Chaikov 2003: 136–137). Что касается последнего сходства, сами продавцы безошибочно улавливают эту связь на уровне цитирования советских лозунгов и клише, лишенных в новом контексте прежнего денотата, но сохранивших свою специфическую темпоральность (устремленность в будущее), выраженную при этом на хорошо знакомом и понятном языке:
Бриллианты говорят так: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» (Из выступления Бриллианта-администратора, уикенд-семинар).
Но, сделав «сказку былью», Бриллианты не собираются останавливаться на достигнутом. Их вновь приобретенный статус действительно становится поворотным пунктом карьеры, но за этим поворотом следует лишь новый виток движения, а не конец пути. И этот новый виток раскручивается по тем же законам и правилам, что и предыдущая часть спирали. По рассказам дистрибьюторов со стажем, для лидеров (от 21 % и выше), элиты сетевого сообщества, предусмотрены отдельные, лидерские, обучающие семинары, идентичные по своей структуре и функциям семинарам для менее титулованной массы продавцов. Но если на обычных уикенд-семинарах, рассчитанных на самую широкую публику, состоящую из продавцов всех рангов и званий, статус Бриллианта маркируется как наиболее значимый и престижный, то на элитных лидерских собраниях с «узким кругом участников» и «гостями высокого уровня» происходит переоценка прежнего статуса Бриллианта, лишенного теперь атрибутов былого величия и престижа. Лишенного только потому, что здесь высшие знаки внимания оказывают другим, более титулованным категориям продавцов (Двойным, Тройным Бриллиантам, Тройным Бриллиантам — основателям бизнеса, Коронованным и проч.). Оказавшись в новой системе координат, Бриллианты на таких семинарах, по выражению информанта, «ощущают себя 6-процентниками», т. е. автоматически попадают в категорию новичков, отброшенных к подножию сетевой иерархии и вынужденных начинать свое восхождение с нуля.
Подобная запрограммированность продавца на непрерывный труд и «развитие», заложенная в основание обучающих программ и «идентификационный менеджмент» компании, как правило, остается до поры до времени незаметной для основной массы дистрибьюторов, соотносящих свои наивысшие ожидания с достижением уровня Бриллианта. Однако для тех, кто уже близок к заветной цели или уверенно приближается к ней, относительность этого рубежа становится очевидной и зачастую сопровождается рефлексией, направленной на поиск новых интерпретативных рамок для определения вечно ускользающего счастья. В этих размышлениях продавцов о природе «удовольствия» происходит парадоксальное, на первый взгляд, переворачивание исходных категорий и смыслов, когда долгожданная «свобода», к которой изначально стремился продавец, вновь исчезает за горизонтами непрерывной работы, переходящей в «привычку» и «потребность», а смысл и предназначение труда окончательно замыкаются на нем самом:
Так что, понимаете, тут такое дело, я иногда над этим задумываюсь, что свободы-то как таковой, наверное, нет… Ну, другое дело, что они (Бриллианты и выше. — Д.Т.) начинают получать от этого удовольствие. Понимаете? Вот от этого вот. То, что сейчас для меня, может быть, является трудностью… вот приглашение, с людьми работа. Где-то я через себя перешагиваю. А у них, наверное, уже все не так. Я думаю, что они от этого испытывают удовольствие. От процесса от самого. Не от результата, который они имеют в деньгах, а именно от процесса. Потому что иначе я не могу объяснить, почему там те же Харатины или те же Демкуры, ну почему они не остановятся? Они могут уже все. Ну все уже! Такие лидеры у них, что они будут сами, без них работать. А ведь нет. Они же ездят на семинары. У него столько поездок в месяц! Ни у одного руководителя классического бизнеса нет такого количества командировок. Ну хорошо, он в бизнес-классе ездит, это хорошо. (Смеется.) То есть все-таки, наверное, что-то, кроме денег, здесь его мотивирует. Он давно мог уйти на заслуженный отдых. Вот та же Аникеева. Ну все — сделали Коронованных, наслаждайтесь жизнью, когда еще! Но вот я пришла к такому выводу, что, наверное, они получают большое удовольствие от самого процесса (Ж, 47 лет, Серебро).
Означает ли этот несколько пессимистичный пассаж, что для сетевых продавцов счастье оказывается доступным лишь в одной форме — форме бесконечного откладывания, переопределения границ желаемого и действительного, в самой возможности преследовать счастье? И означает ли это, что непосредственное переживание счастья, его воплощение здесь-и-сейчас несвойственно сетевым продавцам, так как не предусмотрено организационным менеджментом МЛМ-компаний? Или, быть может, продавцы и правда получают «большое удовольствие от самого процесса», от погони за счастьем? Возможно, ответить на эти вопросы нам позволит обращение к специфике сетевых ритуалов — уикенд-семинаров — и прояснение их роли в локализации представлений о счастье.
«Праздник мечты»
Три раза в год дистрибьюторы «Амвэй» съезжаются в одну из российских столиц, где в течение двух дней (с вечера пятницы и до обеда воскресенья) проходят уикенд-семинары[281]. Несмотря на довольно существенные материальные затраты на организацию подобной поездки, огромные концертные залы, вмещающие до нескольких тысяч зрителей, оказываются неизменно заполнены людьми.
Поездка на уикенд-семинар расценивается среди продавцов как необходимое условие успешной карьеры. По словам информантов, объясняющих чрезвычайную важность регулярного посещения всех семинаров, «семинары — это сердце бизнеса… Пока есть семинары, бьется сердце бизнеса» (М., 27 лет, 12 %), «„Амвэй“ — это бизнес семинаров» (М., 31,15 %). Особое значение придается мотивационной функции семинара: он «заряжает», придает силы для дальнейшей работы, «мотивирует на успех».
Уикенд-семинары отличаются от всех других обучающих мероприятий компании особой торжественностью, зрелищностью, концентрацией сильных эмоций и переживаний. Ведущие часто называют уикенды «праздниками успеха», «праздниками мечты». Сходным образом оценивают семинар и его участники:
У меня уже, по-моему, шестнадцать семинаров за плечами. <…> И все равно каждый раз… вот сейчас уже ждешь как праздника. <…> Ну, чем ближе, чем ближе семинар, тем вот более воодушевленным ты становишься. То есть я так день рождения своего не жду, честно говоря, вот как я жду семинар (М, 27 лет, 12 %).
В атмосфере эмоционального подъема, столь характерной для ритуалов в принципе, совершается центральное событие семинара — (пере)утверждение социальных позиций участников через серию особых церемоний (так называемых «признаний»), оформляющих изменение статуса продавца в связи с достижением нового уровня на лестнице успеха. Очевидно, что подобные ритуалы перехода приобретают смысл только в рамках определенной знаковой системы и меняют свое значение, как только выходят за ее пределы (например, становятся предметом насмешек, критики, непонимания, оставляют равнодушными и т. д.). С этой точки зрения утверждение собственной, внутренней, социальной иерархии несет с собой некоторый вызов традиционным институтам воспроизводства статусных различий (профессиям, институтам профессионализации, общепринятым, легитимным формам занятости в целом), которые в процессе ритуала подвергаются символической переоценке (обесцениваются) в пользу новых (более правильных, справедливых и т. д.) оснований категоризации.
Но для того, чтобы социальная форма наполнилась конкретными содержанием и значением, она должна быть реализована на практике, т. е., говоря словами Бурдье, быть объективированной не только «в предметах, логике отдельного поля», но также и «в телах, т. е. в устойчивой предрасположенности признавать и выполнять требования, присущие данному полю» (Бурдье 2001: 112). Недостаточно просто заявить, что Бриллиант — это очень богатый человек, так как он достиг вершин сетевой иерархии. Для подтверждения своего статуса Бриллиант должен располагать целым набором знаковых средств, маркирующих его социальную позицию: демонстрировать соответствующие поведение (вести себя как богатый человек), обладать определенными статусными символами, потребительскими предпочтениями и проч. Особое значение семинара состоит в том, что на его площадке происходит непрерывное разыгрывание социальных иерархий, их практическое воплощение в предельно наглядной и выразительной форме. Социальные границы, разделяющие участников на группы и категории, получают свое выражение через организацию пространства семинара и закрепляются благодаря ритуалам перехода, легитимирующим статусное неравенство.
Обычно уикенд-семинары проходят в концертных залах с присущим им типовым разделением на зоны партера и амфитеатра. Именно этот, уже готовый способ организации пространства заимствуется для демаркации границ, разделяющих участников на две большие группы: привилегированное меньшинство (лидеры) располагается в партере, тогда как основная масса рядовых продавцов занимает места в амфитеатре (рис. 3).
3. Уикенд-семинар. Фото автора.
В отличие от амфитеатра, где социальный статус участников никак не маркирован (зрители рассаживаются в свободном порядке), пространство партера четко структурировано в соответствии с занимаемым в иерархии местом. Самые комфортные условия предусмотрены для продавцов, чей статус воспринимается как наиболее высокий (уровень Бриллианта и выше). Они рассаживаются за небольшими, роскошно сервированными круглыми столиками прямо перед сценой, где их периодически обслуживает официант, или следят за происходящим из специальных VIP-комнат, расположенных за пределами зрительного зала. За спинами Бриллиантов размещены столы для Изумрудов с гораздо менее комфортными условиями: Изумруды сидят вплотную друг к другу за длинными столами, на которых виднеются лишь бутылки с минеральной водой и аскетичные пластиковые стаканчики. Для Бриллиантов и Изумрудов предусмотрен отдельный VIP-вход в само здание, а зона их размещения в зрительном зале отгорожена от остальной части партера белой лентой.
Далее, за спинами Изумрудов, по другую сторону белой ленты, располагаются Рубины, за ними — Жемчуга и так далее по нисходящей линии (до Платины). Все они рассаживаются на обычных мягких стульях, выстроенных параллельными рядами друг за другом. Перед началом церемонии на стулья прикрепляются таблички с соответствующими надписями — обозначениями уровней («Платина», «Жемчуг» и т. д.). Выход из амфитеатра в партер находится под бдительным контролем охранников, следящих за доступом в привилегированную зону (проверяют билеты).
Сегментация пространства семинара, выделение обособленных зон воспроизводит классический паттерн социальной классификации с его элитарным меньшинством (Бриллианты, Изумруды), средними, промежуточными, слоями (лидеры более низкого ранга) и низшим классом (рядовые дистрибьюторы в амфитеатре). Пространственная сегрегация участников достигает нужного смыслового эффекта за счет использования соответствующих знаковых средств, необходимых для маркировки статусных групп. Помимо уже упомянутых знаков внимания и уважения самая титулованная группа продавцов (Бриллианты и Изумруды) подчеркивает свою принадлежность к высшему классу через обладание набором статусных символов, доступных лишь избранному кругу лиц (Гоффман 2003). Из лидерских выступлений мы узнаём, что Бриллианты одеваются в костюмы, сшитые на заказ у модных дизайнеров Европы и Америки, владеют автомобилями редких марок, путешествуют только на лучшие курорты планеты, покупают недвижимость за границей и, наконец, имеют много свободного времени, которое тратят в основном на путешествия и отдых в кругу семьи и близких. Последний ресурс — наличие свободного времени — воспринимается как один из наиболее ценных в силу своей недоступности для тех, кто посвящает себя целиком и полностью успешной карьере за рамками МЛМ-проектов:
Мне нравится, что компания провозгласила принципами — свобода, семья, надежда, вознаграждение — знаете, почему? Потому что, когда я раньше работала (занималась «традиционным» предпринимательством. — Д.Т.), я не видела своих детей. Семья никогда не принималась в учет. Ровно как и я. Я приходила вечером. Дети учились во вторую смену… Я приходила, они спали. Утром уходила, они еще спали. Я иногда просто с ума сходила. Думала, боже, что за жизнь такая, что, может быть, в обед ты приезжал и видел своих детей. Когда они болели, мне приходилось в обед приезжать там, давать им лекарство и снова уезжать. Мы были как помешанные на этой работе. И это что? Семья? (Из «истории успеха» Бриллианта, уикенд-семинар).
Характерно, что низшая категория участников, перемешанная в пространстве амфитеатра в виде аморфной, плохо структурированной массы продавцов, практически лишена каких-либо особых знаков отличия. Точнее говоря, менее привилегированная группа маркируется по негативному принципу, т. е. выделяется через отсутствие статусных символов, которыми могут обладать только лидеры, элита сетевого сообщества.
Граница между партером и амфитеатром, поддерживаемая с особой тщательностью, становится проницаемой в преддверии кульминационного момента праздника — признания Бриллиантов. За пару часов до этого события, перед началом вечерней сессии семинара, партер превращается в огромный танцпол, на который устремляется большинство собравшихся, независимо от ранга и статуса. В этом единении участников в общем порыве танца под энергичную музыку приглашенных поп-групп проявляются схожие черты с пограничными, лиминальными, состояниями с характерной для них отменой статусных различий, с последующим переутверждением значимых классификаций в ходе процедуры признания (Terner 1987).
В самом общем смысле признание — это способ публичного одобрения, коллективного поощрения дистрибьютора за его успехи в работе. В ходе уикенд-семинара в процедуре признания принимают участие только те продавцы, которые перешли на новую, высшую, ступень иерархии в течение последних трех-четырех месяцев (т. е. со времени предшествующего уикенда). Сама форма признания также выполняет различительную функцию, становится индикатором статусной позиции дистрибьютора. Представители самых низких уровней, заслужившие признание, под аплодисменты публики и ритмичную музыку быстрым шагом проходят по сцене, камера выхватывает их счастливые лица и проецирует изображение на большие экраны, установленные в зале. Для лидеров начального уровня признание выглядит несколько иначе — каждый из них получает две-три минуты, чтобы произнести со сцены заранее заготовленный текст по схеме: назвать свое имя, профессию и мечту. Этот небольшой нарратив содержит в себе характерные для инициационного действия компоненты, направленные на отделение неофита от прежней социальной группы и его включение в новую среду. Озвучивая свою профессию (занятие), дистрибьютор совершает символический акт отречения от того прошлого, где его профессия (занятие) была важной составляющей идентичности, в пользу нового образа будущего (мечты), с которым он отныне связывает свои ожидания и надежды. При этом не имеет значения, продолжает ли фактически продавец работать по своей прежней специальности (врачом, учителем, бухгалтером и т. д.); главное, что его профессиональная деятельность подвергается публичной переоценке, утрачивает прежние смыслы и значения.
Наконец, кульминационным моментом праздника, когда эмоциональные переживания участников и экспрессия театрализованного представления достигают апогея, становится признание уровней Бриллианта и выше (Двойной, Тройной Бриллиант и т. д.). В этот момент в зале гаснет свет. Через небольшую паузу начинает звучать торжественная музыка, луч прожектора разрезает тьму и высвечивает фигуру Бриллианта, восседающего на заднем сиденье роскошного лимузина. Автомобиль медленно движется по периметру партера, объезжая весь зал. Публика в этот момент приветствует своего героя аплодисментами, переходящими в овации (рис. 4). Затем автомобиль, сделав круг, подъезжает к противоположному краю сцены. Охранник открывает дверцу, помогая Бриллианту выйти из машины. Счастливый виновник торжества поднимается на сцену, и под те же неумолкающие овации публики на сцену осыпается блестящий серпантин, взрываются фонтаны фейерверков, а прожектора выписывают замысловатые узоры света (количество спецэффектов и их продолжительность также зависят от категории Бриллианта). Затем Бриллиант/Бриллианты (один человек или семейная пара) представляют публике свой инициационный нарратив — историю успеха, повествующую о длительной, напряженной, тяжелой работе, которую он/она проделал/ проделала для того, чтобы оказаться на этой сцене и принимать поздравления. Зачастую во время подобных выступлений зрители плачут. Эмоциональные отклики подобного рода не принято сдерживать или каким-то образом стесняться их проявления, они являются такой же неотъемлемой частью ритуала, как и торжественные признания или звучащие со сцены выступления.
4. Признание Бриллиантов. Фото автора.
Пышность церемонии и ее размах призваны подчеркнуть значимость совершившегося перехода. Торжественный обряд посвящения подразумевает включение дистрибьютора в новую статусную группу и одновременно санкционирует притязания Бриллианта на иной стиль жизни, доступ к которому, словно в волшебной сказке, в мгновение ока открывается перед неофитом. Так, по рассказам Бриллианта из Уфы, после церемонии признания на семинаре компания «Амвэй» за свой счет (в качестве дополнительного поощрения) организовала для Бриллианта и его партнеров «Diamond Day» в Казани. Программа этого мероприятия включала в себя прогулку по городу на дорогих лимузинах, посещение ресторана и ночь в пятизвездочном отеле. Но это было только начало. Далее Бриллиант (опять же за счет компании) отправляется в путешествие по Америке, исторической родине «Амвэй», с остановками в Диснейленде (признается, что в детстве подсознательно мечтал оказаться в этом парке развлечений), Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Гранд-Каньоне. Обязательно посещаются в таких случаях производственные предприятия самой компании, ее центральный офис — то место, где творилась история компании. В Америке развлечения и отдых Бриллианта перемежаются личными знакомствами с самыми титулованными продавцами, приходящимися нашему Бриллианту дальними спонсорами, с руководством компании, ее директорами и президентом. Эти люди, живые легенды (одно упоминание их имен на семинаре сопровождается бурными аплодисментами, переходящими в овации), включают новоиспеченного Бриллианта в свой круг общения, теперь он становится для них «своим». Затем ближайшие спонсоры Бриллианта приглашают его провести какое-то время в своих особняках на побережье теплых европейских морей. Наконец, завершает череду поощрительных поездок «лидерский семинар» в Турции, где отдых на пляже совмещается с участием в семинаре, на котором Бриллиант узнает, что его карьера только начинается и вся команда лидеров ожидает от своего соратника новых, еще более впечатляющих достижений.
Подобные поездки, которыми компания периодически одаривает своих лучших продавцов, обладают отчетливой социализирующей функцией, предоставляя возможность неофиту на несколько дней погрузиться в новую, еще не обжитую, непривычную среду обитания, столь далекую от реалий его повседневной жизни, но максимально приближенную к идеализированным представлениям о счастье. В окружении «команды лидеров» новички на практике осваивают азы нового потребительского канона. Например, на Гавайях, в этом «рае на земле», где проходила очередная Конференция Бриллиантовых НПА в 2010 году, ее участники
бороздили океан под парусом и наблюдали, как играют дельфины и бьют хвостами киты. Они поднимались ни свет ни заря, чтобы отправиться в открытый океан на рыбалку или встретить рассвет на вулкане Халеакала, а потом съехать вниз по серпантину на горном велосипеде. Они носились по бездорожью на джипах и летали на тарзанке по джунглям. И с такой же решительностью и полным бесстрашием первооткрывателей они осваивали произведения местных шеф-поваров (Amagram 2010: 6).
В этой среде, воспетой автором корпоративного издания в героико-романтических тонах приключенческой авантюры, бесстрашные «первооткрыватели» вместе с освоением туземной кухни и индустрии развлечений для состоятельных туристов получают возможность наконец гармонизировать свой опыт, привести в соответствие предрасположенности, сформированные в отрыве от «объективных условий существования», с реальными возможностями, предоставляемыми компанией для своих лучших работников в перерывах между их трудовыми подвигами. Более того, любая праздничная мистерия, в которой развертываются ритуальные признания, обладает схожим потенциалом ослабления, снятия противоречий между центральными оппозициями (реальное и возможное, настоящее и будущее, свобода и зависимость, богатство и бедность), задающими смысловые ориентиры деятельности продавца. Несмотря на то что эти же оппозиции формируют ритуальную среду семинара, в процессе самого ритуала продавцы, резво выбегающие на сцену или чинно выезжающие в зал на белоснежных лимузинах, целиком и полностью отдаются радостному переживанию настоящего — свершившегося перехода, ценность которого на какое-то время освобождает их от давления привычных оппозиций. Семинары и поощрительные поездки становятся тем местом, где оказывается возможным ухватить на какое-то время счастье, перевести его из категории будущего времени в настоящее, удовлетворить высокие притязания вкуса, с тем чтобы сразу после окончания корпоративных ритуалов вновь окунуться в работу и мечты о счастливом будущем.
Таким образом, счастье (успех) конституируется в качестве категории времени (во всех смыслах этого слова — и как будущее, и как желание того, чего не имеешь, и как откладывание), которое постоянно переводится в пространство — будет ли это воображаемое пространство альбомов мечты или реальное пространство семинаров и сопутствующих им поездок за границу. Этот перевод времени в пространство позволяет локализовать счастье, пережить его сначала в форме фантазии (мечты), а затем в ощущениях и эмоциях тех, кто выходит на сцену или встречает рассвет на Гавайях в окружении «команды мечты». Время между двумя семинарами наделяется признаками лиминальности с его бесстатусностью в прямом смысле этого слова (старый статус, уровень достижений, уже в прошлом — его надо преодолеть, превзойти, а нового еще нет, пока он не признан на семинаре), периодом напряженной работы, «невидимостью» для остальных участников сети (видят только тех, кто выступает на сцене, кто находится в центре внимания), постоянными испытаниями и трудностями. В этот пограничный период роль наставника (спонсора) возрастает — он помогает преодолевать трудности, делится своим знанием и опытом, но и требует дисциплины и послушания в ответ.
Важно понять и то, как частная модель счастья, импортированная с американского континента, соотносится с более широкими культурными контекстами и в какой степени эти контексты оказывают влияние на усвоение или отторжение новых проектов и идеологий. В нашем случае в качестве фона выступает не только актуальное российское настоящее, но и советское прошлое, которое не может не учитываться сетевыми продавцами, особенно теми из них, кто принадлежит к старшему или среднему поколениям, чье взросление, молодость или большая часть прожитой жизни пришлись на советскую эпоху. По-видимому, несмотря на риторическое «упразднение» советского опыта, не совместимого с идеалами свободного предпринимательства и рыночной экономики, на метауровне этот обмен принимает более изощренные формы, проявляясь в присвоении темпоральных структур советской утопии с ее «отложенным социальным порядком» (Ssorin-Chaikov 2003: 137) в разряд явлений, родственных культурным идиомам счастья американской мечты, по крайней мере в ее МЛМ-исполнении. Хотя советская «мечта» с точки зрения приверженцев сетевого предпринимательства представляет собой скорее неудачный образец желания, обращенного на неверный объект (мечтать нужно было о другом), присущая ей темпоральность (устремленность в будущее, принципиальная незавершенность) и предполагаемая сила влияния (способность направлять практику) выявляют определенное сходство между двумя идеологемами желания.
ЛИТЕРАТУРА
Аракелян Е. (а) Завербовал друга — получи процент // Комсомольская правда. 16 ноября 2001.
Аракелян Е. (Ь) Требуются специалисты. Оплата в долларах // Комсомольская правда. 9 ноября 2001.
Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб, 1993.
Бурдье П. (2005) Различение: социальная критика суждения / Пер. с фр. О. И. Кирчик // Экономическая социология. № 6 (3). С. 25–49.
Бурдье П. Практический смысл / Пер. с фр.: А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко; Отв. ред. пер. и послесл. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2001.
Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» // Бурдье П. Социология политики / Пер. с фр. Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993.
Ван Андел Д. Жизнь в действии. Автобиография. М., 2007.
Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик. СПб., 2008, 289 с.
Голенкова З. Т., Игитханян Е. Д. Социальная структура общества: в поиске адекватных ответов // Социальные исследования. 2008. № 7.
Голубицкий С. «Амвэй» — внук Ваала // Бизнес-журнал. № 22. 20 ноября 2003.
Гоффман Э. Символы классового статуса // Логос. 2003. № 4/5 (39).
Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт систематического исследования. Н. Новгород, 2000.
Заславская Т. И., Громова Р. Г. Трансформация социальной структуры российского общества // Путь в XXI век (стратегические проблемы и перспективы российской экономики) / Под ред. Д. С. Львова. М.: Экономика, 1999. Гл. 8.
Латова Д. Евангелие от «Амвэй» // Pro-город. Городской журнал. № 15. Декабрь 2007.
По Р. Четвертая волна, или Сетевой маркетинг в XXI веке / Пер. с англ. К. Ткаченко. М., 2001.
Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. Учебное пособие. М.: Наука, 1995, 237 с.
Редозубова Н. «Оккультная литература приводит людей в секты и отталкивает от Церкви…» (интервью с А. Ярасовым, опубл. 4 июля 2010 г.) // .
Сетевой бизнес: качественные товары или развод на деньги? (Материалы интернет-конференции) // .
Стрельников А. Обман величиной с кулак. Капитал-Weekly. № 13 (412). 9 апреля 2003.
Ушакин С. (1999) Количественный стиль: потребление в условиях символического дефицита // Социологический журнал. 1999. № 3/4. С. 235–250.
Ушакин С. (1998) Видимость мужественности // Рубеж (альманах социальных исследований). 1998. № 12. С. 106–131.
Хамфри К. Одесса: погромы в городе-космополите // Антропологический форум. 2010. № 12. С. 213–248.
Шкаратан О. И. Тип общества, тип социальных отношений. О современной России // Мир России. 2000. № 2. С. 63–108.
Amagram. 2008. № 26.
Amagram. 2010. № 3.
Bell С. Ritual Theory, Ritual Practice. NY, Oxford: Oxford University Press, 1992, 270 p.
Deleuze G., Guattari F. (1987) A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia Minneapolis: University of Minnesota Press.
Eisenberg R. The Mess Called Multi-Level Marketing With Celebrities Setting the Bait, Hundreds of Pyramid-style Sales Companies are Raking in Millions, Often Taking in the Gullible // Money. 1987. June 1.
Fitzpatrick S. (1993) Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia // The Journal of Modem History. № 65 (4). P. 745–770.
Global Statistical Report — 2011.
-stats/Global_Statistical_Report_Final_6–20-2012.pdf.
Lament М., Molnar V. (2002) The Study of Boundaries in the Social Sciences // Annual Review of Sociology. № 28. P. 167–195.
Nelson L. E. Profits, Politics, Proselytizing: it’s the Amway // New York Daily News. 1998. October 28.
Pratt M. G. (2000) The Good, the Bad, and the Ambivalent: Managing Identification among Amway Distributors // Administrative Science Quarterly. № 45 (3). P. 456–493.
Ssorin-Chaikov N. The Social Life of the State in Subarctic Siberia Stanford: Stanford University Press, 2003.
Terner V. Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites of Passage // Betwixt and Between: Patterns of Masculine and Feminine Initiation / Ed. by L. C. Mahdi, S. Foster, M. Little. Open Court, 1987.
Verdery K. (1991). Theorizing Socialism: a Prologue to the «Transition»// American Ethnologist. № 3. P. 419–439.
Wilson A. (1999) The Empire of Direct Sales and the Making of Thai Entrepreneurs // Critique of Anthropology. № 19 (4). P. 401–422.
______________________
______________
Дарья Терёшина[282]Часть 2. Романс о советскости
Траектория счастья в любви на постсоветском телеэкране
В культовом «оттепельном» фильме «Доживем до понедельника»[283] Генка Шестопал сжигает «счастье 9-го В», заточённое в школьные сочинения. Его одноклассница Надя, искренне заявившая в сочинении, что счастье свое она видит в любви, была пристыжена очень «советской» учительницей литературы за «душевный стриптиз» и осмеяна циничными одноклассниками за наивность. Тогда Гена решается уничтожить сочинения, дабы, как он сам пишет в своем стихотворном объяснении, не дать дисциплинировать счастье, подчинить его оцениванию и оценке, отстоять ненормированность счастья и его ненормативность. В этом кинонарративе можно усмотреть как критику идеи советского коллективного и публичного счастья, которое у советских людей «одно на всех», так и выражение русско-советского дискурса о любви как суперценности и необходимого условия счастья: главное в нем, как утверждает тот же Гена Шестопал, находиться в состоянии влюбленности. Противоречат эти идеи друг другу или нет, но они — элементы того эмоционального стиля позднего социализма, который с трудом поддается любой плоской интерпретации. Действительно, если пытаться нащупать его однозначную сущность, так просто запутаться между консервативностью нравов в советском публичном поле и вседозволенностью в приватном, между ханжеским официальным дискурсом и культом чувств в кино, между суперидеалом любви в литературе и отсутствием ее же телесного проявления. К тому же в наши дни эта сложная русско-советская эмоциональная культура перестраивается, пополняется новыми сценариями, образами и понятиями[284].
В своей статье я предлагаю встать на след новой постсоветской культуры эмоций, рассмотреть путь ее становления, провести первичное картирование дискурсивных и институциональных пространств ее построения, а также попытаться проследить ту траекторию, которую на этой карте очерчивает поиск счастья в любви. Такая топография дискурсивного ландшафта обнаружит одновременное существование разных эмоциональных моделей: одни из них — это современные отпечатки прошлых исторических моментов, другие — новоявленные знаки только оформляющегося настоящего.
Появление и оформление нового эмоционального стиля в России связано с новыми же понятиями артикуляции персональности[285], которые возникают, переводятся и развиваются в дискурсах академическом, литературном, популярном и медийном. Этот стиль культивируется технологиями регуляции эмоциональной жизни индивидуума, межличностных отношений, сценариев успеха и счастья, которые предлагаются как естественно желаемые, а значит, и нормативные. Явным примером таких технологий служит появление в Российском пространстве терапии разного рода, коучинг и консалтинг, тренинги и форумы по повышению самооценки, обширная литература о самопомощи (Salmenniemi 2010). Новые дискурсивные модели организуют и поле интернет-знакомств, и язык радио- и телевизионных поп-психологических передач (Matza 2009). Присутствие в постсоветском ландшафте терапевтических форм особенно очевидно в поле СМИ, где глобализированные готовые шаблоны имитируются будто бы один к одному (Rulyova 2007). Все эти культурные технологии я, следуя за интеллектуальным проектом критики подобной культуры в западной Европе и США, назову здесь «терапевтической культурой» (Furedi 2004) в постсоветском культурном поле. Сюда они перевозятся и здесь переводятся из терапевтической культуры, сложившейся в контексте позднего капитализма, там и здесь они предлагают себя как средства организации и управления частной-приватной сферы, эмоциональной интимной жизни и карьерного функционирования.
Одна из критиков доминирования терапевтического дискурса об эмоциях в культуре модернизма, Эва Иллуз, предлагает понятие эмоционального стиля как переплетение способов осмысления в культуре определенных эмоций, включая те особые техники — языковые, научные, ритуальные, — которые культура вырабатывает для выражения и понимания этих эмоций. Новый эмоциональный стиль оформляется через формулирование воображаемых интерперсональных отношений — т. е. отношений Self и другого, представлений о потенциальных проявлениях этих отношений, их развития и путей осуществления в действительности[286] (Illouz 2008:14–15). Где, как не в переинтерпретации старого и знакомого, легче всего уловить построение нового эмоционального стиля? Поэтому начну с интерпретации одного нового-старого кинофильма как индикатора становления новой терапевтической культуры эмоций в постсоветской массовой культуре.
Новая «Анна Каренина»:
от психологической прозы к терапевтической психологии
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Эта крылатая фраза открывает один из самых знаменитых романов современности о счастье — «Анна Каренина» Толстого. Роман — многоголосый разговор разных версий счастья. Счастье — как слово, представления о нем, поиск его, а также как опыты его реального переживания — присутствует почти на каждой странице. Все они замысловато пересекаются, динамично меняются местами в переживаниях героев, опровергаются и подтверждаются, оправдываются и осуждаются. Так, например, осмысляется неразрешимая сопряженность счастья и страдания; соотношение состояния счастья и рутины жизни, счастья и несчастья как уникального личного или же универсального общечеловеческого опыта[287]. В романе осмысляется соотношение счастья и общественного признания, счастья и исполнения долга, счастья и опыта превозмогания себя, ну и, конечно, счастья и греха. Схематично суммируя, можно сказать, что Левин счастлив приобретением семьи и неожиданным обретением веры, Каренин — общественным признанием и способностью прощения, Долли — заботой о детях, Кити — любовью окружающих, Вронский — успехом честолюбия и страстью, Каренина — своей любовью.
«Вас задело?» — спросила меня молодая женщина после роскошно обставленной питерской премьеры[288] новой киноверсии «Анны Карениной» Сергея Соловьева, заметив, как я смахиваю слезу. Конечно, меня задела сильнейшая игра прекрасных и любимых Александра Абдулова и Олега Янковского, трагично ушедших во время съемок фильма. Татьяна Друбич хороша в роли Анны. Глубокая, неоднозначная история о любви и страсти, о семье и долге вызвала у меня эмоциональный отклик. Однако как антрополога постсоветской культуры меня задело другое.
Представляя фильм, режиссер Соловьев несколько раз подчеркнул: «Я снимал строго по Толстому. Я хотел сказать только то, что сказал Толстой». И действительно, самодеятельности нет ни в событиях, ни в сложных неплакатных характерах. Параллели между парами, семьями, мужьями, городами, людьми и лошадьми сохранены. Но что-то в том постсоветском прочтении Карениной 2009 года заставило меня подойти к полке и внимательно и по-новому перечитать оригинальный текст, а потом и пересмотреть его отечественные и зарубежные киноверсии разных лет[289].
Сюжет о любовном треугольнике, о семье и измене и, конечно, сюжет конкретно романа «Анна Каренина» представляет собой, наверное, тот ключевой сценарий, который отпечатывает момент коллективного сознания, то, что называется общественной моралью. Новые и повторные интерпретации этого сюжета появляются часто в моменты исторического перелома и всегда повествуют о сути перемен[290]. Действительно, много интересного можно сказать о том, как новая российская киноверсия романа отражает проект восстановления постсоветской морали и семейственности; о том, какую роль играет в этом обращение к русской классике; как мобилизуется русская литературная традиция для различных коллективных нужд нынешней эпохи. Но в этой статье я остановлюсь лишь на одном наблюдении: постсоветская экранизация романа предлагает психологизированную версию Анны Карениной и служит ярким примером того, как постепенно начинает доминировать терапевтическая интерпретация межличностных отношений, эмоциональной жизни личности и прежде всего любви в поле публичной постсоветской культуры, а особенно в кино и на телевидении.
Татьяна Друбич (Анна Каренина в фильме) интуитивно чувствует, что в современной России изменяется восприятие проблем, стоящих в центре романа. «Как вы думаете, сегодня женщина способна броситься под поезд из-за любви?» — спрашивает ее журналистка. Актриса отвечает:
Женщины ведь разные… И тогда, и теперь. А вот общество… изменилось резко. Сегодня ее самоубийство никто бы не заметил или сочли за глупость. Потому что жанр трагедии уже невозможен ни в кино, ни в литературе. И в жизни трагические события перестали восприниматься — превратились в зрелище. Мы стали персонажами только мелодрам и боевиков[291].
Самоубийство как акт отчаяния, неразрешимые страдания, осознание судьбы и безвыходности — все это действительно не близко и непонятно эмоциональной культуре постсовременности (постмодернизма), как позднекапиталистической, так и постсоветской. Обе они сходны тем, что действуют в прагматических, цель-ориентированных, эгоцентричных интерпретативных рамках. Одни исследователи охарактеризуют их как неолиберальный этос (Matza 2009; Yurchak 2003), другие — как прагматический или постидеологический, я же предпочитаю говорить о терапевтическом этосе или терапевтической культуре. Здесь мало места фантазии и больше — функционированию, меньше порыву и больше — разумной регуляции. Меньше страданию и больше — благополучию (well-being). Благополучию, но не Счастью. И действительно, в «Анне Карениной» по версии Соловьева нет счастья, по крайней мере в толстовском его понимании.
В своем прочтении романа Соловьев развивает одну очень ясную интерпретацию: любовь здесь — это проявившая себя патология, не вылеченная и не получившая необходимого терапевтического ухода. Как болезнь, она развивается от симптома к симптому: эйфория, неспособность функционировать, галлюцинации, морфий, полная невозможность владения собой, гибель. Так в истории Анны, а также других героев воспроизводится терапевтический нарратив. Любовь и страсть — дисфункция, которую нужно корректировать, работать над ней, регулировать («to manage») и превозмочь («to overcome»). Она приносит страдание; страдания являются индикатором и доказательством ее патологичности. Страдание — не неотъемлемый компонент любви и жизни, а признак-индикатор патологии, нездоровья. Страдаете в отношениях — это не судьба, а проблема неправильного выбора. И не в том смысле, который предполагает советский диагноз «не сошлись характерами»: вы страдаете оттого, что «не подходите», и тогда, значит, ищите другого на тропах судьбы. Нет, здесь страдание — это признак вашей собственной патологии: вы выбираете таких партнеров, которые принесут вам страдание. И следовательно: измените себя и Be well. Being well, Living Well is a challenge. He фантазия или страсть, не подарок или награда судьбы, даже не случайность, а проект и задача.
Постсоветская интерпретация «Анны Карениной», на мой взгляд, отражает сдвиг от эмоциональной культуры психологической прозы в России к американской модели терапевтической популярной культуры. Она обозначает переход от языка «характеров» и их «переживаний» в литературном дискурсе к языку нормальных и патологических «эмоций» в психологическом дискурсе. Их необходимо излечить на пути к благополучному, истинному и реализованному Я. Именно такое понимание счастья, любви и эмоций является характерным для терапевтического дискурса позднекапиталистической и особенно американской поп-культуры.
О счастье и любви в терапевтической культуре эмоционального капитализма
Основы терапевтического дискурса лежат в глубоком взаимопроникновении и слиянии постфрейдистской американской версии психологии[292] и капиталистической культуры (как образа жизни и организации экономической деятельности), т. е. в том, что в литературе называют «эмоциональным капитализмом». Обширная и крайне интересная литература об «emotional capitalism» осмыслила тесные связи между рациональностью как основой модернизма, капиталистической экономикой и западной психологией (Cushman 1990, 1995; Hochschild 1983; Illouze 2007; Lasch 1979; Rieff 1987). Важным продуктом и необходимой базой этого эмоционального капитализма является «терапевтический Self». Эта модель Self формируется и поддерживается прежде всего культурными технологиями, особенно теми, что составляют массовую культуру, электронные медиа, а также литературу самопомощи (Illouze 2003, 2008).
Вновь хочу обратиться к работам Эвы Иллуз, одной из наиболее видных интеллектуальных критиков психологической профессии и культуры, а также к самой модели терапевтического Self Эвы Иллуз. Ее исследовательский взгляд обращен на терапевтические проявления массовой американской культуры. Доказав в одной из важнейших своих книг, что понятие «романтическая любовь» в Америке — это продукт культуры капитализма, потребления и рыночной экономики (Illouze, 1997), автор идет глубже и расшифровывает код эмоционального капитализма в своей книге «Холодная интимность» (Illouz 2007). Иллуз прослеживает не только то, как постепенно, вместе с американизацией психологии, постфрейдистский (эмоциональный) дискурс проникает в экономические институты США и в итоге там доминирует, но и то, как интимная сфера, приватная, житейская переживают рационализацию и объективизацию. То есть не только эмоции рекрутируются на службу экономического производства и область работы, но и чувства, и сама частная сфера подвергаются рациональному управлению и переводятся на язык рыночной экономики[293]. В результате во всех сферах жизни развивается один язык и возникает современная терапевтическая модель Self — продукт психологического знания и дискурса, встроенного в институты капитализма. Это Self, ориентированный на настоящее, на инструментальное функционирование, на copying; рационально рассчитывающий вклад и выход; артикулированный в понятии «реализация себя» и уверенный в возможности жизни без страдания — возможности, предлагаемой ему современным терапевтическим нарративом.
Терапевтический нарратив — это текст о Self и о событиях, которые помогли Self стать здоровым и счастливым, или же (чаще всего) о препятствиях, которые привели к неудаче. Препятствиями могут быть травматические переживания, раны, нанесенные Self окружающими людьми, или же его/ее заранее обреченные на провал убеждения и поведение. Благополучие (оно же счастье в этом нарративе) зависит от успешности акта понимания и осознания своих эмоций, от способности превозмочь свои страхи и неврозы на пути к реализации настоящего и аутентичного Self.
У любой эмоции есть скрытые значение и причина. Эмоции-переживания (стыд, вина, неуверенность, недовольство собой) становятся знаками состояния внутренности субъекта. Страдание, боль всегда скрывают за собой нереализованное и неосознанное желание. Поэтому терапевтический нарратив — это прежде всего текст об эмоциях как сущностях. Self же становится ответственным за эмоции и их регулировщиком.
Терапевтический нарратив носит тавтологический характер. Только одно определенное эмоциональное состояние (интимность, например) определяется как здоровое и нормативное, а все поведения и состояния, ему не соответствующие, получают интерпретацию доказательства бессознательного, которое не позволяет достичь здоровья и благополучия и является свидетельством скрытого желания от него уклониться. Таким образом, субъект должен помыслить и осознать себя как страдающий и больной, чтобы излечиться от страдания.
Благополучный Self в терапевтическом дискурсе любит «здорово». Невозможность отдаваться чувству (попросту любить) — это патология, и она отражает страх интимности, заложенный в детстве. Но и любить слишком сильно — это патология, обсессия, компенсирующая недостаток любви в детстве. Нужно стремиться любить здорово. Здоровая любовь неболезненна и не приносит страдание, а если она болит — значит, она нездоровая. Вообще, здоровье становится синонимом нормы, нормальности и эмоционального благополучия, служит эвфемизмом счастья.
Нужно отметить, что психологическая дисциплина и профессиональный терапевтический дискурс нечасто оперируют понятиями счастья (Happiness, Happy Self, Happy personality). Счастье как предмет научного исследования оформляется с начала 1970-х годов в экономике, а потом и в новом подходе «позитивной психологии» (Seligman a Csikszentmihalyi 2000). Кроме того, категория Happiness как результат терапевтического акта — это пример переложения, трансляции профессионального и научного в популярные массовые культуру и сознание и превращения их в доступные массам интерпретативные инструменты. Действительно, терапевтический нарратив счастья в любви в разных одеждах присутствует в том, что Иллуз называет «культурными технологиями»; они делают его крайне доступным, и он поставляет формы и когнитивные категории для артикуляции себя и своих переживаний.
Очевидно, что Иллуз, как и другим критикам эмоционального капитализма, западный терапевтический Self представляется почти универсальной «нагрузкой» к пакету капитализма и культурной программы модернизма, которая уже сама по себе поощряет рациональность, индивидуальную автономию и избавление от страданий. И действительно, критика будто бы универсального характера психологии и терапевтического дискурса озвучивается обычно с позиций сопротивления религиозного мировоззрения, например через противопоставление с Islamic Self (Pandolfo 2000) и посредством примеров иудейских и христианских вариантов регулирования эмоциональной жизни. В других случаях эта модель оспаривается с точки зрения эмпирических случаев незападных и досовременных (premodern) сообществ и традиций (скажем, исследования терапии среди африканских иммигрантов в Европе)[294]. Таким образом, доминирование и непреложность этой модели индивидуума и его эмоций внутри самого западного модернизма и в квазиевропейских обществах будто бы очевидны.
Однако верно ли это для российско-советской культуры в ее прошлом и настоящем? Очевидно, что, справляясь с той же модернистской программой в XIX–XX веках, российская и позже советская культура проложила иную траекторию формирования индивидуума и его эмоциональной сферы. Несмотря на бурное начало психоанализа в России (Эткинд 1993), постфрейдистская психология никогда не стала здесь базой культурного строительства и доминантным нарративом социальных межличностных отношений. Вопрос о том, была ли (и в какой степени) советская психология насильно политически детерминирована марксистско-ленинской схемой, или она шла особым культурным путем развития, остается спорным и занимает исследователей (Bauer 1952; Joravsky 1978; Kozulin 1984; McLeich 1975; Wertsch, 1981). Но все они разделяют положение, что советская психология не адаптировала форм терапии, подобных или даже альтернативных психотерапевтическим (индивидуальным или групповым). В отсутствие этих двух элементов (институтов капитализма и профессиональных терапевтических институтов) в российской культуре отсутствует и терапевтический Self как практики и дискурса, в качестве дискурсивной формы интерпретации биографии, отношений, карьеры, успеха и провала, счастья и страдания. Перекликаясь со Светланой Бойм (Бойм 2002), которая пишет, что «русская душа не нуждается в частной жизни», что русская душа — это «психея без психологии», скажу: терапевтическая культура здесь развивается без/до психологии и, главное, не является ее продуктом и функцией.
Более того, в постсоветском и российском поле с новоприбывшей терапевтической культурой конкурирует не менее мощная программа «эмоционального социализма». Эмоциональный социализм есть продукт взаимопроникновения культурных и политических институтов и нарративов — только иных, таких как русский литературный дискурс и религиозный православный дискурс, а позже — советский идеологический романтический дискурс, который формулировал сценарии коллективных и индивидуальных эмоций.
Русская литературная традиция была занята осмыслением чувства любви. В каноническом сценарии литературной любви любовь — это перст судьбы; она всегда сопряжена со страданием и потерей, но только через нее можно испытать настоящее счастье. Любовь — это стирание себя и жертвенность.
Любовь была также одной из ключевых категорий словаря эмоционального социализма. Здесь она оформлялась соответственно различным стадиям советского периода, получая иногда противоречивые значения (Борисова, Богданов и Морашов, 2008). На одних стадиях любовь трактовалась как эмансипирующее чувство, на других, наоборот, была представлена как буржуазная иллюзия; бывала эротизирована, а затем — лишена всего телесного и сексуального. Наконец, любовь была абстрагирована до общего чаяния коммунистической идеи и коммунистического пути. Отношение к вождям также формулировалось в понятиях любви, как в целом и отношение вождей к народу.
Таким образом, в отличие от сценария любви позитивной психологии, любовь в социалистическом сценарии — это не отношения, над которыми вы можете работать; она не может быть здоровой и гармоничной. В частности, этот российский культурно и исторически конструированный стиль эмоций (или, как называет ее Анна Вержбицкая, «эмоциональная идеология») находит свое проявления на языковом уровне культуры, которым занимается лингвистическая антропология, сопоставляя семантические поля понятий «счастье», «любовь», «судьба» и понятий разного рода эмоций в русском языке по отношению к другим (Wierzbicka 1998, 1999, 2004, 2009). Кроме того, эмоциональная культура советского периода выражается в сценариях межличностных отношений, любовных и брачных, дружеских и родственных, которые воспроизводятся в сюжетах кино и литературы, а также артикулируются в личных биографиях и фиксируются исследователями поздне- и постсоветских или социалистических моделей брака, сексуальности и т. д. (Field 2007; Shlapentokh 1984; Тёмкина 2008).
Дискурсивный сдвиг как условие освоения терапевтической культуры в России
Мне хотелось бы избежать интерпретации, которая противопоставляет русскую, особенно литературную, традицию самости[295] и понимание Self в западной психологии. В самом деле: многие идеи, которые станут основой психоанализа, развиваются и в текстах русского реализма XIX века. Более того, дискурсы самосовершенствования, самовоспитания, работы над собой[296], «self-fulfillment» и «self-realization» (будь они составляющими русского морально-нравственного литературного, коммунистического советского или психотерапевтического капиталистического) — все они во многом сходны и являются продуктами одного большого исторического перехода. А проза Толстого, которая изучает внутренний мир героев и природу их чувств, описывает их рефлексии и мысли, препарирует их натуры и социальные характеры (и потому и называется объясняющей психологической прозой), предвосхищает психоаналитическую теорию и несет в себе многие ее элементы[297]. Однако контекст развития литературного, научного, идеологического и экономического дискурсов о персональности в России определил иной путь для повседневного базового понимания самости и ее эмоциональной жизни.
Отсутствие самого понятия Self в российском дискурсе является индикатором отличия русско-советского варианта артикуляции индивидуума, а главное, отсутствия терапевтического Self как остова терапии. Я, разумеется, не считаю, что если нет понятия, то нет и субъективности или соответствующего опыта и переживания. Но такой дискурсивный зазор предполагает, что, скорее всего, есть другие модели артикуляции этого опыта. Отсутствие ранее понятия идентичности я связываю с иной, альтернативной моделью Self — самости — в России и с ее ключевыми понятиями: сознание, личность и душа[298].
В текстах литераторов и критиков XIX века все три понятия используются для артикуляции Self. Интересно также, что всеми тремя будет оперировать и советский дискурс. Постепенно они разбредаются по разным дискурсивным нишам и даже сами их маркируют. Так, понятие «сознание» указывает на идеологический советско-марксистский дискурс и окрашено им же; «личность» как понятие развивается в советской психологии, а «душа» становится маркером литературного дискурса. Понятия «личность — сознание — душа» — каждое по отдельности и все вместе — очень отличаются от модели терапевтического Self. Они предполагают коллективную сущность (реальную или воображаемую), являются нормативными категориями, нагруженными потенциалом морально-нравственной оценки. Кроме того, они крепко связаны с внешней по отношению к индивидууму социальной практикой, т. е. оцениваются и генерируются прежде всего через акты, поступки.
Археологией этих понятий в дискурсивных российско-советских недрах занимаются многие «новые» историки, литературоведы и социологи, спорящие о русской и советской субъективности в литературе и идеологии (двух силах, ее формирующих), и я не смогу в данной статье отдать должное этой обширной исследовательской литературе (Engelstein and Sandler 2000; Etkind 2005; Halfin 2003; Hellbeck 2006; Kharhordin 1999; Oushakine 2004; Плотников 2008).
Вместо этого я предложу дискурсивное упражнение, приставляя прилагательные «счастливый» и «несчастный» к каждому из ключевых понятий русско-советской субъективности.
«Счастливая душа» — сочетание возможное, но несуществующее, что еще раз указывает на неотъемлемость страдания и боли для сущности «душевного». Это не значит, что душа не может находиться в состоянии счастья, но счастье не может быть ее перманентной характеристикой. «Несчастная душа» более приемлемо, хотя «страдающая» — звучит гораздо лучше.
«Счастливое сознание» или «несчастное сознание» — особенно причудливое сочетание; оно указывает на несовместимость между эмоциональным и когнитивным смыслом этих понятий (счастье и сознание).
А вот «счастливая личность» — сочетание не только возможное, но и активно используемое как в идеологическом дискурсе о счастливой советской личности, так и в сегодняшнем поп-психологическом, масс-терапевтическом постсоветском дискурсе. Интересно, что «несчастная личность» как понятие не работает; возможно, это указывает на то, что полное несчастье говорит об отсутствии личности. Однако это причудливое сочетание я нахожу в стихотворчестве Елены Макеевой, психотерапевта, которая предлагает своим читателям на популярном портале Стихи. ру новый способ самолечения — «стихотерапию»:
Личность несчастная, личность незрелая, В панцире «эго» томишься. Прежде себе счастья б в жизни хотела бы, Жертвовать ты не стремишься. Лень, и апатия, и раздражение, Сон непомерный и скука. Ищешь спасения ты в развлечении, Тяжки похмелия муки.«Стихотерапевт» Макеева предлагает нам фрейдистское понимание «личности» как аутентичного Self, которое стремится к счастью и заковано рамками и нормами общества, трансформированными во внутреннего стража порядка. Эта современная интерпретация уже указывает на постсоветское смещение и частичную дискредитацию смыслов ключевых понятий российско-советской «самости» — личность, сознание и душа.
Постсоветская судьба понятий сознания, личности и души такова: по разным причинам и разными темпами они вымещаются из академического и интеллектуального дискурса. «Сознание» отталкивается, будучи маркированным марксистско-ленинским дискурсом и партийной практикой. «Личность», как кажется, находит место в нише популярной психологии, в литературе самопомощи по построению карьеры, семьи и т. п. Ну а «душа» перемещается в религиозный православный дискурс, с одной стороны, и в националистический русский дискурс — с другой. На этом сдвиге и в этом зазоре обживается новосозданное понятие «идентичность»; оно проникает во все области интеллектуального и публичного дискурса и становится доминантной формой артикуляции «чего-то» — именно «чего-то», так как что это понятие артикулирует, остается крайне размытым, и интерпретативное прочтение использования этого понятия вскрывает каждый раз иной объект, который оно покрывает. Именно покрывает — больше, чем называет и объясняет (Lerner 2006).
Такое перераспределение понятий связано с общим постсоветским дискурсивным сдвигом в авторитетах социального знания. Этот сдвиг и ведет к некоему вакууму, дефициту символических языков описания (к тому, что Сергей Ушакин называет «афазией»: Oushakine 2000) и дискурсивных средств артикуляции социального опыта. Он сопряжен с изменением в месте и роли литературного дискурса, с одной стороны, и идеологического — с другой стороны, как регистров артикуляции понятий индивидуума. На смену им приходят глобализированный дискурс социальных наук[299] и дискурс массовой американской культуры, основанный на поп-психологии и религиозности в ее современном (New Age) преломлении. Их дискурсивные формы, интерпретативные практики и институциональные рамки становятся важнейшей ареной артикуляции новой русской и постсоветской коллективной и личной идентичности, формирования национального и глобализированного социального знания[300].
Таким образом, современные дискурсивные отношения, которые я хочу очертить, не следуют популярной модели российской культуры, согласно которой в России «чего ни хватишься, ничего нет», т. е. не предполагают вакуума, куда внедряются новые понятия. Я говорю о смысловом сдвиге, или смещении, понятий. И на этом сдвиге происходит освоение дискурсивных форм терапевтической культуры, ее сценариев эмоционального благополучия, рецептов достижения счастья, ее диагностики здоровой любви, происходит переосмысление возможности «счастья в любви».
Интенсивное становление такой терапевтической культуры в России сегодня происходит на разных уровнях, и каждый из них может стать предметом антропологического-социологического изыскания. Это и реконструируемая психологическая дисциплина, ее дискурс, границы с другими полями (психиатрия, медицина, а также разного рода духовные практики и псевдонауки о человеке). Это и набирающие статус терапевтические профессии, их практика, их имидж, отношения с властью и общественными и образовательными институтами, медициной. Особенно интересным мне кажется ее доминирование в массовой культуре. Именно там — в литературе, кино и на телевидении — происходит психологизация эмоциональной жизни, межличностных отношений и сценариев любви.
Счастье в любви в терапевтическом телешоу
Явным проявлением такой работы над массовыми эмоциями и основным инструментом терапевтической культурной технологии западным критикам представляется телевизионное шоу, и ярким примером здесь служит шоу Опры Уинфри. Его детальный интерпретативный анализ как культурного текста дает Иллуз в своей книге «Oprah Winfrey and the Glamour of Misery» (Illouz, 2008). В этом телевизионном проекте публично, в прямом эфире обсуждаются истории частной жизни реальных людей при участии «специалистов» разного рода, публичных фигур, селебрити и звезд поп-культуры. Особая реконструкция биографий участников (в том числе самой ведущей), объектификация переживаний героев, «говорение об» эмоциях и «работа над» эмоциями участников — вот что стоит в центре телевизионного терапевтического нарратива.
В одной из программ на радио-канале Опры, посвященной теме «How to stop dating bad boys?», обсуждение фокусируется на причинах странной патологии: некоторые женщины притягиваются к плохим мальчикам (плохие — это, конечно, имеющие проблемы с интимностью, с долгосрочным обязательством в отношениях и т. д.) Патология при этом не в мужчине, а в женщине. Влюбляясь в bad boys, она должна искать причину в себе, в своем бессознательном, скорее всего — в своем прошлом, и изменить себя. Обнаружить патологию, отослать к подсознательному, связать с прошлым, мобилизировать Self на исправление и избавление от страдания — все на пути к эмоциональному благополучию. Таков упрощенный терапевтический нарратив подобного шоу.
Неспособность и провал, отклонение от нормы (измена, например) в терапевтическом дискурсе не получают моральной оценки. Они отсылаются к неразрешенной патологии, превращающей субъекта (допустим, мужа-изменника) прежде всего в жертву собственного несовершенного Self. Важно понять: являясь доминирующим моральным дискурсом позднего модернизма, терапевтический дискурс предлагает совсем иное понимание той ответственности, которую несет субъект за свой моральный провал или неспособность; обвинение, нравоучение и наказание нелегитимно в рамках этого дискурса. Очевидно, конечно, что этот этос работает на утверждение — снова и снова — нормативности, прежде всего американского культурного сценария успеха и счастья, но стратегия утверждения этой нормы терапевтическая, а не морализаторская, т. е. больной, а не преступник.
Таким ли образом имитированные формы подобного TV show работают на постсоветском телеэкране?
Ответ, надо сказать, не столь прост. Во-первых, анализ содержания шоу требует разъяснить статус медиатекста, представляющего собой весь многоголосный словесный ряд: что или кого он репрезентирует, чем манипулирует? Генерирует ли он активно какой-то культурный нормативный нарратив или, может быть, только отражает общественное состояние?
Но дело не только в проблематике медиатекстов как антропологического «поля». Дело еще и в том, что при анализе имитаций и копий нужно действовать осторожно. Во-первых, поле копирования всегда многовариантно. Так что есть точные копии, осознанно или вынужденно повторяющие привезенную форму (как бы один к одному), а есть копии, в которых сам перевод формы сразу обнаруживает ее местную переинтерпретацию. Во-вторых, не следует принимать упрощенную интерпретацию доминирования явного психотерапевтического дискурса как единственного имеющего место. Иными словами, важно принимать во внимание не только его присутствие, но и его срывы и провалы, а также не упускать из виду его конкурентов и альтернатив, которые зачастую оспаривают доминантность терапевтической интерпретации. Два эти тезиса я и хочу проиллюстрировать некоторыми примерами.
Обратимся к терапевтической задаче передачи доктора Курпатова, «главного психотерапевта русского экрана», в период трансляции его авторской передачи на Первом канале (2005–2007).
«Доктор Курпатов» — единственное на отечественном телевидении ток-шоу, в котором говорят о человеческих переживаниях. Здесь каждый может найти ответ на самые интимные и главные вопросы. Самое важное для нас человеческие чувства, внутренний мир, боль, страхи и надежды людей. Мы не ищем скандалов и разоблачений. Мы помогаем людям решить проблемы, которые мешают им быть счастливыми. Эта программа для тех, кто готов менять свою жизнь к лучшему, кто не ищет оправданий своим неудачам, кто готов взять свою судьбу в свои руки. И самое главное — эта программа для тех, кто готов работать над собой. Вместе с героями программы зритель осознает, как его собственные заблуждения и неправильные установки мешают ему быть счастливым. Вместе с героями программы зритель учится правильному отношению к жизни и внимательному отношению к самому себе…
Эта заявка является точным переводом формы популярной терапевтической культуры на новое поле. Есть здесь и акцент на говорении об эмоциях и работе над ними — как на пути совершенствования Self и избавления его от страданий путем активной самотрансформации. Это общедоступный рецепт терапевтического дискурса.
Еще один пример переинтерпретации имитированной формы терапевтического TV show я нахожу в программе «Жизнь как жизнь» (Пятый канал, ведущая Татьяна Устинова, 2007–2009). Заявка звучит совсем по-другому:
Цель программы — не столько поиск рецептов решения вечных людских проблем, сколько возможность дать телевизионной аудитории и гостям в студии послушать, выговориться, испытать радость сочувствия, понимания и сострадания. Это программа о нас с вами. Прежде всего, «просто людей», которые каждый день задают себе вопросы: как дальше жить и можно ли вообще как-то выжить, как не сойти с ума от очередного предательства, откуда это одиночество, почему так случилось и что делать, когда кажется, что сил уже не осталось? Интригующие истории, непростые судьбы, сложные жизненные перипетии, драматические ситуации и… как со всем этим жить, потому что жить все равно НАДО! Все в порядке. Жизнь как жизнь.
Перед нами несколько русифицированный вариант перевода терапевтического шоу. Этот текст апеллирует к принципу аутентичности — «это о нас с вами», «просто людях», что является важным элементом терапевтического телешоу Опры Уинфри. С одной стороны, в тексте есть отсылка к одной из основ терапевтической культуры — проговариванию и озвучиванию эмоций. Однако цели программы подчеркивают важность коллективного сопереживания, а не ставят фокус на индивидууме и его внутреннем мире. Несмотря на то что в тексте присутствует намек на развитие возможной «психопатологии» при отсутствии правильной терапии (сойти с ума, например), текст апеллирует к русской дискурсивной форме «выживания» и приспосабливания как ценности, а вовсе не к самотрансформации в качестве лекарства.
Показав многовариантность в интерпретации готовой формы, я хочу обратиться к тому, что происходит в самой студии, дабы проследить, какой дискурс счастья в любви сплетается в рамках телеобсуждения. Траектория смыслов, которую очерчивает мое прочтение происходящего в студийном тексте самой передачи, показывает, что явная терапевтическая форма еще не детерминирует содержания.
Темы, заданные этой программой в период 2007–2009 годов, полны проблематикой развенчания мифов прошлой или существующей эмоциональной культуры: «принц на белом коне: крушение иллюзий», «курортный роман: иллюзия любви», «неравный брак: расчет или любовь, похожая на сон», «жертва во имя любви: грани разумного». Темы эти предлагают по-новому помыслить и знакомые ситуации эмоциональной культуры, и их культурно-очевидную (taken-for-granted) интерпретацию. В темах уже оспаривается определяющая роль судьбы и добавляется элемент собственной активности в достижении, регуляции и коррекции всех этих эмоциональных ситуаций. Это кажется очень похожим на американский терапевтический медианарратив, но на самом деле отличия есть.
Так, например, 15 июня 2008 года в передаче «Жизнь как жизнь» дискутировалась тема «Как выйти замуж без ошибки», созвучная теме Опры Уинфри, которую я привела в пример выше (how to stop dating bad boys). Гости делились своими представлениями о хорошем и плохом романтическом союзе. Одна из них суммировала свой опыт отношений с мужчинами, разделив их на два типа: «клюквокрылы» (успешные и реализованные) и «свеклогрызы» (неуспешные и нереализованные). Другой гость советовал испробовать для поиска подруги его метод «соционики» и убеждал публику, что рациональная сделка с романтическим партнером — самый верный путь построения отношений. Еще один утверждал, что любовь — это только биохимическая реакция, а поэтому ее можно «вызвать». Психологические понятия поиска «истинного Я» и самореализации перемешивались с высказываниями типа «мужики вообще эмоционально туповаты», «хорошего мужика баба из дома не выгонит», «никакие теории головы на плечах не заменят», «в браке по расчету нет ничего плохого, но все же как хорошо влюбиться!». Привлекались примеры из семейной практики Веры Павловны, героини программного романа Чернышевского «Что делать?». В итоге специалист-психолог добавила свою «профессиональную» интерпретацию к дискуссии («мужья бывают обожаемые, уважаемые и унижаемые»), а также пообещала, что встречаются никакой наукой не объяснимые «звездные браки». Если и можно вычленить некий нарратив в этой дискуссии, то не столько терапевтический, сколько житейский — нащупывающий верную практику жизни в джунглях стереотипов и псевдонаучных понятий. Наряду с ним звучат здесь и русский литературный, и советский романтический, и псевдорелигиозный — все те нарративы отношений, эмоций и субъективности, которые составляют культуру эмоционального социализма. Терапевтический поп-психологический нарратив тоже присутствует в студийном тексте, но это — лишь одна из его составляющих, к тому же часто оспариваемая, как покажет следующий пример.
Перекликаясь с проблематикой «Анны Карениной» и особенно с ее постсоветской киноинтерпретацией, я хочу остановиться на передаче «Роковая страсть: любовь или зависимость» (7.09.2008). Сама формулировка темы задает не «толстовскую», а терапевтическую ноту. Здесь неудержимая страсть есть не то, чем она кажется, — она скрывает зависимость. А как мы помним, зависимость в терапевтическом дискурсе, провозглашающем автономность как норму, есть патология. Однако анализируя текстовой ряд этого шоу, я обнаруживаю как терапевтический нарратив, так и его срывы и провалы (disruptions). Именно срывы особенно явно обнажают неоднозначность, немонолитность освоения поп-психологического терапевтического дискурса в России.
Представляя первую героиню, ведущая шоу «Жизнь как жизнь» рассказывает о любви, которая «вспыхнула внезапно и занялась как пожар»; о «вулканических эмоциях», которые обуревали ее и ее женатого возлюбленного. Устинова поясняет, что в итоге «счастья это никому не принесло» и что это вообще часто разрушает жизнь. Появившись на экране, героиня рассказывает историю своего знакомства и развития взаимного чувства.
«Это не любовь, это одержимость, — ставит диагноз эксперт в студии психолог-терапевт Лев Щеглов. — Видно, что тут человек не властен над своими чувствами, рациональное отсутствует, идет эмоциональный взрыв…» Дальше — хуже. Выясняется, что партнер героини, будучи с ней разлучен, покончил с собой. «Психический срыв, — говорит Щеглов. — Надо было вовремя пройти психотерапевтический курс. Глубокий невроз». Гость студии, светский обозреватель, добавляет: «На Западе в каждый момент жизни люди идут консультироваться к специалистам, а мы сами решаем свои проблемы… в этом и заключается наша неграмотность и первобытность».
Казалось бы, можно сделать вывод: нормализующий дискурс дискуссии — терапевтический. Но не тут-то было. «Кто из вас испытывал такую потрясающую страсть, перевернувшую все существование?» — внезапно обращается Устинова к залу. Почти вся аудитория поднимает руки. «Аплодисменты!» — восторженно восклицает ведущая, и звучат бурные аплодисменты.
«А я думаю, что каждый человек такое проходит, не имея вот такой теоретической базы, как у доктора», — признается светский обозреватель, кивая на психолога. «Да и у меня самого бывали штучки всякие», — спешит оправдаться психолог Щеглов. В общем, герои, участники и публика начинают разговаривать. Задушевный «русский» разговор, как известно, — процесс непредсказуемый, и пути его неисповедимы. Это культурный механизм, в котором позволяется многое ненормативное, в нем не соблюдаются иерархии и переворачиваются отношения власти.
Одну альтернативу «здоровому» терапевтическому чувству предлагает кто-то из зрителей: «Мужчина, если любит, на все пойдет, он будет землю есть, но добиваться своей любимой. Если он от вас так отказался, то он вас не любил». Другой гость студии, певец-знаменитость, предлагает пострадавшему от роковой страсти альтернативную терапию: «Можно, конечно, послушать умных людей, а можно просто любить и страдать… Купи ящик шампанского и так оторвись неделю со своими сослуживицами. Все пройдет». Известная телеведущая Татьяна Пушкина подтверждает альтернативный рецепт, рассказывая, как ее от «безумной» любви вылечили только «институтские друзья с водкой, картошкой и селедкой». Она не верит в психологов: «Я давно лечу себя сама», — и зал реагирует на это заявление аплодисментами. Даже психолог Щеглов так увлекается «беседой», что забывает о своей специальной научной экспертной функции и начинает говорить о судьбе, приводя примеры «из жизни». «А вообще, по знакомым судя… нет вариантов, чтобы подобная роковая страсть закончилась длительной хорошей семейной жизнью», — говорит он с иронией.
Далее из зала следует ряд неорганизованных интерпретаций трагической развязки роковой страсти героев передачи: «Им выпала такая роскошь („большая любовь“), и они заплатили за нее нормальную цену»; «О любви нельзя жалеть»; «Если это любовь, значит, это мой крест» и т. д. Особое поощрение публики вызывает рассказ пожилой зрительницы о том, как она когда-то встретила своего нынешнего мужа — будучи замужем и с ребенком. «Это была безумная страсть, которая переросла в любовь, и мы оставили свои семьи. Я ни о чем не жалею, мы уже женаты семнадцать лет». В зале бурные и продолжительные аплодисменты.
Этот студийный текст ускользает от однозначной интерпретации, он многоголосен и многослоен. Терапевтический поп-психологический нарратив — явная часть этого многоголосия, но вовсе не единственная. Более того, публика и даже сами «эксперты» — рыцари терапевтической культуры оспаривают перевод счастья в любви на терапевтический нарратив. Однако, закругляя передачу, ведущая Устинова дисциплинирует студийный дискурс: «Любовь — это то, зачем мы все пришли в этот мир… А роковая страсть — это болезнь, от которой два лекарства: время и здравый смысл. Наверное, иногда пострадать полезно. Но если вам надоест страдать, вспомните, что все можно изменить…»
Постсоветское благополучие без любви?
Мысль о том, что от страданий можно избавиться и «все изменить», конечно, неуникальна для терапевтической культуры. Религиозные течения, национальные идеологии и революции разного рода были движимы этой идеей. Более того, даже когда основной драйв этих избавительных проектов был направлен на трансформацию внешнего мира и его устройства, они все удивительным образом приходили к требованию изменения личности, трансформации индивидуума и работы над собой. Кажется, что и на сегодняшнем постсоветском переходе есть спрос на идеологии, предлагающие тем, кому «надоело страдать», просто «изменить всё».
Подтверждая это наблюдение, писатель и критик Дмитрий Быков (Быков 2009) в своем очерке «Псих-фактор» прослеживает трансформацию «главной фигуры» российского общественного сознания начиная с 1985 года. Сначала это были Историк и Журналист, затем — Экономист, после — Политтехнолог, но никто из них не принес Счастья. «И тогда к согражданам, разуверившимся во всем, вышел Психолог… и поняли, что вот оно, лекарство. И стало Счастье…» Такой успех, полагает Быков, объясняется посланием, которое принес психолог: «не можешь изменить мир вокруг себя, измени отношение к нему».
Действительно, что отличает терапевтическую культуру — так это ее акцент на работе над эмоциями, трансформация чувств, которую она проповедует. Не изменение мира — будь то внутреннего или внешнего, — а пути восприятия и переживания его. Таким образом, счастье становится целью достижимой и даже инструментальной. У него есть рецепт, оно нормативно, и его можно оценить. Оно есть правильное и здоровое, сбалансированное и дисциплинированное эмоциональное переживание мира. Одна из таких дисциплинируемых эмоций — любовь. Кажется, что такое счастье Генка Шестопал из «Доживем до понедельника» точно сжег бы, хотя оно и совсем не советское коллективное, а терапевтическое капиталистическое. Сегодня такое счастье и такая любовь становятся частью культурного репертуара постсоветской культуры и даже доминируют в определенных ее полях.
Базисные культурные технологии, пролагающие рельсы новой терапевтической эмоциональной культуре, уже здесь и хорошо адаптированы в постсоветском культурном поле, как частном, так и публичном. Благополучная терапевтическая личность — нестрадающая, рациональная, managed emotionally, функционирующая, обращенная к реальностям, а не к фантазиям, — уже артикулируется и институционализируется в разных дискурсивных топосах. Таким образом, в популярной российской культуре явно прослеживается переход от любви к благополучию; от литературы к психологии; от чувств к эмоциям; от судьбы к ошибкам и дисфункциям, которые надо корректировать. Его можно очертить, топографируя новые интерпретации семьи, брака и измены, любви и счастья. Этот переход, однако, не имеет ни четкого линеарного, ни дихотомического характера. Метафорически он может быть помыслен как возникновение новой возвышенности в дискурсивном ландшафте постсоветской культуры, однако особенно выгодно расположенной и влиятельной.
Именно поэтому, как мне видится, доминантная интерпретация в антропологии постсоветского периода объясняет эту новую модель благополучной личности прежде всего как приятие и усвоение западного потребительского капиталистического дискурса, а также «перековка» нашего человека в понятиях, которые этот дискурс предлагает. Новый постсоветский Self наполнится содержанием неолиберальным, как предлагают, например, Алексей Юрчак (Yurchak 2003) и Томас Матца (Matza 2009), или потребительским, который предлагает, например, Сергей Ушакин (Oushakine 2000). Однако я предлагаю помыслить содержание этой новой самости более пристально и заметить, что терапевтическая личность функционирует здесь не в одиночестве и является не единственной моделью. С терапевтическим дискурсом неплохо конкурируют ее местные альтернативы и культурные категории эмоционального социализма. Они были не менее мощными и псевдоуниверсальными моделями субъективности, чем его капиталистические современники.
Более того, не только русско-советские литературные, идеологические и житейские нарративы счастья и любви продолжают быть активными конкурентами в сегодняшнем культурном репертуаре, но и само их отвержение или потеря порой сильнее любого «привозного» терапевтического содержания. Поэтому, на мой взгляд, чтобы неплоско и всерьез осмыслить многоголосую постсоветскую интерпретацию «Анны Карениной», рядом с психологизированной «аутентичной» версией Сергея Соловьева нужно поставить и другую современную версию, которая только намекает на оригинал. Мы находим ее в примечательном постсоветском фильме «Связь»[301]. Это фильм о романтической связи между ленинградской Ниной и московским Илюшей. Оба «семейные», и связь (не любовь, заметьте) уже угрожает их благополучным семьям. Илюша бизнесмен, хозяин магазинов и по-московски богат. Нина по-новому успешна в области рекламных дел. Москва и Питер, как всегда, маркируют разные взгляды на жизнь и ее стили, конечно, в их постсоветском проявлении. На откровение дочери о том, что к ней пришла любовь, ее мать укоряет: «Любовь в твоем возрасте случается либо от глупости, либо от безделья. Гнать ее надо, эту любовь твою». Подруга тоже советует «завязать», т. к. «любовь делает из человека урода». Смысл происходящего на экране показательно интерпретирует Дмитрий Быков (Быков 2009). В его прочтении, нет в фильме никакой любви. Говорить героям друг с другом решительно не о чем, и ничто их не связывает. Связь их — не любовь, а одно «безделье». Илюша и Нина жить друг без друга не могут, потому что им «делать больше нечего», «от нечего делать любовь». Безделье это, на взгляд Быкова, связано с «потерей страны» и «осиротевшим сознанием», с одной стороны, и с засильем новых видов рыночной занятости, которые не требуют «участия души»: «Когда человеку по-настоящему нечем жить, любовь становится единственным содержанием его пустых дней». То есть то, что есть сегодня вместо любви, — «взаимная пасмурная нежность осиротевших детей, которым некуда себя деть», — это результат, с одной стороны, постсоветского «посттравматического» синдрома и «афазии» (как могли бы сформулировать диагноз исследователи постсоветского творчества Липовецкий и Эткинд 2008; Etkind 2009; Oushakine 2000) и праздника капиталистической экономики — с другой. Действительно, психологизации в фильме нет, нет терапевтических нарративов, нет патологий и деформированных скрытых желаний. Нет рецептов самокоррекции и вообще никакого призыва к изменению действительности, будь то внешней или внутренней. Но в ней нет также ни любви, ни счастья, ни страдания. Только безысходное благополучие.
Синхронный анализ дискурсивного ландшафта очерчивает траекторию «счастья в любви» таким образом, что она уже не представляется прямой линеарной трансформацией, где один эмоциональный стиль замещает другой. Он обнаруживает одновременное сосуществование в настоящем моменте разных конкурирующих моделей, отличных как в своей этимологии, так и в своей археологии. В изучении реального физического ландшафта такое сосуществование для нас очевидно: на одном временном и пространственном отрезке присутствуют знаки разных эпох и принесенные издалека. В ландшафте дискурсивном такая одновременность приобретает важный потенциал переосмысления значений. Так, например, в нашем случае смыслы терапевтического счастья, любви и персональности не зафиксированы и не детерминированы экспортируемыми или имитируемыми дискурсом и культурными технологиями. Терапевтическое содержание этих форм может видоизменяться, выхолащиваться, а может и заменяться другим. И в этом смысле российский вариант терапевтической культуры «мешает карты» в уже почти закрытом проекте интеллектуальной критики западной психологии. Например, можно себе представить, что терапевтическая культура будет привязана к новой национальной идеологии или, может быть, даже мобилизована на службу родины для построения, например, новой российской семьи и нравственности. Возможно, однако, что в поле перевода терапевтической культуры произойдет удивительное поглощение новых форм старыми моделями и знакомыми нарративами, которые только перемещаются из советской эмоциональной культуры в капиталистическую, из частного — в публичное, из кухни — в кино и на телеэкран.
ЛИТЕРАТУРА
Бойм С. (2002). Общие места: Мифология повседневной жизни. М.: НЛО.
Борисова Н., Богданов К., Мурашов Ю. (2008). СССР территория любви. М.: Новое издательство.
Быков Д. (2009). Конец связи. С. 35–43; Психфактор. С. 249–258; Думание мира. СПб; М.: Лимбус-Пресс.
Гинзбург Л. (1999). О психологической прозе. М.: INTRADA.
Липовецкий М., Эткинд А. (2008). Возвращение Тритона: Советская катастрофа и постсоветский роман // Новое литературное обозрение. № 94.
Лернер Ю. (2009). «Чувства» и «работа над собой». Презентация на международном исследовательском семинаре «Бюро находок перевода». Институт Ван-Лир в Иерусалиме. Иерусалим, декабрь 2009.
Плотников Н. (2008). Личность как историческая конвенция: от «индивидуальности» к «идентичности» (История понятий персональности в русской культуре) // Новое литературное обозрение. № 91.
Тёмкина А. (2008). Сексуальная жизнь женщины: между подчинением и свободой. СПб.: ЕУ.
Эпштейн М. (2009). Цунами со знаком плюс: Счастливые и несчастливые семьи. Толстовская насмешка? // Независимая газета. 24.09.2009.
Эткинд А. М. (1993). Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб: Медуза.
Bauer R. A. (1952). The New Man in Soviet Psychology. Cambridge: Harvard University Press.
Cushman P. (1990). Why the Self is Empty. Toward a Historically situated Psychology // American Psychologist. № 45(5). P. 599–611.
Cushman Ph. (1995). Constructing the Self, Constructing America: A Cultural History of Psychotherapy. Reading, MA Addison-Wesley Publishing Company.
Self and Story in Russian History / L. Engelstein, S. Stephanie (eds.) Ithaca and London: Cornell University Press, 2000.
Etkind A. (2005). Soviet Subjectivity: Torture for the Sake of Salvation? // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. № 6(1) P. 171–186.
Etkind A. (2009). Stories of the Undead in the Land of the Unburied: Magical Historicism in Contemporary Russian Fiction // Slavic Review. № 68 (3). P. 631–658.
Field D. A. (2007). Private Life and communist Morality in Khrushchec’s Russia NY: Peter Lang.
Furedi F. (2004). Therapy Culture: Cultivating vulnerability in an Uncertain Age. London: Routledge.
Halfin I. (2003). Terror in My Soul: Communist Autobiographies on Trial. Cambridge: Harvard University Press.
Hellbeck J. (2006). Revolution on my Mind: Writing a Diary under Stalin. Harvard University Press.
Hochschild A. R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feelings. Berkeley: University of California Press.
Illouz E. (2003). Oprah Winfrey and the Glamour of Misery: Am Essay on Popular Culture. NY Columbia University Press.
Illouz E. (2007). Cold Intimacies: the Making of emotional Capitalism. Cambridge: Polity Press.
Illouz E. (2008). Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions and the Culture of Self-Help. Berkeley: University of California Press.
Illouz E. (1997). Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions of Capitalism. Berkeley: University of California Press.
Joravsky D. (1978). The Construction of the Stalinist Psyche // Cultural Revolution in Russia 1928–1931 / Ed. by Sh. Fitzpatrick. Indiana University Press. P. 105–127.
Kharhordin O. (1999). The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Kozulin A. (1984). Psychology in Utopia: toward a social history of Soviet psychology. Cambridge, MA The MIT Press.
Lasch Ch. (1979). The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. NY: Wirner Books.
Lerner J. (2006). From «Conscious Soul» to «Consumer Identity»: Shifts in «Identity» conception in post-Soviet Russia The Annual Conference of the Israeli Anthropological Association.
Lerner J. (2007). From «Soul» to «Identity»: The constitution of the Social Sciences in post-Soviet Russia and the Sociologization of Russianness. PhD dissertation. Hebrew University of Jerusalem, 2007 (Hebrew).
Makoveeva I. (2001). Cinematic Adaptation of Anna Karenina // Studies in Slavic Cultures II. January. P. 111–134.
Matza T. (2009). Moscow’s Echo: Technologies of the Self, Publics and Politics on the Russian Talk show // Cultural Anthropology. № 24 (3). P. 489–522.
McLeish J. (1975). Soviet Psychology, History, Theory, content. London: Methuen.
Muza A. (2009). «The Tragedy of a Russian Woman»: Anna Karenina in the Moscow Are Theater, 1937 // Russian Literature. LXV. P. 467–506.
Oushakine S. (2000). In a state of post-Soviet Aphasia: Symbolic Development in Contemporary Russia // Europe-Asia Studies. № 52 (6). P. 991–1016.
Oushakine S. (2007). «We’re Nostalgic but We’re not Crazy»: Retrofitting the Past in Russia // The Russian Review. № 66 (3). P. 451–482.
Oushakine S. (2000). The Quantity of Style: Imaginary Consumption in the Post-Soviet Russia // Theory, Culture, and Society. № 17 (5). P. 97–120.
Oushakine S. (2004). The Flexible and the Pliant: Disturbed Organisms of Soviet Modernity // Cultural Anthropology. № 19 (3). P. 392–428.
Pandolfo S. (2000). The thin line of Modernity: Some Moroccan debate on Subjectivity // Questions of Modernity / Ed. by T. Mitchell. Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 115–144.
Rieff Ph. (1987). The Triumph of the Therapeutic: Uses of Faith after Freud. Chicago: University Of Chicago Press.
Rulyova N. (2007). Domesticating the Western Format on Russian TV: subversive Glocalization in the Game Show «Pole Chudes» (The field of Miracles) // Europe-Asia Studies. № 59(8). P. 1367–1386.
Salemenniemi S. (2010). In search of a «New Wo(Man)»: Gender and Sexuality in Contemporary Russian Self-Help Literature // Russian Mass Media and Changing Values. Edited by: Arja Rosenholm, Kaarle Nordenstreng, and Elena Trubina. London: Routledge. P. 134–154.
Seligman M. E.-P. and Csikszentmihalyi M. (2000). «Positive Psychology: An Introductio» // American Psychologist / № 55(1):5–14.
Shlapentokh V. (1984). Love, Marriage and Friendship in the Soviet Union: Ideals and Practices. NY: Praeger.
Yurchak A. (2003). Russian Neoliberal: The Entrepreneurial Ethic and the Spirit of «True Careerism» // Russian Review. № 62(1). P. 72–90.
The Concept of Activity in Soviet Psychology / J. V. Wertsch (Ed.). Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1981.
Wierzbicka A. (1999). Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals. Cambridge: Cambridge University Press.
Wierzbicka A. (1998). Russian Emotional Expression// Ethos. № 26(4). P. 456–483.
Wierzbicka A. (2004). «Happiness» in Cross-Linguistic к Cross-Cultural Perspective Author(s): Anna Source: Daedalus. Vol. 133. № 2. P. 34–43.
Wierzbicka A. (2009). Счастье (Happiness) and other Active Emotions // Paper presented at International Workshop on «Lost and Found in Translation». Van Leer Jerusalem Institute, Jerusalem. December 2009.
______________________
______________
Юлия Лернер[302]Как утопия стала реальностью: «Строительство БАМа — самое счастливое время в моей жизни»[**]
Как ни странно это прозвучит для моего и более старших поколений, многие представители молодежи никогда не слышали аббревиатуры БАМ и не знают, что она означает. По какой-то странной причине грандиозный международный проект оказался практически полностью вымещен из социальной памяти по прошествии менее чем двадцати лет. Как стремительно и громко началась история БАМа, так же стремительно она канула в небытие. В связи с этим закономерно возникают более широкие вопросы: что помнят сегодня о жизни в социалистическом обществе? кто и как помнит? какое значение эта память имеет для настоящего и будущего?
Не без участия социальных наук после развала СССР был создан определенный дискурс памяти о советском, сфокусированный на подавляющей стороне системы[304]. Увлеченность исследованиями закрытых, маргинализованных групп способствовала изучению травматической социальной памяти[305]. Сложившийся внутри этой традиции подход по инерции провоцирует исследователей выдергивать из социальной реальности эпизоды, связанные с болезненными переживаниями групп, как правило, сознательно или стихийно оказавшихся в оппозиции существовавшему в советском обществе режиму. Гораздо меньшее количество работ представляют память о советском как о сложном и разноплановом явлении, хотя в последнее время эта тема проблематизируется все чаще[306].
Развитие традиции исследования памяти о травматичных переживаниях дало свои положительные результаты. Во многом заслугой именно таких исследований можно считать создание методологического аппарата обращения с социальной памятью — ее изучения, понимания, интерпретации[307]. Однако с монополизацией традиции связан и ряд проблем. Практически полное исключение лояльного большинства из картины памяти о советском привело к тому, что само существование его в контексте советского общества приходится сегодня доказывать и обосновывать, чему посвящает целые разделы своей книги американско-российский социальный антрополог А. Юрчак[308]. Данная статья написана с намерением сделать вклад в мозаику памяти о советском со стороны тех, чьи взаимоотношения с государством строились не на сопротивлении ценностям социализма, а, скорее, на согласии с ними.
Статья написана на основании шестнадцати биографических интервью с бывшими строителями БАМа — непосредственными участниками и очевидцами строительства; интервью были получены в ходе исследовательского проекта в 2005–2006 годах в Санкт-Петербурге и Москве. Согласно интервью, принятие решения о поездке на БАМ было продиктовано разнообразными причинами. Среди информантов были люди, движимые исключительно обстоятельствами личной жизни, например желанием сменить обстановку сразу после развода. Другие ехали по распоряжению комсомола, не обдумав как следует собственные желания. Для некоторых определенные сложности представляла интеграция в повседневность советского большого города: для выпускников детских домов, освободившихся из мест лишения свободы и проч. Встречались также люди вполне успешные и благополучные по меркам советского общества 1970-х: молодежь из «хороших» семей, с высшим или средним специальным образованием, нашедшая свое место в социуме тогдашних Ленинграда и Москвы, неплохо зарабатывающая. Однако все без исключения информанты в свое время приняли решение поехать на строительство БАМа добровольно[309].
Основной темой проекта стала БАМовская повседневность. Поэтому в качестве информантов подбирались люди, прожившие там не менее одного года. (Далеко не все прибывшие на БАМ задерживались даже на месяц[310].) Таким образом, выборка информантов, принявших участие в нашем исследовании, имеет серьезную поправку: всё это люди, которые приехали на БАМ и в силу разных причин остались, в том числе те, кому изначально на БАМе понравилось. Данный комментарий важен, поскольку сегодня именно этим людям принадлежит власть конструирования памяти о БАМе.
Память о БАМе
Существующие доминирующие дискурсы представляют БАМ с позиции рациональных экспертов, которые оценивают рентабельность строительства, целесообразность и разумность проекта. Публичная память о БАМе представлена небольшими экспозициями в музеях, посвященных железнодорожному транспорту, и краеведческих музеях бывших БАМовских городов; редкими публикациями в прессе; памятниками, сохранившимися на бывших станциях БАМа; деятельностью ассоциаций бывших БАМовцев[311].
Социальная память о БАМе как коллективное представление, конструирующее прошлое и влияющее на настоящее[312], до сих пор не представлена ни в научном, ни в информационном дискурсах. Между тем именно от этого сегмента памяти в первую очередь можно было бы ожидать нового социологического взгляда на последнюю стройку социализма и на позднее советское общество. Учитывая специфику использованного метода — биографического интервью — и отмеченные особенности выборки, представляется целесообразным применительно к индивидуальным рассказанным историям использовать понятие «нарративная память» и при помощи анализа биографических интервью подойти к реконструкции одного из пластов памяти о БАМе.
Комплекс социально-политических изменений, произошедших в стране на рубеже 1980–1990-х годов, заставил последнее советское поколение ревизовать собственный социальный опыт, соотнести его с действительностью и выбрать для себя стратегию дальнейшего обращения с собственной памятью. Группа бывших БАМовцев, посвятивших молодость и часть зрелости строительству железной дороги, рисковала быть непонятой, а возможно, и осужденной за участие в реализации проекта, который не получил однозначной оценки ни в советском, ни в постсоветском дискурсе, и потому на долгие годы «замолчала» о своем опыте:
Я никогда не рассказывала <…> Это моя юность, моя радость, моя жизнь. И мне совершенно не хочется, чтобы кто-то мне в глаза смеялся и говорил, что я, там, идиотка, делала все эти годы. Хотя на самом деле я интереснее многих прожила (Ж. 1954 г.р. 16 лет на БАМе).
Это умолчание позволяет воспользоваться методологическими инструментами исследования травматичной памяти, хотя в данном случае травматична не сама память, а внешняя реакция на нее, вызванная радикальной трансформацией официального дискурса. Исследователи травматичной памяти используют понятие «молчащих» социальных групп[313], называя так обладателей воспоминаний, не артикулированных во внешнем дискурсе в силу внешних причин. С помощью метода устной истории исследователи продемонстрировали, что память является индикатором социальной позиции для воспроизводства социального неравенства. Память «исчезающих групп исчезает», «память подчиненных групп является подчиненной памятью». То есть целесообразно анализировать не только содержание повествования, но и его форму, такие характеристики, как эмоциональный фон рассказа, его пространственный охват, количество упоминаемых родственников и знакомых, «якоря» памяти, от которых рассказ отталкивается[314].
Следуя рекомендациям исследователей «молчащих» групп, в первую очередь стоит сказать об эмоциональном фоне воспоминаний, который проступал в ходе биографических интервью, поскольку именно эмоциональная составляющая нарративов вызвала удивление и определила тему статьи. В целом в интервью представлены различные воспоминания, структура коих довольно сложна. Последовательность излагаемых событий иногда нарушена. Оценки самой идеи строительства БАМа и собственного участия в стройке, выдаваемые информантами, не всегда однозначны, а порою противоречивы. Однако при этом в интервью ярчайшим образом выделяется эмоциональный фон, связывающий разрозненную группу информантов в единое сообщество, в группу единомышленников. Этот эмоциональный фон выносит в особую плоскость биографии и памяти позитивно-ностальгические воспоминания о БАМе, вплоть до того, что проведенные там годы вспоминаются как самые интересные, самые лучшие, самые насыщенные событиями, самые главные годы во всей жизни. В биографических воспоминаниях БАМ, помимо всего прочего, раскрывается как уникальный по своим масштабам и содержанию социальный эксперимент, заслуживающий пристального внимания исследователей.
«Мы пожили при Коммунизме»[315]
Множественные модели социальных утопий, созданные теоретиками в разные эпохи, неизменно объединяет ряд моментов: все они вырастают из неудовлетворенности существующей реальностью и основаны на вере в возможность безупречной социальной модели, при которой вероятным становится воплощение идей социальной справедливости и всеобщего благополучия. Для советских людей периода застоя понятие утопии имело особое значение. Речь идет о людях, живших в стране воплощенного социализма в ожидании коммунизма — социального строя, который существовал на тот момент только как идеальная модель, только в марксистско-ленинском учении и отнюдь не был обделен очевидно утопическими тезисами. Вместе с тем, если верить информантам, да и многочисленным воспоминаниям, существующим в самых разнообразных жанрах, ожидание коммунизма было вполне реальным. Образ коммунистического общества буквально «витал» в советском обществе 1970-х годов, вдохновленном прогнозами власти о «построении коммунизма к 1980 году».
По общему признанию, модель коммунистического общества не была претворена в жизнь. Однако благодаря исследованию мы имеем возможность увидеть: в сознании целой группы людей в определенное время в определенном месте этот призрак ожидания (почти) совпал с действительностью. Возможно, поэтому при анализе конструкта БАМовской действительности, который возник в воспоминаниях бывших строителей, нарративы выстроились в схему, близкую к модели идеального коммунизма.
Материал биографических интервью позволяет воспользоваться этой моделью как аналитической схемой и на основе данных составляющих рассмотреть воспоминания бывших БАМовцев о годах строительства железной дороги. Начать стоит с поиска на карте того места, к которому по сей день тянутся звенящие нити памяти о счастливо прожитом.
География БАМа.
Известный публицист и культуролог М. Берг выделяет такие географические особенности утопии, как крайняя удаленность, «можно даже сказать, бесконечная удаленность», и территориальная отчетливость, неприкосновенность границ[316]. Вторая географическая особенность утопии — замкнутость, обособленность, которая начинает функционировать как грань между старым и новым и одновременно как структурное начало другого, Иного места с иными фундаментальными основаниями[317].
В переводе с древнегреческого «утопия» означает «место, которого нет». Изначально БАМ существовал как набор абстрактных локально-пространственных характеристик. Карта БАМа накладывалась вторым слоем на уже существующую карту Восточной Сибири и Дальнего Востока. Объекты на карте первого слоя служили одновременно приблизительными ориентирами БАМовского пространства и конечными пунктами инфраструктуры и цивилизации. Всего за десять лет активного строительства второй слой карты отчетливо проявил новый географический рисунок, а регион приобрел второе название — БАМовский.
В силу известных причин на БАМ было трудно добраться на обычном транспорте. Железную дорогу, так же как и автомобильные трассы, вновь прибывающим БАМовцам только предстояло построить. В том месте, где кончалась железная дорога, пересаживались на автобусы. В том месте, где заканчивалось шоссе, пересаживались на вертолеты. Точный маршрут и пункты пересадок, как правило, впервые узнавали, проехав к месту назначения.
Изначально БАМ не имел адресов. Письма с Большой земли посылались на номера бригад, без указания привычных почтовых координат: этих координат еще не существовало. Поселки и города БАМа, вся инфраструктура начали создаваться параллельно с железной дорогой. Для страны сообщество БАМовцев существовало почти виртуально. В стране о БАМе говорили: «там, где кипит жизнь», «там, где строится дорога века». В песне пелось: «Я там, где ребята толковые, / Я там, где плакаты „Вперед“». Что именно происходило «там»? У обычного советского человека существовало несколько возможностей узнать об этом. СМИ регулярно сообщали о событиях на стройке. При этом официальный дискурс последовательно конструировал героизм строителей, преодолевающих ежедневные трудности и ценою огромных усилий помогающих стране построить важнейший участок железной дороги. Согласно воспоминаниям бывших БАМовцев, они действительно чувствовали подчеркнутое внимание к себе со стороны власти, особенно в начале строительства. Самые первые отряды отправляли на стройку «с большой помпой»:
Нас привезли в Москву, поселили в гостиницу — вообще! Потом на автобусы посадили — «Икарусов» двенадцать было — и по всей Москве провезли. Светофоры все нас пропустили. Мы колонной ехали, с сопровождением. В мавзолей очередь была <…> провели нас без очереди. <…> Потом на станции митинг был, и пока мы ехали, на каждой станции митинг, угощенье (М. 1955 г.р. 12 лет на БАМе).
Вместе с тем в стране было известно, что на БАМе платили сравнительно высокие зарплаты, в магазины БАМовских поселков и городов частенько завозили дефицит. Друзья и родственники, приезжая в гости с БАМа, привозили импортные товары в подарок и непривычно легко обращались с деньгами. Рассказывали, что на БАМе хорошая рыбалка, охота, а вместо привычного такси случается использовать вертолет. Уже этих двух дискурсов достаточно, чтобы в представлении позднесоветского обывателя БАМ оформился в некоего «Другого» позднего советского общества. Без сомнения, это влияло и на самовосприятие БАМовцев тогда, и на их память о БАМе, с которой мы имеем дело сейчас.
Особенности топографии стройки изначально поместили БАМ вне стандартной системы географических координат. Непохожесть БАМа на всю остальную советскую страну обводит границей территорию, на которой происходит стройка. Воспоминания в интервью воспроизводят способ репрезентации БАМа как особенного места. Несравненны богатства тайги: реки с кристально чистой водой кишат рыбой. Таежная природа наделяется целебными и даже чудодейственными свойствами: среди прочего рассказывается о необыкновенных исцелениях у источников или при помощи таежных трав.
Пребывание на БАМе выделяется в особый этап жизни, тесно связанный с историей страны и вместе с тем уникальный и позитивно вспоминаемый, в том числе в силу территориальной удаленности и относительной оторванности БАМовского сообщества от жизни обычных советских граждан. В интервью эта дистанцированность выражается в противопоставлениях: «БАМ — Большая земля», «БАМ — Союз». Локализация — настолько яркая и значимая характеристика БАМа, что идея счастья, связанная с опытом пребывания там, — временная по сути — переводится в пространственную категорию.
Сообщества БАМа.
Практически все социальные утопии предлагают тот или иной вариант изменения существующей социальной иерархии. Модель идеального коммунизма подразумевает отсутствие деления на социальные классы и упразднение государства.
Рассказы о том, как было принято решение ехать на БАМ, имеют важный социальный аспект. Во-первых, среди мотивов называется желание уехать от закостенелости и предопределенности социальной структуры советского общества эпохи застоя:
На работе все было понятно: стал инженером, жди, когда уйдет старший инженер. Что-то особенное должно было произойти, чтобы в обход кого-то тебя повысили (Ж. 1957 г.р. 18 лет на БАМе).
Культурная жизнь и возможности проведения досуга в большом городе тоже устраивали не всех:
Даже агитации не надо было, потому что на самом деле, там, завод, там, вечерние какие-то пропивки, какие-то кафешки и бары, которых вечно не хватало, куда, там, чтобы попасть, надо было или кому-то червонец дать, или в очередь какую-то биться… Иногда нужно было весь вечер вот так вот по городу проходить и никуда не попасть. То есть для молодежи свободы интересов не было совершенно. Поэтому, конечно, для нас вот этот призыв, для нашего поколения, мне кажется, — это такой большой шаг в большую жизнь, в интересную и очень романтическую (Ж. 1954 г.р. 16 лет на БАМе).
Идеологическая подоплека проекта строительства «главной железной дороги страны» требовала от желающих поехать прохождения определенных фильтров и соблюдения ряда условностей. В частности, на БАМ отбирали людей, имеющих рабочие специальности либо желающих их приобрести. Наличие высшего образования не приветствовалось; среди информантов встречались такие, которые скрывали наличие у них диплома о высшем образовании. Для БАМа изначально формировалась по возможности однородная социальная среда из представителей рабочего класса или из тех, кто имел желание в нее влиться.
Прежде чем получить «путевку» на БАМ, практически все добровольцы проходили стажировку, в ходе которой проверялись их здоровье и физическая подготовка, а также проводилась агитационно-пропагандистская, или «разъяснительная», работа. Целью этой работы было выяснение мотивов поездки на БАМ, индивидуальных целей и задач, проверка идеологической лояльности. Таким образом, будущих строителей-БАМовцев как бы готовили к переходу в «другой» мир, к началу «другой» жизни. В действительности для многих эта поездка означала разрыв с привычным социумом, переход в другое измерение, где иначе существуют статусы, а точнее сказать, где их изначально не существует. Заслуги и достижения, провинности и проступки в подавляющем большинстве случаев обнулялись по прибытии на БАМ. В социальной жизни каждый БАМовец получал новую отправную точку в биографии. Благополучные, социально состоявшиеся молодые люди и представители маргинальных слоев позднего советского общества попадали в единый котел, по замыслу довольно сильно приближенный к утопическому коммунистическому обществу и довольно сильно отличавшийся от обычной позднесоветской повседневности.
Основой социальных и трудовых отношений на БАМе, согласно воспоминаниям, были отношения дружеско-приятельские. Сообщества БАМовских поселков предстают в интервью как сплоченные сообщества единомышленников, в которых все делается коллективно: «Вот если свадьба, значит, гуляют все вместе, нету такого, знаете, как вот пригласили того-то. Гуляют все. Концерт — гуляют все, работают все и гуляют все» (М. 1949 г.р. 10 лет на БАМе). Отношения с начальством также ближе к приятельским, нежели к привычным отношениям подчинения: «Там я просто мог начальнику сказать на „ты“, если что-то не нравилось, что-то не устраивало. Это было в порядке вещей» (М. 1953 г.р. 12 лет на БАМе). Руководящие работники в воспоминаниях характеризуются не только как профессионалы, но и как члены большого коллектива, обладающие теми или иными человеческими качествами: «очень грамотный, очень человечный»; «…у нас был прекрасный начальник поезда, который с чувством юмора, который грамотнейший вообще до мозга костей строитель» (Ж. 1954 г.р. 16 лет на БАМе).
Повседневность БАМа в воспоминаниях предстает насыщенной и интересной за счет богатой культурной жизни:
У нас был очень хороший ансамбль «Сокровища». Прекрасные солистки: Галя Матвеева. Володя Бондаренко — отличный гитарист. И такие были танцы. Такие все эти были интересные концерты, выступления. Все, этим все горели (Ж. 1957 г.р. 18 лет на БАМе).
Согласно воспоминаниям бывших строителей, их свободное время было занято спортом, самодеятельностью, охотой, рыбалкой. Жизнь на БАМе, как им кажется, подала исключительно положительный пример их детям:
Они же видели, как у нас горели глаза, как мы дружили, как мы всё это пели. Они же у нас выросли в спортзале. Какие у нас были идейные разговоры (Ж. 1957 г.р. 18 лет на БАМе).
Особый поворот на БАМе приобретали личные и семейные истории. Некоторые приезжали семьями, однако преимущественно это была молодежная комсомольская среда, взаимоотношения между полами в которой строились по особым правилам.
Все ребята, конечно, приехали якобы туда холостые. Никто в штамп же не заглядывал. Соответственно, начались такие ухаживания, потом все эти танцы… (Ж. 1954 г.р. 8 лет на БАМе).
БАМовская жизнь «с нуля», жизнь «по-новому» часто предполагала, в том числе, и приобретение или смену брачного партнера.
С особым удовольствием рассказывается о работе, которая, как правило, представляла собой тяжелый физический труд в суровых климатических условиях:
Это когда уже научились, вы знаете, было просто наслаждение смотреть, как ребята работали. Рельсы укладывают — как часы: все движения точные, слаженные. Тут подают, тут укладывают, тут следующие… (Ж. 1957 г.р. 18 лет на БАМе).
Трудности вспоминаются как полезные испытания, воспитывающие характер, либо как незначительные помехи интересной, насыщенной и, что немаловажно, необычной жизни:
Совершенно все азартные, до работы все злые, интересные. Я, допустим, работала в научно-исследовательском институте здесь, в конструкторском бюро. То есть как бы вот резинка, карандаш и кульман, и вдруг, понимаете, приезжаю: фуфайка, каска, там, лопата, сапоги сорок пятого размера, но такой кайф, это же такая экзотика, ну что вы. На самом деле, когда все это было в новинку, все это было интересно, азартно. Работы совершенно не боялись, потому что как бы работали вот все бок о бок, и люди совершенно разных профессий, совершенно разных, там, и интеллектуальных способностей… И при всем при этом, я говорю, были вообще очень уникальные люди, и поэты, и вообще… (Ж. 1954 г.р. 16 лет на БАМе).
<…>
Мы делали подконтактную сеть. Представляете, яму вручную четыре с половиной метра… Я там со своим метр шестьдесят, вот такая вот худющая, значит, с этим ломом, только искры летят. А потом придешь, руки вот так трясутся, а в спортзал все равно бежишь… (Ж. 1954 г.р. 16 лет на БАМе).
Многие БАМовские праздники были связаны с трудовыми достижениями — например, с датами завершения укладки участков железной дороги, окончания строительства тоннеля, стыковки двух участков дороги и т. д. Они оставили яркие воспоминания:
Это когда мы пришли в длинных платьях, накрытые столы, концерты, все прочее. И бригада Бондаря в валенках — только уложили они там это очередное звено, пришли, плясали в ватниках и валенках, а мы в длинных платьях. Это было праздничное такое событие, все это красиво было: и столы были, концерт был подготовлен, и там вот, как на месте стыковки, большой такой транспарант, празднично, все люди — весь поселок собрался — встречают как героев, как победителей… (Ж. 1957 г.р. 18 лет на БАМе).
Помимо необычного трудового опыта приехавшие на БАМ получили доступ к необычному быту и досугу, а для молодежи периода брежневского застоя это было крайне важно. Жители крупных городов, селившиеся в частных домах, начинали ежегодно сажать огороды и заводили домашний скот. Снабжение БАМа товарами широкого потребления было не всегда равномерным, но в годы активного строительства — вполне изобильным. В поселковых магазинах можно было приобрести дефицитные по тем временам товары: зимние сапоги, ковры, японские зонтики, коньяк и т. п. Перебои с продуктами случались, но в целом во второй половине 1970-х — первой половине 1980-х серьезных проблем не возникало. Зарплаты рабочих были несколько выше, чем средние зарплаты на Большой земле. Поездки в отпуск за границу и на море — в порядке вещей:
И мы ехали за границу, мы по югам ездили, круизы были, по отпускам уезжали, мы все время людьми чувствовали. Нормальные были деньги. Мы действительно были нормально обеспечены и родителям помогали (Ж. 1954 г.р. 16 лет на БАМе).
Для жителей городов, приехавших на БАМ, экзотическими формами досуга становились также охота, и рыбалка, и собирание грибов и ягод в тайге: это было неотъемлемой частью повседневности практически всех БАМовцев.
Елена Травина описывает в своей статье разные источники, в которых позднесоветский человек искал «другой мир»: журналы, турпоездки, кинофильмы[318]. В случае БАМа ищущая субъектность человека позднесоветского общества падала на плодотворную почву созидания «другой» социальной реальности.
Экономика БАМа.
Ранней коммунистической литературе была свойственна проповедь всеобщего аскетизма и уравнительности[319]. Позднее Ф. Энгельс вывел такие константы коммунистической модели общественного устройства, как общественная собственность на средства производства и уничтожение частной собственности[320]. Согласно модели идеального коммунизма, деньги по мере развития коммунистических отношений должны были исчезнуть.
С собственностью на БАМе, особенно в первое время, дело обстояло просто: ее на БАМе изначально не существовало. Собственность, как и весь остальной БАМовский мир, создавалась руками строителей. Первые отряды доставляли на вертолетах прямо в тайгу. Одновременно с ними привозили самое необходимое: палатки, продукты питания, рассчитанные на определенный срок, элементарные инструменты (молоток, пила, топор). Параллельно с железной дорогой создавались поселки и соответствующая инфраструктура. Постепенно вырубались просеки, строились дороги, детские сады, больницы, спортзалы, школы, вокзалы и проч. Строители сами придумывали название ими же построенному поселку, сами выбирали место для кладбища, уезжали в отпуск и возвращались по железной дороге, проложенной собственными руками. Это сотворение собственного мира — очень важный аспект памяти о БАМе. Именно поэтому рассуждать о собственности на БАМе в привычных категориях нельзя. Она имеет особое, символическое значение. Помимо квартир и домов, которые со временем получали жители БАМовских поселков и городов, нарративная память стремится включить в тот же ряд и железную дорогу, «которую построили мы», и «нашу школу», и «наш спортзал», и «нашу больницу», и все больше приближает собственность БАМа к коллективной собственности. И еще одна деталь вводит собственность, приобретенную на БАМе, в разряд символической: современная рыночная цена ее чрезвычайно низка. Покидая БАМ, бывшие строители практически не могли воспользоваться экономической составляющей, заработанной за годы строительства.
Распространено представление о том, что на БАМ ехали на заработки. Интервью отчасти подтверждают справедливость этого мотива: например, литовские рабочие имели возможность заключать трудовые договоры с республиканскими комсомольскими отделениями, согласно которым через несколько лет работы на БАМе в качестве вознаграждения им предоставлялись квартиры в их родных городах. Из интервью с бывшими российскими БАМовцами следует, что вопросы оплаты труда, вознаграждений и поощрений были продуманы так же плохо, как и многие другие аспекты строительства. Единственное исключение представляют собой государственные целевые вклады: ежемесячно отчисляя на них деньги, человек мог спустя определенный срок приобрести автомобиль.
Когда мы работали — семьдесят пятый, семьдесят шестой год, — машину получить в Союзе было сложно. У нас (на БАМе. — Е.Б.) открывались лицевые счета на машину, на которые ты мог с зарплаты положить определенную сумму денег. <…> Когда у тебя набиралась сумма на машину <…> ты мог в банке либо эту сумму полностью получить, либо дать заявку и получить машину, поскольку ты строитель БАМа (М. 1955 г.р. 9 лет на БАМе).
Для позднесоветского общества эта возможность действительно была весьма заманчива. На БАМ ехали в том числе и исключительно с целью заработать на машину. Однако далеко не все в результате этой возможностью воспользовались: кому-то просто не хватало зарплаты, чтобы своевременно вносить деньги на счет; кто-то, накопив некоторую сумму, тратил ее на что-то другое: отпуск, мебель, поездки в город.
Я вот, по-моему, на два или на три года записался. Выплатил, по-моему, где-то раза три только или четыре. <…> А потом поехали мы в Целиноград учиться на крановщиков. Ну а с чем ехать? Я вот этот счет весь закрыл. А до этого тут девчонки приезжали с Иркутска, с университета. Они там на журналистов учились. И вот мы, когда ехали в Целиноград, к ним заехали. Ну и погуляли так. На такси покатались. И деньги кончились (М. 1955 г.р. 9 лет на БАМе).
Деньги вообще имели на БАМе специфическое значение. Зарплаты были разные; в среднем — выше среднесоветских, однако в зависимости от специальности, сезона, участка строительства они могли различаться в несколько раз. Распространенной практикой хранения денег были целевые вклады. На самом же БАМе с деньгами обращались довольно необычным способом. Так, согласно воспоминаниям, деньги не прятали даже в тумбочку: они могли лежать на тумбочке или на подоконнике рядом с кроватью в комнате общежития, где проживало четыре-пять человек. Досуг в БАМовских поселках в основном не требовал денежных затрат, а зачастую, напротив, приносил прибыль в виде натуральных продуктов: рыбы, дичи, ягод, грибов. Питались многие централизованно — в столовой. Редкие расходы на дорогую одежду случались, как правило, во время отпускных поездок. Быт БАМовцев был крайне прост. Так что тратить деньги на БАМе особенно и не приходилось. Однако, по признанию бывших строителей, размер зарплаты все же имел значение.
…Деньги там тратить было некуда, даже если бы мы их получили и начали получать. И поэтому особенно стоимость, заработок, который предполагалось получать, нас не интересовал. Но деньги являлись не то что стимулом, а определенной оценкой, потому что если в школе это оценка «единица» или «пять», то здесь — деньги, заработанные бригадой, значит, определенный объем работы был выполнен: больше — значит, мы выполнили больше, меньше — значит, мы выполнили меньше (М. 1956 г.р. 10 лет на БАМе).
Деньги, таким образом, становились и определенным элементом комсомольского соревнования, мерой рабочего престижа и сплоченности трудового коллектива. Нередко практиковался натуральный обмен: услуга в обмен на пойманную рыбу, бензин — в обмен на ведро грибов и проч. Товары в магазине могли отпускаться «в долг». Тесные межличностные отношения в небольших поселках, где все друг друга знают, делали такую практику возможной. Когда в начале 1990-х начались перебои с выплатами, в магазинах отпускали продукты «под зарплату»:
Это девяностый год, у нас были такие случаи, у нас вообще наличных денег как таковых не было. Давали под запись в магазинах, под твою зарплату, приходишь, подговариваешься, долг оставляешь, муки мешок, там, ящик консервов (Ж. 1954 г.р., 16 лет на БАМе).
В отличие от литовских рабочих рабочие из России если и получали жилье, то в БАМовских же поселках и городах. Как уже было сказано, со временем рыночная цена этого жилья стала несравнимо ниже цен на жилье в городах, из которых строители уезжали на БАМ, — в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Екатеринбурге и т. д. Практически никто из информантов не смог скопить сколько-нибудь значимого финансового капитала за время работы на БАМе. Многие сбережения уничтожил кризис 1991 года. Таким образом, материальное обогащение как результат многолетней работы на БАМе — скорее миф, который необходимо развенчать хотя бы для того, чтобы понять сложность мотивов многолетнего пребывания на БАМе и основания позитивных воспоминаний о нем сегодня.
Люди БАМа.
Любая утопия зиждется на программе преодоления антропологических констант. Советский проект имел целью воспитание особого советского человека. Своеобразным антропологическим проектом на БАМе стало воспитание так называемого «БАМовского характера». В интервью это представлено сложным конструктом, который, в числе прочих оснований, консолидирует виртуальную группу бывших БАМовцев. В основании «БАМовского характера» лежит общий опыт выживания в суровых таежных условиях, тяжелый физический труд, идея сотворения собственного мира. Можно также выделить некоторые личностные характеристики, позволившие пройти через фильтры отбора: энтузиазм, романтизм, способность к самопожертвованию, патриотизм и проч. Согласно интервью, истинные БАМовцы, БАМовцы, обладающие «БАМовским характером», ехали на стройку не для того, чтобы заработать; они преследовали более благородные цели: помочь Родине, проверить себя. Это напоминает штампы, однако кажется очень убедительным и в интервью, и — что важно — в письмах, которые писались не для власти и не для начальства, а для родных и близких. В интервью с разными людьми неоднократно возникала одна и та же категория — «школа БАМа», понимаемая именно как некий трудный и полезный жизненный опыт:
Знаете, вот эти все сложности, трудности сейчас вспоминаются <…> с удовольствием и с такой вот благодарностью, что ли, что мы прошли все это и построили (Ж. 1954 г.р. 16 лет на БАМе).
Самый сложный вопрос, на который можно лишь попытаться ответить: почему людям, приехавшим на БАМ, удалось создать такую социальную реальность, о которой они вспоминают столь ярко и позитивно? Пожалуй, можно выделить ряд объективных причин: удаленность государства, относительная свобода в выражении мыслей и чувств, героизация строителей в СМИ, множественные фильтры на пути к БАМу, которые способствовали формированию особой, однородной социальной среды. Есть и еще один момент, который позволил БАМу состояться в качестве беспрецедентной добровольной стройки и столь позитивно вспоминаемого ныне мероприятия: особая субъектность позднего социализма, сформировавшаяся, судя по всему, к середине 1970-х годов. По крайней мере, можно выделить «общие места», которые пытались воспитать в советском человеке посредством идеологии: способность довольствоваться малым в быту и повседневной жизни, восприятие работы как ценности, стремление к преодолению трудностей, воспитанию характера. В целом воспитание «БАМовского характера» — не что иное, как гипертрофированное воспитание советского человека, своеобразное испытание на «советскость». Интервью демонстрируют, что эти «советские» черты поведения и личностных установок имманентны, причем это не только обнаруживается в рамках воспоминаний о былом, но и служит фреймом для понимания и оценки современных процессов и событий.
Выводы
Попытка понять БАМ, анализируя способы проживания его пространства[321], представленные в интервью, обнаруживает один интересный момент: нарративные воспоминания о БАМе вполне гомогенны. Прежде чем сделать из этого наблюдения какой-то вывод, позволю себе в качестве иллюстрации привести аналогию совсем ненаучную. Вот как интерпретируется ситуация, когда один и тот же сон снится сразу двум людям: «Такая ситуация встречается, если оба сновидца связаны похожим образом мышления, отношениями и взглядами на жизнь. В принципе каждый образ есть обобщенная метафора жизни». Без сомнения, необходима была схожесть изначальных установок, схожесть мотивов и ожиданий от участия в строительстве БАМа для того, чтобы породить впоследствии воспоминания столь однородные и по содержанию, и по эмоциональности. Способ проживания БАМа, так же как и сами БАМовцы, — продукт позднесоветского общества, слепок позднесоветской субъектности. Вероятно, поэтому и конструкт памяти о БАМе возникает как утопический идеальный коммунизм, а якорями выстраивания нарратива памяти служат наиболее популярные тезисы коммунистического учения.
БАМ в годы строительства был создан как «музей будущего»[322], которое ждали везде, но которое наступило только на БАМе. В памяти бывших строителей этот музей сохраняется в первозданном виде по сей день. «Музей будущего» превращается в археологический музей, где, как отмечают О. Соснина и Н. Ссорин-Чайков, прошлое описывается языком соцреализма[323]. В определенном смысле БАМ оказался более советским и более социалистическим, чем вся остальная страна СССР. На БАМе ничего не нужно было «разрушать до основания», зато нужно было «строить новый мир». Изначально на БАМе не было собственности. Специфика поселений и уклада жизни порождала особые практики обращения с деньгами. Искусственно созданная социальная среда изначально была уравнена по многим параметрам: по возрасту, характеру занятости, лояльности к официальной политике и идеологии, причастности к комсомольской организации. Необходимость выполнения тяжелой физической работы стимулировала коллективизм в труде. Сравнительно малочисленные поселения актуализировали межличностные режимы общения, а вкупе с климатическими условиями делали совершенно естественными коллективные формы досуга: спортивные игры, праздники «всем поселком», вылазки на природу сообща и вечерние посиделки.
В результате воспоминания выкристаллизовывают конструкт опыта проживания БАМа, позитивно окрашенный и складывающийся в некую формулу, которую можно было бы назвать «БАМовским счастьем». Это счастье становится коллективным для групп людей, которые попали в иную повседневность, территориально отделенную от «большого» советского общества многими тысячами километров. Согласно воспоминаниям, диапазон материальных возможностей на БАМе шире, чем у обычных советских людей. Досуг интереснее и насыщеннее. Высокое начальство далеко, и поэтому ощущается больше свободы в мыслях и действиях. Новая точка отсчета в биографии дает шанс проявить себя и самореализоваться по-новому. Предельно ясно сформулированная миссия — создать новый мир, — словно глоток свежего воздуха, окрыляет и наполняет силами. Работа дает моральное удовлетворение. Уверенность строителей в создании важнейшего для страны объекта подкрепляется высокими заработками и прославлением БАМовцев в СМИ. Физическая работа на свежем воздухе приносит едва ли не физиологическое удовольствие. В результате бывшим БАМовцам в своих воспоминаниях почти удается воспроизвести законченную утопическую картину коммунизма, добавив последнюю недостающую составляющую: всеобщее счастье.
Т. Адорно писал, что «проработка прошлого» осуществляется на уровне субъекта. Только таким образом прошлое может обрести завершенные нормы. В противном случае мы наследуем не прошлое, а вытесненный за пределы сознания горизонт, вновь и вновь возвращающий нам то, чего мы не смогли проработать[324].
В отличие от «шестидесятников» и «пятидесятников» поколение 1970-х, которое часто называют «потерянным», не прозвучало полноценно ни в советском, ни в постсоветском контекстах. Быстрые системные изменения постсоветского общества заставили представителей последнего советского поколения переоценить свой опыт, свои биографии и статусы. Без сомнения, этот процесс оказался болезненным, тем более что и опыт, и статусы в очень большом количестве случаев в цене потеряли. В отсутствие каких-либо формальных запретов на рассуждения о советском прошлом целое поколение предпочло «замолчать» о своем жизненном опыте. Исследование подтверждает: нарративная память о БАМе практически полностью замкнута в пределах сообщества бывших строителей БАМа. Эта память — во многом позитивная, ностальгическая и идеализированная — бережно охраняется от негативных оценок и критики, в определенном смысле сакрализуется как нечто ценное и уязвимое. Воспоминания бывших БАМовцев, без сомнения, находятся по сей день под определенным влиянием позднесоветского агитационно-пропагандистского дискурса, о чем свидетельствует риторика интервью. Многолетнее замыкание памяти внутри сообщества БАМовцев привело к тому, что эта память не переработана, не реализована, как бы законсервирована и, вероятно, поэтому поразительно жива и свежа.
Столь же живо и свежо то, что сформировалось в результате большевистского проекта, — субъектность, интериоризовавшая социалистические ценности. Участники стройки не смогли переработать память о БАМе в первую очередь потому, что не захотели. Может быть, предпочли сохранить неприкосновенными романтические воспоминания молодости. Или, может быть, ранний постсоветский дискурс оказался слишком критичным и закрытым по отношению к любым воспоминаниям о советском.
Так или иначе, сегодняшнему дискурсу сложно воспринять память о БАМе в том, не переработанном виде иначе, чем в формате редуцированного поп-арта. В том состоянии, в котором память о БАМе существует сейчас, она вряд ли может рассчитывать на что-то другое. Удастся ли когда-либо преодолеть этот разрыв, или опыт советской повседневности — временами радостной, созидательной и счастливой — обречен остаться непонятной и почти сказочной реальностью для всех, кто не жил в советской стране?
ЛИТЕРАТУРА
Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» // Неприкосновенный запас. 2005. № 2/3 (40/41).
Берг М. Без оправдания. Коммунистическая утопия: жизнь после смерти. Доклад на конгрессе в Берлине. «„The Post-Communist Condition“. Искусство и культура после распада Восточного блока». 2004. /˝2.
Воронина Т. Память о БАМе. Тематические доминанты в биографических интервью с бывшими строителями // Неприкосновенный запас. 2009. № 2 (64).
Калинин И. Перестройка памяти // Неприкосновенный запас. 2009. № 2 (64).
Соснина О., Ссорин-Чайков Н. Постсоциализм как хронотоп: постсоветская публика на выставке «Дары вождям» // Неприкосновенный запас. 2009. № 2 (64).
Травина Е. Ностальгия по настоящему // Нева. 2009. № 11.
Филиппов А. Ф. Гетеротопология родных просторов // Отечественные записки. 2002. № 6.
Фирсов Б. М. Разномыслие в СССР. 1940–1960- годы. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге: Европейский дом, 2008.
Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2/3 (40/41).
Чуйкина С. Дворянская память: «бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920–1930-е годы). СПб: ЕУСПб, 2006.
Энгельс Ф. Принципы коммунизма // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1985. Т. 3.
Эткинд А. Время сравнивать камни. Постреволюционная культура политической скорби в современной России // Ab imperio. 2004. № 2.
Юрчак А. Поздний социализм и последнее советское поколение // Неприкосновенный запас. 2007. № 2 (52). .
McKinney К. «Breaking the Conspiracy of Silence»: Testimony, Traumatic Memory, and Psychotherapy with Survivors of Political Violence / Ethos. Vol. 35. № 3. Sep., 2007.
Walke A. Jüdische Partisaninnen. Der verschwiegene Widerstand in der Sowjetunion. Berlin: Dietz, 2007.
______________________
______________
Елена А. Богданова[325]Счастливое будущее антиутопии постсоциализма: Топография воображения эвенов северо-востока Сибири
По своей природе понятие «счастье» очень обширно, старо как мир, разнопланово и многообразно — как со стороны его социально-экономического и исторического понимания, так и со стороны его метафизического аспекта. Хотя это понятие не поддается аналитической категоризации и во многих своих проявлениях принадлежит к тонкой эмоциональной сфере человеческой природы, оно все-таки может быть рассмотрено в пространственно-временном срезе определенного культурного, социального и исторического контекста. В частности, рассмотрению подлежит не «счастье» как таковое, а размышления о «счастье» и его поиске. Человеческие размышления о счастье отражают не только разнообразные иконографии социального порядка, но и отношения между понятием о счастье и теми политическими и экономическими практиками и идеологемами, от которых оно само и произросло.
В данной статье мне бы хотелось, образно говоря, расправить перед читателями карту поиска счастья, созданную в воображении эвенских детей и подростков из оленеводческого поселка на северо-востоке Якутии. В процессе обсуждения я буду ссылаться на то понятие «счастье», которое использовали дети в своих рассказах. Термин нёс (счастье) на эвенском языке несет несколько иное семантическое содержание, нежели русский термин счастье: он подразумевает удачу или фортуну, которая приносит счастье, а не само счастье. В эвенском понимании счастье эквивалентно удаче — значит, счастлив тот, кто удачлив. Эвенский вариант прилагательного счастливый — нёхалкан в дословном переводе звучит как счастливый с удачей. В соответствии с этим поиск счастья в воображаемом будущем дети часто связывают с путешествием, приносящим удачу, и (особенно в случае таежных детей из семей оленеводов) с эвенским символом удачи — северным оленем.
Карта воображаемых передвижений предоставит нам возможность рассмотреть топографически концепцию будущего счастья, выраженную в будущих автобиографиях детей. В частности, мой анализ выстроится на основе треугольника пространств: поселка, таежного стойбища и города. Этот пространственный треугольник позволит мне определить топографию воображаемого движения в будущем и те пространственно-временные конструкции, на которых данная топография основана. Я рассматриваю эти концепции для того, чтобы показать, как мысли о счастливом будущем зарождаются в несчастливых местах и что олицетворяет антиутопию в модернистской утопии, такой как государственный социализм. Здесь я бы хотела привлечь внимание к тому, как концепция пространства одного отдаленного сибирского поселка может одновременно вбирать в себя несколько темпоральностей, включая социалистическую утопию, антиутопию ГУЛАГа и дистопию пост-социалистического кризиса. Собственно, карта, основанная на локальных концепциях о будущем, представляет собой утопию, построенную на утопиях и антиутопиях советского прошлого и постсоветского настоящего. Обозначенный мною пространственно-временной срез, т. е. постсоциалистический антиутопизм, расширяет радиус проблемного теоретического поля постсоциализма и позволяет выйти из широко используемых в аналитике постсоциализма рамок, сфокусированных на бинарности модерна и традиции (Hann 2003, Grant 1999, Verdery 1996). Данный этнографический материал проиллюстрирует, что взаимоисключающие и несовместимые конструкции пространства и времени не существуют в отдельных парадигмах, а сосуществуют во взаимодействующих проекциях и становятся как бы оттенками друг друга. Соответственно, топографическое выражение счастья в данном срезе позволяет рассмотреть пространственно-темпоральные конструкции вне функциональных соотношений и антагонистического дуализма (Haraway 1988, Strathern 2004).
Каков же исторический и социальный контекст, в котором были рассказаны детские автобиографии о будущем? Эвены, или ламуты, — малочисленный северный народ, насчитывающий, по переписи 1989 года, около 17 ООО человек (Соколова 1997). Основная его часть расселена на территории арктических районов Якутии и Магаданского края; остальные эвены проживают в западных районах Чукотки, Камчатки и северной части Хабаровского края. Главные виды жизнедеятельности эвенов — оленеводство и охота. До революции эвенские кланы кочевали по обширной территории оленьих пастбищ и традиционных охотничьих маршрутов северо-востока Якутии. С 1930 года государственный режим начал переводить эвенов с кочевого образа жизни на оседлый; этот жесткий процесс являлся частью советской программы индустриального освоения Крайнего Севера.
Эвенский поселок Улах был образован в конце 1960-х годов и в течение сорока лет служил центром оленеводческого совхоза. В «застойные» времена его выставляли напоказ перед туристами и правительственными делегациями. Местные жители должны были демонстрировать визитерам, что ими совершен значительный прорыв от архаического аборигенного общества к коммунизму и что в настоящий момент они вкушают плоды социализма. Все это происходило в лучших имперских традициях, когда в ожидании визита Екатерины Великой и по приказу ее фаворита Григория Потемкина в деревнях строили картонные фасады, за которыми прятались свидетельства бедности и недовольства отчаявшегося населения. В эпоху социализма пространство «потемкинской деревни» несло в себе такую же краткосрочную утопию, состоявшую в выражении показного счастья; она заканчивалась с отъездом важных гостей и для нашего анализа представляет субутопию утопии социализма, или утопию внутри утопии. Соответственно, в ранее очерченный темпорально-пространственный срез добавляется еще один тонкий пласт — «потемкинский», или субутопический. Кроме того, в семантическое поле данной субутопии можно отнести термин показуха (Ssorin-Chaikov 2003, S6ntha and Safonova 2011), который органично передает атмосферу того времени.
Социалистическая эра закончилась с началом перестройки и распадом Советского Союза. Для поселка Улах это выразилось в упадке и без того картонно-фасадной инфраструктуры. С исчезновением авиации разорвалась связь с внешним миром, что породило чувство изолированности среди местных жителей. Перемены принесли с собой бедность, отсутствие зарплат, безработицу и алкоголизацию населения (алкоголь оказался более доступным, чем продукты и медицинское обслуживание).
История Улаха, во многом схожая с историями сел и деревень практически всего российского Крайнего Севера, имеет одну особенность: поселок возведен на территории бывшего концентрационного лагеря Дальстроя. А его название перешло от названия лагеря, данного самими заключенными в честь реки, на которой он располагался. В этих местах строили одно из ответвлений Магаданской трассы, известной как «дорога, построенная на костях зэков ГУЛАГа». Их труд использовался также на вольфрамовых и урановых месторождениях неподалеку от дороги. Так как лагерь находился внутри транспортной схемы ГУЛАГа, его территорию выбрали для строительства нового поселка. В конце 1960-х годов в Улах из маленьких отдаленных поселков и многочисленных оленеводческих стойбищ начали перемещать местное население. Людям это было очень тяжело, т. к. место ассоциировалось у них с насильственной смертью — с пытками и расстрелами предыдущих «жителей» лагеря.
Начальным пунктом моего исследования было рассмотрение дискурса об исчезновении малочисленных народов и отсутствии будущего в регионе. Активисты из числа городской интеллигенции, которые выступали за самоопределение в вопросах пользования землями коренных народов в начале 1990-х годов, выдвигали тезис о вымирающих этносах, т. е. о «малых народах» без будущего, на грани исчезновения. Данная риторика была в ходу у предыдущего поколения, я же собиралась рассмотреть современные, доступные молодежи дискурсы, чтобы узнать, какими мыслями и планами на будущее живет новое поколение.
Во время своих полевых исследований я наблюдала за процессом социализации эвенских детей: чему они учатся, какой смысл вкладывают в свой жизненный опыт, как растут и живут в двух социальных пространствах: в поселке и оленеводческом таежном стойбище. На основе историй, рассказанных самими детьми, а также на основе собственных наблюдений я старалась понять, как воспринимают дети окружающий социальный мир и какое влияние этот мир оказывает на их мечты о будущем.
Анализируя детские рассказы, я сфокусировала внимание на различии в опыте детей-таежников, выросших в оленеводческом стойбище, и детей, выросших в поселке. И пришла к выводу: большую роль в детском видении будущего играет процесс социализации, а также то пространство, в котором он протекает. Таким образом, пространства поселка и тайги в моем анализе выделены как два отдельных и значительных элемента социального мира детей. (Третий элемент — город, он станет темой обсуждения ниже.)
Чтобы создать начальный, элементарный уровень для анализа различий детства в тайге и поселке как настоящей и воображаемой подготовки для взрослой жизни, я попросила детей написать небольшие сочинения о своей будущей жизни, а затем попросила дополнить эти сочинения устными рассказами. Результат оказался очень любопытным: если сочинения были написаны в школьном формате, т. е. дети писали то, что от них ожидается или требуется, то наши последующие разговоры об их будущей и настоящей жизни дали более широкий и детальный корпус материала.
Хотя формат устных и письменных размышлений о будущем различается, их основной мотив остается общим. Но если письменные версии напоминали жанр «автохарактеристики», то устные склонялись к народному жанру легенд о странствиях и возвращении эпического героя. Подробнее я еще возвращусь к этому пункту.
Разница в таежном и поселковом детствах отражается и на топографиях воображаемого счастливого будущего. Если разложить карту будущих передвижений детей, то можно увидеть, что их воображаемое будущее представляет собой пространственный треугольник поселок — тайга — город. Соответственно, три обозначенных пространства лежат в основе топографии поиска счастья, выраженной в воображаемых детьми траекториях движения и в их финальных пунктах.
Условия существования в построенном в советское время поселке, школьное образование и воспитание в интернатах произвели поколение молодых людей, не пригодных для жизни и работы в тайге, т. е. произошла люмпенизация молодежи (Pika 1993, Rethman 2001, Ssorin-Chaikov 2003). Исчезновение малой авиации, на которой строилась вся программа обеспечения Севера, привело к тому, что в начале 1990-х поселок оказался за 800 километров непроходимой тайги до ближайшего населенного пункта, т. е. практически был отрезан от внешнего мира.
История местного ГУЛАГа официально не признана: в регионе почти ничего не говорится о трагическом прошлом; данные по лагерям и их жертвам опубликованы в мизерном количестве. Но жива другая сторона этого прошлого — неофициальная и, можно сказать, спонтанная. Она основана на восприятии местным эвенским населением мира мертвых, где призраки погибших в ГУЛАГе занимают особое место. В настоящее время пустые, заброшенные здания поселка, а также общественные здания, такие как дом культуры и спортзал, стали контейнерами призраков бывшего концлагеря.
Когда советские власти утверждали план нового поселка, никто не принимал в расчет отношение местного населения к последствиям переселения. Опасения людей, что эта местность может принести несчастье, рассматривались как примитивное суеверие «дикого» народа. В советском понимании поселок создавался как совершенно рациональное пространство. Он должен был олицетворять идею преобразования и освоения северных территорий. В то время тайга и ее кочевые жители были объектами советизации и идеологической работы по устранению суеверий, связанных с духами земли и миром мертвых. И вот сейчас призраки узников ГУЛАГа, трагически погибших и незахороненных, беспокоят и устрашают местное население.
Таким образом, в противостоянии разных пространственно-темпоральных конструкций, а также модернистской рациональности и нерационального суеверия в проекции индустриального освоения местное представление о «проклятом» месте одержало верх над советской идеей прогресса. Здесь темпоральный ритм призраков ГУЛАГа дестабилизирует и взрывает изнутри советскую темпоральность прогресса и линейного развития. Пространство бывшего лагеря, его сущность живет вне времени; и хотя события прошлого остались позади, они живут в настоящем и до сих пор не достигли своего разрешения.
Анализируя подарки ко дню рождения Иосифа Сталина, Николай Ссорин-Чайков (2006) рассматривает утопическую пространственность актов дарения, локализующую в себе множественность темпоральных конструкций социалистического модерна, которую автор, используя терминологию Мишеля Фуко, называет гетерохронией (Foucault 1997). В пространстве музейной выставки дары Сталину выражают материальность темпорального режима вечности, в которой дар выражает не только вечный долг дарителей в перспективе социалистического телоса, но и одновременно энтропическую и реверсивную связь между дарителем, даримым и получателем подарка (Ssorin-Chaikov 2006: 370). Анализ гетерохронии музейного пространства в этом плане позволяет нам пролить свет на пространство поселка как на пример множественности пространственно-темпоральных конструкций. Поселок предстает перед нами в качестве интересного экземпляра одновременно и гетеротопии, и гетерохронии. Здесь несколько диаметрально противоположных конструкций времени и пространства (в этом случае утопический телос социализма с его субутопической кратковременностью «потемкинской деревни», безвременность призраков ГУЛАГа и цикличность сезонных передвижений кочевников-оленеводов по маршруту оленьих пастбищ) соединяются в одной точке. Таким образом, я рассматриваю будущие автобиографии местных детей как дистилляции данных пространственно-темпоральных регистров.
Прежде чем перейти непосредственно к топографиям воображаемого будущего, мне бы хотелось рассмотреть детально детство в тайге и в поселке.
Таежные дети обычно проводят свое раннее детство в оленьем стойбище со своими родителями и семьями. В семь лет они начинают учиться в поселковой школе и приезжают к родителям в тайгу на каникулы. Дети, растущие в поселке, не ездят в тайгу и, соответственно, в поселке проводят все свое детство.
В будущих автобиографиях дети воспроизводят данную организацию пространства и описывают, где они провели основную часть своего детства — в поселке или в тайге. Эта пространственная организация отражена также в топографии и ориентации будущих движений детей и в финальных пунктах их траекторий. Таежные дети начинают свою историю с отбытия из поселка и заканчивают — возвращением к своей семье и семейному оленьему стаду в тайге. Поселковые же дети рассказывают о создании своей будущей семьи в совершенно новом пространстве (в городе или каком-либо городке за границей или в новой стране), т. е. не в поселке, где они родились и выросли.
Все подростки планируют получить образование в третьем элементе пространственного треугольника — в городе. Но главное отличие таежных и поселковых детей состоит в том, как они собираются использовать полученные ими в городе квалификацию и образование. В рассказах детей подросткового возраста, выросших в тайге, ярко выражен элемент нахождения удачи — нёс. Они в большинстве случаев рассказывают, как по возвращении привозят с собой найденные или заработанные ими в поездке удачу, богатство, благосостояние и делятся со своими сородичами. Данная концепция, на мой взгляд, адаптирована детьми из практики деления охотничьей добычи, которая является важным элементом социального мира стойбища. После успешной охоты, обычно на большого зверя, например лося, дикого оленя или снежного барана, охотник должен разделить тушу и раздать по частям каждому, кто находится или живет в стойбище. Опыт участия детей в практике деления формирует определенное понимание социальных отношений своего воображаемого будущего. Соответственно, таежная категория личности в большей степени основана на данной концепции: принося добычу в свою семью и в человеческий коллектив, ты формируешь свой социальный мир и социальные связи — не только с людьми, но и с миром духов (Kwon 1998, Vitebsky 2005, Willerslev 2007, Willerslev and Ulturgasheva in press).
В возрасте двенадцати — пятнадцати лет подростки активно участвуют в охоте и знают, когда и как происходит деление охотничьего промысла. В одном из наших разговоров пятнадцатилетний Афоня изложил краткую инструкцию о том, как отличать ритуал нимадун от практики деления боричэн:
Однажды два года назад мой дядя добыл дикого оленя. Он привез его на своем учаке (олене) и сразу отдал всю тушу в другую палатку, семье своего брата Михаила. Он нимадукнул тогда. А боричэн — это не нимадун, он намного проще: привозишь мясо из тайги в поселок и делишься со своими родственниками, ну и там… с друзьями. Нимадун делается не всегда, только когда нужно.
Афоня с уверенностью эксперта определяет разницу между двумя типами практик деления. Оленеводы и охотники делятся согласно принципу боричэн, вернувшись из тайги в поселок; а нимадун привязан к пространству тайги и несет в себе определенную связь охотника с животным миром и духом тайги Байанаем, который или помогает в охоте, или шлет неудачу. Краткий экскурс Афони в концепцию нимадун позволяет сделать вывод, что обязательство охотника принести и отдать тушу крупного животного семье, испытывающей недостаток в провизии, по сути, относится не к практике деления как такового; скорее всего, это эквивалент акта дарения подарка.
В этом акте дарения охотник является лишь связующим звеном между духом тайги (хозяином/Байанаем) и получателем / семьей нуждающихся. Если опытный охотник легко добывает крупного зверя (т. е. процесс охоты не вызывает особых усилий, а животное идет навстречу и легко дается, что происходит в редких случаях), то это знак того, что добыча была послана не ему, а тем, кто испытывает острый дефицит необходимого. Охотник в этой связи лишь исполняет функцию доставки. Согласно местным поверьям, только удачливый охотник совершает акт дарения нимадун, т. к. это признак того, что ему благоволят духи тайги. При этом людская нужда должна быть очевидна (в контексте таежного стойбища нужда обычно не вызывает сомнения), а объектом дарения является крупное животное: лось, дикий олень или шкура медведя. Следовательно, в основе данной практики не лежит принцип долга и возвращения долга, о котором пишет Марсель Мосс в своей работе об обмене и подарках:
Если кто-то получает в дар вещь и затем он отвечает тем же, т. е. возвращает дар, то это означает, что, отвечая тем же, он не просто возвращает вещь, а возвращает уважение, и если долг возвращается, то возвращается не столько вещь, сколько сама личность возвращаемого (1990:46).
Концепция же нимадун находится вне идиомы долга, так как то, что доставляется охотником, изначально принадлежит не ему, а получателю, и отправитель (хозяин тайги, или Байанай) не ожидает ответного действия от получателя, так как акт его дарения не реверсивен и по сути своей является актом пожертвования.
В данной дискуссии нам важны элементы человеческого коллектива, находящегося в нужде, и эффективное действие охотника по устранению данной нужды. Оба элемента являются основополагающими условиями для сценария нимадуна. Наше предыдущее обсуждение показало, что таежные дети и подростки видят в своей картине будущего то, как устраняется определенная ситуация нужды, таким образом, их возвращение служит предпосылкой к моменту резолюции и разрешения этой ситуации нужды. В этой связи Шерри Ортнер (Ortner 2002 [1997]) утверждает, что сценарий ритуала формулирует наиболее ценную модель социальных отношений в культуре и наиболее эффективный путь установления этих отношений (2002:158–159). То, что будущие автобиографии детей и подростков содержат элементы нимадуна, указывает нам: повествуя, они отражают те события и примеры из своей жизни или из жизни окружающих, которые тем или иным образом отфильтровались и стали частью их собственного нарративного Я. Более того, практики деления и дарения являются главными каналами детского концептуального и социального развития, которое формируется и углубляется в процессе их взросления. Таким образом, отражая данный элемент, дети иллюстрируют свою возрастающую активную социальную роль в жизни оленеводческого стойбища.
В своих рассказах о будущем таежные дети часто связывают его с заботой об оленях и даже выражают свое представление о том, какого оленя им бы хотелось иметь. Так, одиннадцатилетняя таежная девочка Надя пишет, что в будущем она хотела бы получить в подарок нёгутов (транспортных оленей, перевозящих груз на нартах) и учаков (оседланных оленей), но уточняет, что для полного счастья ей бы понадобился олененок — тугут бугдичан (букв. пестрый). Согласно местным поверьям, появившийся в стаде пестрый олененок приносит удачу и благосостояние людям; с его появлением оленье стадо начинает расти и приносить радость заботящимся о стаде оленеводческим семьям. В мире будущей жизни детей олень несет большую социальную значимость и своей магической, волшебной силой служит гарантией их будущего счастья и благосостояния. Таким образом, магическая и социальная коннотация оленьей символики входит в семантическое поле эвенского понятия счастья нёс.
Я нахожу рассказ пятнадцатилетнего Володи, выросшего в оленеводческом стойбище, наиболее показательным в плане композиции рассказов таежных подростков. В своей будущей жизни он отслужит в армии, после чего станет ветеринаром, вернется к родителям, займется лечением оленей и создаст свою оленеводческую общину — чтобы помогать родным и всем тем, кому нужна его помощь. Очевидно, что основными композиционными элементами его повествования являются отъезд и возвращение. Элемент возвращения концептуализируется Володей с необходимостью оказания помощи всем близким и родным, а его намерение заняться лечением оленей и созданием общины (постперестроечной альтернативы совхозу) направлено на осуществление целого ряда социально-экономических изменений. Если одиннадцатилетняя Надя связывает свое будущее счастье и благосостояние с наличием волшебного пестрого оленя, то Володя рассматривает свое благосостояние в несколько другом плане, но в той же идиоме счастья и удачи. В его перспективе не волшебный олень, а он сам становится тем, кто приносит благосостояние, удачу и счастье обществу. Другими словами, он становится осуществителем ряда эффективных действий, которые помогут и принесут позитивные изменения в жизнь местного населения.
В той же идиоме счастья видит свое будущее семнадцатилетний Степа. Он говорит, что после учебы в институте женится и начнет работать в городе, но спустя некоторое время вернется к своему родному оленьему стаду. На мой вопрос, почему он не останется жить в городе, Степа ответил: «Олени меня всегда магнитили и скорей всего замагнитят… и я вернусь к ним». В своем видении будущего он не представляет себя без оленей и метафорически сравнивает притягательность оленей с силой притяжения магнита. Таким образом, Степино понимание возвращения приобретает характер неизбежности, и олень становится точкой центробежной траектории в хронотопе его будущего.
Концептуальная основа рассказов детей, выросших в поселке, сильно отличается от предыдущего материала. Большинство из них не видит себя в будущем живущими в поселке. Вместо этого они уезжают и оседают в городе (Якутске, Магадане или Москве) и даже перевозят туда родителей и семьи. В процессе наших разговоров дети и подростки ярко выражали желание переехать из поселка навсегда. Свои планы они объясняли тем, что жизнь в поселке, особенно для молодых, полна отчаянья; в их понимании, молодежь пьет от безработицы и отсутствия надежды на улучшение. И большинство по окончании школы не хотело бы пополнить ряды местных безработных.
Шестнадцатилетняя Ира, выросшая в поселке, видит себя живущей и работающей в городе. Лейтмотив ее устного рассказа — желание скорого отъезда из «прогнившего», «невыносимого», «отсталого» поселка в «интересный», «полный жизни», «прогрессивный» город. В этой проекции будущего траектория движения поселкового подростка линейна, она следует за вектором прогресса. Ира очень красноречиво отображает ситуацию постсоциалистической антиутопии, в которой вся инфраструктура, построенная в советский период, сгнила и развалилась не только концептуально, но и материально. В дополнение к этому, в местной концепции пространство поселка, построенного на костях узников ГУЛАГа, интенсифицируется дистопическим дискурсом развала и загнивания, особенно в свете пустых и заброшенных зданий, населенных призраками трагического прошлого. Таким образом, траектория пространственного движения из поселка в город представляется темпоральным движением Иры из дистопического поселка в утопический город. Она позиционирует город как пункт назначения своего движения в поиске счастья.
Исходя из нашего предыдущего обсуждения, можно сделать вывод, что таежные дети отражают пространственный антагонизм родного и близкого им стойбища в тайге и жесткого и испорченного мира поселка, пространства, несущего насильственное наследие ГУЛАГа, постсоциалистического кризиса с отсутствием работы, зарплат и отчаянья. Поселковые дети повторяют сравнительный антагонизм, но делают акцент на третьем элементе — городе. Они не могут представить себя в пространстве тайги, поэтому их влечет пространство города — как еще свежий и неизведанный пункт в их траектории будущих движений. Я должна отметить, что ближайший город находится в 900 километрах от поселка и местные эвены лишены финансовых средств и нужных социальных связей, чтобы оставаться в нем.
И поселковые, и таежные дети намереваются помогать родителям и родным, но здесь можно заметить значительное и статистически обоснованное различие. Из 57 опрошенных детей и подростков поселковых было 27 человек, а таежных — 30. Если возвращение в свое стойбище предвидел каждый из 30 таежных опрошенных, то лишь трое поселковых ребят в раннем подростковом возрасте (9–12 лет) рассказали о возможности возвращения в поселок. Таежные дети говорят о том, что сами приедут и помогут родителям, своей семье и родному оленеводческому стаду. Поселковые же дети планируют помогать на дистанции, отправляя финансовую и другую помощь из города, или же намереваются организовать переезд всей семьи в город, где жизнь намного легче и лучше.
Таким образом, здесь конструкция будущего зависит от концепции эффективного действия, которую ребенок испытал, с которой был ознакомлен через различные информационные ресурсы (местные легенды и предания, телевизионные мыльные оперы, газеты, журналы) или которая была наиболее доступна в одном из пространств космологического треугольника тайга — поселок — город. Соответственно, поселковые дети чаще всего видят себя в качестве эффективных деятелей в городе — еще не испытанном и не изведанном ими пространстве. В широком понимании они воспроизводят местную ситуацию изолированности от внешнего мира и постсоциалистический утопизм пространства поселка, поэтому город они считают главным центром эффективного действия. Город в этой перспективе видится как территория вне изоляции от остальной части России и всего внешнего мира. Центр эффективной действенности находится где-то очень далеко, в каком-то абстрактном гиперпространстве города — Якутска, Москвы или всей России. Я связываю намерение поселкового ребенка обосноваться в городе с конструкцией эффективного действия, чья траектория следует прогрессивному линейному направлению. Они локализуют свое будущее эффективное действие в пространстве какого-то абстрактного города потому, что оно недоступно здесь и сейчас, т. е. в пространстве поселка.
В значительной мере я рассматриваю данную конструкцию в континууме советской темпоральности. Пяти-десятилетние социалистические модели планирования формировали советское видение будущего, в котором человеческое благосостояние, зарплаты, равные права и равноправие в выборе, самый высокий уровень продукции были гарантированы марксистско-ленинской концепцией исторической диалектики, согласно которой каждый советский гражданин участвовал в прогрессивном движении к коммунизму. В этом видении социальное действие в настоящем приобретало характер работы на гарантированное будущее (Humphrey 1998, Slezkine 1994).
В таежном видении детского будущего задействован другой вид эффективного действия. В экстремальных условиях северной сибирской тайги совместные усилия выживания человека и оленя выступают основным компонентом этой конструкции. Это тот вид эффективного действия, который доступен только в тайге, в очень жестком, но приносящем радость и удовлетворение мире. В таежном хронотопе дети мечтают привезти плоды своего образования для того, чтобы принести благосостояние и счастье своей семье и родному сообществу.
Теперь я хотела бы рассмотреть данные конструкции в континууме категории личности. Чтобы проиллюстрировать топографическое выражение поиска счастья, я помещаю элементы отбытия из родного стойбища и возвращения в рассказах таежных детей в концептуальную ось продуктивного отсутствия, в основе которого лежит детское желание принести спасение и счастье своему родному сообществу. Именно элемент возвращения делает их отсутствие продуктивным, т. к. это будет родное сообщество ребенка, которое пожнет плоды его возвращения, получит результаты его деятельности. Рассмотрим основные сценарии продуктивного отсутствия и возвращения, в которых протагонист отъезжает из родного дома для того, чтобы вернуться и принести разрешения критической ситуации в родном стойбище или селении. При этом очень важно отметить, что в данной траектории пространственное движение циклично, а цикл продуктивного отсутствия завершается возвращением протагониста.
В этом репертуаре я определяю три сценария продуктивного отсутствия: 1) возвращение охотника из своей охотничьей поездки; 2) возвращение шамана из мира духов в конце своего ритуала; 3) возвращение эпического героя в родное стойбище, что приносит спасение от беды и несчастья. Траектория движения каждого из обозначенных сценариев круговая или цикличная.
Репертуар цикличных типов пространственных траекторий не будет полным, если мы не включим в него цикличное движение оленеводческого стойбища и оленьего стада, следующего сезонному циклу перемены пастбищ. Но в данной пространственной организации кочевой жизни нет места элементу временного продуктивного отсутствия, так как движение людей и оленей указывает скорее на постоянное темпорально-пространственное присутствие, нежели на отсутствие. Движение здесь циклично, однако в нем отсутствует кульминативный элемент возвращения. Данная концепция темпорально-пространственной организации не столько комплементарна, сколько показательна в плане множественности пространственно-временных регистров.
Возвращаясь к трем типам продуктивного отсутствия, нужно отметить, что первый тип действия имеет рутинный характер, и его эффект невелик — в пределах небольшого человеческого коллектива, который получает необходимый ежедневный ресурс; обозначим его как рутинное продуктивное отсутствие. Эффективное действие эпического героя (тип № 3) и шамана (тип № 2) включает в себя экстраординарное действие в сфере магии, и, соответственно, степень его эффективности локализуется на космологическом уровне. Отсутствуя на протяжении определенного периода, и шаман, и герой несут своим возвращением резолюцию критической ситуации крупного масштаба, такой как болезнь, несчастье, бедствие (голод или эпидемия).
Данный элемент экстраординарного действия присутствует и в будущей биографии таежного ребенка, т. к. его возвращение влечет за собой социальный/экономический и политический выход из настоящей ситуации. Элемент спасения существует во всех трех типах продуктивного отсутствия, но наиболее ярко выражен в последнем.
Возникает вопрос: что подвигает ребенка или подростка к повествованию такого рода? Ответ может быть таким: восприятие ребенка формируется на основании его собственного понимания и общественного дискурса о том, что сообщество в критической ситуации, которая требует экстраординарного эффективного действия на уровне эпического героя или шамана. Этот момент и играет роль триггера такого отклика ребенка на данную ситуацию.
Эта ситуация в антропологической литературе обозначена как постсоциализм, т. е. экономический, демографический и психологический кризис в результате крупного социального изменения и коллапса целого мировоззрения. И будущие автобиографии эвенских детей отражают конкретный исторический момент, который ассоциируется с экономическим упадком, отчаянием и изоляцией от внешнего мира.
В значительной мере моральный элемент героического возвращения, который репродуцируется таежными детьми в их рассказах о будущем, служит доказательством того, что сценарий эпического возвращения существует на уровне самосознания ребенка. Каждый рассказчик предвидит себя центром энергии экстраординарного эффективного действия, направленного на восстановление благосостояния и на устранение ситуации голода, бедствия и кризиса. В этом смысле элемент возвращения в рассказах таежных детей служит доказательством валидности той категории личности, которая направлена на достижение экстраординарного эффективного действия.
В противовес дискурсу вымирания данный материал показывает, что дети и подростки обладают космологически динамичным видением будущего и очень сильным восприятием моральной цели. Представляя собственный отклик на ситуацию кризиса и социального страдания, дети и подростки выступают осуществителями эффективного действия и активными создателями своей нарративной реальности. Как авторы своих рассказов о будущей жизни они создают свое идеалистическое пространство эффективного действия, которое потенциально открыто и доступно для каждого. Все это служит выражением поиска всего сообщества, его стремления к эффективному действию эпического или героического уровня. Частично оно основано на ипостаси шамана, подвергнутого репрессиям советского строя, частично — на самом советском строе, на том всеконтролирующем суперносителе эффективного действия, который совсем недавно потерпел крупный провал, открыв другие возможные видения будущего и предложив роли новых героев и спасителей. Таким образом, гетеротопия пространства генерирует те мотивационные конструкции поиска счастья, в пересечении и взаимодействии которых дистиллируются исторические и идеологические контуры социально-культурных моделей и общественного устройства.
ЛИТЕРАТУРА
Foucault М. (1997). Different spaces // Aestethics, Method and Epistemology / J. D. Faubion (ed.). NY: New Press. P. 175–185.
Grant B. (1995). In the Soviet House of Culture. A Century of Perestroikas // Princeton, NJ: Princeton University Press.
Hann C. M. (2002). Postsocialism. Ideas, Ideologies and practices in Eurasia London: Routeledge.
Haraway D. (1988). Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective // Feminist Studies. № 14. P. 575–599.
Humphrey C. (1998). Marx Went Away — But Karl Stayed Behind. Updated Edition of: Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm. Cambridge, NY: Cambridge. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Kwon H. (1998). The Saddle and the Sledge: Hunting as Comparative Narrative in Siberia and Beyond // Journal of the Royal Anthropological Institute. № 4 (1). P. 115–127.
Slezkine Y. (1994). Russian and the small peoples of the north. Arctic mirrors. Ithaca and London: Cornell University Press.
Mauss M. (1990). The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies / Trans. W. Halls. NY: Norton.
Ortner S. (2002 [1973]). On Key Symbols 11 Anthropology of Religion / M. Lambek (ed.) Oxford: Blackwell Publishing. P. 158–167.
Rethman, P. (2001). Tundra passages: History and gender in the Russian Far East. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
Sántha I. and Safonova T. (2011). Pokazukha in the House of Culture: The Pattern of Behavior in Kurumkan, Eastern Buriatiia // Reconstructing the House of Culture: Community, Self and the Makings of Culture in Russia and Beyond / B. Donahue, O. Habbek (eds). Oxford, NY: Berghahn Books. P. 75–96.
Slezkine Y. (1994). Arctic Mirrors: Russian and the Small Peoples of the North. Ithaca and London: Cornell University Press.
Sokolova Z. P. (1997). Sibir: Ethnosy i Kultury (narody Sibiri v XIX veke) [Siberia: ethnoses and cultures (Peoples of Siberia in the 19lh century)]. М., Ulan-Ude: Izdatel’sko-poligrafichesky kompleks VSGAKI.
Strathern M. (2005). Partial Connections. Walnut Creek: AltaMira Press.
Ssorin-Chaikov N. (2003). The Social Life of the State in Subarctic Siberia Stanford, California: Stanford University Press.
Ssorin-Chaikov N. (2006). On heterochrony: birthday gifts to Stalin, 1949 // Journal of the Royal Anthropological Institute. № 12. P. 355–375.
Verdery C. (1996). What Was Socialism and What Comes Next? Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Vitebsky P. (2005). Reindeer People. Living with Animals and Spirits in Siberia London: Harper Collins Publishers.
Willerslev R. (2007). Soul Hunters. Hunting, Animism, and Personhood among the Siberian Yukaghirs. Berkeley, Los-Angeles, London: University of California Press.
Willerslev R., Ulturgasheva O. (2012). Revisiting the Animism versus Totemism Debate: Fabricating Persons among Eveny and Chukchi of Northeastern Siberia // Animism in Rainforest and Tundra: Personhood, Animals, Plants and Things in Contemporary Amazonia and Siberia / M. Brightman, V. E. Grotti, O. Ulturgasheva (eds). Oxford, NY: Berghahn Books. P. 48–68.
______________________
______________
Ольга Ултургашева[326]Символический обмен с советским прошлым в современных «местах счастья и удовольствия» города Екатеринбурга
Фотография с праздничного действа, выражающая полноту бытия, взывает к публике: «Ты готов веселиться?» Атрибутика праздника отсылает к советскому времени. Современный успешный человек играет в «советское». Для полного счастья ему нужно отправиться в прошлое, актуализировать какую-то его часть и слиться с ним. В этом разыгрываемом праздничном действе слипается прошлое и настоящее. Прошлое выступает способом структурирования и означивания настоящего, местом праздника (рис. 1).
1. Ты готов веселиться? Фото Анны Рыбаковой.
Для Екатеринбурга характерно активное присутствие советского в визуальном облике города, задаваемом в первую очередь (в центральной части и в районе Уралмаша) архитектурой конструктивизма. Советский Свердловск был одним из наиболее ярких примеров попытки реализовать советскую утопию и устроить счастье на земле, которая воплощалась в новом образе жизни, в преобразующей быт архитектуре, в новом типе жилья.
Ниже мы рассмотрим различные варианты взаимодействия с «советским» в специфических городских «местах счастья», а также некоторые закономерности и тенденции, с ними связанные.
* * *
Счастье — это определенное состояние, которое рождается в конкретном социальном поле, в конкретных социальных отношениях.
Счастье имеет Место, оно развертывается в темпоральных и топологических характеристиках, соотносится и противостоит ситуации отсутствия счастья, говоря иначе — несчастью и прозе жизни. Счастье этимологически отсылает к причастности, приобщенности к целому, к полноте бытия, и эта причастность носит динамический характер. Между счастьем и отсутствием счастья постоянно происходит динамический обмен. Сама возможность счастья задается и конституируется фоном отсутствия счастья, отношением с ним. Динамические отношения причастия и отсутствия полноты бытия могут выражаться метонимически или метафорически. Важно, что идет процесс постоянного динамического движения и обновления, который соотносится с различной темпоральностью и характеристикой «мест счастья». Счастье может быть взятым в долг, может быть компенсацией за труды и страдания в прошлом, бегством от проблем и способом их забвения.
На первый взгляд, счастье можно считать универсальным человеческим феноменом и вести отсчет его осмысления с древнейших мифологий и античных философских систем. Однако тематизация счастья как самостоятельного феномена происходит в ситуации модерна как результат секуляризации и становления современного субъекта, ориентированного на посюстороннее бытие. Но в содержательном плане феномен счастья, будучи продуктом современности, своими корнями уходит в мифологические основания.
В самом общем виде пространство счастья — это пространство свершившегося мифа. Космос мифа осваивает Хаос, и избыточность бытия находит свою форму, но затем вновь погружается в динамику поиска новых пространственно-временных конфигураций и способов обмена с другими состояниями.
В данном случае миф знаменует собой вечное настоящее, вневременное состояние начала, в то время как счастье отражает полноту бытия. Но в пространстве самого мифа мы можем обнаружить различные способы отношений с прошлым и будущим как с элементами сложного настоящего. В различных типах социальности (советское, городское, постсоветское, потребительское) они вступают в сложные динамические взаимодействия, а в повседневной жизни мы фиксируем их различные темпоральные формы, предполагающие иной тип структурирования отношений между людьми. Это касается в первую очередь современной ситуации, которая предстает как пространство сосуществования различных временных форм в одном социальном пространстве. Разнородность современного постпросвещенческого мира выражается в разнонаправленности и непредсказуемости взаимодействий. Констатация сосуществования разнонаправленных и разновременных социальных феноменов требует анализа явлений, оказывающихся на стыке различных темпоральных форм, через которые и посредством которых осуществляется это взаимодействие.
В современном социальном знании активно работает такое понятие, как «места памяти»[327]. Эти места являются эмоциональными конденсаторами и сосредоточениями исторической мифологии. Взаимоотношения с ними для выстраивания исторической идентичности различных социальных групп осуществляются через специфические ритуальные практики и разнообразные интерпретативные стратегии. «Места памяти» — это феномены, темпоральное отношение с которыми задается их амбивалентностью: с одной стороны, они принадлежат прошлому, тому прошлому, которое уже ушло и которого нет в наличном настоящем, с другой стороны, они присутствуют в этом настоящем как прошлое настоящее, как актуальное прошлое. На взаимодействии этих различных времен и строится энергетика «мест памяти», задается жизнь мифологических конструкций, связанных с этими топосами.
По аналогии с «местами памяти» можно рассмотреть и «места счастья». Только их хронотоп будет иметь более сложный характер. Как ситуация счастья они принадлежат актуальному настоящему, но одновременно соотносятся с различными структурами и прошлого, и будущего, более того, являются специфической конфигурацией Целого. «Места счастья» не являются физическими объектами в прямом смысле слова. Они формируются как символические объекты, локализованные в специфическом темпоральном измерении, с которыми акторы связаны значащими связями. Как топосы они представляют собой систему взаимодействий и диспозиций, для акторов они энергетически нагружены (investissment), эмоционально и психологически инвестированы. Как уже давно отмечено в антропологической и психологической литературе, психологические инвестиции могут коррелировать и с реальными финансовыми инвестициями[328].
Для того чтобы описать динамику темпоральных отношений, складывающихся вокруг «мест счастья», мы используем понятие «символический обмен», разработанное Ж. Бодрийяром. Оно позволяет выявлять и описывать сложность и неоднозначность взаимодействий в разнокачественной реальности.
Бодрийяр, стремясь выйти за ограничения, налагаемые структуралистским описанием социальности, противопоставляет два понятия: символический обмен и циркуляция знаков.
Символический обмен — это обмен значимыми действиями, это отношения, в которых разыгрывается статусное положение участников в социальном пространстве. Символический обмен отсылает к агонистическим играм, в которых участники делают ставки с риском все проиграть. С. Зенкин отмечает в предисловии к работе Ж. Бодрийяра «Символический обмен и смерть»:
Ясно, что символический обмен и представляет собой, по Бодрийяру, «агонистическую» игру, состязание, чреватое нешуточным противоборством, сравнимым с дуэлью. В то же время эта игра способна доходить до крайних пределов, до экстаза, оборачиваясь катастрофическим «истреблением» законов и установок социальной инстанции[329].
Человек личностно вкладывается в обмен. С. Зенкин продолжает:
Именно такие субъективно переживаемые обмены, чреватые вызовом и риском для участников, ставящие их в конфликтно-силовые отношения между собой, и обозначаются у Бодрийяра термином «символический обмен»[330].
В содержательном плане определяющими в этих взаимодействиях являются отношения Вызова и Ответа. Противостоять человеку в этих ситуациях может не только субъект. Его антагонистом часто бывают и внешне безличные структуры (Судьба, Фортуна, а точнее, объективированный и обезличенный социальный опыт), важно, что за ними скрывается социальное содержание или опыт.
Если Ответ на Вызов не дается, то он оказывается отложенным, взывающим к реагированию и возмещению посредством превращенных форм в виде метонимии или синекдохи. Это задает специфическую динамику социума. Символический обмен не подразумевает, что участники отношений получают эквивалентные воздаяния как результат взаимодействий. Обмен не носит эквивалентного характера, его последствия разнонаправленны. В результате динамичности и разнонаправленности обмена конституируются социальные иерархии, социальные поля, а также сами акторы.
Ж. Бодрийяр, описывая специфику обмена, противопоставляет современное общество традиционному, архаическому — как обществу, в котором символический обмен вытеснен циркуляцией знаков[331]. По Бодрийяру, циркуляция знаков порождает симуляционную реальность и симуляционные отношения, блокирующие полноценную обновляющуюся коммуникацию между различными социальными сферами. Возникающий порядок симулякров ведет с человеком другую игру — «мимикрическую», подменяя реальность условными подобиями.
Однако такое противопоставление символического обмена циркуляции знаков по линии архаика — современность, даже если учитывать намеченную Ж. Бодрийяром смену различных типов симулякров с началом Нового времени, не совсем корректно. Оно задает искусственную, зауженную схему восприятия реальности.
В действительности общества, построенные либо на символическом обмене, либо на циркуляции знаков, являются только лишь идеальными конструктами. В реальных социальных взаимодействиях символический обмен и циркуляция знаков сочетаются в различных пропорциях. В социуме они обязательно присутствуют, но в сложных концентрациях и конфигурациях, реальное общество может располагаться ближе или дальше относительно одного из полюсов идеальной шкалы.
Обмен предполагает двусторонние отношения. В случае обмена с прошлым они подразумевают изменение диспозиций участников, их переинтерпретацию и новое означивание, исходя из потребностей нового настоящего. Однако если обмен носит только симулятивный характер, то реального обновления не происходит и сохраняется ситуация, «в которой мертвый держит живого».
В рамках нашего анализа в первую очередь рассматриваются типы диалога «советского» и «постсоветского» как формы социального опыта, что является примером взаимоотношений различных сущностей модерна, одна из которых выступает как традиция (советское прошлое). Для нашего анализа важно проследить характер взаимодействий этих форм, рассматриваемых через призму отношений «мест счастья» с мифологическим прошлым, которые в зависимости от характера «цитирования» этого прошлого предстают как метонимические или метафорические переносы (тропы)[332].
В модернизирующемся обществе невозможна простая, непосредственная коммуникация с прошлым, поэтому она осуществляется через одновременное отчуждение от него и инверсию смыслов и чувств по отношению к нему. А так как эта ситуация вновь и вновь воспроизводится, то в итоге выстраивается многослойный пирог модернизированных и постоянно модернизирующихся слоев, в которых, ко всему прочему, огромное место занимают «архаические корни». Прошлое, а в частности — счастливое прошлое, приходит в виде цитат, но эти цитаты выглядят как якобы непосредственная связь со всем миром прошлого[333]. Так, в современной России в качестве традиции могут выступать и петровская модернизация, и реформы Александра II, и столыпинские преобразования, а феномен советского модерна способен становиться «архаической» традицией, феноменом счастливого прошлого. Процитируем недавно вышедшую книгу, посвященную советскому общепиту:
Похоже, складывается целая индустрия воспоминаний о советской эпохе… Старое будоражит так, как еще совсем недавно будоражило «новое». «Советское» переживается теперь как устойчивое, ясное, простое, спокойное, надежное, безусловное, свое… Раньше знаковым было понятие «западного». Теперь, когда СССР ушел в прошлое, «советское» само становится иносказанием множества смыслов. Знаком, тайным или явным, противостояния современности… То, что еще на нашей памяти было рутинной повседневностью, предметом насмешек, источником раздражения и досады, вдруг стало неисчерпаемой кладовой намеков на иные возможности бытия[334].
Таким образом, «места счастья» выступают своеобразной формой коммуникации. Их тематизация вызвана разрушением в постпросвещенческом обществе линеарной конфигурации пространства и времени, а множественность хронотопов опосредована сложными пересечениями взаимодействующих структур. Исходя из этого, можно говорить о специфической темпоральности современных «мест счастья», об ироничной моральной экономии их создания и способах канализации энергии, что ведет к разнонаправленным стратегиям общения с прошлым и настоящим.
Интересно посмотреть, в какой форме существуют отношения с ситуацией счастья, воплощенной в специфические «места счастья», в современном постсоветском обществе.
Рассмотрим два расхожих публицистических образа «современного счастья»; они связаны прежде всего с советским обществом и с обществом потребления.
В социальной публицистике существует схематичный образ Советского счастья как счастья мифологического, обращенного в будущее[335]. В соответствии с этим образом, советский человек жил в страшном, тяжелом мире, но эти тяготы оправдывались мифологемой «светлого коммунистического будущего, в котором будут жить наши внуки», т. е. человек был устремлен в будущее. Особенность этого образа счастья в том, что мифологическое будущее одновременно присутствует в настоящем. Фильм «Кубанские казаки» рисует это светлое будущее; его нет в настоящем, но зритель видит кинематографический образ воображаемого светлого будущего, существующего здесь и сейчас в стране победившего социализма. Яркие, жизнеутверждающие художественные образы будущего, будущего счастья легитимизируют существующий порядок и одновременно обеспечивают возможность эмоционального выживания человека в этом непростом, требующем геройских подвигов мире; они обеспечивают счастье настоящего.
Образу героического советского счастья противостоит иной, обыденный образ счастья человека общества потребления, ориентированного на настоящее, состояние счастья — непосредственное переживание здесь и сейчас, вне истории и фактически вне линии времени. Человек потребляет, осваивает, и он счастлив.
Очевидно, что оба образа утрированы и имеют смысл только как некие идеальные конструкты с определенной ограниченной объяснительной силой. Детальный анализ этих явлений вскрывает более сложную структуру переживания счастья и времени в обоих случаях, а точнее, показывает многослойность, множественность явлений.
Рассмотрим способы сочетания этих образов в современном городском пространстве Екатеринбурга.
Современный город — это пространство потребительской культуры? Потребительского счастья? К этой мифологии отсылают начавшие доминировать в современном городском пейзаже элементы консюмеристского ландшафта: молы, зоны фланирования потребителей, рекламные билборды. Потребительское счастье — это счастье длящегося настоящего? Времени, зацикленного на самом себе?
В это же время, в этом же пространстве присутствует советское, которое причудливо переплетено с настоящим, а иногда призвано стимулировать потребительские практики современного человека, являясь «удачно» найденным маркетинговым ходом (рис. 2).
2. Товарищи!!! Идите в САУНУ, пожалуйста! Фото Тимофея Ради.
В современном дискурсе концепт «советское» — это образ недавнего прошлого, которого уже нет, но которое как символическое социальное поле городского бытия «советское» активно присутствует «здесь и сейчас». Мы можем его обнаружить как в телесных практиках, так и в эмоциональных переживаниях значительной части населения.
Анализ рекламной продукции и материалов праздничных мероприятий (на примере компаний Екатеринбурга) показывает, что мифологема «советское» как некий смысловой топос не представляет единства: это многомерный и не сводимый к одному знаменателю феномен, точнее, набор различных феноменов, связанных между собой только по смежности (т. е. метонимически).
Эту многомерность отношения с советским поддерживает неоднозначность и несводимость к одному знаменателю структур общества потребления. Потребительское счастье не просто фиксируется на настоящем, оно по-разному играет с прошлым и канализирует энергию взаимодействия со своим основанием, связывая одновременно ситуации присутствия и отсутствия реальности (иронический троп)[336].
О степени соответствия этого образа реальности невозможно говорить — это миф.
В данной работе специфика отношения с «местами счастья» будет анализироваться на материале города Екатеринбурга.
Сопоставляться будут несколько вариантов использования «советского» и связанные с ними топосы счастья.
В качестве эмпирической базы анализа мы используем юбилейный видеофильм и серию фоторабот, созданных ко дню рождения крупных чиновников (разработчики event-компания «Fata Morgana») и обыгрывающих советскую стилистику и игру с советскими знаками и символами; образцы рекламной кампании банка, компьютерной фирмы, наружной рекламы иных компаний, использующих советскую стилистику. В анализируемых материалах «советское» является частью повседневности, а не внешним идеологическим символом.
Анализироваться будет специфика «советского», представленная в различных вариантах «мест счастья». Специфика «советского», представленного в различных вариантах «мест счастья», а также особенности отношений с «местами счастья» различных акторов. Во всех случаях анализ выявляет специфические черты отношения к заявленным объектам и специфику взаимодействия и обмена.
В создаваемых и переживаемых «местах счастья» взаимодействуют различные персонажи: художники, дизайнеры, рекламисты, менеджеры и владельцы фирм, заказчики художественных акций и, наконец, рядовые потребители — участники событий, развертывающихся в «местах счастья». Во всех случаях можно говорить о реализации стратегий причастности к счастью и обращения к счастью посредством игры с советской тематикой. В каждом конкретном примере отношение с советским и отношение к счастью нетождественно, но оно отчетливо прослеживается и приобретает причудливые конфигурации.
Наивно полагать, что перед нами прямое продолжение советской традиции, это лишь использование цитат «советского», которые фиксируют отчужденность от традиции или ее «переизобретение»[337] в соответствии с потребностями современного прагматического мира. Например, известный роман Елизарова «Библиотекарь» фиксирует «изобретение» советского детства теми, кто ощущает недостачу детского.
Праздник чиновников
Чиновник Валентин Петров (имя изменено) отмечает юбилей. Все происходящее фиксирует камера. Потом специально нанятая компания смонтирует фильм о юбилее, который выдержан в советской стилистике и изобилует приметами времени[338]. Заказчики поставили перед организаторами праздника задачу: оформить мероприятие в советском стиле.
Содержание праздника. Гостей на входе в помещение, заполненное предметами, которые символизируют советское время (вымпелы, флажки, бижутерия), встречают чистильщик обуви и разбитной малый с гитарой в образе Остапа Бендера (НЭП). Все поднимаются по лестнице; при входе в зал гостей встречают пионервожатые, которые повязывают им галстуки, дарят пионерские значки и обмениваются приветственным салютом (советское детство героев праздника). Затем все могут отовариться в советском буфете у колоритной советской буфетчицы. Поздоровавшись с юбиляром, гости рассаживаются, и наступает официальная часть. В соответствии с негласными, но устойчивыми и жесткими правилами подобных мероприятий она включает торжественные речи родственников и друзей, перечисляющих достоинства юбиляра, благодарности за дружбу и поддержку и ответное слово главного героя праздника, в котором он благодарит жену, детей и друзей. (Обмен речами и обмен благодарностями как элемент выстраивания и поддержания иерархических структур и социальной значимости участников действа.)
Речи перемежаются выступлениями приглашенных артистов — либо в костюмах Ансамбля Советской Армии, либо в псевдонародных русских сарафанах. Эти концертные номера отсылают опять-таки к официальным, но праздничным мероприятиям советского времени: официальным концертам, приуроченным к 8 Марта, Дню милиции или Советской Армии.
Сам юбиляр в кульминационный момент праздника поет лирическую песню. Затем участники совместно смотрят на большом экране специально подобранные фотографии, фиксирующие основные вехи биографии героя и иллюстрирующие его жизненные успехи. Во время просмотра камера выхватывает лицо героя: видно, что для него это очень эмоционально нагруженные (invest) образы.
Итак: по ходу праздника «советское» ни разу не упоминается ни героем действа, ни его гостями, ни актерами-организаторами. Но «советское» — это форма[339], которая задает содержание мероприятия.
Праздник как символическое «место счастья» выражает совпадение в биографии героя семейного и социального успеха. Праздник церемониально оформлен: символический вход в специфическое пространство, погружение в антураж советского времени, репрезентация социального контекста, обмен подарками и бенефисное выступление героя. Праздник ритуален и отсылает к мифологическому пространству и времени.
«Место счастья» для героя, в соответствии с ритуальным характером пребывания в нем, — это прошлое, советское прошлое, которое уже прошло, но оно воспроизводится в разыгрываемом действе, а воспроизводясь, становится актуальным сейчас и переживается в данный момент. Это актуальное прошлое — прошлое настоящего, то, что переживается здесь и сейчас, во время праздника, то, что в «концентрированном» виде выражает полноту жизни героя.
В этот момент для героя и гостей вся жизненная история и связанная с ней социальная история, все, что маркируется знаком «советское», сведено к сюжету праздника. От всего многообразия и сложности как самого феномена советского, так и личной биографии героя остается только сюжет, структурирующий праздник. Детство, взросление, работа, достижения, женитьба и рождение детей: повествование о жизни персонажа и страны метонимически редуцируется к этому набору сюжетных ходов, и следовательно, «советское» фактически редуцируется к фону жизни и успехов героя.
«Советское» для участников праздника является внешним, «красивым» и «узнаваемым», зачастую положительно маркированным антуражем. Можно предположить, что в данном случае для героя и других участников праздника «советское» — это образы детства и юности, которые вспоминаются и по которым они ностальгируют. «Советское» в этом действе имеет бутафорский характер, является симуляцией, игрой. От всего многообразия жизни остаются только фрагменты, вырванные из контекста и произвольно перемешанные, исходя из заданной логики сюжета. В данном случае заказанное и потребляемое «советское» видится как набор штампов и клише. Вся структура классического ритуала соблюдена, только вместо жертвы и обновления человека и социума — пафосные поздравления, в которых главный герой торжества скорее зритель, нежели участник. Даже беря слово, он выступает в качестве внешнего субъекта по отношению к жизни, как бы отстраняется от происходящего. Это отстранение создает то самое особое пространство счастья, в котором юбиляр находится. Он потребляет спектакль жизни.
Если рассматривать этот праздник как ритуал, то мы имеем дело с типичным симулятивным действием, изображением ритуала. Полнота жизни сводится к созерцанию штампа. Символический обмен редуцируется к циркуляции знаков. В то же время для ведущих и актеров «советское» выступает как простая, пустая форма, в которую можно играть и которая хорошо продается.
Итак, в данном случае мы сталкиваемся с двумя вариантами взаимодействия с концептом «советское». Во-первых, это симулятивная ностальгическая коммуникация с прошлым — в случае с главным героем фильма. Состояние счастья фиксируется через причастность к редуцированному прошлому, сведенному к потребляемому в шутовском действии набору ходульных формул. Обмен в данном случае реализуется через симулятивное обновление в разыгрываемом ритуале причастности. Счастье здесь и сейчас, в обмен на редуцированную форму, поставляемую публикой и артистами и отсылающую к ностальгическим чувствам. Во-вторых, это игровое счастье артистов, сценаристов, авторов фильма. Напрямую данная ситуация никак не фиксируется и не проговаривается. Для них «советское» — чисто игровая форма, не имеющая специфического символического содержания. Играя, они не вступают в отношения с собственно советским прошлым и у них не возникает чувства сопричастности с прошлым. Образ отчужденного советского прошлого для них означает свободу в игре, образ, которым можно свободно манипулировать, который можно использовать и как продаваемый объект, и как возможность творческой игры.
Реклама СКБ-банка.
Особенность анализируемой нами рекламной кампании СКБ-банка г. Екатеринбурга: «Вперед, в светлое будущее» — связана с отношением к «советскому» как народному.
Для анализа использовались материалы, размещенные на сайте банка, и материалы интернет-дискуссии по поводу проводимой кампании.
Банк как топос — это пересечение нескольких стратегий отношения к счастью, «место» символически маркированных пучков отношений, связанных с банком. Место, где настоящее структурирует отношения прошлого и будущего.
Банк — «место счастья» клиентов, накапливающих или сохраняющих вклады. Это — счастье накопления и ожидания. С другой стороны, это место деятельности менеджеров банка, привлекающих клиентов и достигающих счастья посредством своих профессиональных успехов. Менеджеры — демиурги счастья. Таким образом, в поле одного «места счастья» пересекаются различные временные стратегии. Отложенное счастье клиентов, но отложенное invest, — оно должно «согревать» и осчастливливать клиентов. Банк — это место, где Время устремлено в будущее, но, совершив вклад, клиент контролирует будущее из «сегодняшней» точки, в результате чего будущее свернуто, редуцировано к настоящему. Это будущее текущего настоящего.
Банк — это место действия менеджеров, рекламистов и дизайнеров банка, привлекающих клиентов. Менеджеры создают свой рекламный продукт здесь и сейчас. И радость от создания эффектной и эффективной рекламы — это их собственный процесс обретения счастья.
Рекламная кампания, анализируемая нами, — резкая, эмоциональная, с использованием низовой лексики (рис. 3, 4)[340]. Руководство банка выбрало стратегию привлечения клиентов посредством обращения к «простонародной» культурной среде. Если ранее банк был носителем идеи солидности и «достойности», то теперь происходит переориентация на другие способы позиционирования. Выход был найден в обращении к низовой и смеховой культуре, в ее прямом обыгрывании в редуцированной форме.
3. Очкуешь, товарищ? С наличкой тревожно? Сайт СКБ-Банка.
Еще до начала анализируемой нами рекламной кампании, которая ориентирована на советскую стилистику и советский язык, банк в своих рекламных слоганах перешел к образам и выражениям, отсылающим к полукриминальному сленгу. В частности, к изображению денег в образах капусты или бабок: «круговорот капусты», «быстрые бабки».
На сайте журнала «Деловой квартал» рекламисты банка рассказали о том, как происходило становление стилистики «Банка с чувством юмора»[341].
На тропу рекламного креатива СКБ-банк вышел два года назад, когда совет директоров поставил перед всеми подразделениями кредитного учреждения казавшуюся малоосуществимой на тот момент задачу: двукратный рост по основным финансовым показателям, в том числе резкое наращивание филиальной сети за пределами Уральского региона. «Мы прекрасно понимали, что достичь поставленных целей можно было только небанальными способами, — вспоминает Валентина Гофенберг, начальник Управления рекламы и связей с общественностью СКБ-банка. — Банковский рынок очень конкурентный, продуктовые линейки у всех схожи, уникальных предложений никто не делает». <…>
Первая нестандартная реклама СКБ — макеты с капустой — родилась как шутка. Во время обсуждения нового корпоративного сайта руководитель пресс-службы банка Илья Лопарев выдал слоган: «Вклады и кредиты — круговорот капусты». Коллеги из отдела рекламы посмеялись и решили сделать шуточный макет, мало веря, что из этого может вырасти нечто серьезное.
4. Хватит, товарищ, без дела слоняться! Сайт СКБ-Банка.
Но первые же принты оказались настолько удачными, что их рискнули показать председателю правления Владимиру Пухову. Г-жа Гофенберг признается:
Если честно, мы немного боялись, все-таки руководство за такой креатив могло по головке не погладить. Но председатель правления воспринял наше предложение позитивно. Хотя мы до последнего дня не верили, что нашу идею утвердят. Он тоже долго взвешивал все «за» и «против», советовался с коллегами: было рискованно выпускать такую концепцию на рынок[342].
Некоторые рекламисты упрекали банк в излишней увлеченности жаргоном.
Но ведь никто в жизни не говорит: «Наличные денежные средства», — объясняет Валентина Гофенберг. — Народ активно использует слова «капуста», «бабки», «бабло». Конечно, не нужно скатываться в пошлость, но общеизвестно правило: будь проще — и народ потянется. Когда мы по-простому научились объяснять сложные вещи, люди нас поняли.
Отклик массового потребителя был весьма существенным, собственно, на это мы и рассчитывали, — добавляет Владимир Пухов. — В 2005 году мы выросли в объемах бизнеса в два раза, в 2006 году — почти в два раза.
«Капустная лихорадка» охватила не только городские улицы, но и сам банк. Даже члены правления с азартом придумывали слоганы и идеи картинок, и было видно, что с капустой люди не только смирились, но и сроднились.
Необходимо отметить, что члены правления банка активно участвуют в создании, обсуждении и разработке концепции рекламной кампании, это — поле приложения творческих способностей, место, где они могут активно играть и творить.
Бабки стали не просто логичным продолжением капустной тематики.
Как признают в банке, не будь «круговорота капусты» и его успешной финансовой отбивки, куда более смелый образ бабок вряд ли бы вообще увидел свет — не пропустила бы внутренняя цензура. Но мятежный «капустный дух» уже витал в воздухе, а потому бабки прижились в банке гораздо легче, чем их предшественница[343].
Обратим внимание на выражение мятежный дух. Что это за мятеж? Ответ: безусловно, мы имеем дело с игровым началом, в котором мятеж — это только метафора. Это игра на грани фола, которую персонал банка может себе позволить. Смеховая карнавальная игра, поглощающая статусы и иерархии и дарующая счастливое обновление. Другое дело, на какой срок это карнавально-смеховое счастье рассчитано. Предполагаются ли будни вслед за праздником?
В существовавших на тот момент (середина 2000-х) экономических условиях возможность банковского кризиса представлялась маловероятной. По крайней мере, для рекламистов банка: персонал может не бояться проиграть и поэтому готов позволить себе вольности, нарушающие традиционную банковскую стилистику. А слово мятеж — это риторический прием для усиления позиции. Мятеж происходит в заданных пределах. Его можно отнести к тем симуляционным действиям, которые описывает Бодрийяр. Это симуляция подлинного риска, подлинной ставки в игре. Это то, что он и обозначает как подмену символического обмена циркуляцией знака.
В августе 2006 года стали придумывать новый образ, который по силе воздействия превзошел бы полюбившуюся всем «капусту». Далеко ходить не пришлось: выбирая из похожих денежных эвфемизмов, наткнулись на слово бабки.
Показательно, что «бабок выбирали всем миром»: это отсылка к коллективному творчеству; персонал банка погружается в счастливое игровое пространство творчества.
Поначалу на идею сделать главными героинями новой рекламной кампании бабок руководство отреагировало так: «Вы нас в гроб загоните!» Но, успокоившись, признало, что идея неплохая и попытаться осуществить ее стоит. Мало того что бабки — это те же деньги, так это еще и что-то юморное, воплощение народной мудрости, — рассказывает Валентина Гофенберг.
Отыграв тему «капусты» и «бабок», руководство банка обратилось в той же стилистике к теме советского. «Советское» в этой рекламной кампании представлено в виде привычного визуального образа (визуальная цитата, метонимически связанная с советской реальностью) и ритмического стихотворного прямого обращения. Обращение идет от обладающей знанием верховной инстанции, которая обеспечивает стабильность и порядок. «Советское» — это воплощение «народности» для руководителей банка и инициаторов рекламной кампании. В таком ракурсе и стилистике проводились и сама кампания, и ее представление и тестовое обсуждение с клиентами банка.
Пресс-релиз банка:
5 сентября 2008.
Действующая рекламная концепция СКБ-банка признана народной! Таков итог завершившегося накануне интерактивного опроса, проведенного на сайте СКБ-банка. В голосовании приняли участие около 500 человек. <…>
Даже на сайте самого банка такая постановка вопроса вызвала неоднозначную реакцию. С первых дней лидировало мнение о необходимости замены рекламной кампании. К концу первой недели опроса позиции «да» и «нет» шли вровень, а буквально за последние дни до окончания голосования рекламу оценили как «народную» более 60 % посетителей сайта. Остальные голосовали за изменение концепции[344].
Банк создает шумиху — банк получает известность. Шок потребителей, ориентированных на традиционный имидж банка как носителя солидности; у других клиентов — радостное чувство веселой игры и нарушения привычных конвенций.
В рамках рекламной кампании «Вперед, в светлое будущее» оказываются сопряженными два типа отношения к счастью, а также варианты отношений со временем: советский и потребительский. «Советское» — счастливое будущее настоящего. Ведь приход светлого будущего гарантирован, и этим обеспечивается счастливое настоящее. Настоящее — это уже осуществленное счастливое будущее. Но если советское счастливое будущее настоящего задавалось общим, «закономерным», поступательным движением передового общества и заботой партийного руководства, то потребительское счастье глубоко индивидуалистично. Однако в рамках банковской рекламной кампании руководство банка заявляет о гарантиях по обеспечению этого счастливого будущего.
Так как «советское» в данном случае — только игровое и стилистическое подобие, то в рамках анализируемой кампании становится возможным проговаривание и наглядная демонстрация скрытого содержания как советского, так и потребительского общества, а именно темы страха и насилия. Эти темы отражаются в слогане «Очкуешь, товарищ? С наличкой тревожно? Сделай же вклад в банке надежном!», выявляют и объективируют подспудные стороны счастливого мира — но в «прирученной» и несерьезной форме.
Однако подобная объективация страха и насилия, по крайней мере по отношению к советскому, не входила в прямые намерения менеджеров банка и руководителей его рекламной службы. Рекламисты играют, и мы можем выделить сочетание, во-первых, прямого творческого начала в игре и, во-вторых, азартности игры[345]. Азарт связан с возможностью нарушать конвенции по ходу игры и получать удовольствие от достигнутого результата. Причем тенденция игры явно идет в сторону повышения ставок. От «капусты» к «бабкам» и от них — к «народному», «советскому», связанному с использованием анально-тюремного сленга («очкуешь»). Персонал повышает ставки в символической игре. Однако реальные риски не столь серьезны, как заявляются.
Итак, менеджмент банка и его рекламисты активно играют и получают счастливое удовольствие от игры. Игра воспринимается участниками как творчество, как продуктивная деятельность, как мятеж. С этой позиции они — творцы — могут быть описаны как реальные акторы символического обмена. Однако при таком описании за кадром остаются экономические условия функционирования банка и общий экономический контекст. Именно такой «пропуск» создает эффект полной творческой свободы рекламной деятельности, творящей коммерческий успех банка.
В результате данной кампании банк в очередной раз привлек к себе скандальное внимание, резко повысив тем самым свою узнаваемость. Это успех, но у него есть и оборотная сторона. Редукция к «народной» советской стилистике в долгосрочной перспективе ставит под угрозу репутацию банка.
Екатеринбург, ноябрь 25.
(Новый Регион, Александр Родионов, Елена Васильева).
Жители Екатеринбурга крайне обеспокоены неэтичной рекламой «СКБ-банка». Ответить на несколько вопросов, касающихся роликов, плакатов и аудио-рекламы про «очкующего товарища» пришлось председателю правления «СКБ-банка» Владимиру Пухову в ходе он-лайн общения с горожанами на портале Е1.
«Добрый день, Владимир Игнатьевич. Шокировала реклама „СКБ-банка“, начинающаяся со слов „очкуешь, товарищ…“. Да, она запомнилась, да, она выделяется из общего потока рекламы, но не перебор ли это для банка, уполномоченного Правительством Свердловской области, лауреата конкурса „Элита фондового рынка“? Что это: попытка привлечь новые слои общества в ваш банк или это термин, принятый в общении среди „элиты фондового рынка“ и Правительства области?» — поинтересовался автор, назвавшийся Игорем Лысковым.
Данный вопрос, что характерно, Пухов оставил без ответа, зато ему пришлось ответить на следующий вопрос своего клиента: «Владимир Игнатьевич, добрый день. Я давно уже являюсь клиентом банка СКБ (малый бизнес), и после появления рекламы „очкуешь, товарищ“ стало противно заходить в офис банка. Вы как-то контролируете рекламные кампании или отдали на откуп креативщикам, которым не знакомы ценности „СКБ-банка?“».
Ответ руководства:
«Во-первых, наша реклама никого не оскорбляет и не унижает. Использование же просторечий и жаргонизмов в повседневной жизни, рекламе — явление достаточно обыденное, тем более что в данном конкретном случае и оправданное. Надеюсь, все понимают, что слово „очкуешь“ произносится в контексте „боишься“ и не может никого обидеть. Ситуация на рынке, сами настроения населения, тревожащегося за свои „кровные“, как нельзя лучше и выражаются словом, которое Вам не понравилось. С другой стороны, герои всенародно любимого сериала „Наша Russia“ из серии в серию употребляют данный термин — и никому в голову не приходит назвать его оскорбительным. В конечном итоге все зависит от индивидуального восприятия. „Наша Russia“ имеет максимальные ТВ-рейтинги, так же как и наша реклама — максимальные отклики, в Екатеринбурге как минимум», — считает Пухов[346].
Как видим, происходит идентификация менеджмента с банковскими рекламистами и последующее отбрасывание обвинений в нарушении стиля и нормы. На взгляд банковского руководства, это несущественные угрозы на фоне повышения рейтинга узнавания и роста обращений в банк. Следовательно, риска в подобной стилистике рекламы ни для репутации, ни для экономического состояния нет. Менеджмент и рекламисты находятся в счастливом смеховом пространстве программы «Наша Russia». В нем же находится и утилитарно освоенное «советское», выраженное в слоганах анализируемой рекламной кампании. Смеховое пространство поглощает содержание.
Именно такое отношение к критическим замечаниям и такие действия позволяют считать, что в данном случае представители менеджмента банка не осознают серьезности игры, которую ведут, и серьезности ставок, которые делают. Они находятся в других, мифологических, пространстве и времени. Эта оценка ситуации позволяет проинтерпретировать поведение менеджмента банка как симуляцию риска и ставок. В реальности менеджмент не считает свое поведение рисковым, а симулирует его высказываниями о «мятеже» и т. п.
Вопреки критике менеджмент рассматривает движение — свое и банка — в будущее как гарантированно успешное: «Вперед, в светлое будущее». На языке Бодрийяра, это типичный пример подмены символического обмена циркуляцией знаков, лишь изображающей реальный риск. Однако ирония ситуации состоит в том, что игнорируемые риски серьезны. Просто Вызовы находятся в качественно ином будущем, не в том будущем настоящего, которое рисуют рекламные слоганы.
Приведем некоторые высказывания о данной рекламе из среды потребителей, экспертов и представителей власти.
Скажите, почему у вас такая дурацкая рекламная кампания в стиле Удафф. сом (переделка советских плакатов с дурацкими словечками типа «очкуешь»). Если бы мне не перечисляли зарплату на вашу карту, в жизни бы не стал клиентом такого «серьёзного» банка. И второе, почему у вас так мало банкоматов? Крайне неудобно. Лучше бы вместо дурацкой рекламы побольше банкоматов поставили[347].
(На это возмущенное обращение Пухов заметил, что уже дал ответ на вопрос ранее.)
По словам доцента кафедры современного русского языка филфака УрГУ Анны Плотниковой, с литературной точки зрения слово очкуешь содержит отрицательную коннотацию:
Согласно словарю жаргона, уголовное, пренебрежительное слово «очковать» означает «испытывать страх, бояться чего-либо». Оно восходит от выражения «очко играет» и «очко», что само по себе уже не нуждается в пояснениях, означая либо анальное отверстие, либо отхожее отверстие в полу[348].
Как считает Анна Плотникова, такое слово может положительно сработать лишь на определенный социальный слой — молодых людей, близких к тюремной субкультуре. У других же слоев населения столь грубый жаргон может вызвать лишь отрицательные ассоциации с объектом рекламы.
Депутат ППЗС по Свердловской области и председатель Общественного совета по защите здоровья и духовно-нравственного развития детей и молодежи от негативного воздействия информации Анатолий Марчевский высказался довольно резко:
Какой банк, такая и реклама. Уважающий свое достоинство человек никогда бы не допустил такого, и, кроме соболезнований руководству, я ничего по этому поводу сказать не могу. Возможно, пиарщикам СКБ-банка юмор «ниже пояса» кажется удачным, однако я не считаю, что это смешно. Как не считает его смешным и молодежь — она у нас неглупая[349].
Менеджмент банка мог игнорировать критику в условиях стабильного роста. Однако экономический кризис лета 2008 года и последовавшие за ним проблемы крайне обострили вопросы репутации и солидности в сфере банковских услуг. Для СКБ-банка эта ситуация оказалось очень трудной, хотя рекламисты и отмахивались от критики. Они оказались в зоне риска, ставя на карту будущее, но не то непосредственное будущее настоящего, которое выстраивается в рамках гарантированной схемы счастливого контроля над реальностью. Речь идет о неопределенном будущем, появляющемся внезапно и выставляющем совсем другие вызовы. Получая удовольствие от игры с низовым миром, менеджмент растрачивал репутационное поле банка. И в условиях экономического кризиса низовая репутация банка стала серьезным ограничителем его активности. Возникла ироничная ситуация реакции на риск.
Ирония — это оборачивание высказывания, когда говорится одно и этим же утверждается другое[350]. В данном случае, условно говоря, ситуация выглядела так: мы играем с традицией низовой культуры, мы изображаем риск и делаем ставки, но опасность риска сведена к минимуму, и мы можем быть свободны в своих действиях. Однако на деле игровой риск неожиданно превратился в реальный.
Итак, ирония ситуации, ирония обмена вызовами с низовым миром выразилась в том, что счастье сиюминутных достижений, осуществляемое в заигрывании с редуцированным образом прошлого, одновременно оказывается и источником такого переструктурирования настоящего, которое загоняет акторов в жесткие рамки социальных структур, ограничивающих свободу маневра в условиях кризиса.
Реклама компании «СтартТехно»
Аналогичная ситуация, хотя и со специфическими особенностями, сложилась в компьютерной фирме «СтартТехно» (рис. 5, 6). В качестве эмпирической базы исследования выступают визуальные материалы ее рекламной кампании и интервью с дизайнером.
В данном случае в качестве «места счастья», вокруг которого выстраиваются отношения и которое воспринимается как счастливое, выступает сама рекламная кампания — в качестве поля взаимодействия фирмы, дизайнера и аудитории потребителей рекламы. Если рекламисты и менеджеры являлись сотрудниками банка, то в случае с компанией «СтартТехно» дизайнер был привлечен со стороны.
Рекламная кампания для этой фирмы разрабатывалась с опорой на «Окна РОСТА». Обращаясь к знакомому пространству «советской стилистики», ее автор экспроприирует содержательный нерв «советскости» 1920-х годов. В данном случае мы имеем дело прежде всего с призывом к активному действию, преображающему окружающий мир (основной мотив постреволюционной рекламы). Подобный стилистический прием соединяет романтический дух 1920-х годов и воплощенный в персональном компьютере или ноутбуке индивидуалистический стиль современного бытия. Эффект рекламного воздействия строится на совмещении хорошо знакомого советскому человеку призыва к преображению с потребительскими стратегиями.
5. Купите компьютер любимому чаду. Фото Владимира Типикина.
В рекламе предлагалось обрести счастье посредством приобретения компьютера. Причем приобретение компьютера является также и социальным актом — приобщением к тем динамическим процессам, которые задавались «Окнами РОСТА». Но это уже не советский образ счастья, так как он создается через выхватывание, адаптацию и присваивание части советской реальности.
Рекламная кампания имела шумный успех. Очевидно, дизайнеру удалось попасть в актуальное пересечение диспозиций участников рынка компьютеров и простых обывателей по отношению к прошлому и современной актуальной проблематике. Реклама очень хорошо запоминалась и воспроизводилась потребителями даже спустя несколько лет после завершения кампании. Известность фирмы возросла в несколько раз. Резко увеличилось количество обращений покупателей. Дизайнер Владимир Типикин считает эту работу одной из самых значительных своих удач:
Да, я могу назвать работу над этим проектом одним из счастливых моментов в своей профессиональной биографии. Я получал огромное удовольствие от работы. А также могу быть довольным полученным результатом[351].
Дизайнер получил множество положительных откликов не только от потребителей, но и от представителей профессионального сообщества. Однако, по его словам, достойной оплаты не получил: «Я работал фактически ради удовольствия». Кроме того, на местных дизайнерских конкурсах материалы рекламной кампании оставались без наград: «Не знаю, почему так получается, все хвалят, успех очевиден. А призов не дали. Но я не переживаю. Мне сама работа нравится», — говорит В. Типикин. Данная кампания представляется ему «местом счастья» — как своеобразное место памяти, отсылающее к воспоминаниям об удачной работе.
— Чем для вас было «советское» во время работы над проектом?
— Для меня «советское» — это способ поработать не с идеологией, а с некоторыми продуктивными и провокативными графическими приемами и формами, сложившимися в советском идеологическом и рекламном плакате[352].
В. Типикин, участвуя в символическом обмене (творческий вызов), делает «вклад» в проект, который возвращается к нему в виде творческого успеха, однако без положенного ему, с его точки зрения, социального и экономического признания. В данном случае показательна разнонаправленность результата. Символический обмен многогранен и не сводим к единому знаменателю: в одном измерении социального поля он приносит успех, в другом порождает трудно прогнозируемые последствия.
6. Время пришло, очнись рабочий — колхозница нынче компьютер хочет! Фото Владимира Типикина.
Неоднозначность проявляется и в тех метаморфозах (возвращениях), которые происходят с фирмой. Очень показательна реакция руководства. Как и в случае с СКБ-банком, предложение по рекламной кампании было встречено с большим энтузиазмом. Руководитель фирмы с жаром участвовал в разработке, получал удовольствие от полученного результата, что было, на наш взгляд, одним из способов самореализации: счастье творчества, счастье причастности к большому советскому преображению (работа метонимических культурных механизмов). Однако фирма оказалась не в состоянии соответствовать обрушившемуся на нее успеху. Ее стали воспринимать как очень крупную компанию, количество заказов возросло непропорционально возможностям, что особенно сказалось в условиях кризиса 2008 года. Так как до кризиса фирма не могла удовлетворить возросший спрос заказчиков, вызванный удачной рекламной кампанией, а в период кризиса уже не могла позиционировать себя как небольшая и страдающая.
На этом примере мы имеем возможность проследить разно-направленность последствий символического обмена. Руководство фирмы столкнулось с ситуацией Вызова, на который было трудно дать адекватный Ответ. Если в случае с банком сиюминутный успех обернулся репутационными издержками и возможными проблемами в будущем, то в случае с компьютерной фирмой проблемы выросли непосредственно из факта успеха. Счастье связано с возможностью дать Ответ на Вызов, но динамика символического обмена приводит к тому, что этот Ответ порождает следующий Вызов, который не лежит в непосредственном поле акторов и требует выхода за наличные представления об успешно схваченном и освоенном пространстве и времени.
* * *
Счастье как динамическое состояние причастности к целому, к полноте бытия развертывается в специфическом пространственно-временном «объекте» — «местах счастья», являющихся подвижным полем выстраивания диспозиций и отношений акторов.
Как темпоральный топос «места счастья» обладают своим прошлым, настоящим и будущим (прошлое и будущее настоящего), конструируемыми и переживаемыми акторами в процессе взаимодействия друг с другом, с институтами и традицией в виде внешней объективированной истории.
Отношения акторов с внешней объективированной историей строятся посредством метафорических или метонимических (а в частности — и иронических) заимствований, переносов и редукций, что, с одной стороны, обеспечивает (частичную) преемственность, а с другой — приводит к постоянному обновлению этих отношений. Обновление отношений происходит в силу несовпадения непосредственного горизонта представлений и переживаний с объективированными структурами. В результате каждый Ответ на Вызов истории порождает череду непредусмотренных Вызовов, требующих новых Ответов. Эмоциональные и символические инвестиции акторов, связанные с метафорическими и метонимическими переносами образов прошлого и будущего, с формированием актуального образа счастливого настоящего, возвращаются к своим инвесторам, однако каждый раз результат отличается от желаемого инвесторами и задает новый виток обновления и соответствующего переодевания.
Поддержание адекватной динамики Вызовов и Ответов означает сохранение характера Символического Обмена. Невозможность дать Ответ на Вызов приводит к подмене Символического Обмена симуляционной циркуляцией знаков. Вопреки упрощенным представлениям, принципиально разводящим эти явления, в современном обществе присутствуют и символический обмен, и циркуляция знаков, которые оказываются разными сторонами одних и тех же взаимодействий, что приводит к разнонаправленным последствиям.
В современном постсоветском обществе «места счастья» могут без особых затруднений для акторов сочетать в себе как романтические, «антибуржуазные» образы советского, так и маркеры, отсылающие к индивидуалистическому, потребительскому поведению.
Итак, образы прошлого в «местах счастья» являются противоположностью, антитезой настоящего. Множественная темпоральность «счастливых» ситуаций и полей «мест счастья» связана с различными трансформациями содержания символических обменов.
В сфере формального творчества художников, которые делают ставку на творческий преобразующий жест, символический обмен вовлекает их в отношения (Вызовы) уже не просто со сферой искусства, но и со всем многообразием социальности.
Для менеджмента фирм и банков символический обмен связан с попыткой погрузиться в мир творческой радости и карнавального перевертывания, косвенными последствиями которого становятся вызовы, связанные с репутацией и коммерческой эффективностью. Будущее в представлении менеджмента и реальные процессы могут разительно отличаться.
Менеджеры не просчитывают последствий захватившей их игры в «советское» как ностальгического явления. Они метонимически выхватывают отчужденную часть традиции и трансформируют «советское» в обманку реальности, превращая участников ритуалов счастья в зрителей и пассивных потребителей.
В тексте городской жизни «советское» как множественное прошлое может представать в качестве набора концептов и цитат, связанных между собой лишь отношениями смежности. Эта множественность показывает принципиальную несводимость «мест счастья» к одномерным идеологемам, и она же демонстрирует принципиальную динамичность отношений, складывающихся вокруг них.
В рамках советского общества и в поле постсоветской утилитарной потребительской культуры динамика жанра, задающая возможность бытия топосов счастья, создает сложность и неоднозначность экзистенциальных процессов и социальных отношений, которые не редуцируются к простым мифам.
______________________
______________
Лариса Пискунова и Игорь Янков[353]Часть 3. Свадьба и счастливый конец
«В городе открыт Дворец счастья»: Борьба за новую советскую обрядность времен Хрущева
На выражение «Дворец счастья» в смысле «вариант ЗАГСа, предусматривающий проведение торжественных форм регистрации рождения и брака» я наткнулся в одной из статей в журнале «Коммунист» начала 1960-х. Потом я много раз встречал его и в других документах той эпохи, и, признаюсь, он до совсем недавнего времени оставался для меня «экзотизмом», передающим аромат той эпохи, когда официальные идеологи КПСС и тем более ВЛКСМ могли себе позволить блеснуть ярким образом. Я был искренне уверен, что эта преисполненная футурологического пафоса чеканная формулировка навсегда осталась в тех годах. И поэтому был очень удивлен, когда с помощью поисковой Интернет-системы Google выяснил, что Дворцами счастья как в народе, так и вполне официально до сих пор называют многие дворцы бракосочетания, причем не только в России, но и в других бывших братских республиках. Если верить Google, буквально пару лет назад был открыт Дворец счастья в московском районе Измайлово. Сейчас строятся Дворцы счастья в Краснодаре, Пятигорске и Ашхабаде. Своими Дворцами счастья гордятся Баку, Ереван, Донецк и Макеевка. Более того, бойкое перо журналиста открыло мне глаза на то, что и хорошо знакомый мне дворец бракосочетаний на Английской набережной в Ленинграде (он был первым таким заведением во всем Союзе) в народе тоже именуется Дворцом счастья.
Таким образом, как термин, так и соответствующий институт входят в наследие советского прошлого. Цель же моей статьи состоит в том, чтобы, следуя ностальгической моде на все советское, не только проиллюстрировать этот очевидный факт узнаваемыми деталями, но и указать на два взаимосвязанных факта. Первое: то, к чему привыкли современные горожане на современной свадьбе, не является внеисторической или «естественной» ритуальной практикой, сложившейся как бы сама собой. Наоборот — многие аспекты свадебной обрядности были сконструированы конкретными людьми в конкретном месте в ответ на конкретный социальный заказ. И второе: этот конкретный социальный заказ был сформирован и определялся идеологической и административной антирелигиозной кампанией времен правления Никиты Хрущева. То, что о последнем обстоятельстве мало кто помнит, объясняется не только полувековой временной дистанцией, но и сознательными попытками пропагандистов позднесоветского времени расподобить две разные кампании и представить борьбу за создание новых обрядов самостоятельным проектом, возникшим по инициативе нуждающихся в новых ритуалах масс. Впрочем, этот факт не помешал тому, что лица, идеологически оформлявшие введение новой обрядности, создали новую теорию обряда, в которой критике религии уделялось значительное место.
Однако, прежде чем перейти к описаниям чужих давно забытых теорий, стоит остановиться на тех, которые мы сами используем для понимания феномена вновь созданных обрядов, их природы, социальных функций и особенностей формирования. Очевидно, что в современных социальных науках с этой проблематикой ассоциируется подход изучения и критики так называемых изобретенных традиций, предложенных в знаменитом сборнике под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Рейнджера (Hobsbawm and Ranger 1983). Идея того, что многие кажущиеся нам древними символы и практики возникли совсем недавно и только выглядят естественным порождением истории, а на самом деле являются плодом сознательной и целенаправленной деятельности активистов, сейчас очень широко распространилась в социальных и гуманитарных науках и становится общим местом в рассуждениях о любых аспектах культуры (прежде всего национальной культуры). Интеллектуалы, приученные Марксом и Фрейдом к скептическому отношению ко всем идеологически важным концептам обывательского сознания, с большой готовностью противопоставили убийственной серьезности и деланой витальности приверженцев дедовских обычаев ироничную аналитичность и слегка меланхоличный скепсис тех, кто вслед за Мишелем Фуко принялся вскрывать модерную природу всех ныне существующих социальных явлений. Демистификация образов прошлого и практик воспоминания о прошлом, которая порой выглядит утонченной интеллектуальной забавой, в своих лучших проявлениях обернулась критикой механизмов, которые используются для манипуляции общественным сознанием в борьбе за политическое доминирование. Фигуры изобретателей традиции при таком подходе приобретают характеристики вольных или невольных обманщиков, выдающих новое за старое, ретуширующих исторические разрывы и вносящих через свои хитрые (или, наоборот, простодушные) трюки телеологическую логику в социальные процессы, ею не обладающие.
Эта научная мода, как бы к ней ни относились[354], несколько отвлекла внимание исследователей от рассмотрения других изобретений эпохи модерна — тех, которые их авторами никогда не выдавались за наследие предков. Их творцы во всеуслышание заявляли, что новые обычаи являются именно новыми. Я имею в виду деятелей революций — Американской, Великой французской и Русских[355]. Инаугурационные речи первых американских президентов, праздники в честь Разума и Верховного Существа в якобинском Париже, «красные крестины» послереволюционной России — эти явления объединяет стремление найти новые ритуальные формы для вновь создаваемых социальных идентичностей. Я рискну поставить в этот ряд и усилия тех советских деятелей, которые начиная с конца 1950-х годов старались предложить новому обществу (которое, как тогда полагалось считать, стремительно шло к коммунизму) новые советские обряды. Борьба за создание и внедрение новой обрядности началась в 1958 году[356] (дискуссия в «Комсомольской правде»[357] и XIII съезд ВЛКСМ 15–18 апреля) и достигла апогея в 1964-м, когда было принято постановление Совета министров РСФСР «О внедрении в быт советских людей новых гражданских обрядов» (18 февраля 1964) и издан приказ министра культуры РСФСР № 194 от 13 марта 1964 г. «О внедрении в быт советских людей гражданских обрядов и безрелигиозных праздников» (Шкуратов 2005: 26). Кроме того, в том же году состоялось I Всесоюзное совещание по внедрению в быт трудящихся новых гражданских обрядов. Но и после этого периода активного творчества попытки «внедрения» не прекращались до начала 1990-х годов, оставив после себя огромное количество книжек и методических брошюр, где предлагались как новые обрядовые формы, так и обоснование их применения. Однако сейчас нас будут интересовать только первые годы этой кампании.
Пытаясь найти параллели и концептуальную рамку для нашего главного сюжета, можно было бы обратиться к концепту «гражданская религия», придуманному Жан-Жаком Руссо и введенному в поле социологической дискуссии американским религиоведом Робертом Белла (Bellah 1967). Действительно, американский материал — как исторический, так и вполне современный — дает много ярких свидетельств создания и функционирования надконфессиональной системы символов и практик, на эти символы опирающихся, которые работают на поддержание национальной идентичности в многоконфессиональном и многоэтничном обществе. Но применение этого концепта к нашим материалам оказывается несколько затруднено тем, что он дискурсивно зависим от поля значения термина «религия», который, возможно, хорошо передает специфику американской ситуации. Упоминание «религии» затушевывает черты сходства между символическими системами (включая вновь создаваемые обряды), опирающимися не на собственно религиозные, а на квазирелигиозные (деистические) и антирелигиозные (коммунистические) модусы идеологической мотивации социальной практики, направленной на создание и поддержание новых видов идентичности. В этом отношении типологически ближайшую и хорошо оттеняющую специфичность нашего материала картину дает анализ феномена французского революционного праздника, предложенный Моной Озуф в 1976 году. Этот анализ показывает, что легитимация нового революционного режима (и новой гражданской идентичности) предполагает демонстративный разрыв с непосредственным прошлым и его основными, хорошо узнаваемыми политическими символами. Демонстративность такой апофатической легитимизационной стратегии на первых порах выливается в пародирование и умышленное профанирование обрядов прошлого (как сатирическое, так и вполне серьезное). В этой связи Озуф пишет о проектах ритуалов, некоторые детали которых без труда узнаются читателем, даже поверхностно знакомым с практикой обрядов первых лет советской власти:
…Авторы проектов придумывают обряд гражданских крестин, согласно которому крестный отец, надев национальную кокарду, откупоривает некий «флакон», окропляет несколькими каплями лоб новорожденного… а в это время другой участник церемонии читает Десять заповедей республики или требования к истинному члену народного общества (Озуф 2003: 378).
Однако спустя какое-то время подобного пародирования оказывается недостаточно, и удовлетворенность методами пародии (или имитации) сменяется поисками новых оснований для вновь создаваемой традиции. И эти основания обнаруживаются в пространстве внеисторических или максимально деисторизированных источников, относящихся к Золотому веку истории человечества. Для французских революционеров авторитетнейшим источником легитимности новых практик являлась идеализированная античность, населенная равноправными и социально ответственными гражданами: «Люди революционной эпохи не сомневались в том, что античная история — это история первичная, изначальная» (Озуф 2003: 385). Разделяющие современность и Золотой век эпохи вычеркиваются из генеалогии нового общества и его культуры:
Ведомые навязчивой мыслью об упадке и разложении, они вычеркивают промежуточные стадии, которые не могут претендовать на статус основополагающих. Их умами всецело владеет идея абсолютного начала; они уверены в том, что только оно способно стать прочным основанием (Озуф 2003: 387).
Но не только античные источники оказываются необходимыми для создания новой обрядности — космополитичная практическая этнология дает новый базис для смелых устремлений революционеров:
Революционные торжества попадают в один ряд с чувашскими, татарскими или черкесскими праздниками, греческими и римскими церемониями, как будто контрастное соположение обычаев «народов-детей» позволяло подойти к чему-то фундаментальному. В густой поросли обрядов истоки любой религии — и очертания религии первичной, изначальной (Озуф 2003: 392).
Советские теоретики новой обрядности искали концептуальное основание для своих проектов в еще более древних безрелигиозных временах. Их золотой век — это деконтекстуализированная и почти полностью придуманная (т. е. основанная на спекулятивных реконструкциях) первобытная история — время, когда между людьми не существовало отношений эксплуатации и, соответственно, не было религии, социальная функция которой состоит в том, чтобы эти отношения прикрывать. У теоретиков обряда рождались разные идеи относительно изначальной функции ритуала. Одна из первых и самых влиятельных — «производственная». Согласно этой теории (подчеркну: не гипотезе), первым обрядом была охотничья пляска:
Эти пляски носили учебно-тренировочный характер и служили целям воспитания, сплочения, организации коллектива на основе познания действительности, наглядно отображенной и воспроизведенной в живой эмоциональной форме (Авдеев 1959: 54).
Как уже говорилось, в отличие от хобсбаумских изобретателей традиции наши революционные конструкторы подчеркивают творческую природу своих инициатив. Для «традиционалистов» важно утверждать (и подтверждать) то, что социальная преемственность ими строго блюдется, что они по природе своей не отличаются от своих предков, а обряды, совершаемые сейчас, суть те же, что производились в прошлом. Для сторонников же новой обрядности оказываются важны концепты новизны — нового человека и нового человечества, того молодого вина, которому не обойтись без новых мехов. Идеализированное далекое прошлое используется ими не для того, чтобы прямо уподобляться его обитателям, но в качестве источника образов изначального человека (и социума) — некоего Адама, еще не познавшего греха тирании или эксплуатации. Это воображенное знание природного состояния человека нужно создателям новой культуры для того, чтобы продемонстрировать научную обоснованность своих инициатив, их способность удовлетворять базовые эмоциональные потребности человека. И здесь возникает устойчивая аргументация, согласно которой человек способен через рациональную деятельность достигнуть счастья, что связывает утопические построения новых обрядов с идеалами идеологии Просвещения (см. об этом подробнее во вступлении к данному сборнику). Универсализм этих идеалов разделяли французские революционеры, что вполне естественно, но и советские созидатели обрядов тоже представляли себе перспективы культурного строительства в терминах торжества разума, ведущего человека к счастью. Ориентируясь на образ изначального «природного» человека как на исходную точку эволюции всей культуры (всех культур), и те и другие ставили себе в качестве основной пели возврат к этому идеальному состоянию (правда, уже на другом уровне, когда человеку будут доступны достижения прогресса). Зная естественного человека (желательно, во всем его разнообразии), можно было создать такую традицию, которая в своих морфологических и семантических аспектах была бы способна удовлетворить потребности всех людей. В советском случае это знание предполагало создание общей схемы обряда, который мог бы подойти для любого советского человека, независимо от его социального или этнического происхождения. Именно поэтому теоретики ритуала, обслуживавшие кампанию по внедрению новых обрядов, уверенно рассказывают истории об эпохе изначальной невинности, которая была утрачена и должна быть восстановлена.
Потребность разнообразить трудовые будни, красиво, в торжественной обстановке отмечать важнейшие поворотные моменты своей жизни возникла у людей в самые отдаленные времена. Элементы обрядности и праздников появились у наших предков еще на заре сознательного бытия. Позже язычество и особенно христианство и другие современные религии наложили свою цепкую длань на большинство народных обычаев, обрядов и праздников, преобразовали их, иногда при этом исказили и обезобразили, придали мистическую окраску, покрыли мишурой, обложили податями, приспособили в качестве рычагов духовного порабощения (Геродник 1964: 3–4)[358].
Но ситуацию можно изменить, введя новые обряды. При этом:
Религиозные обряды нельзя просто отбросить, их нужно заменить, вытеснить красивыми гражданскими церемониями, запоминающимися на всю жизнь. И действовать нужно осторожно, вдумчиво, с любовью (Геродник: 12).
Новые «очищенные» от вредных религиозных искажений обряды должны, первое, помочь победить религию и, второе, удовлетворить изначальные базовые потребности человека в ритуале. Таким образом, советская обрядность призвана дать советскому человеку переживание настоящего земного счастья взамен иллюзорного религиозного ощущения:
Новые советские праздники, новые обряды, очищенные от мистики и отражающие какие-то значительные общественные идеи, являются сильнейшим противоядием против религии. Но их функции этим никак не ограничиваются. Они будут необходимы советским людям и впредь, когда религия отомрет окончательно. Без традиционной парадности и праздничности наша жизнь стала бы обыденной, выщелоченной, прозаически-серой (Геродник: 114).
Но важно в этом контексте помнить, что подобные теории были артикулированы как бы задним числом — когда борьба с религией, в том числе и с помощью новой обрядности, шла полным ходом, комсомольские свадьбы вытесняли венчание, торжественные регистрация новорожденных — крестины, а Дворцы счастья — церкви. Теоретики новой (и старой) обрядности в известной мере жили в своем собственном мире, и хотя некоторые их книги выходили тиражами в сотни тысяч экземпляров, людьми, которые делали конкретные шаги для создания новых традиций, они не принимались в расчет. Выполняя наказы центрального и местного партийного руководства, которые далеко не всегда имели форму документов, активисты деловито и технично сооружали те форматы, которые во многом дожили и до наших дней, в том числе и в форме современной свадьбы.
Началось же все в Ленинграде, который наряду с республиками Прибалтики и Украиной был выбран в качестве полигона и одновременно образца того, как и что нужно делать на ниве внедрения новой обрядности. Стартовала новая кампания, как водится, по инициативе трудящихся, причем очень вовремя — осенью 1958-го, когда в городе Ленина был открыт первый в СССР дворец для проведения гражданских ритуалов. Вообще говоря, уже с начала 1958 года в Центральном комитете партии началась подготовка к полномасштабному и решительному наступлению на все религиозные организации и все проявления религиозности в СССР (Одинцов 2003: 57)[359]. Несколько комиссий и комитетов одновременно готовили проекты постановлений, которые должны были резко изменить положение дел на идеологическом фронте. И один из основных векторов новой кампании был направлен на создание новых форм обрядности. Предваряла конкретные действия на этом направлении газетная дискуссия, подготавливающая общественное мнение к ярким нововведениям. Вот что писала «Комсомольская правда», сноровисто совмещая антирелигиозные филиппики, кустарную этнографию и намеки на необходимость преобразований в сфере обрядности:
Без праздников человеческая жизнь не мыслима. В праздники мы собираемся вместе и, стряхнув груз повседневных забот, отдыхаем, набираемся энергией для будущего труда, оглядываемся на пройденное и мечтаем о будущем… Церковь хорошо знала огромную силу праздников и постаралась на каждый из них поставить свое тавро, пропитать их своим духом. Поэтому-то и пришлось отбросить многие старые, привычные людям праздники.
Сейчас у нас много своих, новых, советских праздников. Все они глубоко народны по своему содержанию. Но вот о форме их стоит подумать серьезно… Слишком мало мы заботимся о том, чтобы каждый праздник имел свое лицо, свои традиции, свои особые обряды (да, да, не будем пугаться этого слова).
Почему некоторые старые праздники держатся так долго? Чем они сильны? Уж, конечно, не своим религиозным содержанием. Привлекают они именно своими народными красивыми обрядами. Причем у каждого народного праздника свои обряды, свое лицо.
На троицу девушки заплетали березки, наряжали их в ленты, пускали венки из цветов по воде, загадывая свое заветное… На святки — «ряженые», пляски, ворожба, которые, по сути дела, не что иное, как веселые игры молодежи…
Мы… отбросив со старыми праздниками… вредные религиозные обряды, отбросили и многие народные, национальные, родившиеся не в церкви, а в быту, новых же не создали.
Восстанавливая в правах старые народные обычаи и обряды, мы должны обогащать свои празднества новыми — нашими, советскими. Такими, чтобы они были народными по содержанию, по массовости, по форме и не менялись от года к году, а стали традиционными, привычными… (Нуйкин 1958).
Комсомольцы Ленинградского объединения «Светлана» в октябре 1958 года выдвинули предложение о новых гражданских и семейно-бытовых обрядах, о создании специальных дворцов для проведения ритуалов торжественной регистрации бракосочетания и новорожденных. Ленинградский горком партии поддержал комсомольскую инициативу, поручив Исполкому Ленгорсовета совместно с общественными организациями разработать новый ритуал и обеспечить условия для его проведения.
Одновременно во многих областях РСФСР стали создаваться различные варианты свадебных обрядов, в которых новые гражданские мотивы сочетались с элементами обрядов национальных или народных свадеб. Клубы начали периодически проводить молодежные свадьбы, разрабатывая специальные сценарии ритуалов. В этой работе приняли участие коллективы крупнейших ленинградских дворцов культуры, работники отделов загс, писатели и ученые, художники и архитекторы. Создавались новый обычай и новый тип культурно-бытовых учреждений — Дворцы счастья.
1 ноября 1959 года в Ленинграде открылся первый в стране Дворец бракосочетания, разместившийся в красивом особняке на набережной Невы (Руднев 1974: 76).
Как была организована работа этого Дворца, можно узнать из доклада Н. Д. Христофорова — секретаря Ленинградского горисполкома, сделанного на Всесоюзном совещании уполномоченных Совета по делам русской православной церкви при Совете министров СССР (25–29 июня 1963 г.)[360]:
Первый Дворец бракосочетания в Ленинграде был открыт еще в 1959 году. Регистрация браков в нем проводится в торжественной обстановке в соответствии с Законом о браке, семье и опеке. В разработке самого ритуала бракосочетания приняли участие многие общественные организации города. Этот ритуал прост, красочен, проводится празднично и отвечает эмоциям человека.
За месяц до вступления в брак молодые люди подают заявление, им назначается день и час регистрации. Во Дворце имеется: отдельная комната для невесты и ее подруг, комната для жениха и его друзей, комнаты продажи сувениров, подарков, цветов, банкетный зал, где новобрачные и гости могут отметить вступление в брак. Во Дворце работает фотограф. Во всех помещениях Дворца звучит мелодичная музыка, а в зале торжественной регистрации музыка передается по особой программе. В назначенное время по приглашению распорядителя молодожены вместе с гостями входят в гостиную, расположенную перед залом регистрации брака. Перед ними раскрываются двери зала, и распорядитель приглашает: «Уважаемые невеста и жених, прошу вас и ваших гостей пройти в зал торжественной регистрации брака».
Торжественно звучит музыка (фрагмент из балета Глиэра «Медный всадник» — гимн Петербургу, свадебный марш Мендельсона и др.). Музыка смолкает. В тишине начинается церемония торжественной регистрации брака.
Ведущий объявляет примерно так: «Вступают в брак Иванов Павел Иванович и Андреева Галина Павловна» — и, обращаясь к ним, говорит: «Дорогие молодые друзья! Сегодня в вашей жизни, в жизни ваших родителей, родных, близких и друзей большой, светлый и радостный день, который запомнится вам на всю жизнь, — это день, когда вы вступаете в семейный союз, заключенный на всю жизнь. Вы пойдете по дороге жизни рука об руку друг с другом, любя и уважая друг друга. Сегодня, в день рождения вашей семьи, хочется пожелать вам самого наилучшего, большого счастья, чтобы ваша семья была крепкой и дружной, чтобы вы глубоко уважали, любили друг друга, были настоящими большими друзьями. Счастье ваше и крепость вашей семьи в ваших руках, поэтому позвольте перед актом регистрации брака задать вам один вопрос — хорошо ли вы продумали свое решение о вступлении в брак?» (Невеста и жених отвечают.) «В соответствии с Законом Советской Федеративной Социалистической Республики о браке и семье, по вашему взаимному согласию и желанию, ваш брак сейчас регистрируется. Прошу Вас подойти к столу и скрепить свой семейный союз подписями». (Молодые подходят к столу и расписываются в актовой записи о браке — сначала невеста, потом жених.)
«Прошу свидетелей новобрачных подойти к столу и засвидетельствовать акт регистрации брака своими подписями».
Если молодые заказывали кольца, сотрудница Дворца подносит их на подносике, молодые обмениваются кольцами. Ведущий говорит: «Пожелаем им большого счастья!»
От имени Ленинградского Городского совета депутатов трудящихся тепло и сердечно поздравляет молодоженов депутат Горсовета, желает им счастья и вручает свидетельство о браке.
Ведущий, обращаясь к присутствующим, говорит: «Уважаемые гости — родители, близкие и друзья новобрачных, прошу вас присоединиться к нашим поздравлениям и пожелать счастья молодым!»
Все подходят, поздравляют, а затем под звуки свадебного марша молодые в сопровождении гостей покидают зал регистрации брака.
Гости вместе с молодоженами проходят в банкетный зал, где поднимают бокалы шампанского за счастье молодых. У подъезда Дворца к услугам молодоженов и их гостей дежурные автомашины-такси.
Легкоузнаваемая картина, не правда ли? Цветы, Мендельсон, шампанское, торжественные слова напутствия, бесконечно множащие темы любви, дружбы и счастья, и, разумеется, «во дворце работает фотограф» и уносящие молодоженов в новую прекрасную жизнь автомашины-такси[361]. Трудно поверить, что за этим, по большому счету, буржуазным антуражем, весьма технично перенятым ленинградскими активистами, стоит пафос борьбы с религией. Однако докладчику и его слушателям он был совершенно ясен. Риторика композиции делает функциональную направленность этих нововведений совершенно прозрачной, ведь тов. Христофоров начинает свой доклад словами:
Советские органы города Ленинграда усилили контроль за соблюдением законодательства о культах. Исполкомы райсоветов стали более конкретно заниматься этим делом, предметно интересоваться деятельностью религиозных обществ и их исполнительных органов.
И заканчивает утверждением-обещанием:
Некоторые итоги работы советских органов по внедрению советско-гражданской обрядности — это только начало большой работы по отвлечению населения от исполнения религиозных обрядов.
Действительно, тов. Христофоров настаивает на том, что ленинградский Дворец «является опорным пунктом атеистической пропаганды» и «вестником нового в нашей жизни». Кроме того, он подчеркивает, что формат подобного учреждения вызывает интерес «общественности» и тиражируется по всей стране:
Многие молодые люди из различных городов страны обращаются с просьбой разрешить зарегистрировать их брак в Ленинградском Дворце бракосочетания. Нам писали: «Мы, туристы с Урала, Сибири, Алтая, Башкирии, посетили Дворец бракосочетания. Сильное впечатление произвело торжество бракосочетания — музыка, цветы, торжественное вручение документов. Хотелось бы, чтобы во всех городах СССР были бы подобные Дворцы бракосочетания».
Многие города Советского Союза последовали примеру Ленинграда и открыли Дворцы бракосочетания.
И в провинции, т. е. там, где и был в ходу термин «Дворец счастья» (в больших городах, как и в Ленинграде, это были «дворцы бракосочетания» и «дворцы малютки»), мы находим картину, во многом близкую ленинградской. Вот как описывает собственный опыт тов. Разумный — секретарь горисполкома небольшого украинского городка Дрогобыч (заседание Совета по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР 17–18 января 1963 года)[362]:
Товарищи! Прежде чем перейти к характеристике обрядности, я хочу дать характеристику города Дрогобыча. Дрогобыч — в прошлом областной центр — насчитывает 60 тыс. населения. До недавнего прошлого в нем действовало 6 церквей. В апреле 1961 г. в городе открыт Дворец счастья. Что собой представляет Дворец счастья? Это красивый особняк, имеющий зал торжественной регистрации, комнату невесты, комнату жениха, комнату-буфет с шампанским, комнату цветов, комнату подарков. Площадь составляет 350 кв. м. Дворец обставлен соответствующей мебелью. Председатель городского Совета дал часть мебели для дворца из своего кабинета, часть мебели отпустил завод. Общественность города принимала активное участие в оформлении Дворца. Дворец был открыт в пасхальные дни, и характерно, что в первый день его открытия было зарегистрировано 40 бракосочетаний, в то время как в церкви ни одного. Все 40 пар пришли к нам во Дворец. Список бракосочетающихся опубликовали в газете. Этот факт имел хорошее влияние на население города.
…Что характерного в работе по внедрению гражданских обрядов, которая проведена в городе? Это систематическая публикация в местной газете объявлений о вступающих в брак. В первый день открытия дворца регистрировала брак одна девушка, которая происходила из религиозной семьи. Войдя во дворец, она заявила, что здесь лучше, чем в церкви. За год до открытия Дворца счастья у нас появился новый священник. Однажды он попросил показать ему Дворец счастья, он посмотрел и говорит: «Если бы я знал, что будет такой дворец, я бы не дал согласия ехать сюда, т. к. в церкви нечего будет делать».
Мы можем не верить уважаемому тов. Разумному в деталях. Но это не меняет общей картины. Активисты антирелигиозной кампании действительно питали большие надежды по отношению к новым формам обрядности, которая должна была обеспечиваться соответствующей инфраструктурой. Журнал «Партийная жизнь» прямо указывал, что местные Советы депутатов трудящихся должны «предусматривать в проектах застройки городов и поселков строительство Дворцов счастья» (О мероприятиях 1964).
Постепенно Дворцы счастья прочно вошли в повседневный опыт советских людей, став одним из ярких локусов счастья, как того и хотели теоретики и активисты той кампании. Весьма характерно в связи с этим описание, которое мы нашли в журнале «Юстиция Беларуси», вышедшем в 2004 году. Оно относится к стране, которую многие считают (с завистью, презрением или искренней симпатией) бастионом советской эпохи, советского образа жизни.
Знакомясь в Могилеве с деятельностью объектов социально-культурного назначения, Александр Лукашенко с одобрением отметил тот факт, что Дворец гражданских обрядов располагается в старинном здании исторической части города.
В ходе посещения Дворца Глава государства поздравил молодоженов, которые в это время регистрировали свой брак. Пожелания долгой и счастливой семейной жизни от Александра Лукашенко приняли Елена и Андрей Воиновы — учительница из Климовичского района и работник Могилевского завода транспортного машиностроения.
Во Дворце гражданских обрядов имеется три больших зала для одновременного проведения торжественных церемоний регистрации брака, комнаты жениха и невесты, зал регистрации новорожденных. Интерьер помещения выдержан в стиле классицизма, что придает внутреннему содержанию особую изысканность.
Материал, из которого я привел эту цитату, был написан начальником отдела ЗАГСа Могилевского горисполкома и назывался просто: «Дворец счастья» (Козлова 2004).
ЛИТЕРАТУРА
Авдеев Л. Д. Происхождение театра. Элементы театра в первобытно-общинном строе. Л.-М.: Искусство, 1959.
Геродник Г. И. Дорогами новых традиций. М.: Политиздат, 1964.
Козлова Е. Дворец Счастья // Юстыцыя Беларусь 2004. № 5; –5/art12.htm. Проверено: 01.10.2009.
Колоницкий Б. И. Символы и борьба за власть. К изучению политической культуры Российской революции 1917 года. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.
Нуйкин А. Поговорим о праздниках // Комсомольская правда. 2 февраля 1958.
Одинцов М. И. Вероисповедная политика Советского государства в 1939–1958 гг. // Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы. 1939–1958 (Дискуссионные аспекты). М., 2003.
Озуф М. Революционный праздник, 1789–1799/ Пер. Е. Э. Лямина. М.: Языки славянской культуры, 2003.
О мероприятиях по усилению атеистического воспитания населения // Партийная жизнь. 1964. № 2.
Руднев В. А. Советские обряды и обычаи. Л.: Лениздат, 1974.
Чумаченко Т. А. Государство, православная церковь, верующие. 1941–1961 гг. М.: АИРО-XX, 1999.
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в 1939–1964 годах). М.: Изд-во Крутицкого подворья, 1999.
Шкуратов С. А. Внедрение новых безрелигиозных праздников и обрядов в быт советских граждан // Шкуратова И. В., Шкуратов С. А. Советское государство и Русская Православная церковь: проблемы взаимоотношений в области внешней и внутренней политики в послевоенные годы. М.: Компания Спутник+, 2005. С. 21–33.
Babadzan А. (2000). Anthropology, nationalism and «the invention of tradition» // Anthropological Forum. № 10. P. 2, 131–155.
Bellah R. N. Civil Religion in America // Dжdalus. Winter 1967. Vol. 96. № 1. P. 1–21.
Field D. A. Private Life and Communist Morality in Khrushchev’s Russia NY: Peter Lang Publishing, 2007.
Hobsbawm E. (1983). Introduction // Inventing Tradition / E. Hobsbawm and T. Ranger (eds.) Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 1–14.
Ramet S. P. Religion and Politics in Germany since 1945: The Evangelical and Catholic Churches // Journal of Church and State. Winter, 2000. P. 115–145.
The Invention of Tradition / E. Hobsbawm and T. Ranger (eds.) Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
______________________
______________
Сергей Штырков[363]«Фото на память»: Гетеротопия свадебного обряда в современной России
Как правильно выбрать свадебного фотографа?
На самом деле вопрос не простой, ведь свадебные фотографии останутся с вами на всю жизнь и будут передаваться из поколения в поколение, поэтому стоит тщательно подойти к выбору фотографа.
Из рекламного текста профессионального свадебного фотографа.[364]Свадебная фотография — особый жанр этого вида массового искусства и вместе с тем уникальный социокультурный феномен. Действительно, фиксируя момент настоящего, вырванный из континуального потока реальности, она «очищает», режиссирует и сохраняет его как сюжет, репрезентирующий прошлое в будущем. Столь привычное для российских свадеб «фото на память» является одним из звеньев, соединяющих жизнь прошлых и будущих поколений. Какие же социальные функции выполняет этот жанр, предназначенный для семейного альбома? Прежде всего коммуникативную — message сообществу о совершении свадебного обряда, и мемориальную — сохранение памяти о пережитых событиях.
Интересно отметить, что свадебные фотографии, задуманные как «картинки идеального счастья», имеют определенное сходство с жанром парадного портрета в живописи. Главным для свадебного фотографа на протяжении всего XX века и особенно в наши дни стала задача репрезентации события, а не передача живого преходящего мгновенья жизни, пойманного объективом как бы случайно. Здесь, как и в парадных портретах, все предусмотрено и заранее подготовлено, начиная с эстетики кадрирования, постановки мизансцены, выбора места съемки и заканчивая эффектной демонстрацией костюма и безупречного макияжа. В этом смысле все участники фотосъемки «играют свадьбу». Режиссер этого действа — профессиональный свадебный фотограф — представляет мощную индустрию по визуализации счастья на отечественном рынке свадебных услуг.
Фотография, таким образом, превращается в очень интересный объект для исследования, фокусируя различные аспекты изучения гетеротопии современного свадебного обряда в российском пространстве. Поэтому в процессе подготовки выставки «Топография счастья: русская свадьба XX–XXI веков» в Музее-заповеднике «Царицыно» особое значение для меня как куратора проекта имел подбор фотографий[365]. Более ста свадебных фотоснимков — от первых дагерротипов 1860-х годов и студийной съемки начала XX века до современной цифровой фотографии — составили более трети всех экспонатов выставки (артефактов, живописи, костюмов, свадебных аксессуаров и проч.). Они с визуальной убедительностью документа репрезентировали зрителям особые «топосы счастья» — те места и те моменты, где и когда молодожены публично демонстрируют, представляют свое счастье (рис. 1). Эта тема — «Топография счастья» стала главным лейтмотивом выставочного, а затем и издательского проекта[366].
1. «У Кремлевской стены». Москва. 1977. Свадьба И. Иваненко и В. Кукушкина. Фото из семейного архива.
Данная статья является продолжением этого проекта. Здесь я рассматриваю свадебную фотографию как ключ к анализу свадебного обряда в современной России. Поэтому особенности ее исторического развития как определенного жанра визуального искусства остаются за кадром данного исследования. Заметим, что свадебная фотография для отечественных историков искусства до настоящего момента еще не стала предметом отдельного изучения, в отличие от антропологов, как зарубежных, так и российских.
Можно выделить два основных подхода в исследовании этой темы. В работах российских этнографов/антропологов свадебная фотография рассматривается как неотъемлемая часть современного городского обряда. Одним из заметных новшеств в советское и постсоветское время стало посещение молодоженами после регистрации брака в ЗАГСе местных достопримечательностей. Анализируя это явление, исследователи (Г. В. Жирнова, О. Бойцова, Д. В. Громов, М. Г. Матлин) связывают с ним и ритуал фотографирования в специальных местах по маршруту следования свадебного кортежа[367]. Здесь, как правило, рассматриваются вопросы визуальной самоидентификации молодоженов (национальной, групповой, социальной) и культурной трансформации традиционного свадебного ритуала.
Западных антропологов интересует другой круг проблем[368]. А именно: какое место занимают фотография, мода, реклама в свадебной индустрии? Как использует этот жанр массовая культура, нацеленная на производство и потребление образов счастья? Какова роль профессионалов, прежде всего свадебных фотографов, вовлеченных в эту индустрию? Последнее стало особенно актуальным в наши дни в связи с глобализацией рынка свадебных услуг и развитием свадебного туризма. Весь мир, от южных экзотических стран до Арктики, превратился в театральные кулисы с эффектными природными и архитектурными ландшафтами для репрезентации счастья.
Работая над проектом, выставкой и каталогом, мы инициировали новую волну интереса к изучению этой темы в России. Преподаватели и студенты кафедры этнологии и этнографии МГУ им. М. В. Ломоносова участвовали в проекте. Результатом их работы «в поле» (в северных регионах России, в Калуге и Саратове, 2008–2009) стали очень любопытные фотоматериалы о современном свадебном ритуале. Мы использовали их в экспозиции и в каталоге выставки[369]. Благодаря инициативе моего коллеги Н. В. Ссорина-Чайкова, научного редактора данного сборника и организатора конференции, в проекте приняли участие его аспиранты с кафедры социальной антропологии Кембриджского университета. Уникальные видеоматериалы о современном «рынке невест» и практике сватовства отснял для проекта Паоло Хейвуд[370]. Анна Григорьева исследовала рынок свадебных услуг в современной Москве, прежде всего сообщество профессиональных фотографов[371].
В данной статье мне хотелось бы, опираясь на материалы, введенные в научный оборот выставкой и ее каталогом, предложить новые ракурсы исследования темы и сосредоточиться на трех, как мне кажется, ключевых вопросах.
Во-первых: что представляет собой карта топосов свадебного счастья в современном пространстве российского города? Другими словами, куда именно отправляются молодые, чтобы «себя показать» и сделать обязательное фото «на память»?
Во-вторых (и это самый существенный вопрос): что, собственно, означают эти места счастья? Я предлагаю взглянуть на них по-новому — не только как на способ самоидентификации участников ритуала, но и как на «островки» гетерогенного пространства свадебного празднества. В этом качестве они вбирают в себя множественные смыслы происходящего: от репрезентации счастья молодоженов до торговли его образами представителями свадебной индустрии: фотографами, стилистами и т. п. В столь многомерном пространстве действуют многочисленные «персонажи» свадебного ритуала: сами молодожены, их гости, служители ЗАГСа и другие участники, невидимые за праздничным фасадом происходящего.
Понятие гетеротопологии (heterotopology) требует пояснения. Оно было предложено знаменитым французским философом Мишелем Фуко еще в 1967 году как системное описание пространств/мест, наделенных множественностью смыслов[372].
Мы не живем в некоем подобии вакуума, внутрь которого могли бы размещать индивидуумов и предметы и которое могло бы быть окрашено различными полутонами света, напротив, «мы находимся в системе отношений»[373].
Именно поэтому объектом исследования, анализа, описания и прочтения, по мнению философа, должно стать гетерогенное пространство — сложное/многомерное, одновременно включающее взаимно оспаривающие друг друга смыслы и значения.
И последний вопрос, который я поднимаю в данной статье: каким образом такие абстрактные и философски емкие понятия, как «память» и «счастье», сопрягаются со свадебной фотографией — явлением абсолютно конкретным и в определенном смысле даже банальным? Здесь я, с одной стороны, опираюсь на анализ широкого круга научных источников, а с другой — использую личный исследовательский опыт создания проекта «Топография счастья: русская свадьба» в Царицыне, изучения материалов выставки и реакции ее посетителей.
«Топография счастья» на карте свадебной Москвы
Места, которые новобрачные выбирают для фотосессии, имеют особое значение в современном свадебном ритуале. Этот выбор нельзя назвать спонтанным. Участники свадьбы часто следуют неписаному правилу: делать «как все» или «как принято». Поэтому для свадебной фотосессии они предпочитают места традиционные или только что вошедшие в моду: «вечные огни», набережные, памятники и мемориалы, храмы, дворцы и парки, мосты и просто красивые природные ландшафты. Они «свои» в каждом из российских городов и регионов — от могилы Канта в Калининграде, Воробьевых гор в Москве и стрелки Васильевского острова или храма Спаса на Крови в Петербурге до «Тачанки-ростовчанки» в Ростове-на-Дону и… далее по всей России (рис. 2). При этом с течением времени набор этих мест заметно меняется.
2. «Топография счастья» — раздел экспозиции выставки «Топография счастья: Русская свадьба. XIX — начало XXI вв.», Музей-заповедник «Царицыно», 2009 г. В зале представлены три карты: Российская империя рубежа XIX–XX вв., СССР и Российская Федерация с размещенными на них фотографиями молодоженов. Фото Константина Ларина.
Какова же роль фотографии в свадебном ритуале? Во-первых, традиция посещения «свадебных достопримечательностей», как отмечают антропологи, изучающие современный городской свадебный обряд, является одним из средств обозначить свою принадлежность к определенному сообществу: к своей стране, истории, народу, а в более узком смысле — к своей «малой Родине» и своей семье[374]. На протяжении нескольких десятилетий XX века, начиная с конца 1950-х, когда активно разрабатывается и внедряется в жизнь официальный церемониал советской свадьбы, исторические достопримечательности становятся традиционными точками для свадебного «фото на память». Эти исторические «места памяти» превращаются в топосы свадебного счастья. Если следовать объяснению слова «топос», предложенному синонимическим словарем 2000 года, — это «определенное место, ограниченное рамочным взглядом»[375]. Именно таким, буквально выхваченным/вырезанным объективом фотоаппарата из контекста повседневной жизни, и является «место памяти» на свадебных снимках.
Но интересно: почему память визуализируется в подобные топосы — памятники и достопримечательности, символически обозначающие историческое прошлое и ставшие популярными объектами посещения молодоженов и туристов? Например, французский историк Пьер Нора, известный своими работами по исторической памяти и национальной идентичности, выдвигает теорию, согласно которой в современном обществе «память превращается в „местоположение“», в посещаемый памятник или юбилейную дату, постепенно переставая быть «контекстом, обитаемой местностью». «А все мы, — утверждает автор, — превращаемся в отчужденных туристов, посещающих свое прошлое»[376]. И далее:
Интерес к местам памяти (lieux de mémoire), где память кристаллизуется и находит свое убежище, связан именно с таким особым моментом нашей истории. Это поворотный пункт, когда осознание разрыва с прошлым сливается с ощущением разорванной памяти, но в этом разрыве сохраняется еще достаточно памяти для того, чтобы могла быть поставлена проблема ее воплощения[377].
Визуальный ряд в свадебных фотографиях — одна из разновидностей таких путешествий по местам памяти. Симптоматично, что на протяжении XX века места романтической свадебной съемки, «воплощая мечту о счастье», все более совпадают с типичными местами исторической памяти.
Топография свадебного счастья также может репрезентировать перед сообществом собственную историю молодоженов через «топосы» их взросления и знакомства: места, где они учились, познакомились, встречались и т. п. При этом «сакральными» могут стать и такие профанные места, как «Макдоналдс» в качестве места первой встречи. На одной из фотографий, опубликованных в каталоге выставки, улыбающаяся и счастливая девушка позирует на берегу океана. И это не просто красивый ландшафт, а особый, зарубежный «топос счастья» в биографии русско-английской семьи: именно здесь невеста из России получила предложение выйти замуж[378].
В последние годы мы наблюдаем, как поиск особых мест для эффектных фото- и видеосессий в день свадьбы превращается в настоящую манию общества. Современная «модная» фотография стала одним из наиболее выразительных образцов гламура с его погоней за клишированными образами красоты, престижа и богатства. С другой стороны, свадебная индустрия превращает счастье в привлекательно упакованный товар, в набор дорогих «спецуслуг» для новобрачных. Среди ее обязательных атрибутов: красоты архитектуры и парков для церемонии бракосочетания, путешествия в экзотические страны, дорогие цветы и кортежи, роскошные наряды невест, в которых они уподобляются звездам шоу-бизнеса или героиням фэшн-сессий.
Эти гламурные образы режиссируются в свадебной фотосъемке согласно современным представлениям о счастливой жизни — эмоционально позитивной, праздничной и по возможности роскошной. «В свадьбе, — как считает известный московский фотограф Кирилл Кузьмин, — есть элемент костюмированного зрелища — машины, аксессуары». А хорошие фотографы, по его мнению, «не устраняются от процесса, любят и умеют высвобождать яркие эмоции, любят и хотят видеть счастье…»[379]. Поэтому в последние годы особый статус приобретают места, визуально означающие «красоту» и «богатство» как синонимы «счастья». Новобрачные реализуют эту мечту, остаются «навечно» в семейных альбомах самыми счастливыми и самыми красивыми, запечатленными в лучших местах, на лучших машинах и т. д.
Итак, в этой отрасли профессиональной фотографии особое значение придается декорации из арсенала «нетленной красоты»: этнических традиций, костюмированной романтики или классического наследия. Насколько спонтанно формируется эта новая традиция? Все ли здесь определяют спрос и предложение рынка? Оказывается, государство тоже «играет» на этом поле конструирования образов счастья. В 2008 году Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей одобрил законопроект, разрешающий играть свадьбы вне стен дворцов бракосочетаний. С этого момента сотрудники ЗАГСов начали осуществлять регистрацию браков на выезде. Разумеется, небескорыстно, а за дополнительную плату (в 2009 году эта услуга обходилась молодоженам 20–25 тыс. руб.[380]). Ответом «сверху» на эту потребность свадебной практики является также государственная программа Управления ЗАГС «В день свадьбы — в музей». В Москве в последние годы стали популярны выездные регистрации на особых площадках — в «храмах красоты» и «местах национальной памяти», освященных историей и традицией. Это музеи-заповедники и музеи-усадьбы, преимущественно московского подчинения, исторические памятники и площади. В августе 2009 года, например, «поток любителей изысканных торжеств», желающих зарегистрировать брак в Останкине или Царицыне, увеличился, и на роспись в усадьбах даже возникла очередь[381].
А как же быть молодоженам в тех городах, где нет архитектурной старины и художественных музеев? Здесь «культурной декорацией» становятся симулякры красоты и вечных ценностей. Иногда это принимает курьезные формы. Например, в городе Чебоксары стены зала, предоставленного для фотосъемки новобрачных, были увешаны репродукциями полотен великих художников разных времен и народов — от Боттичелли и Тициана до Репина и Шишкина.
Предложение различных мест для регистрации со стороны официальных органов ЗАГС, конечно, является ответом на запрос «снизу» — со стороны окрепшего рынка свадебных услуг и от самих молодоженов, соблазненных рекламой и жаждущих необычности и красоты. Официальная площадка для церемонии бракосочетания в стенах ЗАГСа часто воспринимается и молодоженами, и фотографами как пространство банальное, неудобное, неоправданно дорогое и скучное. По словам руководителя Управления ЗАГС г. Москвы Ирины Муравьевой, в 2008–2009 годах количество пар, решивших «зарегистрировать свой брак в торжественной обстановке», т. е. во Дворцах бракосочетания и ЗАГСах, «составляет где-то 60–70 процентов»[382]. А вот свидетельство известного свадебного фотографа Екатерины Алешанской:
Половина пар, которых я снимаю, не идут в ЗАГС. Потому что, ну что такое ЗАГС? Это ты приходишь в госучреждение и заказываешь на свои деньги там тетечку, которая скажет тебе, в какой момент надеть кольцо…. То, что происходит, — это торжественная услуга, которую ты имеешь право, как гражданин России, заплатив 500 рублей, заказать у государства. Люди вольны выбирать и заказывать эту услугу не у ЗАГСа, а у людей, которые этим профессионально занимаются. Например, может быть куча разных сценариев, какой-то появляется выбор, уже индустрия пошла, а не монополия. Молодожены могут обменяться кольцами, могут какую-то речь — какую-то клятву произнести друг другу, может быть даже без ведущей, и т. д. Красиво, гламурно и очень не так, как в ЗАГСе[383].
Психолог Анна Карташова в интервью газете «Новые известия» так объясняет феномен интенсивного поиска новых, альтернативных форм проведения свадебных торжеств:
Сейчас молодожены все чаще хотят выделиться из толпы и устроить незабываемое торжество. Это своего рода реакция на ущемление личности в советское время. Родители нынешних молодоженов и подумать не могли о том, чтобы пожениться под водой или надеть в ЗАГС черное платье… Молодые люди во время свадебного торжества хотят проявить свою индивидуальность[384].
Далее она описывает разные варианты этой безудержной погони за новизной на основе материалов, присланных от корреспондентов газеты из разных регионов России. Например, Международный чемпионат по воздухоплавательному спорту, стартовавший 25 июля в Дмитровском районе Подмосковья, открылся необычной свадьбой: на борту одного из воздушных шаров влюбленные-спортсмены обменялись обручальными кольцами. Событием для Иркутска последних лет стали байкерские свадьбы на мотоциклах.
У нас недавно тоже была байкерская свадьба, — рассказал «НИ» руководитель столичного агентства «Свадьба без хлопот» Роман Бояров. — Гости и молодожены были в кожаных куртках, а из музыки на свадьбе играли только рок-н-ролл. Спрос на такие торжества сейчас неуклонно растет[385].
В Барнауле состоялось первое в стране бракосочетание на велосипедах. Корреспондент «НИ» в регионе Никита Кисляков комментирует:
Свадьбы на колесах модны и в Самаре, правда, вместо пышного белого платья и строгого костюма жених и невеста одеты в тренировочные костюмы.
В том же Барнауле состоялась ковбойская свадьба:
Жених, наряженный ковбоем, вошел в дом невесты через окно, вскарабкавшись по стене многоэтажки с помощью скалолазных приспособлений. После чего «похитил» любимую, посадил на лошадь и отвез в ЗАГС[386].
Свадьбы-экшен требуют от молодоженов специальной подготовки, не только финансовой, но и физической. Например, молодожены готовились к своей ковбойской свадьбе, по свидетельству авторов публикации, больше месяца: будущий муж изучал основы альпинизма, невеста училась кататься на лошадях и исполнять ковбойские танцы[387]. Но есть еще одна, абсолютно радикальная альтернатива. Вместо официально-торжественных, или гламурно-художественных, или экзотических вариантов можно выбрать совсем иной: перенести место совершения обряда из какого-либо реального пространства, с его дороговизной, пробками на дорогах и прочими неприятностями, в виртуальное пространство Интернета[388]. Как показывают форумы, многие потенциальные невесты и женихи хотели бы зарегистрировать брак «дешево и быстро». Интересны комментарии этой ситуации со стороны руководства ЗАГС:
Кто-то мечтает об упрощении, кто-то об экзотике — хочет расписаться в облаках или под водой. Но мы считаем, что государственная регистрация брака — процедура важная и серьезная и должна проходить в соответствующей обстановке. После — пожалуйста, хоть в виртуальное пространство, хоть — поднебесье[389].
И летают в поднебесье, и спускаются под воду, надевая ковбойские, средневековые, языческие или черные наряды… Жест нонконформизма из отрицания традиций в наши дни превратился в модный тренд, можно сказать, стал вполне сложившейся традицией.
Гетеротопия свадебного обряда
Итак, современные молодожены стремятся превратить свадебное торжество в единственный и неповторимый праздник, сделать его особенным днем в жизни. Но карта свадебных топосов в пространстве современного российского города имеет не одно, а несколько смысловых измерений. Исследование гетеротопии включает в зону нашего анализа рынок специальных услуг, на котором эти «топосы счастья» уже давно стали «ходовым» товаром. Как уже говорилось выше, запечатленные на фотографиях и видео образы счастья в современном свадебном обряде воспроизводят и одновременно конструируют модные эталоны красивой и богатой жизни. Места для фотосъемки широко рекламируют в Интернете на многочисленных свадебных сайтах, где они оцениваются с точки зрения их коммерческой привлекательности: стоимость, доступность, престижность, предоставляемый набор услуг.
Через подобные комментарии свадебная топография столицы приобретает иные смыслы, детерминированные коммерческими интересами рынка. По данной шкале ценностей топосы исторической и культурной памяти превращаются в спецэффекты, пригодные или не пригодные для постановочной съемки. Разветвленная рыночная топография «свадебных мест» динамична и ориентирована на разные вкусы и социальные категории потребителей. Свадебные агентства, специализированные журналы и выставки, Интернет-сообщества свадебных фотографов бесконечно тиражируют клишированные картинки «счастливых мест», предлагая их по сходной цене.
В наши дни целая свадебная индустрия работает над созданием и реализацией сценария для «единственного и незабываемого дня счастья». И здесь профессиональный фотограф становится одной из ключевых фигур свадебного торжества. Он предлагает новобрачным амплуа «звезд» в фотосессии, в которой невесте отводится центральная роль «самой красивой и обаятельной». В определенном смысле фотограф замещает традиционную роль распорядителя-дружки на русской свадьбе. «Только свадебный фотограф знает всю специфику, всю череду событий свадебного дня», — утверждает один из московских фотографов на своем сайте[390]. Далее он поясняет: «Фотограф не должен упустить ни один важный момент и подсказать молодоженам, на что им стоит обратить внимание. Например, как правильно держать руки, когда надевать свадебные кольца, где встать, куда смотреть, чтобы кадр получился удачным»[391]. Для успешного результата все участники события должны довериться на съемке фотографу, как актеры — режиссеру. «Свадебный фотограф знает, чего вы хотите, и знает, как это реализовать… Он умеет правильно и красиво собрать людей для групповых свадебных фотографий»[392].
Свадебный фотограф позиционирует себя как профессионал, который в отличие от дешевых, но неопытных любителей знает, как «удовлетворить Ваши пожелания». «Профессиональные свадебные фотографы — идеально подходят для свадебной фотосъемки. Благодаря их опыту, у вас будут красивые и качественные свадебные фотографии при вполне приемлемой стоимости», — утверждает один из них на своем интернет-сайте[393].
Главная задача профессионала состоит в том, чтобы создать из действительности, полной случайностей и огрехов, образ идеального счастья и предложить новобрачным качественный «товар» — фотографии, которые «отправляют» настоящее в будущее без всяких видимых изъянов. Правильно выбранное место для съемки — половина коммерческого успеха свадебного фотографа. Для него это и красивый задник, и место, окрашенное определенными историческими ассоциациями и эмоциями. Последнее немаловажно, так как аккумулирует ценностную значимость события и, соответственно, стоимость фотосессии. Поэтому неизменно популярностью пользуются памятники культуры (музеи, здания, усадебные парки) или истории (городские памятники, площади).
Для столичных фотографов эти места для свадебной фотосъемки должны, как и всякий «ходовой» товар, соответствовать моде и время от времени обновляться. Так возникают новые тренды в их выборе. Продвинутый фотограф считает своим долгом предлагать как «старые», уже ставшие традиционными места, так и новые. Эта свадебная практика активно участвует в создании модной топографии современного города. Так, в последние два года свадебные фотографы предлагают непрезентабельные закоулки: фабричные окраины, старые дома, руины — но не романтические, а промышленные советских времен. По существу, они включают в свадебный обряд топосы, аналогичные местам, уже освоенным contemporary art — в качестве выставочной площадки или перформанса («Винзавод», «Гараж» и «Фабрика» в Москве, «Этажи» в Питере).
3. «Новая Москва». Новобрачные на мосту. 2008. Фото профессионального свадебного фотографа Екатерины Алёшинской.
Можно назвать этот жанр брутальным гламуром (рис. 3) или гламуром городских задворок. Он явно претендует на значимость авторского жеста, художественного, а следовательно, уникального и… более дорогого. Уже упоминавшаяся Екатерина Алешанская, участник выставки в Царицыне и автор художественных проектов, также работает в этом свадебном жанре. Она комментирует:
Ну, многие любят, и молодожены все-таки стремятся… к нашим памятникам. Ну и хорошо. Я считаю, что нормальный фотограф может сделать красивые фотографии в любом месте… Предпочитаю Царицыно, Коломенское, Архангельское, Кусково… Я еще люблю… граффити, железнодорожные пути, еще развалины какие-нибудь — тоже… городской такой гламур[394].
Итак, рынок услуг фотографов предлагает обкатанный на практике реестр обширной «топографии счастья». Например, интернет-сайт одного из ведущих столичных фотографов Кирилла Кузьмина предлагает развернутый текст под названием «31 место в Москве для прогулки и фотосета»[395]. Остановимся подробнее на его комментариях к мотивации выбора «стандартного», как определяет его сам фотограф, места фотосъемки. В списке под № 2 предлагается классика жанра — смотровая площадка на Воробьевых горах. Это место, облюбованное новобрачными с середины XX века, оценивается в целом положительно: «голуби, парк, правда, вполне обычный». Но есть и недостатки: «слишком много свадеб и слишком мало места».
Красная площадь из центрального топоса советской эпохи, из сакрального места — «сердца нашей Родины», куда устремлялись молодожены и выпускники школ, значится в этом списке под № 6, в рубрике площадок, где «свадебная фотосъемка возможна всегда». Причем, по мнению фотографа, это место далеко не лучшее, так как «на Васильевском спуске круглогодично строят разные сцены и… на каблуках (имеются в виду невесты) ходить трудно». «Брусчатка, сэр. Зимой ветрено», — иронично добавляет он[396].
Храм Христа Спасителя и мост, ведущий к нему (в списке под № 5), отмечены как «хороший объект». Но не потому, что эта дорога ведет к храму, а «потому, что фотосъемка возможна всегда, по дороге в другое место». Среди парковых площадок для «свадебной фотосъемки в теплое время года» лидируют парковый ансамбль Музея-заповедника «Царицыно» и «Архангельское». В первом есть разнообразие и эффектность: водоемы, деревья, арки, дворцы, аллеи, мосты, фонтаны. «„Архангельское“, — комментирует Кузьмин, — шикарное место для свадебной фотосъемки, растительные галереи, скульптуры, архитектура. Все остальные природные места Москвы для свадебной фотосъемки попроще будут». Однако в этих парках есть и минусы: «Далеко от центра и стандартных свадебных мест, много ходить пешком, много народа!»[397]
В усадьбе XVIII века «Кусково», напротив, можно снимать в любое время года, и здесь присутствует полный набор декораций для свадебной фотосъемки: парк, водоемы, архитектура. Можно провести съемку и внутри помещений, но за отдельную плату. Среди минусов — платный вход, необходимость дополнительно покупать билеты на свадебную фотосъемку и то, что «с алкоголем не пускают»[398].
Что же фигурирует в списке под первым номером? «Крокус Сити Молл», пригодный для съемки «в любую погоду»! Это не единственное торговое пространство, активно предлагаемое молодоженам фотографами. Рекламируется также ГУМ: «Красивая архитектура, в центре, несколько этажей, удобно бегать с этажа на этаж, фонтан, интересные ракурсы снизу и сверху… но народу много»[399]. Мост «Багратион» — тоже «хорошее место для фотосъемки свадьбы в дождь или зимой». Правда, архитектурные особенности самого сооружения фотограф оценивает низко: «архитектура внутри интересная, но однообразная». И Поклонная гора — «хорошее место, если есть тяга к военной технике». И Музей мебели на Таганке в непогоду оказывается довольно приятным местом, где возможна «свадебная фотосъемка в тепле и уюте»[400].
Автор специально отмечает архитектурные достоинства и природные особенности ландшафта, обозначая их специальным термином — «красивости». В этот разряд попадают самые разные объекты: на Воробьевых горах — массивная ограда и панорама города, вид на главное здание МГУ; «какие-то клумбочки, цветочки» у моста «Багратион»; а на Красной площади — «хороший вид со смотровой площадки моста» и… даже иностранные гости, которым «интересно» (видимо, как подходящий стаффаж для съемки)[401].
4. Арка из свадебных замков «на счастье». Ульяновск. 2008. Фото этнографа Михаила Матлина.
Есть еще один смысловой слой в гетеротопии свадебного ритуала в современной России — магический. В последние годы все больше появляется специальных дат для бракосочетания (три семерки, три девятки, День города) и особых мест, «приносящих счастье» новобрачным. Мосты как магические места в наибольшей степени укоренены в традициях русской свадьбы, особенно в обрядовых ритуалах «свадебного поезда». В свадебных причетах и гаданиях, в сказках мосты символически означали пограничье, рубеж в жизни и вместе с тем — грань между земным и потусторонним мирами. Невероятно популярны они стали в начале 2000-х. Возникла новая традиция: вешать на мостах через реки, водоемы и фонтаны в день бракосочетания замки с датами, именами и пожеланиями молодоженов (рис. 4), а ключи от них выбрасывать в воду. Этот обряд на выставке в Царицыне был представлен серией фотографий, сделанных в Москве, Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Калининграде, Саратове, Великом Устюге и многих других городах. Например, в Ульяновске, по наблюдениям исследователя современного городского свадебного фольклора Михаила Матлина, «замки счастья» появились в 2006 году, когда через фонтан в центре города перекинули мостик, сразу же названный «Мостиком влюбленных»[402]. Прогулки новобрачных по мостам и обязательная фотосессия после торжественной регистрации брака в ЗАГСе стали традиционными во всех регионах России.
Снимая молодоженов на видео и фото, оператор или фотограф в поисках наиболее выразительного кадра часто достаточно жестко регламентируют их действия: указывают, как нужно всходить на мостик, в каком месте прикреплять замок, что должна делать невеста и что жених, как нужно выбрасывать ключи и проч. Но в рамках этого сценария новобрачные все же имеют право выбора: какой замок купить, как его украсить (замки раскрашивают, вешают на них ленты) и что на нем написать[403].
Правда, цена на «замки счастья», предлагаемая на мостах, значительно превышает их продажную стоимость в магазинах скобяных изделий.
Гетеротопия мостов в современном городском ритуале последних лет расширяет и множит свои смыслы. Кроме магии счастья мосты, помеченные новобрачными замками, со временем начинают играть особую роль в обезличенном пространстве современной городской среды. Они становятся достопамятностями в истории частной жизни горожан. Например, в годовщину бракосочетания или в праздники некоторые молодожены приходят на мостик, чтобы найти свой замок. Более того, замки, с соответствующей памятной надписью, стали вешать влюбленные или даже девушки — в знак девичьей дружбы[404].
Не только мосты, но и природные, и художественные объекты наделяются в современном ритуале «магической» ролью. Это деревья, а также городские и придорожные скульптуры, как правило, увешанные разноцветными ленточками. Они появляются вполне произвольно на маршрутах, проторенных свадебными кортежами. В Саратове, скажем, гости забираются на постамент памятника «Влюбленным» на набережной Космонавтов и стараются повязать ленточки как можно выше[405]. В Великом Устюге их повязывают на деревья рядом со скульптурой «Медведь», а на Ярославском шоссе между Радонежем и Троице-Сергиевой лаврой ими украшают рога гипсового оленя. В Царицынском парке в Москве в последние годы тоже «появилось» свое дерево счастья — липа около Фигурного моста; в Петербурге объектом свадебного паломничества стали ноги скульптурных атлантов в портике Нового Эрмитажа.
5. «Кто выше» — соревнование между командами жениха и невесты. Свадебная игра на мостах через канал Грибоедова и реку Мойка. Санкт-Петербург. 2008. Фото Юрия Молодковца.
Зададимся вопросом: какие фигуры вовлечены в современную свадебную практику кроме фотографа? Другими словами, кто пишет сценарии, ставит декорации, организует процесс и продает реквизит для «играющих» свадьбу перед объективом фотокамеры?
В последние годы сложилась традиция во время объезда города после регистрации брака останавливаться в разных местах. Здесь молодожены и гости не только делают эффектные фотографии, но и следуют к «магическим» свадебным объектам, участвуют в различных «ритуальных» играх и конкурсах. Они пускают голубей, стреляют из пушек, дуют в трубу, устраивают соревнования между командами жениха и невесты и т. п. (рис. 5, 6). Здесь же пьют за счастье молодых, с шумом разбивают фужеры и бутылки с шампанским. Все происходящее предполагает наличие на этих местах специального арсенала свадебных услуг и аксессуаров — своего рода «рояля в кустах». Это вызвало к жизни активное развитие дополнительных «спецуслуг», предоставляемых молодоженам. Режиссируют действо фотограф вместе с распорядителем и владельцем реквизита, сильно напоминающим «массовика-затейника» на советских праздниках. Одни предоставляют за сходную цену голубей — «птиц счастья», почтовых или дрессированных цирковых. Последние, по признанию свадебных фотографов, удобнее для профессиональной съемки, так как они не улетают и можно делать множество дублей. Другие предлагают пушки, фужеры или музыкальные инструменты[406].
6. «Птицы счастья». Саратов. 2007. Фото Василия Шишлова.
Праздничный ритуал традиционной русской свадьбы всегда включал обрядовые игры и шуточные действа, в которых особую роль играл распорядитель обряда — «дружка». В наши дни в городах им на смену пришли профессиональные аниматоры/ведущие, которые проводят состязания и викторины, выдумывая развлечения самостоятельно или используя специальные издания по проведению торжеств. Но часто эти ритуальные «придумки» организуют на местах фотосъемок «народные» представители свадебного бизнеса. Например, на стрелке Васильевского острова в Петербурге жениху предлагают погадать, кто родится — сын или дочка, выстрелив из пушки. Выдается соответствующий реквизит: каска, «снаряды» в виде парашютов голубого (мальчик) или розового (девочка) цвета. Фотограф тем временем ставит мизансцену: жених палит, невеста испуганно закрывает лицо… Другой пример: на мосту через Мойку перед храмом Спаса на Крови владелец валторны организует шуточную свадебную мизансцену: жених пытается играть, а невеста в ужасе зажимает уши. Он же организует гостей и родственников на командные соревнования: кто сильнее или кто выше прыгнет, тот и будет главенствовать в семье. Эти и подобные им игровые действа совмещают признаки свадебной игры и гадания[407].
Современная свадьба, включая кортеж машин, застолье, подношение подарков и, конечно, костюмы новобрачных, — это демонстрация социального статуса или претензий на него. Здесь задействовано потребление престижных товаров и услуг портных, визажистов, флористов, рестораторов и профессиональных ведущих. Последние, удовлетворяя запросы заказчиков, придумывают разные тематические сценарии. И на свадьбе, как в парке аттракционов, возможен любой антураж: древнеславянский языческий, американский ковбойский, средневековый рыцарский или эльфийский, пиратский, байкерский и проч.[408].
«Фото на память»
Профессиональные свадебные фотографы позиционируют свою работу как социально важную. «Фото на память, — пишет один из московских профессионалов, — останутся с вами на всю жизнь и будут передаваться из поколения в поколение»[409]. Традиционно именно во время свадебного обряда молодожены впервые представали в новом статусном качестве — мужа и жены перед всем «миром»: близких и родных, друзей и соседей. И фотоальбом новобрачных фиксирует это памятное событие в дискретных изображениях различных моментов праздника. В последние годы появилась тенденция делать фоторепортаж, начиная с подготовки свадьбы и одевания невесты и заканчивая свадебным банкетом и свадебным путешествием. «Это могут быть как романтические сюжеты, выражающие вашу любовь друг к другу, так и групповые портреты со всеми вашими гостями», — поясняет Алексей Сургаев[410].
В своем фундаментальном исследовании «Память в языке и культуре» филолог Н. Г. Брагина относит подобные выстроенные ряды фотоизображений к самой универсальной форме коммуникации памяти — коммуникации посредством визуальных образов[411]. Неслучайно ее книга включает разделы, напрямую связанные с проблемой взаимодействия фотообраза и памяти: «Аналогии: воспоминания — фотографии, кинокадры» и «Память и фотография: воскрешение прошлого»[412]. Если следовать логике анализа этого исследователя, счастье, запечатленное на свадебных фотографиях, включает в пространство памяти неопровержимые в своей визуальной данности образы. Причем это не греза о несбыточном, не фантазия, а хранилище, резервуар воспоминаний. Прямая включенность в пространство памяти наделяет фотографию ценностью высказывания — материального свидетельства прошлого. Это свойство особенно важно в контексте релевантности и скептицизма в отношении к истинности свидетельств памяти — к голосу Я-прошлого. Темы эмоциональной «фиктивности» прошлого и его образов пронизывают всю русскую литературу XX века. От В. Набокова, который писал: «ощущение счастья затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею реальная действительность кажется мне довольно аляповатым обманом» — до В. Пелевина с его «узорами памяти», «которые рисуются на стене настоящего, размывая его дискретность и вызывая сомнения в достоверности этих воспоминаний»[413].
Это заставляет задуматься: каким образом такая абстрактная категория, как «память», сопрягается с таким коммерциализированным и банальным явлением, как свадебная фотография. Ведь память, как и счастье, — это понятия, связанные с ощущением, состоянием, следовательно — с преходящим моментом, измеряемым в дефинициях времени, а не пространства. Каким образом временные границы, без которых не существует понятия счастья и памяти, визуализируются в пространственных категориях, в частности в зрительных образах фотографии? Существующий научный дискурс в разных областях знания (в философии, лингвистике, социологии, антропологии) анализирует сложную конфигурацию перехода категории времени в категорию пространства. В философии и социологии само понятие память концептуализируется через образы пространства, репродуцирующего и сохраняющего образы прошлого. Один из наиболее тонко разработанных в литературе концептов — образ памяти в виде топографической карты прошлого[414]. Лингвистический анализ того, как именно описывается память в языке, констатирует наличие устойчивых пространственных метафор (резервуар, хранилище, картотека или энциклопедия) или же пространства реального (пейзажа, храма или города)[415].
На мой взгляд, в индивидуальной биографии и в истории семьи сходную роль перевода памяти в категорию пространства играют фотоальбомы. Они сохраняют топографию прошлого (мест, где родились, учились, жили и бывали) и превращают его в «картинки», доступные для зрительного восприятия и совместного сопереживания в кругу близких. В фотографиях, как и в памяти, возникают, оживают, «встают как живые» образы минувшего. И здесь решающая роль отводится выражению позитивных эмоций через пространственные метафоры и пластический язык тела: мимику, позу, жест, соответствующий фон. Ведь память, по верному наблюдению Пьера Нора, «укоренена в конкретном — в пространстве, жесте, образе и объекте»[416]. Все эти моменты оказываются особенно значимыми для свадебного «фото на память», где мизансцена и фоны играют особую роль. Можно сказать, что разглядывание свадебных фото — это радость возвращения в прошлое, узнавания и сопереживания собственного Я-прошлого в образах минувшего.
Известный французский философ, исследователь психологии творчества и поэтики литературных текстов Гастон Башляр метафорически сравнивает память с пространством театральных подмостков. В своем философском эссе, посвященном поэтике пространства, он пишет:
В театре прошлого, каким является память, именно декорации удерживают персонажей в их главных ролях. Иногда отправляясь в прошлое на поиски утраченного времени, мы думаем, будто познаем себя во времени, тогда как мы знаем лишь последовательность фиксаций в некоторых пространствах[417].
Такой развернутый изобразительный ряд прошлого, данный в фотографиях, и есть «календарь нашей жизни».
7. «Самая красивая» — раздел экспозиции выставки «Топография счастья: Русская свадьба. XIX — начало XXI вв.», Музей-заповедник «Царицыно», 2009 г. Свадебные платья, аксессуары 1920–1980-х годов, фотографии молодоженов из семейных архивов. Фото Константина Ларина.
Воспоминания наделяют факты прошлого ценностью. Счастливые мгновенья свадебного торжества, зафиксированные на фотографиях, как правило, — это пространство позитивных эмоций. Интересным источником, подтверждающим эти наблюдения, служат письменные отзывы посетителей выставки «Топография счастья: Русская свадьба». Вот некоторые из них:
Выставка — как доброе воспоминание, а молодым — наказ на любовь.
15.08. Бойко.
Посмотрели с Верунчиком выставку, вспомнили молодость. Порадовались за других. Посмеялись, всплакнули. Хорошая, добрая выставка.
Смирнова и Селина.
Замечательная выставка. Спасибо за память.
Антоненко 03.09.
Красиво. Классно. История России и многих городов прекрасна. Очень здорово, побольше таких прекрасных мест.
1 августа 2009.
О чем говорят эти тексты? Возрождая у зрителя его собственные воспоминания о счастье, о молодости, о прожитой жизни, выставка погружает посетителей в поток памяти. И сама становится еще одним пространством воспоминания, своего рода суррогатом праздничного пространства свадебного обряда. Эта эмоциональная реакция зрителей сознательно спровоцирована авторами проекта — концепцией куратора (О. Сосниной) и решением дизайнера (К. Ларина). Поэтому особое значение в нашем замысле имели «детонаторы памяти» — фотографии, документальное любительское кино разных лет и кинокадры из советских фильмов. Узнаваемыми для зрителя были и материальные объекты: платья невест, подарки и аксессуары свадебного обряда советского времени. Они не демонстрировали историю моды XX века, а напрямую отсылали посетителей к индивидуальному опыту повседневной жизни советской эпохи (рис. 7). Был и еще один интерактивный прием: зрители, хорошо знающие Царицыно как популярную площадку для свадебных фото-сессий, получали уникальную возможность самим сыграть роль жениха и невесты. В последнем зале они могли сфотографироваться на память (рис. 8), вставив свои лица в прорези большой картинки с изображением жениха, который держит на руках невесту. «Спасибо, понравилось особенно возможность сфотографироваться. Олег. 12.09», — написал в книге отзывов один из посетителей.
8. «Фото на память» — раздел экспозиции выставки «Топография счастья: Русская свадьба. XIX — начало XXI вв.», Музей-заповедник «Царицыно», 2009 г. Фото автора.
Визуальный ряд экспозиции был задуман и «читался» зрителями как гигантский семейный альбом, развернутый в реальном пространстве двадцати трех залов. Здесь живые образы прошлого в фото и кино перемежались с современными и старыми артефактами, также окрашенными личными воспоминаниями. Выставка и каталог стали еще одним актом социализации частной, индивидуальной памяти. А сам проект, став частью научного дискурса (конференции и данного сборника), занял свое место в гетерогенном пространстве современного свадебного обряда — как топос счастья исследовательской инициативы и научной самореализации.
Таким образом, гетеротопия современного свадебного ритуала демонстрирует плотную сеть различных социальных отношений внутри него — от секторов рынка современной «индустрии счастья» до репрезентации обряда в экспозиционном и научном пространстве. Эти сети формируют «места памяти», топосы счастья, публичные площадки городского пространства и, пронизывая современные свадебные практики, делают практически неразличимым сакральное пространство обряда — таинство бракосочетания, освещающего начало новой жизни по законам верности и любви.
______________________
______________
О. А. Соснина[418]Ритуал «быстрого переодевания» как контртопографический феномен: Счастье, свадьба и фотография на островах Риау, Индонезия[**]
Свадьбу зачастую рассматривают как символ счастья, событие, которое олицетворяет исполнение мечты. Но сегодня понимание «счастья» на глубинном уровне выражается не только свадебным обрядом, но и маркетинговыми мероприятиями и комплексом сопутствующих услуг в рамках растущей по всему миру свадебной индустрии. Преследуемые здесь цели распадаются на две группы: выявление счастья в пределах отдельно взятой пары (а также их гостей) и репрезентация «счастья» в нарративе, фотографическом или кинематографическом, с целью последующего его потребления и «припоминания» множественными аудиториями: самими молодоженами, их гостями, а также друзьями, которые могли даже отсутствовать на свадьбе. Техники фиксации, записи и документирования события, а также вызываемый ими положительный аффект дают антропологам крайне интересный материал для исследования представлений о «счастье» в отдельно взятом этнографическом контексте.
Как подчеркивает Ссорин-Чайков во введении к настоящему сборнику, такие техники опираются на пространственные и/или топографические техники. Счастье может быть локализовано в самом фотографируемом; в этом случае оно выражается через ряд типичных поз и характерные физиогномические признаки: улыбающиеся глаза, широкие улыбки; в то же время, согласно исследованию Ольги Сосниной применительно к современной России (см. настоящий сборник), само место фотографирования также может пробуждать приятные романтические чувства, ощущения шика или национальной гордости. Тем не менее, несмотря на глобализацию свадебной индустрии и развитие ее иконографии (см. Adrian 2004; Goldstein-Gidoni 2001; Kendal 1996), не следует думать, что способы репрезентации семейного счастья приобрели унифицированный характер. Напротив, как я попытаюсь показать в настоящей статье, само различие в оценках того, что же делает свадебную фотографию хорошей, указывает на разнообразие и даже антагонизм различных топографий счастья, причем этот антагонизм может поддерживаться и усиливаться по мере распространения глобальной свадебной индустрии потребительского типа.
1. Индонезийские жених и невеста китайского происхождения. Снимок на фоне Боробудура, Центральная Ява. (Воспроизводится здесь с любезного согласия студии «Изабелла», г. Танджунг-Пинанг).
Рассмотрим подробнее, на что именно направлен аналитический словарь «топографии». Два момента мне представляются особенно важными. Во-первых, топография, как и любая другая «-графия», представляет собой способ описания мира. Способ описания как таковой не бывает незаинтересованным или «объективным», и поэтому нам необходимо учитывать его предопределенный характер (Haraway 1988). Эту идею разрабатывает Синди Кац; она указывает на тот факт, что типы топографии, некритически принимаемые географами, такие как рельеф, местность, климат и проч., находятся в тесных отношениях с хищническими тенденциями империализма и глобального капитала (Katz 2001: 1215). Более того, Кац показывает: ограничивая воображаемые возможности соотнесения мест друг с другом, такие топологии скрывают от ученых последствия, вызванные «глобальными процессами» за пределами того или иного локального случая, что привело к появлению «архипелага заброшенных мест» (Katz 2005: 24). Кац предлагает понятие контртопографий, которое позволяет расположить места вдоль иной контурной линии — в данном случае в зависимости от их отношения к процессам глобализации. Таким образом, ее предложение подводит ко второму важному моменту относительно топографий: они множественны и находятся в антагонистических отношениях друг к другу. Это может быть следствием целенаправленного сопротивления или же попросту частью антагонистических практик артикуляции, на которых зиждутся повседневные отношения господства (Laclau à Mouffe 2001: 135–136). Учитывая эти процессы и относясь к ним с должным вниманием, мы можем обогатить наше понимание топографических проблем счастья.
Поясню это на примере одного этнографического казуса, с которым мне пришлось столкнуться в ходе полевой работы в индонезийском городе Танджунг-Пинанг, административном центре провинции Кепри, представляющей собой архипелаг примерно из 3000 островов непосредственно к югу от индонезийско-сингапурской границы. В витринах студий свадебной фотографии в центре города были выставлены образцовые снимки молодоженов. Фоном для них служили значимые для жителей Кепри места: роскошные местные курорты и площадки для гольфа, вдохновляющие виды на расположенный неподалеку образец космополитической современности Сингапур, а также символически насыщенные национальные памятники. Костюмы встречались самые разные: и характерные для Запада свадебные наряды (белое струящееся платье невесты и смокинг жениха), и повседневная одежда (футболка и шорты). Позы на фотографиях были романтическими, жесты — нежными, а лица — улыбающимися. Подобные фотографии показывают, как свадебная фотография может встраиваться в определенную топографию счастья (Соснина, настоящий сборник). Кроме того, они служат иллюстрацией к наблюдениям Адриана, согласно которым на примере свадебной фотографии можно увидеть, «как люди получают и декодируют образы, распространяемые массмедиа по всему миру, а также… отвечают на вызовы глобального капитализма и делают его частью своего мира» (Adrian 2003: 12). Само собой разумеется, что образец именно такой топографической гибридизации (фотография, на которой парочка в белом нежно обнимается на ступенях исторического памятника — яванского храма Боробудур[420], рис. 1), владелец одной из студий и поместил в свою витрину (рис. 2).
2. Фотография на фоне Боробудура в витрине торгового центра в Танджунг-Пинанге. Фото автора.
Отклики, которые получила эта фотография, однако, очень сильно разнились, и, по всей видимости, определялись культурными различиями зрителей. Если индонезийцы китайского происхождения дивились ее красоте и романтичности, то индонезийцы некитайского происхождения, так называемые pribumi[421], посмеивались, употребляя слово sombong, которое переводится как заносчивый или надменный и служит одной из самых уничижительных характеристик человека (Heider 1991: 85–86; Simon 2009: 263–264). Эти люди привыкли к совсем иному типу свадебной фотографии, с характерными отличительными чертами физиогномики: глаза смотрят прямо в камеру, лицо без улыбки, со строгим, даже угрюмым выражением; декорации всегда одинаковые и статичные. Тем не менее pribumi — даже если они совершенно иначе относятся к очевидно «счастливым» снимкам индонезийцев китайского происхождения — все же описывают эти снимки в терминах «счастья» (kesenangan). Так почему же многие мои информанты находят снимки, подобные сделанному на фоне Боробудура, сомнительными? Почему предпочитают им неулыбчивые и статичные изображения? Какова альтернативная топография счастья, которая выражена в таком антагонистическом контрасте к образам, узнаваемым благодаря влиянию массмедиа и глобальных клише свадебной индустрии? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять, сколько счастья и счастье какого типа должно проявиться и быть репрезентировано свадебными ритуалами, а также выявить различные топографии и контртопографии счастья, в которые встроены те или иные жанры свадебной фотографии.
Кепри и свадьбы на Кепри
В XVIII столетии архипелаг Риау был одним из ключевых морских регионов в Юго-Восточной Азии. Через территории султаната Риау-Линга, крупного доколониального государства, проходили важнейшие торговые пути, по которым переправляли специи, одежду, опиум и другие товары для бартера на всем протяжении торговых маршрутов между Индией и Китаем (Bassett 1989). Благодаря этому регион приобрел значительное культурное разнообразие. Часть поселенцев происходила из сообществ с острова Малай, основу хозяйственных систем которых составляли рыбная ловля, культивация кокоса и производных, а также добыча угля; другую часть формировали китайские рабочие, в больших количествах заселявшие регион и работавшие на перечных плантациях и плантациях гамбир[422]; и наконец, значительную часть населения крупных городов составляла смешанная группа, образовавшаяся из торговцев, религиозных деятелей и бродяг.
Период процветания архипелага завершился в XIX веке, после его окончательного перехода под суверенную власть нидерландской Ост-Индской компании. Глобальный рынок дубильного сырья обрушился, нанеся удар по экспорту в Риау, в то время как голландские резиденты обложили территорию высоким таможенным налогом (belasting), что заставило многих торговцев перенести дела в подконтрольный англичанам свободный порт Сингапура. В то же время кислая и каменистая почва островов практически не позволяла заниматься сельским хозяйством, поэтому голландские власти не были заинтересованы инвестировать в регион. Функция колониальных властей сводилась почти исключительно к поддержанию порядка, так что к началу XX века Риау воспринимали в первую очередь как «тихую заводь» (Touwen 2001: 90–91).
Ситуация существенно изменилась после обретения Индонезией независимости в 1945 году. В то время как большинство регионов страны перешли на новую национальную валюту — рупии, в архипелаге Риау по-прежнему имел хождение стрейтсдоллар. Кроме того, граница с Сингапуром не контролировалась, что позволило населению островов Риау проводить досуг и покупать товары во всем регионе Проливов. Впоследствии уровень жизни на островах повысился, а доходы относительно среднего уровня в других регионах Индонезии выросли. По мере распространения слухов об этом благополучии на остров тысячами стали прибывать мигранты. Хотя правительство в 1964 году вынудило Кепри ввести рупию, уровень внутренней миграции оставался высоким — благодаря продолжавшейся циркуляции сингапурской валюты и росту влияния сингапурской экономики на местных рынках. Похожий бум имел место и в 1990-х, когда Риау были присоединены к Индонезийско-Сингапурско-Малазийскому треугольнику роста. Главной целью этого международного объединения стало повышение уровня промышленных парков до мирового и обустройство курортов на побережьях Риау, предполагающее привлечение людей за счет создания новых рабочих мест, а также повышение уровня жизни и создание круглосуточной индустрии развлечений (Lindquist 2008; Lyons & Ford 2007). Если к тому же учесть тот факт, что значительную часть городского населения составляют потомки китайских поселенцев, иммигрировавших в доколониальные времена, мы сможем представить степень этнокультурного разнообразия в регионе. Несмотря на это, установка постколониальных властей, согласно которой за каждой провинцией должна быть закреплена определенная этническая идентичность (Boellstorff 2002), привела к тому, что на территории архипелага процветает риторика исконно «Малайской» принадлежности островов. Эта тактика активно использовалась на протяжении второй половины XX века, а после получения Кепри в 2004 году статуса автономной провинции — благодаря усилиям малайских этнонационалистов — ее стали использовать с еще большим воодушевлением (Faucher 2007; Long 2007).
Эти исторические и политические события объясняют многие особенности современных свадеб pribumi. Было бы ошибкой полагать, что все свадьбы pribumi одинаковы, однако существует типичный формат их проведения, который воплощает семейные и общественные представления о том, как должна начинаться семейная жизнь. Pribumi-мусульмане крайне редко отступают от этого формата; pribumi-христиане часто включают в свадебный обряд такие традиционные элементы, как венчание в церкви и прием в отеле, но многие сочетают это с церемонией, которую я опишу ниже и которая проходит в доме, где проживает семья. В целом такие новшества имеют ограниченный масштаб, что отчасти объясняет шаблонный характер свадебной фотографии и фотоальбомов у pribumi.
Итак, официальная часть свадебной церемонии обычно проходит утром в доме родителей невесты, в гостиной, украшенной соответствующим образом. Для этого арендуют тщательно продуманный набор элементов, в число которых входят позолоченные занавески и «брачная софа», помещаемая затем на орнаментированное свадебное возвышение (pelamin). Это событие для узкого круга лиц: прежде всего для родственников, близких друзей и профессиональных «свадебных переговорщиков». Последние представляют обе семьи и в ходе церемонии договариваются об условиях «передачи» и «приема» невесты (acara serah terima hantaran), обмениваясь ритуальными приветствиями, часто с использованием декоративных и/или шутливых четверостиший (pantun). В ходе официальной части церемонии жених сидит на полу перед возвышением, а невеста скрыта от взглядов; по завершении этой части она выходит из своей спальни, и бракосочетание регистрируется чиновником. Затем молодожены, сидя на свадебной софе, принимают поздравления от гостей. В ходе обряда их помазывают хной, желтым рисом, отваром из рисовой смеси, листьями бетеля и водой. Это характерный малайский обычай (adat), однако он широко распространен и среди pribumi, проживающих на Кепри, даже в тех случаях, когда ни одна из брачующихся сторон не является малайской. Здесь мы сталкиваемся с характерным для постколониального периода представлением, что Кепри в геоэтническом отношении является малайским регионом, а также с широко распространенным принципом, в соответствии с которым мигранты должны с уважением относиться к обычаям и обычному праву (adat) тех регионов, куда они переселяются.
За официальной частью наступает черед долгой церемонии соединения (upacara bersatu dan bersanding), которая обычно продолжается с середины дня до позднего вечера. Именно она является основным сюжетом для свадебной съемки; как написано в спонсируемом правительством руководстве по брачным обычаям Кепри, это «самая радостная и живая часть традиционного бракосочетания» (Manan 2006: 43). Все это время молодая чета не покидает гостиную и принимает гостей, сидя на брачной софе.
Гостей может пригласить любой родственник или близкий знакомый как невесты, так и жениха, либо в официальной форме, либо устно. Что касается других ритуалов, известных по исследованиям приморских и островных регионов Юго-Восточной Азии (Geertz 1980; Keeler 1987), в них также прослеживается стремление пригласить как можно больше гостей: это свидетельствует о популярности и социальном положении организатора[423]. Если участников меньше пятисот, мероприятие расценивается как крайне неудачное. На то, чтобы принять такое количество гостей, уходит практически весь день — от шести до семи часов, и все это время люди непрерывно прибывают; их приветствуют, а затем предоставляют самим себе. Гостям предлагается угощение, а также развлечения: как правило, это приглашенные пианист и профессиональный вокалист либо караоке. Поев, гости выстраиваются в очередь, чтобы поздравить молодоженов в гостиной и сфотографироваться, после чего покидают свадьбу. Именно эти снимки станут основой свадебного альбома; по характеру он сильно отличается от китайских свадебных альбомов, фотографии для которых делаются в разных местах и на разном фоне. В данном случае, поскольку гости проходят через гостиную, где молодожены находятся постоянно, на каждой фотографии в свадебном альбоме pribumi они запечатлены рядом с сидящей или стоящей парой на фоне одной и той же позолоченной декорации. Хоть это и конкретное место — родительский дом, оно превращается таким образом в некое обобщенное свадебное пространство, которое может находиться где угодно. Это усиливает у гостей ощущение неординарности происходящего, но свадебная фотография при этом утрачивает сколько-нибудь различимые топографические привязки. Подытоживая, можно было бы сказать, что тем самым подрывается само существование некой натурализованной версии топографии, для которой городские или природные места, храмы и исторические памятники были бы смысловыми точками, позволяющими организовать пространство и творчески его представить. Однако, по моему убеждению, свадебные альбомы на Кепри также топографичны. И чтобы понять это, необходимо внимательнее разобраться, что именно в них изображено.
Если официальная свадебная церемония часто до мельчайших деталей следует малайским обычаям, то в организации послеполуденных мероприятий молодоженам предоставляется значительно большая свобода. Сюда относятся развлечения, организованные в соответствии с происхождением или этническим наследием[424], а также праздничные блюда и украшение фасада дома. Однако самой «персонифицированной» сферой (которая заранее и щедро включается в свадебный бюджет и обсуждается до и после свадьбы) остаются свадебные наряды молодоженов. Творческую свободу при их выборе рассматривает Абдула Манан: непосредственно во время бракосочетания рекомендуется быть в традиционных малайских нарядах, «как подобает торжественной религиозной церемонии… Надевая аутентичные костюмы, молодожены дают понять, что они полноценные малайцы (Melayu lengkap). Иное дело — церемония upcara bersatu, которая имеет более театрализованный характер: молодожены на один день превращаются в королевских особ» (Manan 2006: 34).
Свадебные костюмы pribumi, как правило, не приобретают, а берут напрокат в свадебных салонах, готовых предоставить широкий модельный ряд для «торжественного дня». Скроенные по традиционным индонезийским образцам (pakaian adat), такие наряды можно заказать в крупных салонах моды по всей Индонезии, например в Джакарте и Паданге. Однако обычно их завозят из Куала-Лумпур. Близость Кепри и Малазии облегчает доступ к малазийском рынку костюмов, которые считаются более модными и современными, чем индонезийские. Они всегда богато украшены и отвечают сегодняшним представлениям о доколониальном «королевском стиле» (рис. 3).
3. Свадебная фотография невесты и жениха pribumi. Фото автора.
Хотя семьи и стремятся указать на преемственность этих обрядов с историческими традициями, «королевское» поведение во время церемонии является сравнительно недавним обычаем. Во времена султаната в архипелаге Риау-Линга ношение костюмов, покроем и расцветкой напоминавших королевские, считалось изменой (Liaw 1976: 76), а сегодня их можно без труда заказать; поношенные и уже не пригодные для торжеств костюмы отдаются для проведения парадов и публичных спектаклей. Все это отражает тот общий сдвиг, который затронул свадебную культуру и свадебную фотографию. Мажна, пожилая малазийка и некогда хозяйка свадебного салона, рассказала, что в 1950-х годах ее салон давал напрокат сравнительно скромные и строгие костюмы традиционного покроя. Они были прекрасно сшиты и роскошно отделаны хлопком и шелком, однако выглядели не столь броско, как современные, при изготовлении которых зачастую используют уйму блесток и золота, кричащие цвета и смелые фасоны. Современные костюмы нельзя назвать историческими копиями (копиями даже тех одеяний, которые носили раджи); Мажна назвала их «baju modiflkasi» — «модифицированная одежда». Тем не менее они получили название «baju istana», т. е. «дворцовые наряды», и стали неотъемлемой частью свадебных торжеств у pribumi. Параллельно с визуальной культурой свадеб развивалась и фотография: практически не применявшаяся в 1950-х годах, она стала не только общим местом, но и с нетерпением ожидаемым элементом торжеств.
Одна из наиболее ярких особенностей свадьбы на Кепри состоит в том, что молодожены редко ограничиваются одним нарядом. Они периодически покидают гостиную и быстро переодеваются в другие костюмы (обычно совершенно из другой части Индонезии либо сшитые в «западном стиле» — baju selayar), а затем все с тем же королевским достоинством возвращаются к гостям. «Ритуал быстрого переодевания» (в Индонезии он называется berganti-gantian baju и является неотъемлемой частью свадьбы) часто предполагает также смену прически и макияжа. Мои пожилые информанты уверяли, что эта практика появились только в середине 1960-х годов и остается редкостью в других частях Суматры и «Малайского мира»[425]. Когда я просил разъяснить, в силу каких причин острова Кепри выделились на общем фоне, они не могли предложить внятных объяснений, однако большинство из них видели истоки этой практики в этнической и культурной диверсификации архипелага в 1960-х и 1970-х годах. Тогда межэтнические отношения только начинали складываться, и переодевание помогло разрешить проблему: наряды какой стороны надевать на свадьбу. Выход нашелся: в середине церемонии молодожены меняли один наряд на другой. Впоследствии переодевание вошло в традицию и стало практиковаться даже в случае моноэтнических браков: костюмы выбирали из множества разнообразных, порой необычных и привлекательных вариантов, предлагаемых салонами. В этом отношении любовь к переодеванию отражает тот факт, что матримониальная одежда стала элементом модной индустрии, где действуют принципы дешевизны, массового производства, «модных» покроев, а также их сравнительно быстрого оборота (см. Bauman 2007).
Разные костюмы и разный состав гостей являются, таким образом, главными отличительными чертами фотографий в свадебных альбомах, что, как замечает Бреннер о свадебных альбомах на Яве (Brenner 1998: 208), делает их крайне однообразными. Атак как на Яве (и повсюду в Юго-Восточной Азии) «каменная неподвижность» является свидетельством духовной силы (Geertz 1960: 59), то превращение в «королей на один день» требует, чтобы жених и невеста смотрели прямо перед собой, со «строгим выражением лица и каменной осанкой»; поэтому Бреннер и назвал подобные альбомы «весьма предсказуемыми» (Brenner 1998: 208). То же можно сказать и о свадебных альбомах на Кепри, где официальный характер торжества предполагает строгие лица, взгляды, направленные прямо в камеру, суровые, мрачные и даже недовольные мины. Как рассказал Путра, общительный полицейский, недавно взявший в жены свою детскую любовь, во время свадьбы он был настолько счастлив, что «едва сдерживал улыбку». Это омрачило его отношения с матерью: она сочла свадебные фотографии полнейшим «провалом» (rusak). Здесь обнаруживается существенное отличие от китайско-индонезийских и постсоветских российских свадебных фотографий (Соснина, настоящий сборник): для них характерно открытое выражение счастья, о чем можно судить по сияющим глазам, лучезарным улыбкам и взглядам, выражающим обожание[426].
В некотором смысле «ритуал быстрого переодевания» делает каждый свадебный альбом топографическим: ведь в нем отражены традиции разных индонезийских провинций и регионов. Культуры очерчиваются границами фотоснимка, а сам снимок, как изобразительный инструмент, задает собственное, спонсируемое государством понимание этно-культурного многообразия, характерного для Индонезии (см. также Pemberton 1994: 167–168). Решительное воздержание от любых проявлений удовольствия при фотографировании мешает представителям западной культуры, современным русским или индонезийцам китайского происхождения рассматривать такие свадебные альбомы как «топографии счастья». И тем не менее зачастую они считаются именно источниками счастья (senang). Что лежит в основе такого взгляда?
Счастье на Кепри
Индонезийский язык, на котором говорят практически все представители pribumi на островах Кепри, располагает словарем терминов, которые все вместе обозначают понятие «счастье»: gembira, ria и наиболее распространенный вариант — senang. Лингвистический анализ индонезийского и малайского языков показывает, что семантическая разница между этими словами невелика, однако как группа они обладают некоторыми чертами, отсутствующими в английском слове happiness. Какие из них являются ключевыми, остается дискуссионным вопросом. Годдар придерживается британской социально-антропологической традиции изучения Малайского полуострова (особ. Djamour 1959). Он полагает, что senang обозначает приятное ощущение расслабления и умственного спокойствия, понимаемого как социальный идеал. Быть senang значит, по Годдару, «не беспокоиться о настоящем и будущем, поступая так, как считаешь нужным» (Goddard 1997: 188). И хотя это лишь один аспект значения слова senang, предлагаемый Годдаром метод локализации «культурных ценностей» через текстуальный анализ малайского дискурса в своей основе слишком зависим от предположения (в настоящее время обличенного как колониальная карикатура — Long 2008: 19–20; Sweeney 1987), согласно которому малайский дискурс утончен и обладает собственным шармом.
Иную картину дает Хайдер в своем анализе эмоционального словаря, используемого в языке минангкабау[427] и индонезийских языках как на Западной Суматре, так и на Центральной Яве. Он обнаружил, что при описании ситуаций, которые приводят к состоянию senang, информанты, как правило, называли достижение личных целей, получение подарков или радость из-за удачного стечения обстоятельств (Heider 1991: 151, 154). Хотя это наблюдение ставит под сомнение трактовку «счастья» как «умиротворенности», проблематично также пытаться понимать его как «сущность» счастья. Уилдер (Wilder 1995), к примеру, опираясь на работу Хайдера, предполагает, что «счастье» не следует понимать как логическую противоположность «горя» при изучении Малайского мира. В то время как горе ассоциируется с межличностными отношениями и их разрывом, «счастье», по Уилдеру, аутореферентно и асоциально, оно явным образом не является «противоположностью поведенческих реакций в состоянии „горя“, предполагающих совместное бытие или объединение с другим человеком» (Wilder 1995: 331). Однако такой вывод кажется поспешным, учитывая, что 35 % опрошенных в обеих группах, изученных Хайдером, называли в числе «причин собственного счастья» отношения с другими, будь то семейные, платонические или попросту «социальные» отношения.
Этот беглый обзор литературы указывает, что понимание «счастья» в Индонезии, как и повсюду, не подразумевает чего-то одного. Напротив, это слово обозначает ряд различных аффектов, каждый из которых работает на разных уровнях, в соответствии со схемой Ссорина-Чайкова, представленной во введении к настоящему изданию. Годдаровское понятие «умиротворенного состояния души» напоминает руссоистскую «простоту», в то время как Хайдер и Уилдер подчеркивают личный успех и удачливость, в чем можно обнаружить отголосок того самопреодоления в стремлении к новым достижениям, которое Ссорин-Чайков приводит в качестве примера «американской мечты». Однако эти модели могут быть дополнены третьим топосом, выдвигающим на первый план те формы счастья, которые основаны на социальности и относительности.
В последнее время ряд теоретиков стремятся понять аффекты, подобные счастью, не просто как качества или свойства отдельной личности, но как «межличностную способность тела быть затронутым, а также воздействовать самому» (Anderson 2006: 735; курсив мой). Согласно этой формулировке, счастье является продуктом «отношений между телами, а также тех случайных столкновений, в ходе которых эти отношения возникают, так что материальные по своей природе пространство-время всегда-уже аффективно окрашены» (Anderson 2006: 736). Если придерживаться такой модели, то и циркуляция, и разрядка аффектов могут быть очень относительны и при этом пространственны; в то же время они могут в большей или меньшей степени отчетливо воспроизводиться в словах или образах, дабы получалась уникальная «топография счастья»[428].
Хотя такие авторы, как Годдар, Хайдер и Уилдер, затушевывают то, каким образом счастье погружено в отношения, именно такое его понимание должно лежать в основе объяснения того, как создаются свадебные альбомы прибуми и почему они делают людей счастливыми. Конечно, сам по себе фотоальбом можно рассматривать и как топографический нарратив, схватывающий и порождающий поток счастья, и как те социальные отношения, которые определяют его распространение.
* * *
Риторика счастья процветает на свадебных торжествах, однако особенно она востребована при выборе костюмов для «ритуала быстрого переодевания». Информанты без колебаний подчеркивали, что брали в аренду те костюмы, которые «делали их счастливыми» (bikin senang), и — в пределах того, что мог предложить свадебный салон, — пользовались большой свободой выбора. Следует подчеркнуть: хотя некоторые обычаи превалировали (например, среди костюмов обязательно должен присутствовать и малайский, подчеркивающий малайскую принадлежность островов Кепри, а также костюм родной провинции или острова), все-таки широкое распространение modifikasi и повышенное внимание к веяниям моды означали, что и в пределах каждой указанной категории сохранялась большая свобода выбора. Более того, учитывая, что в ходе многих свадеб костюмы менялись по пять или более раз, свобода выбора становилась поистине неограниченной — при условии, что желаемые наряды заранее зарезервированы. Как объясняет мой друг Абу, работник туристического бюро из Минангкабау:
Главное, чтобы вы были счастливы. Можете выбирать, что угодно из того, что есть в гардеробе у хозяина салона. Нравится вам зеленая холщовая юбка из Папуа и она есть в наличии — можете носить ее. Вы можете быть счастливы! Правил нет.
Салоны часто объединяют усилия и образуют сети и даже синдикаты — именно с целью предоставить покупателю максимальную свободу выбора. Большой выбор стал важным элементом бизнес-модели любого организатора свадеб. Надива, учитель из Минангкабау, в свободное время заправлявшая свадебным салоном, старалась держать в активе порядка сорока костюмов. И при этом она, как и другие владельцы, прикладывала большие усилия для поддержания связей с другими салонами, которые специализировались на костюмах определенных типов. Она объяснила:
У мужчины, живущего напротив, тоже свой свадебный салон, однако он специализируется на малайских костюмах, в то время как я больше разбираюсь в костюмах Минангкабау. Я знаю, как выбрать действительно хороший костюм. Мы часто сотрудничаем в духе взаимовыручки. Если клиент просит что-то определенное, мы, как правило, сразу понимаем, где это можно взять.
Помимо заимствования у коллег, салон Надивы — предприятие средней величины — закупал три-четыре новых комплекта ежегодно, чтобы соответствовать последним модным тенденциям, а также в тех случаях, когда требовалось выполнить особое пожелание клиента. Если молодожены хотели провести торжество в таких костюмах, которые нельзя было достать с помощью обычных контактов, Надива делала заказ. Это предполагало высокую наценку, оплату которой брали на себя клиенты; при этом они платили и за возможность первыми надеть эти костюмы. В подобных (редких) случаях заказанный костюм становился главным одеянием на основную церемонию. А в разгаре приема их меняли на другие, тоже арендованные наряды, которые когда-то уже надевали другие пары на своих свадьбах. Ветхие же костюмы, не подходящие для свадеб, сдавались в аренду участникам конкурсов красоты, публичных зрелищ и парадов; а самые поношенные продавались в свадебных салонах сельским жителям, проживающим в глубинке архипелага Риау. Для «островитян», объясняет Надива,
проблема обычно не в том, брать ли новую одежду, и даже не в том, какого качества — высокого или не очень — она будет. Проблема в том, смогут ли они вообще позволить себе выбирать. Мы продаем костюмы за 200–300 рупий (это примерно 645–965 рублей и менее 5 % изначальной рыночной стоимости; вещи обесцененные и, конечно, низкого качества), вместо того чтобы их попросту выкидывать.
Деловая стратегия Надивы имеет основания, но она показывает и то, какое значение придается «ритуалу быстрого переодевания»: женихи и невесты готовы жертвовать качеством ради возможности сменить костюм.
Хотя выбор костюмов зачастую описывался в терминах «счастья», на самом деле многократное переодевание в ходе свадебной церемонии в значительной части случаев часто не проходит гладко. Будучи свидетелем «закулисной» части свадеб на Кепри, я нередко наблюдал, как раздражали молодоженов сотрудники свадебного салона, которые должны были поддерживать в надлежащем виде прическу и макияж, дабы они соответствовали костюму, а также следить за цветом кожи и жениха и невесты. Обсуждая одну свадебную церемонию за ужином, Абу с усталостью в голосе припомнил собственное переодевание:
Знаете, некоторые переодеваются до восьми раз! Я сам переодевался пять раз! Очень изматывает! Я даже не знаю, откуда взялся тот голубой костюм! Мужчинам-то нелегко, а что уж говорить о женщинах. Им приходится следить, чтобы прическа не испортилась или макияж. Если испортятся — снова нужно звать визажиста, чтобы он все проделал заново[429].
«Это так утомительно, Ник, — добавляет его жена Лидия. — Очень нелегко таким вот образом переодеваться». Чтобы продемонстрировать утомительность процедуры, Абу выносит два свадебных альбома и перелистывает их со строгим и недовольным видом.
Все как ты говоришь, Ник, — огромное количество костюмов! Невозможно. А некоторые меняют их аж по восемь раз. И по десять случается. Каждые полчаса менять наряд! Доходит до того, что гость приходит, ест и уходит домой, даже не увидев жениха и невесту, потому что те переодеваются в другой комнате.
Такие жалобы очень распространены. Но не менее распространено представление о том, что «ритуал быстрого переодевания» связан со счастьем. Как объяснила Надива, «молодоженам не обязательно переодеваться, но обычно они это делают. И будут счастливы потом, когда получат альбом. Они увидят себя в костюмах, и это сделает их счастливыми. Их родные могут посмотреть, друзья, и они тоже будут счастливы». Молодожены часто признавались, что к аренде дополнительных костюмов их склоняли лестью, играя на желании получить «самые лучшие фотографии». Во время первой свадьбы на Кери, на которой я побывал, мать жениха с недоверием отнеслась ко мне, когда я спросил, зачем нужно так много костюмов. «Для фотографий!» — воскликнула она. Ее друг объяснил подробнее: «Дело не только в том, что фотографии получаются разными; если делать их таким образом, они получаются действительно очаровательными».
Этот аспект — возможность приносить удовольствие — очень важен. Когда знакомые навещают молодоженов в их новом доме, хозяева часто выносят свадебный альбом, поскольку «гости будут счастливы» («buat mereka senang») увидеть фотографии. Фадли, учитель в местном техникуме, рассказывает:
Как правило, выбирается одна особенно красивая фотография, которую затем вешают на стену в гостиной — так, чтобы любой гость мог ее увидеть. Все остальные помещаются в альбом. Невеста и ее друзья — а иногда и жених со своими — просматривают его, дабы почувствовать себя счастливыми от совместного просмотра фотографий.
Секрет счастья
Так что же делает людей счастливыми, когда они рассматривают свои свадебные фотографии? Это вопрос обманчивый и коварный. Прежде всего лексика, которую использовали пары, говоря о свадебных альбомах, не была связана с памятью или «припоминанием»[430]. В самом деле, как следует из моих этнографических зарисовок со слов Лидии и Абу, просмотр альбома может вызвать далеко не приятные воспоминания. Пережитые нервотрепка и стресс, связанные с «ритуалом быстрого переодевания», провоцируют раздражение — jengkel, в котором трудно опознать состояние счастья, как бы широко его ни трактовать. Но внимательнее вникнув в то, как именно информанты описывают свои впечатления от просмотра альбомов, замечаешь, что состояние счастья часто не связано напрямую с припоминанием обстоятельств свадьбы; оно возникает при рассматривании фотографий как будто в первый раз. Что же в таком случае они видят?
Как объясняли некоторые комментаторы свадебной фотографии, счастье и удовольствие возникают от того, что рассматривание альбома позволяет отделить торжественное событие от его реальных обстоятельств. Эти фотографии, доказывает Бреннер,
служат непререкаемым свидетельством того, что их герои не чужды «традиции» и воспроизводят ее достойным образом… не меняясь с течением времени, фотографии очень скоро замещают стирающиеся воспоминания о мимолетных впечатлениях, беспокойных молодоженах и о самой свадьбе, далеко не такой величественной и благородной, какой она теоретически должна быть в представлениях яванцев.
На Тайване, полагает Адриан, фотографии должны зафиксировать романтическую историю, в которой находят свое выражение романтические фантазии невесты о замужней жизни, даже если ей приходится преодолевать трудности, обусловленные ролью жены и невестки: «На фотографиях замужество представлено так, словно оно строится всецело на аффекте и личном удовольствии, а не на родстве и воспроизводстве» (Adrian 2003: 66, 75). Без сомнения, семьи на Кепри также ищут опору в фантазиях об идеальной свадьбе, которые отражены в альбоме; и многие из тех, кто объяснял мне (и другим гостям), насколько точно и тщательно ими был соблюден малайский свадебный adat, получали от этого явное удовольствие. Однако гипотеза Бреннера не объясняет, какую роль играет здесь смена костюмов и почему она делает людей счастливее, когда они впоследствии рассматривают альбомы. Адриан объясняет смену костюмов фантазиями о повышении социального статуса (upward mobility): по мере того как меняют костюмы, меняются и декорации — это могут быть фотографии на фоне достопримечательностей Тайваня или постановочные съемки в студии на «историческую» или «иностранную» тематику. «Жених и невеста запечатлены в стольких разных местах и временах, что складывается впечатление, будто пространство и время подвластны их прихотям» (Adrian 2003:69). Эта логика прекрасно объясняет смену мест и одеяний в случае с китайско-индонезийской фотографией, однако снимки pribumi (я имею в виду монотонность их обстановки, дополненную физиогномическим однообразием при выражении удовольствия) такое объяснение опровергают.
Некоторые мои — наиболее циничные — друзья из Танджунг-Пинанга предположили, что «быстрое переодевание» приносит удовольствие потому, что оно является ритуалом демонстративного потребления (conspicuous consumption). Согласно этой логике, возможность взять напрокат много костюмов доказывает покупательную способность человека. И фотоальбомы выступают здесь неопровержимым свидетельством: они фиксируют детали каждого костюма, аккуратно, один за другим, их упорядочивают; благодаря им можно практически в один момент представить, какова была выплаченная за костюмы сумма (большинство гостей во время самой свадьбы не могут этого оценить — ведь они присутствуют на торжестве совсем недолго и, как правило, успевают увидеть один-два костюма молодоженов). И хотя это объясняет, почему получаемое удовольствие зависит от количества костюмов, вопрос о том, как выбор того или иного конкретного костюма пересекается с состоянием счастья и порождает его, остается большой загадкой.
Связи через модификации
Когда Роза, двадцатилетняя малайская женщина, собиралась замуж за своего малайского друга, она обратилась в салон Надивы с четким представлением о том, что ей хотелось бы надеть на свадьбу. Розе был нужен традиционный малайский костюм для основной части церемонии, но при этом она знала, что классический цвет султаната — золотой — ей не подойдет. Надива согласилась: когда свадебный помост, занавески и костюмы выполнены в золотом цвете, все выглядит желтым, и единственное, что можно различить на фотографии, это глаза и волосы. Роза решила взять костюм модного в 2009 году зеленого цвета; более того, она рассчитывала отыскать платье цветочной modiflkasi, которое заприметила на свадьбе своей лучшей подруги и которое ей очень понравилось. Между тем жених Розы выбирал из костюмов, традиционных для Мингкабау, и остановился на пурпурном, который, по его словам, был «очень хорош» и напоминал наряды его родителей, распространенные в Париамане, на Западной Суматре. Помимо этого, Роза попросила найти для нее особое платье, которое она видела у другой своей подруги, — на сей раз скроенное по образцу с Западной Явы. В нем ей понравились прежде всего цветы и modiflkasi; только увидев это платье на свадьбе, она сразу же справилась, в каком салоне его заказали. Эти поиски и привели Розу и ее жениха к Надиве, с которой они затем подписали контракт на обслуживание всей свадьбы.
Я спросил у Надивы и ее брата Фадли, нормально ли, что люди заказывают те костюмы, которые они видели на других женихах и невестах. В европейской и американской мысли и литературе, добавил я, считается, что надевать уже ношенную кем-то одежду — позорно. Сестра из произведения Уолдорфа «А kid on the Comstock» клянется «скорее умереть старой девой, чем надеть уже ношенное свадебное платье» (Waldorf 1968:45); а героиня-антисемитка Джил из романа Тёрстона, столкнувшись с перспективой зарегистрировать брак, говорит, что «ее жених едва ли смог бы сильнее навредить их любви, чем предложив ей надеть ношеное свадебное платье, заказанное у какого-то еврея-портного с Уайт-чепел-роуд» (Thurston 1919: 161)[431].
Ответ Надивы на мой вопрос показал, что в случае с pribumi это довольно запутанная проблема. Поскольку ее семья владела свадебным салоном, Надива и ее родня могли позволить себе надеть новые наряды, однако затем они все же переодевались в костюмы из ассортимента салона. Как она объяснила, наряжаться всем одинаково неприемлемо — не с точки зрения Надивы и ее сестер, а с точки зрения их родителей. Если бы гости стали рассматривать фотографии со свадьбы одной из дочерей, они бы сразу заметили, что остальные одеты точно так же, и решили бы, что финансовое положение семьи плачевное. Таким образом, потребление одних и тех же благ воспринимается скорее как признак бедности, нежели, скажем, как признак хорошего вкуса. Такое отношение, тем не менее, является скорее исключением, поскольку очень немногие семьи владели свадебными нарядами и могли использовать их как свою собственность. Подавляющее большинство тех, кто обращался в прокат, смотрят на дело по-другому: надевая костюм, который они видели на родственнике или на одном из друзей, они демонстрируют, что в состоянии выбрать вещь того же качества и потратить на это не меньше денег, чем другие.
В силу указанных обстоятельств и в соответствии с примерами, приведенными Розой, выбор костюма того же покроя, цвета или modifikasi, что и у других, представляется желательным. Конечно, многие пары приходят в салоны с ясным представлением о том, что им требуется, и часто без труда указывают, на какой свадьбе они присмотрели ту или иную modifikasi. Чтобы удовлетворить конкретный запрос, владелец салона либо использует возможности всего синдиката салонов, либо убеждает клиента в необходимости дополнительных трат, показывая новые или необычные модели из имеющихся в наличии. На самом деле даже покупатели новых костюмов все равно берут за образец то, что видели на других свадьбах — например, за пределами города. Поэтому принятое решение не абсолютно произвольно (см. Walsh 2005); оно укоренено в социальных связях и демонстрирует явное стремление сочетать стиль, которому подражают, с практическими требованиями, такими как доступные цены и удобство. Конечно, «ритуал быстрого переодевания» облегчает выбор: каждая смена костюма позволяет комбинировать modifikasi, а благодаря этому появляется относительная свобода потребительского выбора.
В своей работе «Мир товаров» (1996), которая в конце 1970-х годов открыла тему потребления для антропологии, Мэри Дуглас и Бэрон Ишервуд отмечают две особенно устойчивые черты потребительской практики, важные для нашего случая. Во-первых, они рассматривают символический аспект потребления в качестве основного. Возможность обсуждать с другими продукт потребления, поскольку о нем существует коллективное знание (авторы приводят в пример спортивные игры и журналы), является важным каналом коммуникации, через который устанавливаются и поддерживаются социальные связи. Конечно, в случае со свадьбой жених и невеста (неподвижно, с молчаливым достоинством восседающие на свадебной софе) не могут принимать участия в обсуждении, но это не исключает обсуждений в ходе приготовлений к торжеству, а также постфактум, когда фотоальбом — зримый след потребительского выбора (документирующий и выставляющий этот выбор напоказ и в любой момент могущий стать предметом обсуждения) — дает визуальный повод для воскрешения в памяти всех имевших место взаимодействий.
Второй момент, который подмечают Дуглас и Ишервуд, состоит в том, что потреблением руководит желание сформировать то, что эти авторы называют «связью» (linkage): «потребность потребителя в благах является выражением более прямой потребности, состоящей в стремлении приобщиться к остальным потребителям» (Douglas, Isherwood 1996: 118–119). По контрасту с теориями соревновательного потребления, согласно которым совершение потребительских выборов, аналогичных выборам других, выражает соперничество либо стремление «не уступить Джонсам», Дуглас и Ишервуд подчеркивают, что в приведенных ими примерах можно видеть противоположную тенденцию — к созданию социальности (sociality). Как иначе установить отношения с Джонсами, спрашивают они (Douglas, Isherwood 1996: 90), если не через стремление быть с ними наравне? Это стремление к соотносительности может как помогать потреблению, так и препятствовать ему, ведь подобное поведение нивелирует потребительские различия. Это положение иллюстрируется рядом этнографических примеров. Так, они обращаются к исследованию Денниса и др. (1956), проведенному в шахтерском городке Йоркшира. Исследование показало: стремление поддерживать социальные связи, избегая при этом социальной стратификации, вело к тому, что шахтеры предпочитали тратить излишек зарплаты на алкоголь и азартные игры. Это позволяло им выделять на семейные расходы одинаковые суммы — по их выражению, «платить налог жене», в результате чего все домашние хозяйства в среднем находились на одинаковом уровне материального достатка (Douglas, Isherwood 1996:123–126). Тоже наблюдалось и с потреблением телефонных услуг в Великобритании, что оказалось направлено на синхронизацию потребительского поведения людей. Те, кто не имел друзей с телефонами, и сами были не склонны покупать телефон; и наоборот, потребители, которые покупали телефонный аппарат по той причине, что он позволяет экономить время, подталкивали своих знакомых последовать их примеру (Douglas, Isherwood 1996: 92).
Такого типа взаимозависимость обнаруживается и в том, как молодожены на Кепри выбирают свадебные костюмы и фотосъемку церемонии. Выбор наряда лишь отчасти определяется соображениями вкуса и модных тенденций. Большую роль при этом играет соотнесение своего выбора с выбором других потребителей свадебных товаров и услуг.
Примером тому служит следующая история. Однажды несколько женщин обратились за советом к пожилой малайке по имени Сити, чья дочь Нурул два года назад вышла замуж. Угостив своих знакомых сладким чаем и фруктами, Сити перешла к демонстрации фотоальбома со свадьбы Нурул. На первых фотографиях были запечатлены досвадебные ритуалы: омовение Нурул настоянной на цветочных лепестках водой и украшение ее рук хной (тут Сити одобрительно заметила, что все мероприятия осуществлялись в строгом соответствии с традиционными малайскими обычаями — adat; гостьи, тоже малайки, одобрительно кивали). Затем перешли к дневной церемонии. Одна за другой следовали фотографии Нурул и ее мужа в яванской, малайской, бугинезской и «западной» одежде (последний вариант состоял из смокинга для мужа и шокирующего розового платья для жены).
«Ого, отличные наряды!» — воскликнула одна гостья, попросив Нурул взглянуть на фото и уточнить, какой именно вариант цветочной modifikasi был на бугинезской юбке её дочери. «Спасибо, — ответила та. — А как вам вот такой вариант? Хорош, не правда ли? Это то, что моя сестра выбрала на свою свадьбу. Когда я его увидела, то подумала, что хочу выйти замуж в таком же, что хочу быть похожей на Эку». Она обвела глазами комнату, чтобы найти Эку, и они обменялись улыбками. Сити, наблюдая эту сцену, добросердечно рассмеялась. «Эти сестры всегда были близки! — провозгласила она. — Ничего удивительного нет в том, что Нурул хотела надеть ту же modifikasi, что и Эка. А вот на этот посмотрите, — и она указала на волнистую полосу на рукаве яванского костюма. — Его надевала школьная подруга Нурул!»
Этот случай свидетельствует, что даже если выбор modifikasi отчасти продиктован эстетическими соображениями, основным принципом остается соотносительность друг с другом через потребление, явным свидетельством чему и являются подражательство и усредненность при выборе нарядов. Когда я задал тот же вопрос Фадли, он подтвердил, что смена костюмов в ходе свадьбы является распространенной практикой на Кепри и что люди делают это с удовольствием:
У нас любят использовать много bahu modifikasi и заказывать альбом, полный фотографий, который потом можно рассматривать вместе с друзьями. Молодожены будут удовлетворены, если их друзья выберут те же, что и они, наряды и modifikasi. Холостые и незамужние друзья, в свою очередь, смогут вдохновиться и позаимствовать идеи, решив, какую modifikasi выбрать для своей свадьбы.
Действительно, мы видели, с какими запросами клиенты приходят в свадебные салоны. Они хотят взять костюмы, подобные тем, что видели на свадьбах у друзей или близких, те, которые предопределили их выбор. Возможность сменить пять, восемь или десять костюмов в ходе церемонии открывает возможность бесчисленных сочетаний разных modifikasi, что укрепляет отношения с теми друзьями, которые выбрали те же самые наряды. Орнамент на платьях из салонов служит не только визуальным выражением богатства; это сложное сочетание элементов могут позаимствовать друзья — чтобы впоследствии подобрать костюм для себя, скорректировав выбор по своему вкусу. В ходе самой церемонии гости, попавшие в постоянно движущийся поток поздравляющих, как правило, успевают увидеть только один из костюмов молодоженов. Сами же молчащие жених и невеста практически полностью лишены возможности объяснить, какие социальные взаимосвязи укрепляет выбор того или иного костюма. А вот когда молодожены и их гости со всеми удобствами расположатся в новом доме супругов и станут рассматривать свадебный альбом, они без труда визуализируют и представят в виде исчерпывающего нарратива весь набор связей, поскольку все костюмы последовательно располагаются на его страницах[432].
Такие связи (links) продуктивно рассматривать как вид топографии по Кац: нарративы о них зиждутся на контурных линиях, которые связывают определенные места (в данном случае — гостиные, возвышения и декорированные тела) и объединяют их в точном аналитическом отношении близости к определенному процессу — потреблению брачных modifikasi. Как таковой, этот контур не только картографирует взаимозависимость потребительских выборов. Он также позволяет проследить — и, в свою очередь, породить — аффективные потоки, обнаруживая чувства уважения и близости; выявление этого контура и является залогом ощущения счастья. Именно удовольствие от подражания — не меньше, чем эстетическое наслаждение от того или иного фасона, — подталкивает покупателей типа Розы к поиску определенных modifikasi[433]. Нормирующая сила паттернов взаимозависимости также свидетельствует в пользу понятия контурной линии. Контурная линия «не требует измерять местность с точностью до миллиметра, а скорее опирается на точную оценку подъема выбранных мест в целях определения отношений между ними» (Кац 2005: 25). Точно так же и нарративы потребительских связей позволяют объяснить склонность к подражательству при осуществлении потребительского выбора близостью между потребителями. Как указал Фадли, когда неженатые люди просматривают свадебные альбомы друзей, они узнают, к чему следует стремиться, чтобы получить возможность встроиться в непрерывную схематику счастья.
Если рассматриваемый случай иллюстрирует общий принцип социальной связи, то, я полагаю, следует учитывать разницу между выводами, построенными на материале обычаев Кепри, и исследованиями Дугласа и Ишервуда; кроме того, следует учесть, что же отличает друг от друга случаи, рассмотренные самими этими авторами. Возникает вопрос: что именно «связывается»? В примере с Йоркширом потребительское поведение шахтеров направлено на поддержание потребительского паритета вообще, а также моральной цензуры, если не прямого наказания, по отношению к тем, кто потребляет ненормальным образом и таким образом выказывает свое превосходство и аристократизм. Этот режим действует как в отношении знакомых, так и незнакомых людей. Схожая ситуация складывается при вступлении человека в фан-клуб какой-нибудь спортивной команды, когда устанавливаются связи между ним и данным «воображенным сообществом». Пример с телефонной связью противоположен, поскольку в данном случае социальные связи поддерживаются, только если они существовали прежде. Этот пример демонстрирует непрерывный и процессуальный характер таких связей, однако предполагает, что «Джоунсы», на которых равняются, являются знакомыми, а не просто неопределенной группой лиц. В случае со свадебными альбомами на Кепри подражание чьим-то костюмам и modifikasi обнаруживает и продуцирует близость; сами жители Кепри описывают ее как топографию, при которой людей оценивают на основании их «близости» (dekat) к другим. Близость является следствием ратификации социальных связей через визуальный образ и нарратив. Социальные связи предопределяют потребительский выбор в ходе подготовки этого важнейшего с точки зрения общественного сознания и жизненного пути отдельной личности события. Потребителю предоставляется большое количество разнообразных костюмов, из которых он выбирает подходящие с такой формулировкой: «Я хочу выглядеть как король, но в то же время я хочу выглядеть как ты». В этом отношении свадебный альбом топографичен не только потому, что в нем связываются между собой места потребления. Он определяет степень близости и намеренности приобщения к группе в акте потребления на иной «высоте», или ином уровне, нежели те, которые допускаются понятием контурных линий, описывающих иные, менее интимные, схемы социальных взаимосвязей (как в примерах с телефонной связью или принадлежностью к фан-клубу). Намеренное и осознанное проведение контурных линий через тела, альбомы и места, находящиеся в одних и тех же отношениях к процессам потребления брачных услуг, не только провозглашает близость и включенность в группу, но и усиливает их за счет подобных деклараций.
Контртопография у китайцев
Возвращаясь к тому затруднению, с которого мы начали, вновь поставим вопрос: с чем связано неприятие стилей фотографии, предпочитаемых китайским населением Индонезии? Чтобы ответить на него, нужно обратиться к причинам, по которым они объявляются sombong. Проблема в том, что это понятие указывает на разрыв отношений с другими. Как отмечает Саймон (Simon 2009: 263),
быть sombong означает демонстрировать надменное отношение, вести себя так, словно не зависишь от других и тем самым показываешь им свое превосходство. Неудачная социализация есть sombong, демонстрация своей удачливости есть sombong, ношение дорогой одежды есть sombong, настаивание на своей точки зрения как правильной или навязывание ее другим есть sombong.
Благополучие и то демонстративное, по их мнению, потребление, которые зачастую ассоциируются с китайскими жителями Индонезии (см., например, Siegel 2000: 31–32), термин sombong описывает очень точно. Естественно поэтому, что родители расстраиваются и замыкаются, когда им приходится выслушивать критику гостей, которые считают их sombong по той причине, что их дети разрывают социальные взаимосвязи, не желая в них вступать. Конечно, по замечанию Сигеля,
когда «китайцев» обвиняют в «надменности», что часто делают недоброжелатели, их тем самым упрекают в нежелании быть одним из «нас», то есть остальных индонезийцев, тогда как они должны к этому стремиться (Siegel 2001: 119).
Такое практически очерняющее определение китайских молодоженов, как sombong, за их манеру потребления свадебных товаров и услуг можно расценивать как выражение зависти к их благополучию. Но в таком случае это лицемерие: ведь типичная свадьба pribumi не обходится дешевле. Я полагаю, что в корне проблемы лежат эстетические свойства самой фотографии. Когда индонезийцы pribumi нелестно отзываются о выставленных в витринах фотографиях, которые, по их мнению, являются sombong, стоит им верить. Что, если усматривать в них не антикитайские настроения, не очень характерные для Кепри, а некое затруднение pribumi при восприятии фотографий? Осуждение китайских фотографий не означает явной враждебности или «сопротивления» китайскому как таковому. Скорее, оно возникает от того, что эти фотографии являются продуктами антагонистичной выразительной практики; они представляют противоположную топографию счастья, которая приходит в столкновение с той, которой придерживаются pribumi. В этом мы видим причину разного рода незначительных конфликтов, которыми пропитана мультиэтническая ситуация островов Риау.
На типичной китайской свадебной фотографии изображены только молодожены, изъятые из контекста социальных связей, акцент ставится исключительно на счастливом событии их брака (рис. 4). Индивидуалистический романтизм такого типа — неверно истолкованный как подражание «Западу» (это впечатление усиливает выбор нарядов в западном стиле) или как побочный продукт «глобализации» — в настоящее время воспринимается как угроза «традиционным» ценностям, которые лежат в основе культуры сообщества pribumi на островах Риау (Jaafar 2005). Молодожены и владельцы свадебных салонов китайского происхождения, несомненно, воспринимают этот стиль фотографии как «глобальный» — и в этом отчасти кроется его привлекательность. Как сказала владелица одной из фотостудий, «на самом деле наша фотография выполнена не в индонезийском стиле, а больше в сингапурском, малайском или китайском». Стремлением потреблять «по-китайски», приобщиться к воображаемому сообществу потребителей свадебных услуг из современных, более развитых и привлекательных стран (как сказала эта женщина) и объясняется привлекательность китайской топографии. Но для pribumi эти фотографии свидетельствуют о том, что современность делает людей sombong, лишает их склонности к объединению; именно топография счастья, заимствуя выражение Кац (2005: 24), позволяет понять жизнь в браке как «архипелаг затерянных мест».
4. Жених и невеста, индонезийцы китайского происхождения, позируют на пляже. (Воспроизводится здесь с любезного согласия студии «Изабелла», г. Танджунг-Пинанг).
Чета и их костюмы самодостаточны как с точки зрения чувств, так и с точки зрения потребления; эта форма счастья противоречит предлагаемому Уилдером (Wilder 1995) объяснению малайского счастья и зачастую встречает сопротивление со стороны pribumi. В противоположность этому, контртопография счастья, выраженная в фотографиях pribumi, является следствием того, что modifikasi представляют собой узловые точки, в которых устанавливается связь молодоженов с их социальным окружением, а их брачный союз становится частью сообщества, которое, в свою очередь, определяет шаблоны альтернативной всем остальным, по-индонезийски понятой современности. Ирония в том, что эти альтернативные шаблоны опираются на «ритуал быстрого переодевания», при том что сами костюмы являются товаром массового производства на свадебном рынке. Следовательно, они зависят от модных тенденций и перемен в дизайне одежды, т. е. от тех преобразований, которые можно назвать «вестернизацией» или «глобализацией» и в которых, применительно к евро-американскому контексту, так часто видят свидетельство растущей индивидуализации общества (ср. Bauman 2007).
Кто-то может возразить, что феномен локального формирования социальных взаимосвязей можно наблюдать и в случае с китайскими сообществами, члены которых при выборе костюмов или мест для свадебных фотографий точно так же могут одобрять потребительские выборы своих близких и повторять их. Однако очень немногие из знакомых мне pribumi согласятся с этим. В орнаментированном «западном» платье, смокинге или повседневной белой одежде, которые предпочитают китайские молодожены для своих свадебных альбомов, нет modifikasi, которые могли бы служить векторами установления социальных взаимосвязей. Костюмы могут быть разного покроя и разных оттенков, но эти элементы не являются частью визуального языка, который понятен pribumi, — в противоположность богато украшенным, орнаментированным и нагруженным возможностями modifikasi «традиционным» костюмам. Что касается мест для фотографий, то публичные пространства, используемые китайцами, трудно увязать со свадебными декорациями pribumi. Важно и то, что свои фотографии китайцы делают в местах, привлекательность которых задается общественно одобряемой топографией. Проведение контурных линий, которые свяжут между собой молодоженов, сфотографировавшихся в одних и тех же местах, принесло бы мало пользы, поскольку эти места и сами по себе отлично подходят для фотографирования: речь здесь должна идти о топографии потребления, а также о топографии счастья, при которых вы связаны со всеми и ни с кем в отдельности. Скорее, дело в том, что эксклюзивность и инклюзивность, которые сопутствуют определению контуров modifikasi, придают «ритуалу быстрого переодевания» интимность, которая и дает представителям pribumi силы выдерживать многократные переодевания. И нет ничего удивительного в том, что благодаря этому у них появляется повод улыбнуться.
ЛИТЕРАТУРА
Abdul Manan A. R., Fitri S. et al. (2006). Adat istiadat perkawinan tradisional Kepulauan Riau. Tanjung Pinang: Lembaga Adat Melayu Kota Tanjungpinang.
Adrian B. (2003). Framing the bride: globalizing beauty and romance in Taiwan’s bridal industry. Berkeley: University of California Press.
Anderson B. (2006). Becoming and being hopeful: towards a theory of affect // Environment and Planning D: Society and Space. № 24. P. 733–752.
Bassett D. K. (1989). British «country» trade and local trade networks in the Thai and Malay states, c. 1680–1770 // Modern Asian Studies. № 23 (4). P. 625–643.
Bauman Z. (2007). Consuming life. Cambridge: Polity Press.
Boellstorff T. (2002). Ethnolocality // The Asia Pacific Journal of Anthropology. № 3 (1). P. 24–48.
Brenner S. A. (1998). The domestication of desire: women, wealth, and modernity in Java Princeton: Princeton University Press.
Dennis N., Henriques F. et al. (1956). Coal is our life: an analysis of a Yorkshire mining community. London: Eyre & Spottiswoode.
Dinas Kebudayaan DKI Jakarta (1989). Pengantin Betawi. Jakarta: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.
Djamour J. (1959). Malay kinship and marriage in Singapore. London: The Athlone Press.
Faucher C. (2007). Contesting boundaries in the Riau Archipelago // Renegotiating boundaries: local politics in post-Suharto Indonesia / H. Schulte Nordholt and G. van Klinken. Leiden: KITLV Press. P. 443–457.
Geertz C. (1960). The religion of Java Glencoe: Free Press.
Geertz C. (1980). Negara: the theatre-state in nineteenth century Bali. Princeton: Princeton University Press.
Goddard С. (1997). Cultural values and «cultural scripts» of Malay (Bahasa Melayu) // Journal of Pragmatics. № 27 (2). P. 183–201.
Goldstein-Gidoni O. (2001). Hybridity and distinctions in Japanese contemporary commercial weddings // Social Science Japan Journal. № 4 (1). P. 21–38.
Haraway D. (1988). Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective // Feminist Studies. № 14 (3). P. 575–599.
Harris Walsh K. (2005). «You just nod and pin and sew and let them do their thing»: an analyis of the wedding dress as an artifact and signifier // Ethnologies. № 27 (2). P. 239–259.
Heider K. G. (1991). Landscapes of emotion: mapping three cultures of emotion in Indonesia Cambridge à Paris: Cambridge University Press à Editions de la Maison des Sciences de l’Homme.
Hyde W (2007). A stitch in time: gender issues explored through contemporary textiles practice in a sixth form college // International Journal of Art & Design Education. № 26 (3). P. 296–307.
Katz C. (2001). On the Grounds of Globalization: A Topography for Feminist Political Engagement // Signs 26. № 4. P. 1213–1234.
Katz C. (2005). Lost and found: the imagined geographies of American Studies // Prospects. № 30. P. 17–25.
Keeler W. (1987). Javanese shadow plays, Javanese selves. Princeton: Princeton University Press.
Kendall L. (1996). Getting married in Korea: of gender, morality ad modernity. Berkeley: University of California Press.
Laclau E. and Mouffe C. (2001). Hegemony and socialist strategy: toward a radical democratic politics. Second edition. London: Verso.
Liaw Y. F. (1976). Undang-undang Melaka: the laws of Melaka The Hague: Martinus Nijhoff.
Lindblad TJ. (2008). Bridges to new business: the economic decolonization of Indonesia Leiden: KITLV Press.
Lindquist J. (2008). The anxieties of mobility: migration and tourism in the Indonesian borderlands. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Long N. J. (2007). How to win a beauty contest in Tanjung Pinang // Review of Indonesian and Malaysian Affairs. № 41 (1). P. 91–117.
Long N. J. (2008). Rhyme and reason in the Riau Archipelago // Cambridge Anthropology. № 27 (3). P. 20–34.
Lyons L. and Ford M. (2007). Where internal and international migration intersect: mobility and the formation of multi-ethnic communities in the Riau Islands transit zone // International Journal on Multicultural Societies. № 9 (2). P. 236–263.
Pemberton J. (1994). On the subject of «Java». Ithaca: Cornell University Press.
Siegel J. T. (1999). Georg Simmel reappears: «the aesthetic significance of the face» // Diacritics. № 29 (2). P. 100–113.
Siegel J. T. (2000). Kiblat and the mediatic Jew // Indonesia № 69. P. 9–40.
Siegel J. T. (2001). Thoughts on the violence of May 13 and 14, 1998 in Jakarta // Violence and the State in Suharto’s Indonesia / B.R. O. G. Anderson. Ithaca: Cornell University Press.
Simon G. M. (2009). The soul freed of cares? Islamic prayer, subjectivity, and the constitution of selfhood in Minangkabau, Indonesia // American Ethnologist. № 36 (2). P. 258–275.
Sosnina O. (2009). Topografiya Schast’ya: Russkaya Svad’ba Moscow: Tsaritsino Museum.
Sweeney A. (1987). A full hearing: orality and literacy in the Malay world. Berkeley: University of California Press.
The world of goods: towards an anthropology of consumption / M. Douglas and B. Isherwood (ed.). London 4 New York: Routledge, 1996.
Thurston E. T. (1919). The world of wonderful reality. New York: D. Appleton & Company.
Touwen J. (2001). Extremes in the archipelago: trade and economic development in the outer islands of Indonesia 1900–1942. Leiden: KITLV Press.
Waldorf J. T. (1968). A kid on the Comstock: reminiscences of a Virginia city childhood. Berkeley: Friends of the Bancroft Library.
Wilder W. (1995). More on madness: the case of Malay divorce // Indonesia Circle. № 67. P. 318–339.
Yunan J. M. (2005). Kata sambutan // Kumpulan aneka ragam berbalas pantun / Abdul Riva’i-T. Bangkinang: Sanggar Sastra Edukatif Kabupaten Kampar.
______________________
______________
Николас Дж. Лонг[434]Топография счастья в пространстве художественного вымысла
Пространство «счастливого финала» в формировании современного представления о счастье.
Задача данной литературоведческой статьи в рамках антропологически направленного сборника «Топография счастья: этнографические карты модерна» состоит в том, чтобы предложить его читателям метод трактовки, отличающийся от методов, типичных для антропологии.
Здесь вполне резонно задаться вопросом, каким образом и при помощи каких инструментов литературоведение рассматривает проблематику счастья. В самой общей трактовке, художественная литература стремится описать незаурядные истории о достижении счастья или же о том, как счастье остается недостижимым; литературоведение же до недавнего времени рассматривало проблематику счастья сквозь призму методов создания правдоподобия. Категория правдоподобия в литературе важна для выстраивания доверительных отношений между автором и читателем, и только в рамках этих отношений.
Через искусное сплетение сюжета и композиции, которые должны быть отчасти хорошо узнаваемыми и достаточно четкими, но при этом также должны поражать своей новизной и удивлять читателя, автор стремится нарисовать чудесную и все же чрезвычайно правдоподобную картину счастья. Категория счастья, столь неуловимая в описании, становится более ощутимой и кажется более доступной читателю, когда автор рассматривает его (счастье) как достижение комплекса ценностей: определенного статуса, положения в обществе, достатка, славы и т. п. Способы достижения и сами ценности — составные счастья — варьируются в зависимости от эпохи, но один элемент художественного произведения остается неизменным: счастье можно описать только через описание процесса его достижения. Счастье в литературе — это всегда динамика движения к нему, а это опять же свидетельствует о важности таких базовых элементов, как сюжет и композиция.
Литературоведение же, в свою очередь, медленно отходит от формального анализа к более общим вопросам о задачах литературы. Ярким примером тому может служить появление идеи интертекстуальности, когда литературоведение, например, стремится охватить весь литературный процесс и установить в нем определенного рода преемственность.
В отличие от антропологии и ее методов анализа категории счастья, о которых сказано во введении к данному сборнику, литературоведение не оперирует статистическими данными, а, наоборот, интересуется скорее исключительными случаями.
Существование художественного произведения в сознании читателя зиждется на крайне хрупком сочетании вымысла и правдоподобия. Книга должна развлекать и забавлять, но при этом должна быть в достаточной степени правдоподобной, чтобы читатель поддался искушению поверить в возможность происходящего. Правдоподобие — один из базовых терминов литературоведения, впервые появившийся в «Поэтике» Аристотеля. Согласно Аристотелю, создать правдоподобное повествование значит суметь сформировать в сознании читателя некий целостный образ мира данного художественного произведения. Понятие «правдоподобия» связывается также с понятиями «целостности» и «завершенности» (Smith 1968)[435]. Следовательно, говоря о пространстве художественного произведения, мы прежде всего говорим об определенном, хотя каждый раз разном, пространстве, которое вызывает доверие читателя. В отличие от статистической повседневности, доступной антропологии и социологии, литературоведение вынуждено оперировать данными гораздо более абстрактными, ведь, даже говоря о пространстве исторического романа, литературовед может подвергнуть сомнению ссылку на ту или иную реалию.
В зависимости от представлений автора и его потенциального читателя о том, что такое счастье и как его можно достичь, и создается счастливый финал с его определенными координатами: временем (скажем, в западной литературе «счастливыми» датами считаются Рождество и День святого Валентина) и местом (например, Нью-Йорк или Лондон). И читателя, и литературоведа интересует, каким образом создана пространственно-временная канва финала, т. е. каким образом автор «видит» финал и как этот финал соотносится с реальностью читателя, правдоподобен ли он и хочется ли в него «верить». Так и появляются идея топографии счастья, попытки задать координаты, пролагающие путь к счастью.
То, что можно было бы обозначить как «топографию счастья», в рамках художественного произведения принимает крайне интересные формы. Ссылка на счастье состоит не столько в конкретных пространственных координатах, сколько в правдоподобном сочетании любого выбранного автором места, которое может стать потенциальным носителем счастья. Само счастье выражается скорее за счет создания временного вакуума, который вполне удобно и опять-таки правдоподобно вписывается в финальную часть произведения. Книга как физический объект имеет целостность, в ней неизбежно существует последняя страница, переворачивая которую читатель оказывается на сломе двух миров: только что прочитанного произведения, герои которого живут в своих пространстве и времени, и реальности. Для нас представляет интерес тот факт, что выражение «счастливый финал», ставшее столь популярным в последней четверти XX и в начале XXI века, четко воплощает в себе вполне абстрактные пространственно-временные характеристики счастья в трактовке художественной литературы.
«Счастливый финал» — эрзац-счастье в литературе
Попытка говорить о счастье в рамках той или иной академической дисциплины может представляться несколько дерзкой, так как слишком сложно найти доказательную базу, определить параметры и исходные точки для того, чтобы говорить о «счастье» как, например, о понятии. Если отталкиваться от семантики слова, то мы встречаем достаточно сухие определения, как, например, в словаре Ушакова: «состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью»[436]. К сожалению, подобное определение, хотя и отвечает требованиям объективности, вызывает еще больше вопросов о природе счастья, вынуждает дать определения понятиям «довольство», «полнота жизни» и т. д.
Если же обратиться к художественной литературе как своеобразному лингвистическому корпусу, содержащему трактовки значений слова «счастье», то объем информации сразу станет практически неохватным для пристального изучения. Тем не менее, задав определенные временные, географические и языковые рамки, мы вполне можем рассмотреть небольшой пласт, который поможет нам составить характеристику современной трактовки счастья. Поэтому в данной статье мы остановим свое внимание на понятии «счастливый финал» и предпримем попытку определить, какое значение данное выражение имеет в литературном процессе второй половины XX — начала XXI века (на примере произведений британской литературы: романов Д. Лоджа, X. Филдинг и Н. Хорнби). Словосочетание «счастливый финал» в большой степени уникально: оно не только отражает представление о сюжетно-композиционном пространстве одного из видов художественных произведений, но и воплощает собой некий комплекс идей и смыслов, которые современная аудитория ассоциирует со счастьем. Таким образом, задача данной статьи — выяснить, что именно представляет собой «счастливый финал» и как современные авторы трактуют выражение «И жили они долго и счастливо».
Для анализа художественного произведения нам представляется необходимым кратко обозначить особенности культурного развития эпохи в целом (второй половины XX — начала XXI века), что в рамках данной научной статьи может быть сделано лишь схематично, но все же является крайне существенным.
Словосочетание «счастливый финал» распространено довольно широко и применяется к самым разным сюжетам — документальным и художественным. Его можно услышать в разнообразных ситуациях, но ассоциации остаются неизменными: в воображении возникает идиллическая картинка с застывшими персонажами, перед которыми открывается безоблачное счастье. Безусловно, каждый человек (т. е. и автор, и читатель) добавляет свои штрихи в эту картину, но не будет преувеличением сказать, что, как правило, представление о счастливом финале характеризуется статичностью и почти полной нашей неспособностью представить себе счастье «в динамике». Более детальное и объективное описание пространственных характеристик счастливого финала едва ли возможно, так как он будет исключительно индивидуален в каждом произведении, а наша задача — выявление закономерностей данного абстрактного явления. Не так важно, где именно автор пожелает создать атмосферу возможности счастья: это может быть Нью-Йорк, Лондон, глухая, не имеющая названия деревушка или просто «город N». Гораздо важнее, как в этот момент начинают взаимодействовать пространство и время, «короткое замыкание» которых и провоцирует ощущение счастья у читателя. Специфика бытования выражения «счастливый финал», его популярность в современной культуре при всей узости ассоциативного ряда, сопровождающего это словосочетание, подводит нас к тому, чтобы подвергнуть его анализу и попытаться дать ему должное определение.
Отталкиваться мы можем от следующего утверждения: выражение «счастливый финал» не является термином — ни литературоведческим, ни киноведческим, несмотря на вполне логичное предположение, что именно данные области знания имеют к нему отношение. Литературоведение, а в частности нарратология, говорит о финале, ссылаясь на аристотелевскую «Поэтику» и традиционное разделение на трагические и комические жанры с соответствующими им финалами. Помимо этого, термин «финал» сопровождает дискуссию, посвященную роману, поскольку именно эта жанровая форма позволила себе достаточно много экспериментировать с финалами, делая их трагическими и высоколобыми, счастливыми и популярными у читателей, открытыми и бросающими вызов всему, что было создано до них. Несмотря на это, более узкое понятие «счастливый финал», при всей своей распространенности, термином не стало.
Следует рассмотреть, почему данное словосочетание в принципе могло стать термином как в литературоведении, так и в киноведении, с тем чтобы рассматривать его дальнейшее развитие и существование. Термины, согласно наиболее общему определению БСЭ, характеризуются четким значением, и, «в отличие от слов общего языка, термины не связаны с контекстом. В пределах данной системы понятий термин в идеале должен быть однозначным, систематичным, стилистически нейтральным»[437]. Мы вполне можем говорить о своеобразной однозначности понятия «счастливый финал», имея в виду возникающую в сознании современного читателя/зрителя статическую картинку с целующейся парой главных героев.
Тем не менее однозначность этого словосочетания проявляется только в визуальной ассоциации, но не в формальном выражении «счастливого финала» в кино и литературе. С точки зрения формы мы наблюдаем обратный процесс: «счастливый финал» появляется исключительно в разнообразных отступлениях от бытующего в сознании читателей/зрителей представления. Вряд ли можно говорить о существовании эталона «счастливого финала», но за точку отсчета в данном случае нам приходится брать сказку и ее четкий в структурном отношении финал, описанный В. Проппом в «Морфологии сказки» (1928). Довольно примечательно, что «классический сказочный счастливый финал» в современной литературе уже не является абсолютно правдоподобным, поэтому авторам приходится искать способы создавать ощущение счастья, не прибегая при этом к стереотипу, но постоянно ссылаясь на него. Подобное положение дел подводит нас к следующему выводу: бытование выражения «счастливый финал» действительно выходит за пределы терминологической четкости и характеризуется не столько однозначностью значения, сколько вполне четким ассоциативным рядом, вызываемым данным выражением.
В таком случае мы могли бы говорить о функционировании словосочетания в качестве концепта или, более того, мифологемы. Выражение «счастливый финал» имеет обширную сеть понятий, идей и ассоциаций, характерных для бытования концепта:
Концепт — это множественность, хотя не всякая множественность концептуальна. Не бывает концепта с одной лишь составляющей… Всякий концепт является как минимум двойственным, тройственным и т. д. …У каждого концепта — неправильные очертания, определяемые шифром его составляющих… Каждый концепт отсылает к некоторой проблеме, к проблемам, без которых он не имел бы смысла и которые могут быть выделены или поняты лишь по мере их разрешения[438].
В качестве примера достаточно вспомнить хотя бы о том, что выражение «счастливый финал», помимо уже упомянутого нами типичного визуального ряда, так же тесно связано с традиционной финальной фразой «И жили они долго и счастливо» («And they lived happily ever after»), уводящей нас в область размышлений о противопоставлении сказки и реальности и далее — к извечному философскому вопросу о существовании счастья.
И все же говорить о «счастливом финале» как о концепте значило бы игнорировать тот факт, что современная культура крайне успешно тиражирует идею «счастливого финала», придавая ему бесчисленное многообразие форм, определенное количество которых выстраивается на отрицании самой идеи воплощения «счастливого финала» как в современной культуре, так и в реальности. Есть и еще одна причина не рассматривать «счастливый финал» как концепт: несмотря на его вполне конкретное формальное воплощение, которое читатель может увидеть в сказках или романах преимущественно XVII–XIX веков, несмотря на сложившийся в кинематографе визуальный образ и даже на бесконечное количество произведений, так или иначе использующих идею «счастливого финала» или даже просто упоминающих о нем, — несмотря на все эти очевидные свидетельства бытования в языке самого выражения, и литература, и кинематограф старательно избегают воспроизведения того эталона «счастливого финала», который глубоко укоренился в массовом сознании. Таким образом, мы имеем словосочетание «счастливый финал», которое повсеместно используется в кино и литературе, и сопровождающий его набор формальных признаков, сформированных в ходе литературного/ кинематографического процесса, и как раз именно от этого формального проявления «счастливого финала» в своих произведениях современная культура старается отойти. На основании этого выявленного нами противоречия мы вправе предположить, что выражение «счастливый финал», возможно, следовало бы именовать мифологемой. Причем, согласно пониманию Р. Барта, «концептуальная» основа выражения ни в коем случае не противоречит его сущности «мифологемы»:
Концепт всегда есть нечто конкретное, он одновременно историчен и интенционален, он является той побудительной причиной, которая вызывает к жизни миф (77)[439].
Необходимо отметить, что современная западная культура, опираясь на богатое сказочное и романное прошлое произведений со «счастливым финалом», весьма успешно тиражирует в настоящий момент не столько сами произведения, сколько одно лишь упоминание словосочетания «счастливый финал», которое автоматически напоминает читателю о «золотом веке» классических романов со счастливым финалом, написанных, например, Джейн Остин или Чарльзом Диккенсом. Подобное явление служит еще одним аргументом в пользу восприятия «счастливого финала» как мифологемы, т. е. некоего формального прототипа:
Миф — это коммуникативная система, сообщение, следовательно, миф не может быть вещью, конвентом или идеей, он представляет собой один из способов означивания, миф — это форма (70).
Здесь следует оговориться, что причиной мифологизации «счастливого финала» становятся процессы более широкого социокультурного масштаба, выходящие за пределы исключительно литературы и кино. В рамках данной работы мы можем позволить себе сказать лишь, что читатели и зрители XX и XXI веков уже не хотят и не могут искренне придавать, к примеру, браку или состоянию ту ценность, которая приписывалась им ранее. Однако, утратив веру в былые ценности, современное общество либо еще не успело сформировать новые, либо, если верить манифестам постмодернизма, вовсе отказывается от понятия, которое было бы достойно превознесения в финале художественного произведения. Так или иначе, в сложившихся обстоятельствах автор имеет возможность только намекнуть читателю/зрителю о существовании «счастливого финала» в принципе, не наполняя его конкретным значением: «…означающее мифа двулико: оно является одновременно и смыслом и формой, заполненным и в то же время пустым». (76). Кажется, что современный западный читатель/зритель отчасти воспринимает художественные произведения с высоты богатой литературной традиции и стремительно эволюционирующего кинематографа, отчасти продолжая верить в установленные веками ценности религии и семьи. Другими словами, благодаря услышанным в детстве сказкам, человек всю жизнь хранит в душе желание верить в чудесное и, естественно, в то, что все закончится хорошо. Однако такой читатель также хорошо знает, насколько сложно ему представить финал, в котором свадьба главных героев навсегда предрешает их последующую счастливую жизнь: «читатель переживает миф как историю одновременно правдивую и ирреальную» (85). Новый читатель утратил веру в непоколебимость религии, заменив пыл веры на постижение премудрости толерантности; постепенно он разочаровывается и в институте семьи (или, по крайней мере, переживает глубочайший кризис веры в нее), но, будучи человеком, он просто не способен искоренить в себе желание верить, что бы ни являлось предметом этой веры. Именно поэтому он готов верить в идею «счастливого финала», даже если не способен пока осознать, что могло бы быть этим финалом и в чем именно он мог бы выражаться. Современный миф «носит императивный, побудительный характер», и в этом состоит его ценность, так как задача мифа «заключается в том, чтобы придать исторически обусловленным интенциям статус природных, возвести исторически преходящие факты в ранг вечных» (94). Подобным же образом авторы и читатели современной культуры трансформировали желание верить в определенные ценности (семья, религия, слава) в гораздо более абстрактное желание верить в необходимость позитивного мышления, и именно эта тенденция привела к мифологизации «счастливого финала» в современной культуре. Таким образом, говоря о топографии счастья в художественном произведении, мы можем сделать вывод, что счастье в современной трактовке не будет непосредственно связано с семейными обстоятельствами персонажей, их убеждениями и достижениями, хотя данные факторы и сохраняют некоторую значимость в обществе. За отсутствием возможности дать точные координаты «счастливого финала» в сюжетной канве произведения автор вынужден искать иные точки опоры, другие способы создать ощущение счастья для своих героев и читателей.
Даже абстрактное желание веры в счастье должно быть неким образом формализовано. В этом заключается условность создания художественного произведения: автор вынужден в том или ином виде предложить читателю развязку интриги, а это значит, что «счастливый финал» все же обретает достаточно четкие характеристики (автор прорисовывает их в своем тексте, а читатель, в свою очередь, — распознает при прочтении). Обратимся к более узкому анализу счастливого финала — в рамках литературоведения. При этом мы говорим о «среднеарифметическом» счастливом финале, с которым каждый автор играет по-своему. Как именно авторы конструируют свое пространство счастливого финала на основе базовых элементов, мы рассмотрим ниже.
В формальном отношении счастливый финал должен быть закрытым и в некоторой степени статичным. Таким образом, с точки зрения структуры произведения, счастливый финал подводит итоговую черту не только в разрешении конфликта или конфликтов в произведении, но и в некоторой степени отказывает его героям в дальнейшем развитии.
Поясним, какой смысл мы вкладываем в определение статичности: обязательным требованием к «написанию» счастливого финала является не только разрешение конфликта, но и своего рода доказательство, подтверждение, что дальнейшая, «закнижная» жизнь героев будет стабильной. От счастливого финала читатель ждет прежде всего гарантий — какими бы формальными они ни были, и именно поэтому главным признаком счастливого финала по праву считается свадьба. Свадьба — это одновременно и реальное, и в достаточной степени правдоподобное для художественного произведения событие, способное «успокоить» читателя и заверить его в безоблачном будущем героев книги. Безусловно, взгляды общества ставят под сомнение доказательность такого финала, но это не останавливает многочисленных писателей, а также и массового читателя, который продолжает и критиковать, и тем не менее читать произведения подобного рода. Именно поэтому в тексте произведения свадьба может каким-либо образом упоминаться, в нем могут также обыгрываться элементы обряда, чтобы создать аллюзию, отсылку к счастью и, не выходя за рамки правдоподобия, намекнуть читателю о существовавшем ранее «классическом» счастливом финале.
Категория правдоподобия приобретает крайне причудливые формы, когда речь заходит о счастливом финале, но мы можем найти объяснение противоречивости характера взаимоотношений счастливого финала и категории правдоподобия в следующем высказывании:
На примере развития античной комедии можно увидеть парадокс развития комедии вообще: чем комедия действительно ближе к жизни, тем она по форме далека от жизни, она как бы притворяется, что ничего общего с жизнью не имеет. И чем комедия больше тяготеет к идеализации жизни, тем она по сути «сказочная», тем более она претендует на «подражание жизни»[440].
Счастливому финалу изначально была отведена неблагодарная роль атрибута комедии, а это значит, что счастливый финал был связан с низким жанром и оказался, таким образом, в непривилегированном положении. Финал в античной комедии — это благополучное и бескровное разрешение конфликта. Мы не стремимся преувеличить значение счастливого финала в комедии вообще и в античной комедии в частности: ключевая роль в ней отведена смеху, а финал выстраивается по принципу от противного, т. е. он не должен быть трагическим.
Комедия, конечно, обладает «очищающим» катарсическим воздействием, но это «очищение» от страстей в основном от страха такого рода, когда «выплескивают вместе с водой и ребенка», то есть в этом освобождении от страстей весьма силен момент разрушения[441].
Тем не менее со счастливым финалом связывают не столько комедийный жанр, сколько жанр мелодрамы (см. работу Рэйчел Дуаер в этом сборнике). Специфика этого жанра позволила счастливому финалу развиться в полную силу:
Оперируя по преимуществу двумя риторическими фигурами — антитезой и гиперболой, мелодрама организует мир посредством четко заданных полюсов: злодей — черный, герой — благородный, нюансировка, релятивизация свойств и характеристик исключена[442].
Двойственный характер мелодрамы требовал должного завершения, и счастливый финал с его идиллической предопределенностью идеально соответствовал требованиям жанра. С привнесением мелодраматических элементов в романную форму счастливый финал хорошо вписался в сочетание цветовой четкости мелодрамы и полифонии романа. В буквальном смысле многообещающий счастливый финал задает роману новые параметры правдоподобия и придает ему налет сказочности. Отношения автор — читатель складываются в следующем ключе: автор стремится убедить читателя, что описываемое могло произойти, а читатель так же хочет верить, что подобное еще сможет произойти. В этом заключается специфика нравственно-эпистемологического характера счастливого финала. Присущая же всем художественным произведениям задача удивлять остается релевантной и для счастливого финала.
Университетский вариант счастья,
или Позитивность неопределенности
Обратимся к авторским интерпретациям счастливых финалов. Дэвид Лодж, чей подход представляется крайне интересным, принадлежит ряду «пишущих» литературоведов, научные работы и художественные произведения которых дополняют друг друга, как теория и практика письма. Свой творческий путь Лодж начал в 1950-х, но настоящую известность принес ему роман «Changing Places» («Академический обмен», 1975); его мы и рассмотрим в данной статье. «Роман „Академический обмен“ укрепил репутацию Лоджа как ведущего автора университетского романа»[443]. Пронизанный многочисленными аллюзиями на современное литературоведение, роман не менее привлекателен для человека, не искушенного в литературоведческой реальности. Тонкая ирония, которая создает для читателя идеальную перспективу, позволяет в деталях рассмотреть забавный мирок литературоведов, каким он предстает в изображении Лоджа.
Приступая к анализу финала одного из произведений Дэвида Лоджа, мы должны помнить, что его романы — это продукт совместного творчества Лоджа-писателя и Лоджа-литературоведа: «Любое серьезное рассмотрение карьеры Лоджа наталкивается как на взаимодействие, так и на самостоятельное существование „двух Лоджей“: романиста и литературоведа-критика-историка»[444]. Этот творческий симбиоз работает согласно игровому принципу, в котором используется весь многовековой опыт как литературной, так и литературоведческой традиции. В своей книге «Диалогические романы Малькольма Брэдбери и Дэвида Лоджа»[445] Роберт Морес называет этот прием «playgiarism», который мы переведем как «игровой плагиат». «Игровой плагиат» представляет собой использование в романах различных стилей и техник письма, характерных для самых разнообразных классических авторов.
Роман «Академический обмен» посвящен двум профессорам литературы из английского и американского университетов; в ходе академического обмена между университетами они меняются работами, а впоследствии домами, машинами, даже детьми и женами. Филиппа Лоу, профессора из вымышленного города Раммидж в Англии, сложно назвать успешным: его сильно беспокоит то, что он мало публикуется и что его шансы на карьерный рост невелики. Он представляется человеком, погрязшим в рутине и недостаточно сильным, чтобы из нее выбраться. Его американский коллега Моррис Цапп обладает сильным, напористым характером. Он — автор пяти книг о Джейн Остин, и это, конечно же, говорит об авторитетности его мнения. Тем не менее с момента написания последней книги прошло уже семь лет, что свидетельствует о наступлении творческого кризиса и в жизни Цаппа. Им обоим по сорок лет, и для обоих путешествие на другой континент становится сначала попыткой убежать от своей прежней, немного наскучившей жизни, а затем и попыткой ее изменить. Если мы обсуждаем данное произведение в рамках дискуссии о счастливом финале, то логично предположить (особенно для человека, не знакомого с творчеством Дэвида Лоджа вообще или с данным романом), что искания двух профессоров литературы должны завершиться своего рода прозрением или открывшейся для них новой перспективой. И однозначно счастливым (в данном случае в трактовке К. Букера) был бы финал, в котором в союзах Филиппа Лоу и Морриса Цаппа с их женами открывается второе дыхание. Тем не менее Лодж не дает им возможности счастливо разрешить все свои проблемы. Хотя стиль романа носит легкий и будто бы явно развлекательный характер, автор все же заставляет героев задуматься над тем, каким они бы хотели видеть свое будущее. С одной стороны, эпизод, открывающий финальную главу (действие развивается на борту двух самолетов), несет в себе заряд магической художественной силы, которая могла бы помочь героям расставить все на свои места, т. е. достичь счастья. Но вместо ожидаемого прозрения они лишь обмениваются вежливыми репликами по поводу первой, немного неловкой попытки познакомиться еще в небе.
Далее Лодж просто закрывает своих героев в отеле, почти разрушая эффект той легкости, которая создавалась в ходе романа прежде всего за счет иронического тона повествования, и заставляет их думать. И вновь читатель ожидает своеобразного озарения, которое должно снизойти на героев, и вновь Лодж им в этом отказывает. При этом ироническая дистанция находит свое выражение на формальном уровне: в завершении романа автор переходит от художественного повествования в его привычной форме к форме сценария.
Сценарий же представляет собой относительно новую форму для исследования в области литературоведения. Сценарий, как текст, изначально предназначенный для последующего воплощения в кино, создает у читателя ощущение незавершенности. Из-за отсутствия описательной части и лаконичности ремарок он вынужден проделывать большую работу, чтобы воссоздать образность повествования, представленного ему до финальной части. Сценарий увеличивает дистанцию между читателем и героями произведения, и фигура повествователя, и прежде заметная в канве повествования, проявляется еще больше, становясь одновременно и помощником читателю, и препятствием между ним и героями произведения. Повествователь в «Академическом обмене» во многом похож на повествователя в «Ярмарке тщеславия» У. Теккерея. Кукловод из «Ярмарки…» открыто заявляет, что герои — существа вымышленные и подвластные автору, а повествователь «Академического обмена» превращается в автора сценария, т. е. практически переходит грань вымышленного и реального.
Все вышесказанное характеризует в большей степени формальную сторону финальной главы. Что же касается разрешения конфликта, то Лодж, кажется, максимально приближает своих героев к такому состоянию, которое можно было бы назвать «счастливым» (и, следовательно, позволяет читателю считать таковым финал произведения). Филипп Лоу и Моррис Цапп воссоединяются со своими женами. Для «стандартного» «счастливого финала» ремарка о спящих парах Цапп и Лоу вполне подходит: неподвижные, мирно спящие в объятиях друг друга супруги могли бы быть олицетворением той статики счастья, которую несет читателю «счастливый финал». Но герои Лоджа (а также его читатели) слишком умны и образованны, чтобы просто принять случившееся с ними как данность. В попытке разобраться и обдумать они останавливаются в шаге от того счастья, которое не требует осмысления, и поэтому идиллическая картина сна сменяется эпизодом завтрака, когда звучит вопрос, разрушающий безоблачность и наивность предыдущего эпизода: «А может, поговорим серьезно? Ну то есть о том, зачем мы все здесь собрались. Что будем делать дальше? О нашем будущем» (244)[446]. И чем больше герои обсуждают возможный ход развития событий, тем абсурднее, неправдоподобнее звучит любой вариант. «Ну какой же это серьезный разговор! Вы сидите тут как два сценариста и обсуждаете развязку пьесы» (245). Характер разговора тем временем меняется с личного на общественный с оттенком личного. Филипп включает телевизор, где рассказывают о студенческой демонстрации. В этом эпизоде читатель, не получивший заветного «счастливого финала», ждет, что новостной поток с экрана телевизора каким-то образом спровоцирует героев принять решение: телевизор наделяется свойством deus ex machina и провоцирует оживленную беседу об университетских маршах протеста, о свободе, об обязательствах и проблеме поколений, уводя героев от обсуждения личного. Особенно интересно, что в какой-то момент спор о противопоставлении личного и общественного переходит в область литературы и звучит уже совершенно иным образом. Жизнь уподобляется роману, где личное всегда вынесено на передний план, а общественное служит фоном, и роман, по мнению Филиппа, — это форма, утратившая современность:
Роман умирает, и мы умираем вместе с ним. Поэтому неудивительно, что я ничего не добился от студентов на своем семинаре по мастерству романной прозы в Эйфорийском университете. Это неподходящее средство для описания их жизненного опыта. У этих детей (показывая на экран) место действия — фильм, а не роман (250).
Идея этого полилога заключается в том, что только художественное произведение может и даже обязано как-то завершиться, в то время как реальности вообще не свойственна завершенность, она представляется бесконечностью, в которой человек сам и для своего же удобства расставляет вехи. Фильм же, по мнению Филиппа, ближе реальности в силу своей наглядности: визуальность компенсирует тот факт, что кинофильм также должен иметь завершение, как и словесное художественное произведение. Таким образом, классическое определение реализма как отрывка жизни, запечатленного в тексте, в гораздо большей степени подходит для кино, где финал в большей степени осознается как формальность, и поэтому режиссер волен закончить свой фильм на любом кадре. Так поступает и автор «Академического обмена», завершая роман ремаркой: «Стоп-кадр. Филипп замирает на полуслове. КОНЕЦ» (251). «Словарь биографий» следующим образом описывает финал этого романа: «„Академический обмен“ просто завершается»[447].
Итак, возникает вопрос: почему же, несмотря на формальность завершения романа, на его опять-таки формальную недосказанность, у читателя все же складывается впечатление целостности и — более того — завершенности? И, что самое главное, возникает ощущение, которое читатель, как правило, характеризует так: «Все заканчивается хорошо». Причина этого «хорошего» чувства, как нам кажется, кроется в той косвенной (а затем и прямой) цитате, которую произносят Филипп и Моррис: это заключительные строки романа Джейн Остин «Нортенгерское аббатство»:
Филипп. Помнишь тот абзац в «Нортенгерском аббатстве», где Джейн Остин высказывает опасение, что ее читатели уже догадались о приближающейся счастливой концовке романа?
Моррис (кивает). «Беспокойство о будущем, ставшее на этой ступени их романа уделом Генри и Кэтрин, а также всех тех, кому они были дороги, едва ли доступно воображению читателей, которые, по предельной сжатости лежащих перед ними заключительных страниц, уже почувствовали наше совместное приближение к всеобщему благополучию»[448]. Конец цитаты (251).
Упоминая Джейн Остин и вкладывая в уста персонажей слова «happy ending», автор вводит свое произведение в круг уже известных авторов и романов, однозначно ассоциирующихся у читателя с так называемым «хеппи-эндом». Таким образом он создает своеобразную проекцию будущего счастья для своих героев: это отнюдь не формальное счастливое завершение, а гораздо больше — счастливое продолжение.
Продолжение финал романа получил также и в последующей литературоведческой книге Лоджа «The Art of Fiction» (1992)[449]. Она представляет собой сборник статей разных лет, опубликованных в газете «Independent On Sunday». Статьи посвящены различным аспектам художественного письма. Заключительная статья называется «Ending» («Завершение»); в ней Лодж возвращается к рассуждению о формальности финала в художественном произведении, начиная с цитаты Джордж Элиот: «Развязка — это слабость большинства авторов» (224). Вновь цитируя Джейн Остин и используя «Академический обмен» в качестве демонстрационной модели, Лодж обращает внимание на то, что под словом «финал» можно понимать как разрешение конфликта (или же, наоборот, нежелание разрешать его), так и непосредственно заключительные страницы художественного произведения. Основная мысль его состоит в том, что заключительные страницы лишь сводят повествование к завершению, но необязательно представляют собой развязку как таковую:
Возможно, нам следует отличать завершение истории романа, что есть разрешение и намеренный уход от разрешения вопросов, поднятых повествованием в сознании читателя, — отличать от последней страницы (или двух страниц) текста, которая часто выступает в роли эпилога или постскриптума для медленного замедления дискурса на пути до его полной остановки (224).
По словам Лоджа, при приближении к финалу произведения ему пришлось столкнуться с дилеммой:
Что же касается повествовательного уровня, я обнаружил нежелание разрешать линию обмена женами, потому что это отчасти повлекло бы за собой разрешение культурного сюжета… Но как же мне могло «сойти с рук» завершение в духе радикальной неопределенности после того, как сюжет имел систематичную и симметричную структуру, подобную кадрили? (228)
Сценарий, по его мнению, был идеальным решением этой проблемы и позволил избежать определенности, отойти от героев и тем самым достичь определенной степени объективации:
Прежде всего подобный формат удовлетворял необходимости климатического отступления от «нормального» художественного дискурса. Во-вторых, это освободило меня, как имплицитного автора, от необходимости передавать право судить или же выступать в роли арбитра среди мнений четырех главных героев, так как в сценарии, состоящем из диалогов и беспристрастных объективных описаний поведения героев, нет столь прямого свидетельства присутствия автора (228).
В своем анализе финала «Академического обмена» Лодж говорит о намеренном отказе от какой бы то ни было определенности и стремится приписать финалу характерную недосказанность в лучших традициях постмодернизма. Тем не менее, не желая противоречить суждениям самого автора, мы бы хотели вновь подчеркнуть, что своеобразная определенность — даже если она и далека от привычного ее понимания — в финале романа все же присутствует, и создается она интертекстуально. Упоминание Джейн Остин и разговор о предчувствии счастливого финала неизбежно заставляют читателя услышать то самое «обещание» заветного счастливого финала. Таким образом, Лодж отходит от стандартного разрешения конфликта, которого требует канон «счастливого финала», но все же дает читателю повод надеяться, что «все будет хорошо».
Дневниковая исповедальность и ссылка на счастье
Для сравнения мы хотели бы предложить роман, который рассматривается в качестве примера массовой литературы. И сам его сюжет, и, в частности, финал показывают, что автор имел более четкие, чем в предыдущем случае, представления о том, как найти отклик у многомиллионной целевой аудитории. Речь идет о романе британской писательницы Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс». Отметим, что роман был экранизирован практически сразу после публикации, а в современной культуре это отражает степень популярности произведения и, кроме того, способствует ее росту. Своим «исходным» успехом роман Филдинг обязан (отдаленному) литературному прототипу — роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Интересно отметить, что сама Хелен Филдинг ссылается не только на роман, но и на его популярную в Великобритании телевизионную экранизацию компании ВВС:
Сбегала за сигаретами и принарядилась — готовлюсь смотреть по Би-би-си «Гордость и предубеждение». Трудно поверить, что на дорогах столько машин. Разве им не пора тоже идти домой и готовиться? Мне ужасно нравится, что вся страна так помешана на этом фильме. Я уверена, что мой собственный фанатизм основан на обыкновенной человеческой потребности неоднократно убеждаться, что Дарси, рано или поздно, найдет с Элизабет общий язык. Том говорит, что гуру футбола, Ник Хорнби, в своей книге утверждает, что мужское помешательство на футболе — это стопроцентное косвенное явление. Даже самые бешеные фанаты, заявляет Хорнби, вовсе не горят желанием самим гоняться за мячом и видят в игроках любимой команды своих представителей на футбольном поле, так же как видят в парламентерах своих общественных представителей. Именно такие чувства я испытываю к Дарси и Элизабет[450].
Главная героиня «Дневника» — женщина слегка за тридцать, не замужем. С одной стороны, она вполне воплощает идеал феминисток: ни от кого не зависит, живет одна; у нее есть работа, возможно, не самая удачная, но позволяющая жить в отдельной квартире в Лондоне; имеет верных друзей, с которыми проводит свободное время. И все же Бриджит Джонс мечтает изменить привычную жизнь, и главное условие для этого — найти хорошего молодого человека. Современная женщина уже не может, подобно сестрам Беннетт, откровенно признаться в том, что хочет выйти замуж. Условности современного мира диктуют иной стиль поведения: брак (тем более брак по любви) кажется еще более невероятным, чем во времена Джейн Остин. Эталоном искомого молодого человека Бриджит выбирает мистера Дарси, точнее, образ мистера Дарси, сыгранный Колином Фертом в вышеупомянутой телепостановке «Гордости и предубеждения».
«Многослойная» интертекстуальность должна, казалось бы, усложнить восприятие текста, но в случае с романом «Дневник Бриджит Джонс» мы наблюдаем прямо противоположный эффект. Телефильм «Гордость и предубеждение» чрезвычайно популярен, и, следовательно, современный зритель-читатель мог — хотя бы случайно — узнать о нем. Даже если он не видел сериал от начала до конца, то велика вероятность, что он видел отдельные эпизоды — во время повторных показов или в телевизионных интервью с актерами. Так или иначе, современный читатель (в первую очередь британский) сталкивался с этим телесериалом, а вот познакомиться с книгой, скорее всего, он мог только намеренно. Таким образом, в романе «Дневник Бриджит Джонс» автор активно упоминает популярные, т. е. хорошо известные читателю, романы и кинофильмы, а также активно задействует его зрительную память в процессе чтения. Например, в одной из сцен вскользь затронута проблема восприятия адаптаций классических произведений в общем потоке популярных телевизионных программ и сериалов:
— А я заявляю, что это позор. Это значит, целое поколение людей в наши дни знакомится с великими литературными произведениями — Остин, Элиотом, Диккенсом, Шекспиром — исключительно через телевидение.
— Ну правильно. Это абсурдно. Преступно.
— Вот именно. Они переключают телик с «Домашней вечеринкой у Ноэла» на «Свидание с незнакомкой», наткнутся на какой-нибудь сериал и думают, это и есть настоящие Остин и Элиот.
Зачастую популярные кинофильмы упоминаются с тем, чтобы усилить образность метафоры. Так, образ героя, известный читателю по увиденному фильму или даже по его рекламе, помогает автору в некоторой степени контролировать его воображение:
Понедельник, 1 мая. Но потом появился настоящий Дэниел. Никогда не видела, чтобы он так отвратительно выглядел. Объяснить это можно лишь непрекращающимся, за все время после ухода от меня, запоем. Он бросил на меня убийственный взгляд, и мои фантазии тут же сменились сценами из фильма «Завсегдатай баров», в котором двое влюбленных все время вопят, швыряют друг в друга бутылками и самозабвенно пьянствуют (116, 117).
Воскресенье, 13 августа. 18:00. На мое счастье, Джуд сейчас читает потрясающую книжку под названием «Богиня в каждой женщине». В этой книжке говорится, что временами в жизни бывают полосы неудач, когда вы не знаете, к кому обратиться за помощью, и создается впечатление, что вас повсюду окружают безликие двери из нержавеющей стали, которые захлопываются с оглушительный треском, как в фильме «Звездный путь». В таких случаях надо не жалеть себя взахлеб, а, наоборот, мужаться и вести себя героически, и все будет в порядке. Все греческие мифы и многие удачные фильмы повествуют о человеческих существах, на долю которых выпадали тяжелые испытания. Но они не трусили и крепко держались и рано или поздно всегда побеждали (195).
Упоминание популярного фильма помогает не только создать четкий образ для данной метафоры, но и укрепляет доверие читателя: сталкиваясь со знакомыми реалиями, он больше «доверяет» автору, т. е. воспринимает повествование как правдоподобное.
«Дневник Бриджит Джонс», хотя и построенный как современное переложение классического романа, совершенно не требует от читателя досконального знания романа-предшественника. Тот минимум информации, который требует автор, вполне можно свести к следующим моментам: несколько сестер хотят выйти замуж; Мистер Дарси, казавшийся высокомерным и заносчивым, оказывается «идеальным мужчиной»; счастливый финал (две свадьбы) в конце. Романическую формулу можно свести к еще более простому и менее индивидуализированному варианту: необходимость замужества, обоюдный процесс «завоевания чувств» и свадьба как результат. Классический статус романа-предшественника и популярность его экранизации в повествовании Филдинг становятся предметом игры, сообщая ему специфическую «авторитетность».
Филдинг использует форму дневника — это позволяет с максимальной непосредственностью отобразить перипетии личной жизни и переживания героя или героини. Читателю предлагается роль своеобразного психоаналитика: он может анализировать высказывания и при желании идти в своих предположениях дальше — в область недосказанного. Так, например, замечания о весе и количестве выкуренных главной героиней сигарет последовательно и откровенно симптоматичны для смены ее настроений: если она начинает много курить — она чаще всего подавлена, если начинает искать безрассудные оправдания своим слабостям — значит, кризис миновал.
Эффект правдоподобия в литературе зачастую достигается за счет прямой документальности или псевдодокументальности. На восприятие при этом распространяются психологические закономерности, характеризующие рецепцию визуальных медийных образов: репортажи с места событий, прямые включения, многочисленные ток- и так называемые реалити-шоу призваны привлечь внимание зрителя своей «беспрецедентной откровенностью». Дневниковая форма воспринимается как сходная по функции с визуальным способом подачи информации — и в наше время эксплуатируется как никогда часто. Субъективность и непосредственность такого повествования столь интенсивны и экспрессивны, что читатель воспринимает его как безусловно «достоверное» — как своего рода репортаж с «места событий». Современному автору приходится искать компромиссное решение: прежде всего необходимо элементарное физическое завершение книги; затем нужно не разуверить читателя в правдивости повествования и (что открыто декларируют авторы «женских» романов) вызвать у него ощущение «счастливого финала». Роман «Дневник Бриджит Джонс» наилучшим образом демонстрирует один из способов, каким этот компромисс может быть достигнут.
Обратившись непосредственно к анализу финала, мы в первую очередь должны ответить на стандартный вопрос «неакадемического» характера: «Чем закончилась книга?» Бриджит и Марк Дарси вместе встречают Рождество. Для классического счастливого финала «Дневнику…» не хватает свадьбы, обещания свадьбы или намека на продолжение отношений Бриджит и Марка. Тем не менее подобный финал воспринимается читателями как счастливый.
Ощущение счастливого завершения придает роману кольцевая композиция, подчеркивающая годовой цикл: повествование начинается 1 января и завершается 26 декабря — это почти целый год, обрамленный двумя празднованиями. Повествование, как и год, и начинается со списка «новогодних зароков» («New Year Resolutions»), а заканчивается подведением итогов уходящего года. «Как твоя личная жизнь?» (11, 300) — реплики второстепенных героев в заключительной части дословно повторяют диалоги из первой главы; с этим ненавистным для Бриджит вопросом обращается к ней дядя Джеффри соответственно на страницах 11 и 300. Последняя страница романа — список «достижений» Бриджит за прошедший год. Последнее предложение выдержано в самых положительных интонациях и содержит в себе ключевое слово «прогресс»: «Выполнила 1 новогоднюю резолюцию (оч. хор.) Замечательный годичный прогресс» (310). Таким образом, новость о воссоединении героини и ее возлюбленного читатель воспринимает в сгущающейся атмосфере завершенности и подведения итогов (пусть даже расставание длилось всего несколько минут и вовсе не представляло угрозы отношениям); рамочная конструкция романа усугубляет ощущение целостности, цикличности, совершенствования (прогресса), что и способствует формированию ощущения «счастливого финала». Романное время, в котором развивались события, прекращает течение, приобретая черты мифологического циклического времени. Повторяемость, положительная развязка и псевдодокументальность рождают у читателя чувство удовлетворения, а также дают жизненный импульс. Псевдодокументальность, которой до сих пор было окрашено повествование, отступает на второй план, построманное мифологическое время, возникающее в финальных строках, лишает описываемые события исключительности и придает им аксиоматичность.
Миф придает художественному образу суровость закона. Другими словами, он превращает что бы то ни было в аксиому: реальность — это истина, догматы изменить невозможно[451].
Кинематограф, благодаря своей масштабности, сделал более очевидной жизненную потребность человека мифологизировать происходящее, т. е. анализировать частное и впоследствии обобщать его, переводя в своеобразный архив прецедентов, при помощи которых совершаются и анализируются новые поступки.
Концепт времени является одним из основополагающих в человеческой деятельности вообще, так как время ее формирует и организует. С этой точки зрения художественное произведение — это попытка писателя охватить большой отрывок времени и его событийность. Поэтому мы можем найти множество примеров, когда романное время сводится к одному году, месяцу, даже дню, событийная нагрузка которого велика и подразумевает гораздо больший отрезок времени. Таким образом человек пытается дистанцироваться от реальности и посмотреть на жизнь в другом масштабе: в обособленных временных рамках и через призму классических произведений, которые, подобно мудрым пословицам и поговоркам, диктуют вечные истины.
Смена точки зрения как симптом счастья
В заключение рассмотрим роман популярного британского писателя Ника Хорнби «А Long Way Down» («Долгий путь вниз», 2005). Известность к нему пришла благодаря романам «Fever Pitch» (1992) и «Hi-Fi» (1995). Отличительной чертой романов этого писателя является подчеркнутая откровенность, исповедальная манера, причем рассказчиком выступает, как правило, типичный представитель среднего класса современной Великобритании. Оба эти обстоятельства сделали Хорнби основоположником так называемой «pal’s lit», «литературы для парней». Хелен Филдинг, Софи Кинселла, Мэриан Киз, Джейн Грин и другие авторы «дамского романа» плодотворно используют жанр дневника с его ставкой на псевдодокументальность. Каждая новая книга в этом жанре — очередное «откровение», с той лишь разницей, что герои романов Хорнби склонны рассуждать не о покупках, магазинах и распродажах («невозможно было пройти мимо именно этих туфель или именно этой сумочки»), а о футболе, музыке, классических фильмах «для парней» (к которым, например, стандартно причисляются «Крестный отец» и «Звездные войны»). Пристрастия и увлечения героев созвучны переживаниям читателя и читательниц, которые узнают себя в этих дневниковых откровениях со смешанным чувством радости узнавания и стыда за то, что их секреты оказались раскрыты. Псевдооткровенность завоевала популярность романам Хорнби не только среди мужчин, но и среди женщин.
В романе «Долгий путь вниз» вместо одного «исповедующегося» героя предстают сразу четыре. Автор не прибегает к форме дневника, а создает стилизацию устного монолога (отсюда сбивчивый синтаксис и неожиданные переходы от одной мысли к другой):
Но те десять минут, которые я потратила на разговор с Гашиком, изменили ход истории. Но не истории вообще, как это произошло, например, в 55 году до нашей эры или в 1939-м — если, конечно, кто-нибудь из нас не изобретет машину времени, или не предотвратит завоевание Британии «Аль-Каидой», или еще что-нибудь в этом духе. Но кто знает, что бы с нами стало, не приглянись я Гашику? Ведь я уже собиралась домой, когда он со мной заговорил, и тогда, возможно, Мартин с Морин погибли бы, а еще… в общем, все было бы по-другому (11–12)[452].
Повествование в романе ведется голосами четырех человек, которые избрали местом для самоубийства крышу одного и того же дома. Герои романа имеют разное происхождение. Мартин — в прошлом ведущий успешной утренней телепрограммы, а на момент действия — человек, который был осужден за развращение малолетних, от которого ушла жена, который не может видеться с детьми и которого преследуют личные несчастья. Морин — мать-одиночка; ее сын Мэтти родился с серьезными повреждениями мозга, поэтому Морин отдает все свое время уходу за ним. Джесс — подросток из обеспеченной, но неблагополучной семьи. Ее старшая сестра пропала несколько лет назад (полиции так и не удалось обнаружить тело), после чего семейная идиллия разрушилась, и Джесс стала скрываться под маской грубости и сквернословия; она чрезвычайно конфликтна и невнимательна к тому, что говорит и как это влияет на остальных людей. Наконец, Джей-Джей — неудачливый музыкант, приехавший в Лондон из США. Его группа распалась, не добившись успеха. Его бросила девушка, из-за которой он и приехал в Англию. У каждого их них свои причины спрыгнуть в новогоднюю ночь с крыши Топперс-хаус — самой популярной среди самоубийц крыши Лондона. Мартин утратил уважение других и уважение к себе. Морин больше не в силах присматривать за сыном-инвалидом, который как будто служит ей немым укором за единственный роман в ее жизни. Джесс не может найти понимания в семье и наладить отношения со сверстниками. Джей-Джей не понимает, как он опустился до того, что должен доставлять пиццу, чтобы добыть денег на билет домой, и почему не способен зарабатывать своей музыкой.
Никто из них не предполагает встретить на «крыше самоубийц» кого-либо еще, и нарушенное одиночество лишает их решительности. Сплоченные суицидальным порывом герои, тем не менее, не решаются на прыжок, а, напротив, вступают в общение. Им, принадлежащим к разным социальным слоям, трудно найти общий язык, но они, неожиданно для самих себя сформировав некую особую группу, вместе начинают стремиться к преодолению кризиса. Повествование поочередно переходит от одного героя к другому. Увеличивая количество взаимосвязанных исповедальных голосов, автор фокусирует внимание читателя не только на признаниях героев, но и на их общности. Их объединяет желание быть любимыми и чувствовать себя частью некоего целого. Хорнби отталкивается от принципов, на которых строится нарративная психотерапия: беседа, обсуждение проблем и причин, которые привели героев к попытке самоубийства, позволяют им преодолеть кризис и обрести новые цели.
Завязка романа как будто ставит читателя в тупик: герои один за другим предстают нашему вниманию, но тут же собираются исчезнуть, спрыгнув с крыши небоскреба. Конфликт ожиданий формируется мгновенно: чтобы повествование продолжалось, автор, скорее всего, должен каким-либо образом удержать своих персонажей от прыжка. Соответственно, читатель выстраивает собственные предположения относительно того, вернутся ли герои к мысли о самоубийстве или смогут окончательно преодолеть кризис. И, таким образом, концентрируется на том, как именно они преодолевают кризис.
Динамике развития конфликта отвечают подвижность и изменчивость читательского прогноза. Внимание последовательно фиксируется на временных рамках — сроках жизни, которые устанавливают себе сами герои. Сначала они выбирают 14 февраля, День Святого Валентина, чтобы вновь обсудить возможность самоубийства в случае, если не смогут найти выход из ситуации (каждый — своей). Затем договариваются перенести встречу на 31 марта, т. е. на девяностый день после наступления нового года. При этом один из героев ссылается на мнение психологов, будто человеку необходимо именно столько дней, чтобы преодолеть кризис, поэтому все четверо (а значит, и читатель) с интересом и со скрытой надеждой ждут исполнения девяностодневного срока.
Кульминационным моментом романа является инициированная Джесс встреча героев, на которой присутствуют также их ближайшие друзья и родственники. Идея встречи с людьми, не входящими в этот своеобразный клуб самоубийц, — знаковая, так как она демонстрирует не только способность, но и потребность героев, прежде желавших оставаться вдали ото всех, общаться и пытаться найти общий язык с родственниками и друзьями.
Для Мартина и Джей-Джея идея воссоединения явилась полной неожиданностью.
В углу Джей-Джея сидит его бывшая девушка Лиззи и его друг Эд, с которым они играли в какой-то паршивой группе. Эд специально прилетел сюда из Америки. Со мной пришли мои родители, а их редко можно застать в одном помещении. К Мартину пришла его бывшая жена, дочери и бывшая девушка. А может, и не бывшая — как знать? …А с Морин здесь ее сын Мэтти и двое медбратьев из приюта. А моя мысль заключается в следующем. Сначала мы поговорим с теми, кто пришел с нами, — немного разомнемся. А потом мы поговорим с другими… А еще мы кое-что новое узнаем, разве нет? Друг о друге. И о самих себе (208).
Тем не менее встреча, на которую Джесс возлагала большие надежды, провалилась: главные герои один за другим сорвались, не выдержав напряжения общения, и ушли из кафе. Читатель, строящий прогнозы исключительно на психической стабильности главных героев, начинает сомневаться в возможности благоприятного исхода событий: приближается девяностодневный срок, поворотный момент, который должен показать, справились ли они с кризисом. Напряжение растет — так автор формирует в читателе необходимость дочитать книгу до конца, дойти до финала.
Неудавшееся воссоединение героев со своим окружением провоцирует их на новую попытку осознать причину кризиса. Как известно, чтобы вылечить болезнь (в том числе и психическую), необходимо прежде всего правильно поставить диагноз. Поэтому автор пытается донести мысль: осознание проблемы (другими словами, диагноз) и является в данном случае предвестником счастливого финала.
Джесс, несмотря на свой цинизм и усугубляющий его юношеский максимализм, в большей степени прилагает усилия к тому, чтобы не вернуться на крышу Топперс-хаус. Мартин описывает запланированную Джесс встречу друзей и родственников, и в его речи проскальзывает фраза: «А потом она опять начала что-то про счастливые финалы» (209). В этой фразе заключено скептическое отношение Мартина к счастливым финалам в жизни. Для читателя же и, главное, для формирования читательского прогноза важно само появление в тексте романа словосочетания «счастливый финал». В данном случае автор начинает очередной раунд игры, в которой читатель стремится предугадать ход событий в повествовании, а автор старается удивить его неожиданным поворотом.
Итак, скепсис Мартина должен сбить читателя с толку: с самого начала, когда читатель видит главных героев на крыше небоскреба, его прогноз строится по принципу «от противного»; он ждет, что герои каким-то образом смогут вернуть желание жить, и язвительное замечание Мартина плохо сочетается с этими ожиданиями.
Действительно, во время встречи трое героев из четырех один за другим покидают кафе. Да никто, кроме ее инициатора Джесс, и не возлагал на это мероприятие больших надежд. И все-таки уже в кафе в словах героев явно слышится надежда на счастье. Морин, самая добросердечная, раскрывается первой и рассказывает о своих переживаниях двум санитарам, которые помогали ей с ее сыном Мэтти:
Не знаю почему, но мне от этого разговора стало легче на душе. Двое незнакомых мужчин попросили меня не звонить им, когда мне захочется совершить самоубийство, а мне захотелось их обнять. Понимаете, я не хочу, чтобы меня жалели. Я хотела, чтобы мне помогли, пусть даже помощь будет заключаться в том, что они не будут мне помогать, — надеюсь, я не слишком путано объяснила (211).
Джесс, хотя и повела себя в свойственной ей эксцентричной манере и, нагрубив родителям, ушла из кафе, нашла в себе силы признаться (пусть пока только самой себе), что родители действительно готовы ей помочь:
И тот момент — когда мама спросила, чем они могут мне помочь — по ощущениям был очень похож на другой момент, когда тот парень спрыгнул с крыши. То есть это было не настолько страшно и ужасно, к тому же никто не погиб, да и вообще мы были внутри помещения и так далее. Просто есть такие мысли, которые сидят где-то глубоко в голове, — мысли на черный день. Например, вы думаете: если я не смогу так дальше жить, я сброшусь с крыши. Однажды, если у меня все будет совсем плохо, я просто сдамся и попрошу папу с мамой выгнать меня. В общем, оказалось, что коробочка для мыслей на черный день оказалась пуста, но самое смешное было то, что там никогда ничего не было (214).
Последней фразой Джесс признает незначительность своих проблем, что и является подтверждением преодоленного кризиса. В Джей-Джее также просыпается надежда:
В ту минуту, когда я увидел Эда с Лиззи, во мне сам собой вспыхнул огонек надежды. Такая мысль пронеслась: «Ура! Они пришли спасти меня!» (214)
Тем не менее от друга и бывшей девушки он слышит прежде всего укор в беспочвенности его попытки самоубийства, что вряд ли можно считать самой удачной темой для разговора. Укоры перерастают в обвинения, а обвинения — в повод для драки; друзья выходят из кафе, чтобы продолжить выяснение отношений. И здесь читатель становится свидетелем того, как надежда Джей-Джея буквально на ходу пытается превращать любые негативные эмоции в положительные. Драка, которую затевает его друг, переключает внимание читателя, и он начинает воспринимать исход борьбы как своеобразную интерпретацию решения проблем Джей-Джея. Ожидания оправдываются только частично: не столько драка и реакция его друга, сколько вся ситуация в целом приводят Джей-Джея к пониманию источника своих проблем:
А признал я вот что: я пытался покончить с собой не из ненависти к своей жизни, а из любви к ней. И я думаю, что у многих такое же ощущение — наверное, и Морин, и Джесс, и Мартин это ощущают. Они любят жизнь, но она разваливается у них на глазах, поэтому я и встретил их, поэтому мы до сих пор вместе (230).
Самое важное открытие Джей-Джея — признание в любви к жизни, так как именно жизнелюбие удержало и впредь будет удерживать героев от самоубийства.
Читатель видит явный прогресс в отношении героев к своей жизни. Автор переводит фокус от самой молодой и безрассудной героини, которая, несмотря на всю глубину депрессии, за счет своего возраста способна быстрее других ее преодолеть. Наступает очередь Морин: она значительно старше, и ее депрессия имеет более продолжительную историю, чем у Джесс. Морин — человек верующий, поэтому, несмотря на все жизненные трудности, которые ей приходится преодолевать каждый день, вера и внутреннее жизнелюбие помогают ей преодолеть кризис. У Джей-Джея, по его собственному признанию, тоже есть вера — музыка, и чтобы выйти из суицидального состояния, ему просто потребовалось вернуться к своей мечте-вере, которая и до этого заставляла его жить:
Тогда мне захотелось разрыдаться, честно. Я был готов расплакаться от осознания ее правоты. Я готов был расплакаться от осознания того, что я опять займусь музыкой, а мне так ее не хватало. Я хотел разрыдаться от осознания того, что я никогда не стану известным музыкантом, и Лиззи только что обрекла меня на тридцать пять лет бедности, неприкаянности и отчаяния, которые я проведу без медицинской страховки, останавливаясь в мотелях без горячей воды и перебиваясь паршивыми гамбургерами. Просто я буду их есть, а не готовить (232).
К Мартину автор подходит в последнюю очередь. Это важный прием, влияющий на восприятие читателя: Мартин начинает повествование, и поэтому тот факт, что в ряду «просветлений» он оказывается последним, помогает создать ощущение завершенности, которое, как мы уже отмечали ранее, считается благоприятным с психологической точки зрения.
Случай Мартина возникает последним и еще по одной причине: его проблемы и переживания читатель воспринимает более остро. И в данном случае речь идет не о том, чтобы сравнивать проблемы главных героев по глубине и сложности. Просто Мартин, в отличие от Джесс, Морин и Джей-Джея, оказывается в центре внимания прессы, что усиливает значимость его проступков и тяжесть их последствий. По этой же причине случай Мартина может казаться и самым сложным, и самым интересным: читательский интерес напрямую зависит от возможности предсказать исход событий, и если читатель теряется в догадках и предположениях, значит, он с интересом и нетерпением будет стремиться к финалу.
Читатель видит, с какой решительностью Мартин хочет, как и остальные герои, победить депрессию. Но кроме того, он видит, что Мартин, в отличие от других, не поддается чувствам, он хочет разобраться в себе, проанализировать самого себя:
Видите ли, какая штука. Причина моих проблем находится у меня в голове, если, конечно, сущность моей личности находится у меня в голове… Суть упражнения заключалась в следующем: я должен был проанализировать, пользуясь лишь своей головой… (232, 233)
Проблема именно в том, что в одиночку человек не может справиться с проблемами, так как само состояние одиночества благоприятно для человека только в определенных количествах. Согласно известной пирамиде Маслоу, принадлежность к определенной группе, а также одобрение и любовь окружения оказывают чрезвычайно сильное влияние на психическое состояние человека. Мартин звонит своей бывшей жене, и ее слова, невзирая на их жестокую откровенность, помогают ему открыть новую перспективу, новый взгляд на проблемы. Читатель понимает: Мартину придется приложить немало усилий, чтобы восстановить уважение к самому себе и прекратить самобичевание.
Тяжело — это когда пытаешься заново собрать себя по кусочкам, но инструкции нет, а еще ты не знаешь, где все самые важные детали (248).
Интересно, что, оставь автор своих героев в момент осознания, читатель, скорее всего, счел бы такой финал некомфортным для себя. Не нарушив условностей правдоподобия, автор тем не менее лишил бы читателя уверенности в том, что позитивный настрой героев не закончится через несколько часов или дней после поворотной встречи в кафе. Читателю нужны более веские доказательства, и самыми убедительными для него являются поступки героев, а не их слова. И автор упоминает: Морин получает предложение о временной работе, находит новых друзей; Джесс влюбляется; Джей-Джей собирается вернуться домой; Мартин вступает в ряды социальных работников и помогает привить одному подростку любовь к чтению.
В преддверии финальной части в отрывке от лица Джей-Джея звучит диалог, в котором несколько раз повторяется выражение «happy ending». Для читателя важным в этот момент оказывается факт напоминания об идее счастливого финала; его занимает не столько содержание диалога, сколько объединяющая героев, автора и самого читателя мысль о заложенном во всех людях внутреннем стремлении к счастью. Автор выстраивает на финальных страницах романа некое подобие вектора; в отправной точке — герои, стоящие на пути преодоления жизненного кризиса, и путь этот стремится к тому идеальному, стабильному счастливому финалу, который современный автор редко может себе позволить. Финальная часть — критический девяностый день с момента попытки самоубийства. Герои собираются, чтобы проверить необходимость вновь подняться на крышу Топперс-хаус:
— Ну, — нарушила молчание Джесс. — Кто-нибудь собирается прыгать?
Ответа она не дождалась, потому что этот вопрос больше не стоял перед нами — мы только улыбнулись в ответ (254).
Читатель получает фактическое подтверждение: герои отказываются подниматься на крышу, и, что немаловажно, отказываются с улыбкой. Они восстанавливают связь со своим окружением, и это служит для них веской причиной продолжать жить:
— Все равно нас всех кто-то любит, — сказал Мартин. — И эти люди предпочли бы, чтобы мы остались в живых. В общем и целом… Наверное, потому что тогда все было хуже, — ответил Мартин. — Семья ведь как… даже не знаю. Как сила земного притяжения. Иногда сильнее, иногда слабее (255).
Для чувства читательского удовлетворения важно, что слова о семье и любви принадлежат Мартину; таким образом, повествование и в этом романе завершается на том герое, с которого началось.
Своим позитивным характером финальная часть обязана также образу колеса обозрения: герои переводят на него свой взгляд и начинают обсуждать, движется ли оно. Смена перспективы, смена интереса служит доказательством преодоления кризиса и создает у читателя позитивное настроение. Более того, в финальном эпизоде или, если уместно воспользоваться кинематографическим термином, в финальном кадре герои смотрят на колесо обозрения, что создает ощущение статичности и, следовательно, завершенности, которая, в свою очередь, является эквивалентом чувства удовлетворения у читателя. Это ощущение усиливается и закрепляется благодаря образу колеса, традиционно ассоциирующемуся с цикличностью.
Статика сцены по-своему влияет на романное время: в отличие от рамочной конструкции, создающей у читателя ощущение завершенности, неподвижность финального кадра оказывается противопоставленной событийности повествования. За счет этого контраста читатель утрачивает ощущение романного времени, в котором он находился до последнего момента во время чтения, и оказывается в некотором вневременном пространстве, которое помогает почувствовать, что произведение закончилось.
Заключение
Несмотря на разнообразие способов, которыми пользуются авторы, чтобы вселить в читателя долгожданную надежду на счастье, мы можем выделить определенные константы. Важная роль отводится интертекстуальности, т. е. ссылке на классические произведения литературы и кино. Классическая литература практически мифологизируется и воспринимается как некий нравственный кодекс прошлого; кино же, имеющее не столь давнюю историю, дает авторам возможность апеллировать к красочным визуальным образам (в особенности к растиражированным статическим финальным кадрам голливудских фильмов). Выражение «счастливый финал» становится своеобразным маркером или, как мы считаем, мифологемой в обновляющейся системе ценностей современного общества. Таким образом, счастливый финал в своей современной трактовке призван поддерживать веру читателя в лучшее, не задавая при этом для счастья никаких конкретных координат.
______________________
______________
Мария Сапожникова[453]И жили они долго и счастливо: Фильмы на хинди и «хеппи-энд»[**]
Фильмы на хинди часто критикуют за их «шаблонность», причем как те, кто полагает шаблонными любые формы массовой культуры, так и те, кто пытается разглядеть новые тенденции в индийском кино. По их мнению, «шаблонность» состоит в том, что все эти фильмы выстраиваются на базе гетеросексуального любовного нарратива с соответствующим набором сюжетообразующих «трудностей» (семейных проблем, непонимания, любовных треугольников и т. п.), вырастающих на пути истинной любви, которая в конечном итоге обязательно должна восторжествовать. Неизменно присутствуют набор песен по любому поводу (если песня о любви, то ее, как правило, исполняют кинозвезды на фоне идиллического ландшафта — иными словами, знаменитая «беготня вокруг деревьев») и не менее обильный набор переслащенных мелодраматических эффектов; в финале — влюбленная пара остается жить «долго и счастливо».
Формула «долго и счастливо» заимствована из европейской сказочной традиции и активно используется в кино и других формах популярной культуры, для которых характерна «сказочная» или фантастическая концовка. Несмотря на то что в фильмах на хинди такой вариант концовки встречается довольно редко, критики и фанаты все равно используют это клише в своих описаниях. В языке хинди для него нет прямого эквивалента, поэтому принято использовать английское понятие «happy ever after»[455]. Английскими терминами обозначают и другие важные структурные составляющие кинематографического дискурса: эпизод, кульминация, эмоция (reel, climax, emotion). Более того, это своего рода «переключение» с хинди на английский характерно для современной индийской массовой культуры в целом, и в особенности для ее медийной составляющей.
Однако если бросить ретроспективный взгляд на лидеров индийского кинопроката (см., напр., Dwyer 2005), то становится очевидным, что хеппи-энд вовсе не является обязательной развязкой большинства классических фильмов на хинди. Герой может умереть — от unrequited love with ТВ («Девдас» — «Devdas», 1935, 1955 и 2002) или without ТВ[456] («Поместье» — «Mahal», 1949); погибнуть от рук полицейских («Стена» — «Deewaar», 1975) или в перестрелке («Месть и закон» — «Sholay», 1975). Мать может быть вынуждена убить собственного сына, зато в ее честь назовут плотину («Мать Индия» — «Mother India», 1957). Даже в романтическом жанре объект первой любви героини нередко погибает, после чего ей приходится выйти замуж за другого («Наступит завтра или нет» — «Kal ho na ho», 2003), или же воссоединение влюбленной пары происходит лишь в очень зрелом возрасте («Вир и Зара» — «Veer-Zaara», 2004). Счастливый конец есть только в тех фильмах, чей сюжет прямолинейно отражает логику формирования большой семьи[457]. Что предполагает соединение влюбленных и принятие их в лоно этой большой семьи, в которой они и будут дальше «жить долго и счастливо».
Но почему же в таком случае концепт хеппи-энда продолжает бытовать в Индии, хоть и по-английски и несмотря на вышеприведенные жанровые сложности? Связано ли это со значительной устойчивостью шаблонных структур, которые укоренились настолько, что способны оттенять реальные факты? Вероятно, здесь есть доля истины, однако удовлетвориться подобным объяснением как единственно верным нельзя. Подтверждением тому может служить неоднозначность понятия хеппи-энд, содержание которого в контексте индийского кино, наряду с понятием счастья как такового, на мой взгляд, нуждается в пересмотре. Так что же понимается под счастьем в фильмах на хинди, и кто это счастье должен испытывать — экранные герои или зрители?
Попытка концептуализации счастья
Категориям эмоций на Западе (по крайней мере, в Северо-Западной Европе) принято отводить второстепенную роль по сравнению с субъективными понятиями разума, рациональности и невозмутимости. Однако ситуация, судя по всему, начинает меняться, о чем свидетельствует смещение акцентов — под влиянием современной культуры США — в сторону эмоций. В данном случае симптоматична тенденция Голливуда, где появляется все больше фильмов, ориентированных скорее на эмоциональное, нежели на аналитическое зрительское восприятие (Anderson and Mullen 1998). Как показывают исследования эмоций, различия между разумным и эмоциональным далеки от прижившейся в массовом сознании бинарной оппозиции. Напротив, это взаимопроникающие области, причем эмоциональные реакция являются важной составляющей любого логического рассуждения (Elster 1999; Evans 2001; Fisher 2002; Ngai 2005; Solomon 1993, 2004a, 2004b).
Число исследований в области теории эмоций стремительно растет, однако у их авторов нет единого мнения относительно того, можно ли отнести счастье к числу базовых эмоций. Некоторые склоняются к этой точке зрения (Frijda 1986; Qatley and Johnson-Laird 1987; Weiner and Graham 1984), другие, напротив, причисляют счастье к эмоциям вторичным или даже третичным. К примеру, по Пэротту (Parott 2001), счастье третично, веселье — вторично, а радость первична.
В настоящее время продолжают развиваться несколько крупных проектов по исследованию истории эмоций (например, в берлинском Институте Макса Планка или Колледже королевы Мэри в Лондоне), однако выработать целостную концепцию до сих пор не удалось. Поле эмоций традиционно считается проблематичным для исследований в силу неизбежной субъективности и иррациональности суждений. Для основательного исследования в этой области потребуются совместные усилия целого ряда специалистов по разным научным дисциплинам — от биологии до психологии и психоанализа, поскольку данный дискурс являет собой интердисциплинарный сплав индивидуального и общественного. Как демонстрируют в своей работе Оутли и Дженкинс (Oatley and Jenkins 1996), академические изыскания по данной проблематике проводят исследователи самых различных специальностей, не исключая нейрофизиологов, психологов и антропологов. Философы также пристально изучали эмоции, в особенности те из них, кто в своих работах обращается к вопросам искусства (Altieri 2003; Feagin 1983; Goldie 2000; Hjort and Laver 1997; Keen 2007; Levinson 1982; Moldoveanu and Nohria 2002; Solomon 2004a; Wollheim 1999) и религии (Corrigan 2004). В основном такие исследования проводились на Западе, однако анализ индийского материала, на мой взгляд, поможет расширить понимание того, каким образом и в какой степени эмоции формируют нашу социальную и культурную жизнь. Несмотря на то что различным типам эмоций со всей очевидностью может быть присущ как универсальный, так и культурно обусловленный характер (Averill 1980; Ekman and Davidson 1994; Lutz 1988), серьезных попыток комплексного изучения их роли в Индии, за исключением одного сборника об эмоциях и религии (Lynch 1990), практически не предпринималось.
Эмоциям уделяется много внимания и в более широком — не академическом — дискурсе, в котором по-прежнему находится место как для аристотелевской концепции катарсиса, так и для системы моральных чувствований Адама Смита (1880): симпатии, эмпатии, заботы и сострадания. Наряду с этим Фрейд также является частью мирового популярного дискурса, а раса (см. ниже) — собственно индийского.
В последнее время появился ряд серьезных научных монографий, посвященных изучению счастья в его исторической, экономической и философской составляющих (Aryle 2001; Graham 2009; Haidt 2007; Kahneman et al. 2003; McMahon 2007; Layard 2005; Schoch 2006). Существуют и специальные университетские курсы по данной проблематике (к примеру, в Гарварде такой курс профессора Бена Шахара относится к числу наиболее посещаемых студентами). В Соединенном Королевстве лорд Лэйярд, которого называют «начальником счастья» (happiness tsar), последовательно лоббирует государственную политику, направленную на повышение общего уровня счастья и благосостояния среди населения, в частности выступая за включение практики когнитивной терапии в систему Национальной службы здравоохранения. В настоящее время изучение истории счастья прочно ассоциируется с исследованиями истории западной мысли в целом. Размышления об идее «счастливой жизни» как векторе человеческих устремлений, присутствующие в работах греческих и римских философов античности и позднее в теологических трактатах Средневековья, подвергаются радикальной переработке мыслителями Просвещения, которые полагают счастье неотъемлемым правом, иногда даже утверждаемым законодательно. Ярким примером тому служит ремарка Джефферсона о «стремлении к счастью» в Декларации независимости Соединенных Штатов Америки. Что же касается современности, то теперь счастье воспринимается в основном как право или призвание, которое может быть реализовано за счет повышения самооценки — иногда благодаря терапии или фармацевтическим средствам наподобие «Прозака».
Неизбежно возникает вопрос о соотношении меры реального и иллюзорного в ощущении счастья. Эренрайх (Ehrenreich 2010) поднимает эту проблему в своей работе о культе позитивного мышления и его крайних проявлениях (как, например, в случае с онкологическими больными, прославляющими свой недуг). Как бы там ни было — хотя счастье как таковое едва ли можно оценить количественно, равно как и подкрепить объективными доказательствами высказывание «Я счастлив (счастлива)», — наделе мы прекрасно осознаем, когда мы счастливы. Иногда может казаться, что все складывается из отдельных счастливых моментов, однако последовательность моментов сама по себе не может сделать человека счастливым; ведь всё это мелочи, тогда как для счастья необходимо нечто большее: убеждения, ценности, любовь, ощущение собственной успешности. Кроме того, определяющими в данном случае будут понимаемое шире чувство гармоничной связи, согласия с окружающим миром и счастье в расширенном понимании слова, которое, в свою очередь, коррелирует с понятиями нравственная жизнь, достойная жизнь, хорошая жизнь. Счастье — это не бесконечное блаженство, но и не что-то исчислимое (хотя Иеремия Бентон в свое время пытался вывести формулу суммы счастья).
Смена ориентиров западного сознания с результирующей в виде идеи «главное — не быть хорошим, а чувствовать себя хорошо» вкупе с общей тенденцией отдавать приоритет правам, а не обязанностям противоречит природе человека как нравственного животного (Blackburn 2001). Мы постоянно оцениваем, классифицируем и сравниваем различные модели поведения, тем самым вырабатывая в себе нравственность. Растущий интерес к изучению феномена счастья в целом и философии счастья в отдельности свидетельствует о назревшей необходимости вновь обратиться к величайшим философским и религиозным трактатам прошлого с целью отыскать в них указания на то, каким образом можно прожить хорошую жизнь.
При планировании собственной жизни каждый из нас стремится к будущему счастью. Нередко мы знаем, что именно может сделать нас несчастными, и всячески стараемся этого избежать. Однако, по мнению Гилберта (Gilbert 2006), мы обычно плохо представляем себе, что именно должно принести нам счастье в будущем, и поэтому делаем неверный выбор. Многие полагают, что счастье было бы возможно для всех, имей мы возможность напрямую оказывать влияние на такие факторы, как возраст или уровень благосостояния. Всем хочется быть моложе — хотя пожилые и средних лет люди, как правило, счастливее молодых; всем хочется быть богаче — хотя выигрыш в лотерее, как правило, наоборот, делает выигравших несчастными. По сути, мы верим, что были бы счастливы, будь мы красивее, умнее, образованнее, однако в действительности все эти качества — социологически слабые маркеры счастья и его предсказуемости. Анализируя данные опросов, Лэйард (Layard 2005) приходит к выводу, что представление людей о счастье в основном сводится к вещам и понятиям, не выходящим за рамки банального здравого смысла: для счастья нужны семья, друзья, интересный круг общения; деньги — чтобы их было скорее не много, а просто достаточно; работа, достижения, статус; здоровье; свобода и наличие общих ценностей с окружающими.
Отчасти новый всплеск научного интереса к феномену счастья возник благодаря распространению мнения о том, что в прошлом люди жили более счастливо, чем в наши дни, и что быть счастливым в современной жизни практически невозможно (Foley 2010). С одной стороны, данную позицию активно поддерживают социологи, которые видят в этом прямое следствие разрушения социальных сетей — в первую очередь реальных, а не виртуальных (Layard 2005). Но, с другой стороны, это также продукт свойственной всем нам ностальгии по прошлому, особенно когда речь идет о фильмах на хинди — ведь они «уже совсем не те, что раньше».
Как бы там ни было, исследования феномена счастья вне реалий Запада до сих пор находятся в зачаточном состоянии. Несмотря на то что многим универсалиям присуща некоторая доля евроцентричности, Шлох (Schloch 2006) выделяет четыре основные доминанты, к которым тяготеют все рассуждения о «хорошей жизни» или, иными словами, о субъективном благоденствии: удовольствие, вожделение, благоразумие и страдание.
Грэм (Graham 2009) анализирует разнообразные социально-экономические данные с целью изучения влияния доходов, здоровья, образования, религиозных убеждений, качества межличностных отношений на средний уровень счастья среди населения разных регионов мира. Ее вывод вполне ожидаем: граждане более богатых стран в целом ощущают себя более счастливыми, нежели граждане стран более бедных. Однако одновременно с этим исследовательница отмечает еще одну характерную закономерность, которая представляется крайне значимой в контексте рассмотрения феномена счастья в Индии: бурное экономическое развитие вызывает в обществе резкий рост уровня недовольства. Похоже, что причиной тому служит возникающее вследствие стремительных перемен чувство неопределенности и быстрое осознание того, что в то время как немногие богатеют на глазах, положение малообеспеченного большинства остается прежним (см. роман лауреата Букеровской премии 2008 года Адиги Аравинда «Белый тигр» — Adiga 2008).
Некоторые из перечисленных выше авторов касаются в своих работах специфики понимания счастья вне рамок западной культуры (в особенности Schloch 2006 — о буддийской и индуистской мысли), однако никто до сих пор не рассматривал трансформации данного понятия в Индии в историко-культурной перспективе.
Центральное понятие индийского учения об эмоциях, которое много и часто цитируют (но при этом практически не подвергают анализу) в контексте теорий более широких, — раса, т. е. вкус или, в переводе Игалла, настроение. Его корни лежат в аристократической драматургии на санскрите, точнее, в «Натьяшастре» Бхараты (приблизительно 200 г. н. э., однако письменно зафиксирована лишь в XVIII веке), хотя гораздо больше известен в этом отношении другой текст — «Дашарупа(ка)» Дханамьяи (924–996 гг. н. э.). Эмоция, выражаемая (бхава) персонажами (или всем текстом целиком в случае с поэзией), вызывает у зрителя или читателя расу — универсальное, устойчивое, чистое настроение, лежащее в основе удовольствия. Существует девять видов такого настроения: романтическое/эротическое (любовь в удовольствии самбхогха-шрингара и в разлуке — випраламбха-шрингара), комическое (хасья), печальное (каруна), ожесточенное (рудра), героическое (вира), пугающее (бхаянака), отталкивающее (бибхатса), великолепное (абхута) и умиротворенное (шанта). Несмотря на то что система этих понятий была разработана в соответствии со строгими канонами классической индийской драмы, остается неясным, почему именно они легли в основу теории эмоций, ведь ни одно из них, по сути, не соотносится с эмоциями, которые чаще всего принято называть первичными или хотя бы вторичными. Концепция расы применительно к кино оставляет много теоретических вопросов, однако само понятие в сильно упрощенной форме уже стало частью популярного дискурса, как это в свое время произошло с аристотелевским катарсисом.
Существует ряд ключевых текстов, на основании которых можно анализировать индийскую концепцию счастья. В первую очередь к ним относятся шастры (тексты, своды законов): они до сих пор имеют некоторое влияние на общество в Индии, являясь важной составляющей индийского мировоззрения. В шастрах речь идет о пурушартхах — целях человека в плане достижения им счастья и самореализации. Камашастра посвящена чувственным удовольствиям, источниками которых могут служить искусство, литература и секс (последнему аспекту как раз посвящена широко известная на Западе «Камасутра»), Наряду с этим важную роль играют идея артхи (власти, руководства) и дхармы (правильного поведения и поступков).
В своей работе Шлох рассматривает «Бхагавад Гиту» (Schloch 2006) — важнейший для современного индуизма текст, где долг и его исполнение ставятся превыше счастья. По сути, один из ключевых героев Махабхараты — эпоса, в котором встречается эпизод из «Бхагавад Гиты», — сын Дхармы (воплощения дхармы) Юдхиштхира, никогда не выбирает для себя счастье и в итоге остается несчастным. Однако для эпоса счастливые концовки не характерны.
Слово дхарма имеет много значений; к их числу наряду с прочими относятся жизненная этика и моральные установки. Несмотря на то что с течением времени содержание этого понятия неоднократно менялось, к нему до сих пор часто апеллируют в повседневном дискурсе (Das 2009). Дхарма в универсальном и личностном смысле продолжает оставаться синонимом правильности жизненного пути. В своем ключевом труде «Хинд Сварай» Ганди пытается дать новую интерпретацию понятия дхармы как этического кодекса современного мира, соблюдение которого должно вывести общество на стадию торжества Рамрайи — царства божьего, имевшего место ранее, но затем утраченного. В этой работе Ганди объединяет идею свободной Индии с принципом самоконтроля посредством понятия сварай (самоуправление). Кроме того, в данном контексте сварай — это также самопознание и реформы. Вероятно, подразумевается, что через осознание «правильности» человек способен достичь состояния «удовлетворения» (сантуштх — довольный, счастливый) как при жизни, так и, по всей видимости, после нее, в процессе грядущих перерождений.
В современном индуизме существует множество концепций неземного, надмирного счастья. К их числу относится мокша (высвобождение души из цикла перерождений) — состояние покоя, при котором душа пребывает в иных мирах, также описываемое термином сакхидананд (существование, сознание, блаженство); или же, в более распространенной традиции, бхакти — блаженное единение с божественным, «любящая преданность», которая по своей сути скорее представляет собой не философию, а систему определенного рода чувствований.
Среди многочисленных индийских теорий о счастье доминирующее положение занимает буддизм как религия, в основе которой лежит стремление к устранению любых форм несчастья и страданий посредством Четырех Благородных Истин (страдание присутствует в мире как неотъемлемая часть бытия, и его причина — желание; прекратить желать — значит прекратить страдать; к освобождению от страдания ведет Восьмеричный Путь). Несмотря на то что в современной Индии буддизм постепенно сдает позиции под натиском более молодых и политизированных религиозных течений и конфессий, буддийская философия по-прежнему пользуется популярностью среди образованной прослойки индийского общества. Этому, в частности, немало способствует проживающий в индийском изгнании Далай-лама (хотя интерпретации нередко упрощают и выхолащивают буддийскую философию до уровня простой техники «самопомощи»).
Здесь стоит упомянуть также об исламских теориях счастья, особенно об «Эликсире счастья» («Кимийя-йе сад’ат») Абу Хамида аль-Газали (1058–1111), поскольку эта книга имела широкое хождение в образованных кругах, где многие владели персидским. Ее автор выступает против просвещения, равно как и отвергает семью, которая, по его мнению, обречена на неизбежный крах вследствие причин, которые ныне принято именовать кризисом среднего возраста. Доктрина Газали, призывавшего искать счастье в следовании заветам суфизма, до сих пор имеет много последователей среди индийских мусульман. Истинное счастье, по Газали, состоит в следовании принципам суфизма. Благодаря распространенным практикам почитания мест упокоения святых и характерной религиозной музыке, суфизм пользуется популярностью и среди немусульман, которые видят в нем путь к счастью через веру и самопознание.
В Индии подобные концепции переплелись с колониальными идеями Просвещения (особенно с их утилитаристскими и романтическими составляющими), а на них, в свою очередь, наложились представления об эмоциях в рамках разнообразных «пси» дискурсов (психоанализ и практическая психология). К этому понятийному пласту примешиваются также традиционные народные представления, в соответствии с которыми счастье во многом зависит от судьбы и кармы (Dwyer 2006: 156–159).
Философии счастья и «хорошей жизни» стали в Индии предметом анализа для ряда индийских мыслителей новейшего времени. К их числу принадлежат Ганди и Тагор, которые писали свои труды о национализме и религии с опорой на спектр разнообразных и разноплановых источников — начиная с древних индуистских и буддистских текстов и заканчивая культурной традицией ислама, христианства и западных культов (Tidrick 2006). Содержание телепередач и продукции книжных магазинов в Индии свидетельствует о том, какой популярностью пользуются здесь разного рода гуру — от «полубогов» Раджнеша/Ошо и Шри Шри Рави Шанкара до Дипака Чопры, автора множества книг о самостоятельном решении внутренних проблем человека. Следствием этого стала коммодификация концепта счастья и даже его экспорт в качестве сугубо индийского вклада в мировую культуру.
В родственных языках и наречиях Северной Индии для обозначения понятия счастливый используется целый ряд слов, частью с санскритскими, а частью с персидскими корнями. Подобные деривативы могут нести в себе оттенки религиозной семантики (см. Dwyer 2006: 103), а также нередко предполагают тот или иной уровень формальности. В Оксфордском англо-гуджаратском словаре в перечне синонимов сначала даются слова насибдар и бхагаван (букв, удачливый на санскрите); первое слово пришло из персидского, второе — из санскрита. Затем сантуштх, а далее три более обиходных: кхуши, аананди, сукхи (первое персидское, второе и третье — санскритские). То же и в хинди, хотя в англо-хинди словаре к перечисленным выше прилагательным добавляются прасанна (букв, довольный на санскрите) и саубхагья (букв, довольный судьбой (санскр.), обычно употребляется по отношению к женщине при живом муже).
Счастье и индийские фильмы
Гораздо меньше трудов написано на тему постижения счастья посредством искусства и этики. Великие тексты индийской культуры являются благодатным полем для исследований, однако данная статья посвящена индийским фильмам и непосредственно связанной с ними идее «хеппи-энда». Кино, как и другие виды искусства, служит способом познания взаимоотношений «Я» с окружающим миром; это познание может принимать различные формы в зависимости от особенностей интерпретации кинотекста каждой конкретной аудиторией. Однако наряду с этим индийское кино представляет собой и влиятельную форму культуры, которую потребляют миллионы людей как в Индии, так и за ее пределами, что, в свою очередь, позволяет говорить о нем как об одной из глобальных медиаформ. Будучи «молодым» постколониальным государством, Индия испытывала потребность в новой мифологии и новых национальных текстах, и кино как нельзя лучше было способно эту потребность удовлетворить. Некоторые фильмы, в соответствии с определением Венди Доннинжер (Donninger 2004), вышли за пределы кинозалов и превратились в мифы
в самом широком смысле этого слова: сюжеты, не связанные напрямую с той или иной религией, но обладающие силой религиозных доктрин, сюжеты, которые наряду с религиозными текстами занимают прочное место в культурном воображении и которые воздействуют на глубинные чувствования точно так же, как это нередко делает религия. Подобные мифы нередко порождаются реальными жизненными коллизиями, которые повторяют собой аналогичные коллизии мифические.
В разряд мифов могут перемещаться пересказы древних сюжетов в новых контекстах, создающих возможности для новых их интерпретаций. Хорошим примером тому служит Махабхарата. Этот древний текст неоднократно пересказывался во всех медиа, включая кино и телевидение, и в результате персонажи и сюжеты из него стали сегодня частью повседневного мышления (Das 2009). С другой стороны, телевизионная экранизация Махабхараты начала 1990-х воспринималась в рамках попыток переосмысления «мифологической» части индийской истории (Dwyer 2006: 52–53).
Фильмы, о которых пойдет речь далее в этой статье, оказали влияние на формирование новых мифологий, чем в данном случае и обусловлена их выборка. Сюжеты этих картин стали общеизвестными, реплики героев разошлись на цитаты, а имена героев превратились в нарицательные. Так, Виджай в исполнении мегазвезды индийского кино Амитабха Баччана стал объектом подражания и цитирования, а про любого героя со склонностью к самодеструкции нередко можно услышать, что «он — настоящий Девдас» (см. ниже анализ киногероев). Отметим, что этнографический материал, на котором строятся данные посылки, основан главным образом на изучении мнения зрителей этих фильмов в Индии и за ее пределами[458].
Одна из основных проблем, которую традиционно ставят перед зрителем индийские фильмы, — проблема повседневного счастья. Дискуссии о счастье в индийских фильмах в основном базируются на анализе различных сплетен о жизни знаменитостей и материалов журнала «Stardust» (Dwyer 2000b), где центральное место занимает проблема счастливого брака (Dwyer 2004). Наряду с этим изучение особенностей восприятия экранного счастья непосредственно зрительской аудиторией редко выходило за рамки соотнесения содержания фильмов с религиозными сюжетами (Dwyer 2006).
Отдельно взятые фильмы также могут порождать размышления о счастье. Например, если любимый умирает, как герой Шахрукх Хана из фильма «Наступит завтра или нет» («Kal ho na ho»), может ли девушка после этого обрести счастье в браке со своим лучшим другом? Если муж из замкнутого болвана превращается для своей жены в партнера по танцам, могут ли супруги полюбить друг друга по-настоящему, как в фильме «Эту пару создал бог» («Rab ne bana di Jodi»)? Способен ли богатый супруг сделать семью счастливее, как в фильме Яша Чопры? Сравнения с кинозвездами также могут служить поводом для раздумий. Была бы я счастливее, будь я красивой, как Приянка Чопра? Могут ли полюбить друг друга героиня Карины Капур и разведенный мужчина с двумя детьми на руках (Саиф Али Хан), который к тому же придерживается другой религии? Да и стоило ли бы нам вообще задумываться о подобных вещах, будь мы такими же богатыми и красивыми, как они?
Задумываясь над подобными вопросами (их принято относить к сфере «сплетен»), люди часто оказываются перед этическими вопросами: как следует и как не следует себя вести в целом? каким образом в тех или иных ситуациях различные модели поведения могут открыть им дорогу к счастью?
Кинематографический текст
Индийские фильмы принято считать «шаблонными» и лишенными выраженных жанровых особенностей. По композиции они скорее напоминают своего рода масалу индийской кухни — острую смесь характерных деталей и непременных компонентов сюжета, в упрощенном виде почти всегда сводимых приблизительно к следующей схеме: молодой человек встречает девушку — песни и танцы — драки — хеппи-энд. Такова в общих чертах пренебрежительно-уничижительная оценка индийских фильмов как части массовой культуры; однако парадокс состоит в том, что хеппи-энд в шаблонном и массовом восприятии вообще индийских фильмов практически всегда упоминается в качестве неотъемлемого элемента схемы. В свое время ранние европейские критики, сравнивая санскритскую драматургию с античной греческой, неизменно отдавали предпочтение последней, мотивируя это тем, что в санскритской драматургической традиции отсутствовал жанр трагедии как таковой. Отметим, что трагические концовки крайне нехарактерны и для индийских фильмов. (Впрочем, равно как и для голливудских — вероятно, данная особенность присуща массовой культуре в целом. Даже в знаменитом «Титанике» — голливудском фильме, снятом в лучших традициях индийского кино, — трагическая развязка смягчается благодаря демонстрируемым в конце картины фрагментам из дальнейшей жизни главной героини.) Однако вместе с тем многие концовки никак не соответствуют формуле «и жили они долго и счастливо». Примеров тому множество: «Девдас» (1935, 1955 и 2002), «Особняк» — «Mahal» (1949), «Любовь над облаками» — «Andaaz» (1949), «Мать Индия» — «Mother India» (1957), «Великий Могол» — «Mughal-е Azam» (1960), «Святой» — «Guid» (1965), «Стена» — «Deewaar», (1975), «Месть и закон» — «Sholay» (1975). В некоторых фильмах концовку нельзя назвать однозначно счастливой: «Наступит завтра или нет» — «Kal ho na ho») (2003), «Вир и Зара» — «Veer — Zaara» (2004), «Гаджини» — «Ghadjini» (2008).
Данная точка зрения, предполагающая шаблонность индийских фильмов, как правило, сочетается с отрицанием самой возможности деления по жанрам внутри индийского кино в целом. Действительно, в рамках данной позиции жанровое кино характерно только для Голливуда, в то время как отдельно взятая страна «третьего мира» снимает кино национальное, которое, в свою очередь, воспринимается уже как часть «мирового кинематографа». Тем не менее в среде продюсеров, режиссеров, дистрибьюторов, кинопрокатчиков и самих зрителей принято говорить о жанрах индийского кино. На заре индийского кинематографа превалировали экранизации мифологических и религиозных сюжетов, социальные картины на мусульманскую тему, боевики; теперь же на смену им пришли фильмы про гангстеров, патриотические фильмы и — наиболее тиражируемые и популярные в последнее время[459] — комедии и мелодрамы с уже традиционным повышенным градусом эмоциональности. Хеппи-энды наиболее характерны именно для последних двух жанров, поскольку сюжет здесь обычно строится вокруг влюбленной пары герой — героиня, которые, после множества перипетий, воссоединяются в финале. Так или иначе, каким бы комплексом причин ни была вызвана данная тенденция в целом, в последнее время хеппи-энды в индийском кино стали встречаться гораздо чаще вследствие доминирования этих жанров в 90-е и нулевые годы. Прежде чем перейти непосредственно к проблеме хеппи-эндов, мне бы хотелось остановиться на двух модусах счастья, непосредственно связанных с концовками фильмов: счастье киногероев и зрительском счастье.
Счастье и персонажи фильмов
Индийским фильмам не свойственен реализм. Соглашусь с Линдой Уильямс (Williams 2009) в том, что мелодрама (причем любая, не только индийская) — это совершенно обособленный от реалистического тип кино. В данном случае я не ставлю перед собой задачу углубленного анализа эстетики реализма в индийском кино (подробнее на эту тему см. Mukheijee 1985 — о романном реализме; Pinney 1997; Dwyer and Patel 2002), поэтому ограничусь определением Яша Чопры. По его мнению, индийское кино живет по законам «глянцевого реализма», в соответствии с которыми реальность приукрашивается, и это позволяет фокусировать внимание зрителя на эмоциональной стороне жизни экранных героев, не отвлекаясь на прочие ее аспекты.
В 1970-х годах в свет вышли работы Питера Брукса и Томаса Эльзессера, в которых авторы независимо друг от друга подчеркивали: мелодрама, ранее вообще не считавшаяся достойным предметом для серьезного исследования, в действительности сыграла важную роль в развитии западной культуры. П. Брукс (Brooks 1995) рассматривал место и значение элементов мелодрамы в эстетике театрального и романного (Бальзак, Джеймс) реализма XIX века, а Т. Эльзессер (Elsaesser 1985) анализировал творчество Дугласа Серка, Винсенте Минелли, Николаса Рэя и других голливудских режиссеров-пятидесятников. Наряду с экспрессионистичностью мелодрамы и ее очевидной связью с определенными психоаналитическими конструктами оба исследователя обращали внимание на активное использование в рамках этого жанра (который, по их мнению, уходит корнями во Французскую буржуазную революцию конца XVIII века) музыки и невербальных жестов.
Долгое время само понятие «мелодрама» воспринималось как уничижительное, однако впоследствии во многом было реабилитировано, по крайней мере в киноведческих работах (Elsaesser 1972; Gledhill 1987; Landy 1991; Mulvey 1977/1978; Neale 1986). В настоящее время мелодрама (в том числе индийская) является благодатным полем для академических исследований и дискуссий (Dwyer 2000а; Dwyer and Patel 2002; Prasad 1998; Thomas 1995; Vasudevan 1989, 1998). Индийское кино активно эксплуатирует мелодраматические приемы и стилистику, которые, будучи наложенными на сетку специфичных для Индии социальных правил и ограничений, порождают набор внутренних, семейных и любовных сюжетообразующих конфликтов между персонажами (Prasad 1998; Nandy 1985).
Под мелодрамой в целом понимается совокупность культурных жанров, призванных вызывать у аудитории усиленные эмоции — в первую очередь за счет резонанса с ее «трагическим модусом чувствований» (Ang 1985:61). Часто мелодраму низводят до уровня «слезливой сентиментальщины» с присущими ей фальшиво-надрывными трагедиями, погоней за дешевыми эффектами, очевидными преувеличениями в сюжете и актерской игре, непропорциональным преобладанием чувств над разумом (Ang 1985: 61–68). Мелодрама не стремится вскрывать нюансы психологии и внутренних мотивов персонажей; вместо этого она помещает героев в ситуации, провоцирующие их на эмоциональный взрыв. Мелодраматический текст прежде всего ориентирован на метафорическое восприятие, поэтому вопрос о его художественных и прочих достоинствах отодвигается на второй план.
Мелодрама лежит в основе всего индийского кино. Отсюда характерные сюжетные акценты: семья, бессилие добра перед лицом обстоятельств (чаще всего это болезнь, распад семьи, непонимание, обреченная любовь) или в результате козней злодея, нередко скрывающегося под маской друга семьи. Иногда сюжет предлагает ситуации, которые могут счастливо разрешиться только благодаря «удобной» смерти кого-либо из героев, случайной встрече или же просто неправдоподобно счастливой концовке. Удовольствие, получаемое зрителем от подобных хеппи-эндов, позволяет ему отогнать ощущение бессмысленности каждодневного существования и вернуть себе уверенность в том, что и в его жизни все рано или поздно наладится.
Большинство индийских фильмов — это своего рода «запланированные звездные дебюты»; они полностью строятся вокруг конкретных ролей и сцен и работают на создание или поддержание иконографии той или иной кинозвезды. Этот процесс всегда сильно упрощался за счет мелодраматического «фундамента», который, благодаря своей несовместимости с психологическим реализмом, позволял кинозвезде становиться иконой, квинтэссенцией эмоции, воплощением собирательного образа героя того или иного типа. В отличие от Голливуда индийский кинематограф не стремится к созданию глубоко индивидуализированных экранных образов. Лучше всего это видно на примере второстепенных персонажей, которые зачастую представляют собой попросту олицетворения неких стандартных понятий и категорий: злодеи здесь — абсолютное зло, отцы — закон, младшие братья — непорочность, матери — чистая любовь и т. д. Презентация кинозвезды происходит через прочувствованные диалоги с его/ее участием и, самое главное, посредством песенных сцен, в которых звезда предстает перед зрителем в нужном ракурсе, в танце и наиболее эффектном наряде и гриме. Все это в совокупности как раз и являет собой квинтэссенцию и маркер «звездности» данного актера или актрисы.
Образ кинозвезды тотален. Он конструируется через последовательность фильмов с его/ее участием и поэтому выходит за рамки отдельно взятой кинокартины. Это непременно максимизированный («лучший») образ: красивейший, трагичнейший, сексуальнейший и т. д. Игра звезды в каждом отдельно взятом фильме должна прежде всего перекликаться с ее «звездным» метаобразом. При этом степень соотносимости этого метаобраза с требованиями и задачами конкретной роли имеет второстепенное значение (Dwyer 1979:142–151). Для укрепления подобных интертекстуальных связей некоторые звезды индийского кино (к примеру, Радж Капур, Амитабх Баччан и Шахрукх Хан) даже «кочуют» из фильма в фильм, не меняя имени своего персонажа.
Представляется уместным отвлечься от «звездных образов», подкрепляемых сплетнями в газетных колонках (хотя бы знаменитой «Society Page» на третьем развороте «The Times of India»), и обратиться к поведенческим особенностям собственно экранных героев. Каким бы ни было социальное положение персонажа, он неизменно наслаждается благами жизни, пусть даже иногда не наяву, а в мечтах. Мы видим его в окружении семьи, друзей, на празднике, за работой, наблюдаем, как он борется за признание. Герой очень часто бывает личностью творческой, иногда экстравагантной, его приветствуют толпы, он влюбляется, выражает эмоции посредством песен и танцев. Время от времени он также грустит, погружается в себя (хотя и довольно редко) и даже страдает от рук злодея — во имя достижения своих целей или от необходимости сделать тяжелый выбор.
Счастье в финале обретают, как правило, влюбленные гетеросексуальные пары, которые на протяжении фильма неоднократно исполняют песни и танцы на фоне экзотических (в основном) задников, выражая взаимную любовь и привязанность. Все разрешается заключительным взрывом красок, эмоций, музыки и танцев на свадьбе героев. Подразумевается, что в дальнейшем они будут «жить долго и счастливо» в семейном согласии и в окружении потребительских благ, наслаждаясь свободой самореализации и, само собой разумеется, красотой друг друга.
Несчастливые концовки
По Толстому, «все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Так вот, последнее является предметом моего особого внимания в этом разделе. Рассмотрим героев картин, которые несчастны и не живут «долго и счастливо». В качестве примеров приведу киноперсонажей, которые приобрели в индийском кино статус мифических; начну с Девдаса.
Некоторые из наиболее любимых публикой индийских киногероев несчастливы и гибнут в конце фильма, не имея возможности достичь того благоденствия, к которому приходят «счастливые пары влюбленных». Самый известный трагический герой — это Девдас. «Девдас» Саратчандры Чаттерджи (1876–1938) впервые был опубликован в 1917 году на бенгальском языке. Еще до серии разноязычных экранизаций этот небольшой роман, с самого начала с восторгом воспринятый бенгальским средним классом, был переведен на несколько языков и стал настоящим общеиндийским бестселлером. Хотя английский перевод никак не свидетельствует о выдающейся литературной ценности этого произведения, его сюжет со временем превратился в подобие национального индийского мифа о трагедии двух влюбленных: им не суждено быть вместе, и виной тому не только ограничения и запреты кастового общества, но и их собственные ошибки и гордыня.
Сын богатого землевладельца Девдас Мукхерджи растет трудным и непокладистым ребенком. В школе и дома его нередко выручает из переделок подруга детства Парвати Чакрабарти (Паро), даже несмотря на то что нередко они не ладят друг с другом и ей самой иногда достается от Девдаса. Когда мальчика отчисляют из школы, родители отправляют его учиться в Калькутту, но и там все его успехи сводятся разве что к овладению английским. Родители Паро надеются выдать дочь замуж за Девдаса, однако Мукхерджи отказываются принимать невестку, мотивируя это тем, что семья Чакрабарти более низкого происхождения, к тому же живет с ними в одной деревне. Получив отказ, Чакрабарти решают выдать Паро замуж за пожилого богатого вдовца со взрослыми детьми. Будучи уверенной, что Девдас все равно женится на ней, Паро, рискуя быть опозоренной перед всей деревней, ночью пробирается к нему в комнату. Однако Девдас говорит ей, что не может идти против воли семьи, отводит ее домой и уезжает в Калькутту. Оттуда он пишет ей крайне противоречивое письмо:
…Я все время думаю о тебе. Мне страшно подумать, какую боль испытали бы мои родители, узнай они о нашей свадьбе… Я не способен дать тебе той сильной и всецелой любви, которой ты всегда ждала от меня. Мое сердце разрывается, когда я думаю о том, как сильно ты из-за меня страдаешь. Пожалуйста, постарайся забыть меня (Chatteijee 1996: 46; пер. Н. Михайлина).
Для зрителя нет ничего удивительного в том, что Девдас неожиданно возвращается в деревню, чтобы увидеться с Паро. Он встречает ее на лестнице у реки, но девушка отказывается простить его. Она говорит, что он вернулся просто для того, чтобы и дальше ее мучить, что она всегда его боялась, но теперь выходит замуж за более достойного человека. В ярости Девдас ударяет девушку, так что шрам на лице едва успевает зажить к свадьбе. После свадьбы Паро прилежно исполняет роль идеальной жены в неконсуммированном браке с пожилым мужчиной, чьи дети вполне годятся новоиспеченной мачехе в ровесники. Девдас же, связавшись с Чунни-бабой, начинает пить и проводит время в обществе танцовщиц. В него влюбляется куртизанка Чандрамукхи, но Девдас оскорбляет ее и отвергает саму возможность любви между ними, в то же время выражая ей свою симпатию и привязанность:
Оставь меня… не трогай. Я сейчас трезв. Я могу прикасаться к тебе только в дурмане. Если бы ты знала, Чандрамукхи, сколь глубокое отвращение я питаю к женщинам твоей профессии… Да, я презираю тебя… и все равно буду приходить к тебе снова и снова, сидеть здесь, разговаривать с тобой… потому что у меня нет другого выбора… О, сколь многое вынуждены сносить женщины. Чандрамукхи, в своем ремесле ты — настоящее воплощение женского долготерпения (Chatterjee 1996: 57; пер. Н. Михайлина).
После смерти отца Девдас возвращается домой за наследством. Паро приходит к нему и умоляет его бросить пить. Он говорит ей, не может — точно так же, как сама Паро не может перестать думать о нем; затем вновь уезжает в Калькутту. Чандрамукхи бросает свое ремесло ради простой жизни в деревне, однако когда ее письма к Девдасу возвращаются нераспечатанными, отправляется в Калькутту на его поиски. Ей приходится вернуться к старой профессии, чтобы иметь возможность его содержать. Доктор прописывает Девдасу постельный режим, но тот все-таки отправляется со слугой в путешествие по Индии. В конечном счете он выполняет обещание вернуться к Паро прежде, чем умрет, и едет в ее родную деревню. Та узнает, кто приехал, и, забыв обо всем, выбегает во двор — Девдасу навстречу, но ее родственники закрывают перед ним ворота, возле которых он и умирает, так и не повидавшись с Паро. Девушка падает в обморок. Она будет неизбывно скорбеть по Девдасу до конца своих дней.
Далее я собираюсь сравнить и проанализировать три варианта этого текста — собственно роман и экранизации 1935 и 1955 годов. Безусловно, варианты не могут не отличаться друг от друга, поскольку появились совершенно в разное время; однако основаны они на одном нарративе, строящемся по специфическим законам индийского реализма (это определение употребляется исключительно в контекстных рамках данной статьи). Экранизация 1955 года представляет собой отдельный случай, поэтому я остановлюсь на ней лишь вкратце после анализа двух более ранних текстов.
Мне не довелось посмотреть бенгальскую версию фильма 1935 года, о которой пишет Ашис Нанди (Nandy 2000), однако вышедший одновременно с ней вариант на хинди очень близок к оригиналу. Фильм студии «New Theatres», которая известна своей ориентированностью на литературные вкусы среднего класса, отличается обилием снятых «вживую» песенных сцен. Экранизация 1955 года режиссера Бимала Роя (который, кстати, в качестве кинооператора принимал участие в съемках ранней версии фильма с Сайгалом в роли Девдаса) выдержана в лучших традициях индийского реалистического кино. Еще больший шарм картине придает красота звездной тройки актеров — исполнителей главных ролей, в особенности Виджаянтималы, танцующей в роли Чан-драмукхи.
Центральной проблемой фильма со всей очевидностью является невозможность женитьбы Девдаса и Паро. Тем не менее — несмотря на то что до самой смерти им не удается вступить в сексуальную связь друг с другом (впрочем, равно как и с кем-либо еще), создается впечатление, что брачные узы связывают их всю жизнь. Перерождение их детской привязанности в романтическое чувство показано как плавный переход — неизменный стержень этой истории об упадке и разочаровании.
Ашис Нанди считает Девдаса «героем изнеженным и слезливым». В самом деле, действия этого персонажа-неудачника напрочь лишены какого бы то ни было героизма, он только и знает, что оскорблять женщин, которые его любят, параллельно все глубже погружаясь в пучину алкоголизма. Кажется, будто он повторяет колониальный стереотип «изнеженного набоба». Вероятно, Девдас в исполнении Праматхеша Баруа, о котором пишет Нанди, больше соответствует образу героя романа Чаттерджи, нежели «маскулинный» Девдас Панджаби К. Л. Сайгала (который, тем не менее, и сам рано умер от алкоголизма), не говоря уже о Девдасах-супергероях Дилипа Кумара и Шахрукх Хана (кстати, оба актера принадлежат к «воинственным расам») (Arora 1997; Dwyer 2000а, Chapter 4; Sinha 1995).
Девдас удивительно асексуален. Судя по всему, он так и остается девственником, поскольку все его физические контакты с женским полом сводятся к садомазохистским выходкам по отношению к Паро. Жестокий мир, где возлюбленным необходимо согласие родственников на свадьбу и где родители сплошь и рядом отдают молодых девушек за пожилых вдовцов, разъединяет наших героев, хотя одновременно и поддерживает узы между ними. Их любовь все равно остается любовью, пусть и с элементами садомазохизма. Давдас все время стремится закрепить свою доминирующую эротическую позицию в отношении Паро. Когда он заходит в женскую часть гхата и заявляет Паро о своем намерении жениться на ней, та ставит его на место, отвечая, что ее сватают за более достойного человека. Девдас моментально возвращает себе позицию: он угрожает изуродовать Паро, после чего сразу переходит от слов к делу и бьет ее прутом по лицу. После свадьбы Паро, когда она начинает опекать Девдаса, он ведет себя более смиренно. Кульминацией этой тенденции является смерть Девдаса у порога дома Паро.
В романе охваченная страстью Паро пробирается в комнату к Девдасу и проводит с ним около четырех часов, оказываясь в конечном счете на его ложе. В фильме с Сайгалом возможность эротической близости героев в этой сцене тоже подспудно артикулируется, однако «временная лакуна» здесь составляет уже два часа. Несмотря на имеющуюся возможность, подкрепленную негласным предложением сексуальной близости со стороны Паро, Девдас и здесь, по всей видимости, проявляет свое извечное бессилие и возвращает ее домой к родителям. В дальнейшем Паро не находит сексуального отклика и со стороны старшего супруга, которому явно за сорок (причем в фильме 1935 года их разница в возрасте заметнее: здесь Паро — девочка-подросток; в более поздних версиях она «становится» старше) и который из уважения к юной жене сознательно воздерживается от половых контактов с ней.
Очевидно, что привязанность Паро к Девдасу имеет оттенок религиозности: в ранней версии фильма Паро молитвенно зажигает лампу возле его фотографии, в ряде последующих экранизаций (но не в самом романе) между героями устанавливается телепатическая связь. Святая невинность Паро и ее (пусть вынужденное) целомудрие скорее превращают их отношения с Девдасом в пример чистой «детской любви», нежели платонического адюльтера[460]. Ради любимого Паро готова пожертвовать даже честью семьи: сначала она пытается приютить больного Девдаса, а в финале, когда тот приходит умирать к ее воротам, выбегает из дома ему навстречу. В фильмах, в отличие от романа, Паро способна чувствовать боль Девдаса через ее старый шрам, в финале же влюбленные фактически общаются при помощи телепатии. Чистоту их любви подчеркивают музыка и тексты исполняемых героями песен, в которых проведены параллели с пасторальными образами влюбленного Кришны. В фильме 1955 года звучат песни Сахира Лудхианви — знаменитого автора романтических песен на хинди для индийского кино; он, в частности, писал тексты к «Жажде» («Pyaasa», см. ниже), а также ко всем фильмам Яша Чопры вплоть до своей смерти в 1981 году.
Не менее жесток Девдас и по отношению к Чандрамукхи. Он открыто заявляет, что презирает ее за ее профессию и образ жизни. Девдас не вступает в сексуальную связь с Чандрамукхи, которая, тем не менее, питает к нему глубокие, практически материнские чувства. Ассоциирование этой героини с сексуальной индустрией и эротический посыл ее танцев лишь подчеркивают асексуальность ответных реакций самого Девдаса.
Для экранизации 2002 года характерен полный отказ от реализма, который замещается в данном случае набором болливудских штампов. Девдас как персонаж уже нерелевантен. Под влиянием современных трендов «неудачная маскулинность» героя превращается в маскулинность истерическую: теперь это страдающий мужской персонаж, вынужденный бороться за свою любовь, семью и отечество. Взаимоотношения Девдаса и Паро теряют «детскую» составляющую. Вместо этого акцент сделан на физической связанности героев друг с другом, которая, впрочем, проявляется все в тех же вычурных и асексуальных формах.
По сути, «Девдас» — это серьезная, пусть и выполненная в мелодраматическом ключе, критика института договорных браков: ведь возможность счастья для двух влюбленных исчезает вследствие чрезмерной непреклонности семьи Девдаса, с одной стороны, и столь же чрезмерной уступчивости семьи Паро — с другой. Трагедия заключается в том, что Паро, которая внешне являет собой пример идеальной жены, живущей в согласии с супругом в рамках договорного брака, на деле обречена на разлуку с любимым, так же, как и она, страдающим от неосуществимости мечты и невозможности счастья. Если отношения Девдаса с Паро можно в целом охарактеризовать как любовь без интимной близости, то сексуальная жизнь Чандрамукхи протекает исключительно в профессиональной сфере и не включает в свою орбиту непосредственно объект ее обожания — Девдаса, который не собирается отвечать танцовщице взаимностью, равно как не может допустить для себя возможности заключения с ней брака. Столь устойчивая популярность «Девдаса» объясняется именно содержащейся в нем критикой института традиционного брака, проиллюстрированной примерами разрушенных судеб героев. Следует, однако, заметить: на фоне значительного числа других современных экранных историй, в которых влюбленные герои стремятся убедить старшее поколение в том, что действительной основой брака является любовь, этот сюжет выглядит сильно устаревшим. Для адекватного восприятия Девдаса — не в качестве неудачника, а в качестве трагического героя — необходимо учитывать, что его поведение обусловлено жесткими рамками семейных и кастовых устоев, которые наличествовали в индийском обществе того времени. В более поздних экранизациях предпринимаются попытки «осовременить» традиционалистскую составляющую контекста, однако это порождает лишь новые парадоксы и нестыковки в сюжете. В результате мир на экране становится плоским (причем этот эффект не удается компенсировать ни за счет богатства антуража, ни за счет насыщенности фильма «киношными» эффектами), а роль Девдаса выглядит очередным штрихом, дополняющим образ Шахрукха Хана как «звезды современности».
В финале герой умирает, но вместе с тем обретает бессмертие в глазах аудитории, которая в большинстве своем все же склонна считать, что Девдас прожил свою жизнь не зря. Возможно, такой эффект создается благодаря тому, что подобная концовка одновременно может трактоваться и как начало: зритель знает, что Паро с Девдасом были неразлучны с самого детства, а значит, по всей вероятности, им суждено быть вместе и в следующей жизни. Данная интерпретация позволяет объяснить предсмертное возвращение Девдаса к порогу дома Паро, которое иначе кажется жестом, лишенным всякого смысла (ведь у Паро даже нет возможности увидеться с ним). По всей видимости, положенные на музыку санскритские молитвы тоже звучат в финале не случайно. В отношении преобразившейся Чандрамукхи финал видится более открытым: для нее сохраняется возможность обретения счастья — как в этой жизни, так и в грядущих. Иными словами, интерпретация концовки и связанная с ней оценка перспектив счастья может сильно варьироваться в зависимости от того, стремимся ли мы взглянуть на отыгранный сюжет глазами действующих лиц или зрителей в зале.
Зрительские аудитории
Теперь представляется уместным остановиться подробнее еще на одной важной составляющей репрезентации счастья в индийском кино — зрительской аудитории (как на непосредственном объекте эмоционального воздействия посредством кино), с ориентацией на которую, собственно, и создается эмоциональная партитура фильма. Следует заметить, что сегодня не существует достаточно полных исследований, посвященных этнографии индийских зрительских аудиторий (Dernè 2000, Srinivas 1996; об иммигрантских аудиториях см. Banaji 2006).
Крупнейший узел индийской киноиндустрии, известный ныне как Болливуд, претендует на роль главной мастерской национального индийского кинематографа. Болливудские фильмы снимаются на национальном языке (хинди), и их культурное влияние распространяется в том числе и на индийские диаспоры в различных государствах Южной Азии. Ядро целевой аудитории составляют в основном выходцы из высших каст, состоятельный класс, хотя болливудские фильмы ориентированы также на жителей севера Индии с умеренным и умеренно низким достатком (Dwyer 2010b). В отличие от фильмов, снимаемых на юге Индии — в большей степени политизированных и рассчитанных на просмотр локальными аудиториями, — болливудские фильмы создаются для заполнения ниши общенационального кино. Кинематограф на хинди ориентирован в первую очередь на индийцев как граждан одной страны и стремится к формированию универсальных стандартов счастья и кластеров коллективного воображения.
И все-таки даже если рассматривать индийскую зрительскую аудиторию под таким углом зрения, то ее все равно никак нельзя назвать гомогенной. И дело здесь не только в том, что она включает в себя как «городских», гак и «деревенских» зрителей: в разных регионах страны и в разных диаспорах предпочитают смотреть разное кино, поэтому в данном случае нельзя объективно судить об однородности и шаблонности всего индийского кино в целом. В моей работе 2010 года (Dwyer 2010) рассматривается вопрос о том, каким образом фильмы на хинди апеллируют к зрителю и программируют его эмоциональную реакцию (причем речь идет не только о реакции непосредственно на происходящее на экране, но также и на те или иные изменения, которые имеют место в современном индийском обществе), тем самым привлекая его внимание к различным комплексным категориям. Автор отмечает, что данный принцип работает даже применительно к аудиториям фильмов-клонов, фильмов категории В и болливудского кино.
Счастье и зрительская аудитория
Поскольку на настоящий момент не существует работ, посвященных исследованию эмоций зрительских аудиторий данных фильмов, я собираюсь представить здесь лишь некоторые соображения относительно того, каким образом зритель воспринимает фильм и за счет чего он получает от него удовольствие. Материалом, лежащим в основе моих посылок, служат неформальные беседы и дискуссии, проведенные мною с представителями различных зрительских аудиторий, а также разного рода обзоры и отзывы. Практически все респонденты сходятся во мнении, что после завершения нарратива у аудитории должно остаться чувство удовлетворения; иначе говоря, в «правильном» финале порядок (особенно моральный) должен быть непременно восстановлен (Thomas 1995). Отчасти этот принцип эксплуатируется в мелодраме, однако помимо него существует множество других вариантов развязок, которые также могут служить для зрителя источниками счастья и морального удовлетворения.
Мир индийского фильма — это мир изобилия и излишеств. Многие склонны презрительно отзываться о нем как о своего рода эскапистской фантазии, причем эскапизм в данном случае почему-то воспринимается скорее как форма извращения, нежели как вполне обычный способ развлечения. По мнению Ричарда Дайера (Dyer 1977), эскапистская киноутопия может менять содержание в зависимости от времени и места демонстрации фильма, при этом предлагая зрителю эфемерные схемы удовлетворения тех или иных его запросов и желаний. Наиболее часто акцентируемые составляющие индийских фильмов (большая крепкая семья, сплоченное сообщество и место в нем индивида, картины богатства и нищеты, возможность социального лифта) можно рассматривать в качестве ответов на запросы воображаемой аудитории (Inden 1999).
В индийских фильмах романтического жанра, как правило, показана жизнь «красивых людей» (их отличают прекрасная физическая форма, идеальная кожа, хирургически исправленные недостатки внешности), обитателей потребительского рая, в реальности недоступного ни для кого, кроме богатейших из богатых. Роскошь проявляется во всем: герои ведут роскошный образ жизни, много и роскошно путешествуют, живут в роскошных домах в окружении роскошных фирменных вещей. Непременно постулируется идеал «большой семьи», однако вместе с тем нарастает и параллельная тенденция: демонстрировать в качестве ячейки общества нуклеарную семью с соседскими и дружескими связями. Особое внимание обращает на себя тот факт, что рассматриваемые фильмы не содержат никаких отсылок к кастовым, религиозным и подчас даже гендерным ограничениям и запретам. Для героев открыт путь к свободной самореализации (хотя такая ситуация чаще всего складывается ближе к концу фильма, когда им уже удается заработать авторитет и признание). Также активно утверждаются традиционные ценности, хотя подчас и в несколько осовремененной форме, в результате чего, в частности, нередко совмещаются понятия «брак по любви» и «договорной брак». Для усиления удовольствия от просмотра перечисленные элементы «оживления» сюжета (путешествия по экзотическим странам, изобилие, красота, энергичность и добродетельность героев) увязываются с музыкой и танцами.
Все эти составляющие в той или иной форме доставляют зрителю удовольствие и позволяют ему чувствовать себя счастливее. Однако успех фильма зависит еще и от того, насколько эффективно он притягивает зрительское внимание, как долго он способен это внимание удержать и в какой степени зритель вовлекается в происходящее на экране.
Эмоции накладывают отпечаток на зрительские практики. Следует при этом заметить, что, согласно распространенной точке зрения, практики индийских и западноевропейских киноаудиторий отличаются друг от друга (Srinivas 1996). До конца неясно, каким образом фильм вызывает у зрителей эмоции, заставляя их смеяться, плакать, испытывать другие чувства. Один из ключевых аспектов опыта кино — связь между внутренним состоянием героев и аудитории.
Проблема соотношения «зритель — персонаж» остается крайне дискуссионной. Наиболее популярна точка зрения, в соответствии с которой зритель склонен идентифицировать себя с киногероем (Neil 1996). По мнению Мюррэя Смита, отношение зрителя к персонажу чисто эмоциональное и потому не является идентификацией как таковой.
К числу критиков теории идентификации относится и Кэролл (Caroll 1997), в данном вопросе отдающий предпочтение неоплатонической концепции зрителя-наблюдающего. Персонажи действуют — зрители развлекают разум и чувства. Мы не идентифицируем себя с персонажами, не ощущаем себя на их месте. Условно говоря, если персонаж N влюблен, то мы можем быть рады за него, однако это не означает, что и мы влюблены в объект его воздыханий. Мы можем ненавидеть или любить его, даже если никто из других героев фильма не испытывает по отношению к нему тех же чувств.
Зритель всегда превосходит персонажа по уровню осведомленности; их внутренние состояния также не совпадают. К примеру, если Виджай (персонаж Амитабха Баччана в нескольких фильмах) грустит, мы не обязательно ему сопереживаем. Возможно, мы восхищаемся его непреклонностью и самопожертвованием, хотя персонаж этого восхищения по отношению к самому себе не испытывает. И наоборот: иногда мы жалеем его, а он себя — нет. Конечно, это вовсе не означает, что мы в принципе не можем сопереживать персонажу. Тем не менее за нами сохраняется возможность не до конца и не во всем с ним соглашаться. Так, в случае с фильмом «Трезубец бога Шивы» («Trishul») мы можем поддерживать героя в его стремлении, но при этом отдавать себе отчет в том, что он заходит слишком далеко. Мы также можем смотреть на Виджая глазами других героев фильма (как правило, по сюжету у него есть мать, лучший друг или брат) и, как они, восхищаться им, одобрять его поступки, пусть даже понимая, что в чем-то он неправ.
Данные теории нуждаются в адаптации применительно к индийскому контексту, что позволит дополнить их материалами исследований местных зрительских аудиторий и фанатской культуры — последняя во многом развивается в системе координат, задаваемой британскими и голливудскими ее аналогами (Dyer 1986; Kuhn 2002; Mayne 1993; Stacey 1993; Staiger 2000; хотя см. также Srivinas 1996 и Dwyer 2009).
Следует подчеркнуть, что эмоциональная реакция зрителей на фильм не ограничивается сопереживанием персонажам, поскольку атмосфера фильма создается также посредством визуальных образов, музыки, голоса за кадром и других средств. Индийская мелодрама активно акцентирует зрительское внимание на эмоциональности и этой эмоциональностью в какой-то степени даже «упивается». Мелодрама стимулирует не одну эмоцию, а целый их комплекс, причем остается не вполне ясным, каким образом эти эмоции разграничиваются в контексте самого фильма. В свете модных в настоящее время когнитивных теорий на первый план выносится роль «убеждений» (неважно, реальные это убеждения, персональные или воображаемые), при этом эмоциональные реакции приобретают приоритет над политическим. Текст должен в такой степени фокусировать на себе внимание и эмоции аудитории, чтобы суметь изменить ее физическое состояние, как, например, внезапно пробежавшая мышь или крыса заставляет нас вздрогнуть. Гродал и Робинсон (Grodal 1997; Robinson 2005) сходятся во мнении, что эмоции играют ключевую роль в структурировании внимания, которое зритель уделяет нарративу и жанровым элементам фильмов и романов, поскольку в процессе рефлексии над текстом и его интерпретирования ему необходимо понимать и интерпретировать сюжеты и художественный мир, в котором действуют герои, равно как и оценивать сами действия этих героев.
Мелодрама и удовольствие от слез
Мелодрама рассчитана на усиленную эмоциональную реакцию со стороны аудитории. Когда индийский фильм заканчивается, на экране появляются титры и в зале вновь зажигается свет, многим из тех, кому фильм понравился, требуется платок. Но означает ли это, что концовка печальна?
Печаль — важнейшая составляющая мелодрамы. Индийские фильмы довольно часто эксплуатируют трагический элемент для «выжимания» слез. Вместе с тем удовольствие от слез (Frey 1985; Cornelius 1995; Lutz 2001; Neale 1986) может возникать как результат воздействия целого ряда факторов, а потому должно рассматриваться непосредственно в рамках конкретного контекста. Иногда плач персонажа в фильме служит средством привлечения зрительского внимания к его эмоциональному состоянию — средством еще более действенным благодаря использованию крупных планов. Если герои плачут от грусти, эффект может быть усилен особенно печальной песней. Если же слезы — от избытка чувств, то это подчеркивается кульминацией музыкальной темы и все теми же наездами камеры на лица плачущих персонажей (наиболее удачные примеры в данном случае — непосредственно предшествующие хеппи-эндам классические развязки фильмов «Испытание временем» («Waqt») Яша Чопры и «Непохищенная невеста» («Dilwale dulhaniya le jayenge») Адитьи Чопры).
Как правило, зрители плачут вместе с героями. Зрители героям сопереживают: проникаясь ли их судьбой, из-за избытка ли чувств или же просто оттого, что им самим становится грустно. Однако что вызывает в них потребность смотреть печальные фильмы? Может быть, таким образом они получают возможность целиком погрузиться в меланхолические размышления? Или же во время просмотра они вспоминают о чем-то, чего у них больше нет (об утраченной любви, например)? Или видят то, чего никогда не произойдет с ними самими (потому что в жизни так красиво не бывает)? Может, слезы — это один из вариантов счастья? Способна ли аудитория испытывать счастье от осознания собственной грусти? Существует также точка зрения, в соответствии с которой слезы — это один из способов выделения гормонов и, как следствие, один из физиологических способов получения удовольствия путем снятия напряжения, особенно в кульминационные моменты сюжета.
Переосмысление зрительского счастья
Концовка напрямую связана с сюжетной развязкой, когда все коллизии разрешаются и, следовательно, спадает градус напряженности. Напряженность и печальные события сюжета порождают неудовлетворенность и грусть зрителей, разрешающиеся через основную кульминацию в финале (как правило, в индийских фильмах промежуточные кульминации или моменты эмоционального накала случаются в конце каждого эпизода). В данном случае кажется уместным взглянуть на проблематику удовольствия от слез и разрешения напряженности под более широким углом зрения, чтобы определить, способен ли зритель извлекать из концовок фильмов (того же «Девдаса», например) какие-либо другие виды удовольствия, отличные от простого «ощущения счастья», которое он получает, наблюдая классический хеппи-энд.
Гилберт (Gilbert 2006: 31) выделяет три вида счастья: эмоциональное, моральное и ситуативно-оценочное. В упрощенном виде первое означает «быть счастливым», второе — «быть счастливым по какой-либо причине», третье — «быть счастливым вследствие чего-либо». По Гилберту, эмоциональное счастье — это «чувство, ощущение, субъективное состояние» (там же), т. е., иными словами, «обычное» счастье, о котором говорилось выше. Однако к мелодраме гораздо более непосредственное отношение имеет вид счастья, который определяется Гилбертом как «моральное счастье» или «счастье по какой-либо причине» (Gilbert 2006: 35) и является результирующей «правильно прожитой жизни». Античные греческие философы определяли это состояние как «добродетельное»; в контексте христианского мировоззрения такое счастье служит наградой за человеческую добродетель (пусть даже в ином мире).
Иными словами, зрители получают удовольствие от фильма вследствие сознания «правильности» выбранного времяпрепровождения, которое позволило им увидеть столько «настоящих» эмоций на экране. В конце фильма, когда правосудие свершается, закон торжествует и всем персонажам воздается по заслугам, аудитория опять-таки испытывает закономерную удовлетворенность. В данном случае люди в зрительном зале испытывают счастье, созерцая картину торжества высоких ценностей, на которую накладывается еще и сюжетная развязка.
В основе ситуативно-оценочного счастья («счастье вследствие чего-либо»), по Гилберту, лежит одобрение. Когда некто испытывает такого рода счастье, он, как правило, испытывает удовлетворенность каким-либо результатом, пользой от сложившейся ситуации, причем эмоциональная составляющая может в данном случае вообще отсутствовать. Например: я счастлив/счастлива, что государство предпринимает меры для борьбы с глобальным потеплением, даже несмотря на то, что в результате этих мер мне приходится больше платить за бензин.
Очевидно, что разные типы концовок фильмов позволяют зрителю испытывать различные виды счастья. Поскольку аудитория сопереживает героям, а также проявляет по отношению к ним другие виды эмоциональных реакций, она неизбежно испытывает облегчение в конце фильма, когда наступает сюжетная развязка и становится понятна судьба героев. Вне зависимости от того, какова судьба этих героев, зрители, находясь в иной по сравнению с ними позиции и в ином внутреннем состоянии, могут по-разному реагировать на просмотренный фильм.
Эмоциональное счастье
Концовка типа «жили они долго и счастливо», как правило, предполагает женитьбу, нередко сопровождаемую воссоединением большой семьи. В этом случае зрители наблюдают на экране очевидную и трогательную (часто до слез) картину счастья. Герои фильма счастливы, и зрители тоже: вот классический пример очевидного хеппи-энда, при котором зрители разделяют эмоциональное счастье персонажей.
Подобные хеппи-энды наиболее характерны для фильмов романтического жанра, в которых часто снимаются Шамми Капур, Риши Капур, Шахрукх Кхан, а также для фильмов, создаваемых компаниями «Yash Raj Films» и «KJo’s Dharma Production Films». Зачастую напряженность сюжета связана исключительно с развитием любовных отношений героя и героини, поскольку никаких проблем в иных жизненных аспектах никто из них не испытывает. За счет чего же режиссер привлекает зрительское внимание к сюжету, и какую роль играют здесь песни, танцы, комедийные сцены и тому подобные элементы?
В качестве свежего примера приведу занимающий второе место в списке лидеров проката 2009 года фильм «Эту пару создал бог» («Rab ne bana di Jodi») режиссера Адитьи Чопры, выпущенный на студии «Yash Raj Films» в 2009 году[461]. Сюжет разворачивается вокруг несчастливого и вынужденного брака героини по имени Тани (в исполнении Аннушки Шармы) и Суриндера (Сури) — неряхи средних лет. Начинается их жизнь под одной крышей: Сури заботится о своей новоиспеченной жене, и она отвечает мужу тем же, хотя и не любит его. Затем несчастливый муж меняет внешность, учится танцевать и становится партнером Тани, которая не узнает собственного мужа и влюбляется в созданный им образ. Отсюда дилемма: влюбляется ли Тани в своего мужа или же в другого человека? Предпочитает ли она стильного парня тому, кого по-английски называют dork, — «ботанику»-супругу? Консюмеристская фантазия, построенная на игре с имиджем? В итоге Тани осознает, насколько сильно Сури ее любит. Супруги обретают счастье и отправляются путешествовать на медовый месяц. Эпилог: «У каждой обыкновенной йоди (пары) удивительная история любви». Иными словами, не нужно далеко ходить за счастьем, которое и так уже рядом, ведь главное — найти свою собственную историю.
Концовки некоторых индийских фильмов «переделаны» из трагических в счастливые. К их числу относится, например, «Бобби» Раджа Капура (1973); его сюжет повторяет «Ромео и Джульетту», однако в развязке влюбленных спасают их отцы, после чего две семьи мирятся. Так же и в фильме 1957 года «Жажда» («Pyaasa») режиссера Гуру Дутта пара главных героев вместе вступает на путь, ведущий в светлое будущее. В других фильмах хеппи-энды заменены проблемными или открытыми концовками. Классический пример — фильм «Поместье» («Mahal») Камаля Амрохи. В несохранившемся оригинале 1949 года герой и героиня умирают в разлуке, но в следующей жизни вместе возвращаются в поместье (mahal); правда, в цензурированной версии фильма погибает только герой, в то время как героиня расходится со своим мужем Шринатхом (в исполнении Кану Роя) сразу после свадьбы (Dwyer 2010а).
Существуют даже фильмы на хинди с двумя (для зрителей — разделенными временным интервалом) концовками, причем первая — как правило, несчастливая — призвана усилить впечатление от второй (счастливой). Центральные герои фильма Фараха Кхана «Ом Шанти Ом» («Om Shanti Om») становятся жертвами злодейских козней. Однако во второй части фильма они перерождаются, чтобы отомстить. В результате злодей погибает, влюбленные воссоединяются, и завершающий эпизод представляет собой классический хеппи-энд. Чтобы добиться справедливости, героям приходится переродиться для следующей жизни.
Счастье моральное и ситуативно-оценочное
Два более сложных типа счастья, выводимых Гилбертом, — моральное и ситуативно-оценочное — позволяют, на мой взгляд, лучше разобраться с проблемой эмоций зрительской аудитории. Судя по всему, эти два типа счастья, с одной стороны, характеризуются значительным числом смежных черт, а с другой — кардинально отличаются от счастья эмоционального, под которым, собственно, подразумевается счастье как чувство в обыкновенном его понимании. Моральное счастье имеет более отвлеченно-стоическую форму и возникает от осознания правильности (праведности) собственной жизни. Зрители способны получать моральное удовольствие от просмотра мелодрам, потому что добродетель в них, как правило, вознаграждается. Очень часто ключевой герой мелодрамы — человек положительный, набожный и добрый — сначала страдает от несправедливости, но в финале обретает награду за свои высокие качества. Как отмечает Линда Уильямс (Williams 2009), зрителю мелодрамы нравится, когда герой воплощает абсолютное добро. При этом зритель понимает, что такой персонаж не может существовать в реальности, однако с удовольствием продолжает верить в него как в определенного рода идеал.
Главным индийским хитом 2009 года стал фильм «Ghajini» А. Г. Мурогдосса (2008; одновременный ремейк «Memento» Кристофера Нолана и более ранней версии (2005) того же «Гаджини» — «Ghajini» производства студии «Telugu», которую тоже режиссировал А. Г. Мурогдосс). Многие критики осудили фильм за сцены неоправданной и чрезмерной жестокости. Вместе с тем картина может восприниматься как рассуждение на тему умственной неполноценности и ограниченных возможностей человеческого разума. Главный герой (если его можно так назвать) Санджай Сингхания (Аамир Кхан) теряет долгосрочную память после травмы головы, которую получает, тщетно пытаясь защитить свою девушку Калпани Шетти (Асин) от Гаджини. Злодей убивает ее в отместку за то, что она уличила его в торговле маленькими детьми на рынке проституции. Из-за травмы Санджай ничего не может удержать в памяти дольше пятнадцати минут, поэтому он постоянно оставляет самому себе послания (иногда даже в форме татуировок), чтобы не забыть, кто он такой, где живет и, прежде всего, кому он должен отомстить за убийство Калпани Шетти. Ему пытается помочь Сунита (Джия Кхан), студентка-медик, однако в конце концов выясняется, что эта ужасная травма неизлечима. Тем не менее Санджаю отчасти удается обрести счастье: с него снимают ответственность за преступления, о которых он ничего не помнит. Несмотря на то что хеппи-энда не случается (герой не достигает поставленной цели, равно как и не соединяется узами брака с любимой), Санджаю удается избежать смертной казни или тюрьмы. Благодаря этому он реабилитирует себя и меняет жизненные приоритеты, стремясь использовать свои ограниченные возможности с максимальной отдачей и пользой для других.
Следует заметить, что ситуативно-оценочное счастье, будучи по своей природе феноменом скорее рациональным, нежели чувственным, крайне опосредованно соотносится со счастьем эмоциональным, так как является более сложным его видом. Ситуативно-оценочное счастье далеко не всегда определяется эмоциональным состоянием «счастья». Определить, какого рода счастье испытывает зрительская аудитория в финале фильмов с участием тех или иных знаковых для индийского кинематографа персонажей, не во всех случаях легко.
Возвращаясь к «Девдасу» (см. выше), отмечу, что в рамках зрительского восприятия герой, с одной стороны, заслуживает наказания за свои неправильные поступки (в виде несчастной судьбы), а с другой — искупает свою вину смертью, сохраняя тем самым свою любовь в вечности. Девдас умирает, но выполняет свое обещание вернуться к Паро перед смертью: таким образом он исполняет свою судьбу. Паро понимает, что Девдас на самом деле любил ее, и живет с этим сознанием до конца своих дней (причем возможность близости для влюбленных была потеряна сразу после того, как она решила выйти замуж за другого, т. е. задолго до смерти Девдаса). Чандрамукхи отказывается от ремесла куртизанки и встает на путь к новой жизни. В определенном смысле обе женщины добиваются счастья, при этом зритель также получает удовольствие от развязки.
Является ли для аудитории смерть Девдаса показателем печальной концовки? Его смерть предваряется своего рода религиозной увертюрой в виде молитв на санскрите, которые очевидно рифмуются с более ранней сценой фильма, где Паро фактически молится на фотографию Девдаса. Вспомним также о религиозном аспекте детской любви героев и об их дальнейших не вполне нормальных отношениях. Все это непосредственно указывает на то, что в какой-то из следующих жизней герои непременно воссоединятся. Быть может, зритель воспринимает это как своего рода хеппи-энд? Получает ли он удовольствие, понимая, что ему доступен более широкий контекст, нежели самим героям? Счастлив ли он от сознания того, что справедливость восторжествовала, что герой искупил свои грехи и в будущей жизни его ждет за это награда?
Почему Виджай должен умереть?
Величайшей звездой индийского кино, несомненно, является Амитабх Баччан. В фильмах 1970–1980-х годов он, как правило, исполнял необычные роли: либо Виджая, либо Амита. Роль Виджая — «разгневанного молодого человека» — для Амитабха Баччана придумали сценаристы Салим (Кхан) и Явед (Ахтар). Виджай был центральным персонажем целого ряда фильмов, снятых разными режиссерами (в их числе Рамеш Сипи, Пракаш Мехра и Яш Чопра) по сценариям Салима-Яведа (Dwyer 2002; 71–105). Помимо этого, Амитабх сыграл похожего героя, опять-таки по имени Виджай, в фильме Маноджа Кумара «Хлеб насущный» («Roti, kapada aur makaan», 1974).
История Виджая варьируется от фильма к фильму, однако в каждой есть неизменный лейтмотив: в детстве герой становится жертвой преступления или несправедливости. Он может быть незаконнорожденным («Трезубец бога Шивы», 1978, режиссер Яш Чопра) или брошенным ребенком («Стена», 1975, режиссер Яш Чопра); или у него на глазах убивают родителей («Затянувшаяся расплата» — «Zanjeer», 1973, режиссер Пракаш Мехра); или он растет, не зная о том, кто его родители (Джай в фильме «Месть и закон» — «Sholay», 1975, режиссер Рамеш Сиппи); еще вариант: отец отказывается от него («Шакти» — «Shakti», 1982, режиссер Пракаш Мехра). Повзрослев, Виджай начинает собственную войну против тех, кто когда-то причинил ему зло, причем, как правило, его оппонентом является один конкретный злодей. Виджай преступает закон, но в большинстве случаев — ради осуществления своего плана мести. Виджай знает себе цену и добивается всеобщего уважения благодаря своей уверенности и высоконравственному отношению к старикам, женщинам и детям, чем и вызывает у зрителя восхищение. Его отношение к религии несколько более противоречиво. Виджай чувствует, что бог его оставил, и в ответ сам отворачивается от него («Стена»); однако он продолжает с уважением относиться ко всем религиям, в особенности к трем главным конфессиям Индии: индуизму, исламу и христианству. Тем не менее Виджаю подчас приходится расплачиваться за грехи и терпеть наказание ради их искупления. Так, например, в фильме Яша Чопры «Черный камень» («Kala Patthar», 1979) герой совершает ошибку, после чего его на долгие годы отправляют на принудительные работы в угольную шахту. Еще одна характерная особенность Виджая — его извечная фиксированность на матери и враждебность по отношению к отцу, который подводит или предает его практически во всех указанных сюжетах. При подобной психологической диспозиции в каждом фильме для Виджая предопределен эдипов конфликт, выражающийся в опосредованном стремлении героя отомстить за мать через вымещение своей ярости на отце. В крайнем проявлении этот конфликт предстает в фильме «Трезубец бога Шивы», где Виджай сначала разрушает отцовский бизнес, потом убивает отца и лишь после этого считает отомщенным себя и свою мать.
Роль «разгневанного молодого человека» 1970-х годов в исполнении Амитабха приобрела значимость и знаковость не потому, что была вписана в политическую конъюнктуру того времени, а в большой степени потому, что Виджай, в отличие от интровертного Девдаса, направляет свой гнев вовне. Он стремится утвердить собственную систему моральных ценностей, которая изначально противопоставлена официальной государственной.
Безусловно, фильмы о Виджае отсылают зрителя к широкому социальному контексту, однако на первый план выдвигается бескомпромиссная борьба героя за восстановление справедливости и обретение морального спокойствия. Виджая нельзя назвать озлобленным одиночкой, однако им движут ярость и желание отомстить обидчику своей семьи. Он также и не бунтарь; он концентрируется на мщении одному конкретному злодею — и в этом всегда идет до конца, хотя чаще всего терпит поражение. В своем стремлении отомстить Виджай скорее скрытен и расчетлив, нежели импульсивен. Гнев Виджая — искупительный и нацелен исключительно на обидчика. Он не имеет под собой политической подоплеки и никак не связан с кризисом 1970-х годов или периодом Чрезвычайного положения в Индии. Виджай борется не за социальные перемены и не во имя торжества глобальной справедливости. Он руководствуется мотивами личной мести в рамках своего собственного понимания правосудия. Это моральная проблематика, а не политическая.
Справедливость причины, вызывающей гнев Виджая, не подвергается сомнению, чего нельзя сказать о моральном аспекте выбираемых им способов мести. Нередко вместе с Виджаем действует второй герой — его брат или друг. В фильме «Стена» («Deewaar») второй герой — Рави — придерживается общепринятых моральных норм, однако симпатии зрителей всегда остаются на стороне Виджая. Хотя Рави работает в полиции, он дискредитирует себя в глазах зрителя, когда в одной из сцен гонится за укравшим хлеб воришкой, хватает его и лишь потом выясняет (со слов отца мальчика), что на кражу того толкнул голод в семье. Виджай говорит, что возьмет деньги только у того, кто протянет их ему, а не швырнет, как подачку; эта реплика стала классическим кредо экранного образа Амитабха Баччана. Если Рави мыслит социальными категориями, то Виджай — сугубо индивидуалистическими. Виджаю нужна месть по принципу «зуб за зуб, око за око» (причем, как уже было сказано, аудитория поддерживает его), однако в конечном счете он несет наказание за свои преступления: как правило, сначала героя отвергает семья, затем он гибнет. Виджай всегда бросает вызов принципам старой и новой морали, ориентируясь при этом на общественные ценности, которые имеют глубокие культурные корни, но в его трактовке приобретают подчас новые формы. Здесь напрашивается сравнение с американскими фильмами про мафию, особенно со знаменитой эпопеей Френсиса Форда Копполы «Крестный отец», где система ценностей персонажей во многом зиждется на устоях разного рода традиционных сообществ. Парадигма мышления персонажей, в которой важнейшее место занимают категории, связанные с жесткой семейной иерархией, верностью, клановостью и религией, не согласуется с нормами и регуляциями современного общества, а потому неизбежно влечет за собой конфликт с законом. И здесь, несмотря на то что такая система морали оправдывает насилие и убийство, зрители неизменно симпатизируют некоторым ее носителям. Похожая ситуация складывается и с «Трезубцем бога Шивы». Здесь сюжетный пафос тоже играет важную роль в манипуляции зрительскими симпатиями: в результате в глазах аудитории сын, любящий свою мать, получает право морально и физически уничтожить отца, некогда заставившего ее сильно страдать.
Симпатию аудитории вызывает способность Виджая сохранять достоинство перед лицом выпадающих на его долю испытаний и унижений. Наблюдая за действиями героя на экране, многие зрители проводят параллели с собственным каждодневным опытом публичного унижения и стыда, который является неизбежным следствием кастовой, классовой, гендерной, религиозной и имущественной сегрегации общества[462]. Все зрители всегда сопереживают униженному Виджаю, но кто-то из них может почувствовать негодование. Кроме того, модель поведения Виджая (равно как и его образ) легко поддается имитации: при желании зритель вполне способен копировать его имидж и манеру общения (вплоть до прямого цитирования). Нажитое нечестным путем богатство и криминальные связи Виджая морально не проблематизируются и скорее дополняют образ и стиль героя. В этом смысле можно проследить параллели с фильмами жанра «blaxploitation»[463], в первую очередь с «Шафтом» Гордона Пракса (1971), или с тем же «уличным стилем» одежды Дэвида Бэкхема, явно копирующего имидж «черных» героев.
Месть Виджая, его стремление покарать обидчиков является примером того, что гнев несет в себе моральный вопрос: как далеко имеет право зайти герой на пути мщения за причиненные ему обиды и унижения. Этот гнев проявляется по-разному: через возмущение, боль, презрение, жажду мести и стойкость героя перед лишениями. И всегда это гнев с оттенком мученичества: ведь, как правило, Виджай обездолен и обманут собственным отцом; его мать выступает в роли единственного звена, которое связывает семью воедино; а его девушки выполняют сугубо декоративные функции. В современных ролях Амитабха Баччана продолжает чувствоваться влияние морального авторитета, системы мотивов и обостренного чувства справедливости, присущих Виджаю. Нередко его персонажи неадекватны в своих эмоциональных проявлениях, особенно по отношению к молодым и влюбленным, так как ставят справедливость превыше даже собственной жизни и собственного счастья. Однако в конечном итоге они приходят к согласию с более молодыми героями, которые в своих действиях и решениях больше полагаются на эмоции, нежели на разум.
Тем не менее Виджай всегда переступает черту и в результате погибает. Даже придерживаясь строгого морально-этического кодекса, он не может остаться в живых, так как одного раскаяния для искупления его грехов недостаточно. В качестве зрителей мы можем быть на стороне героя, однако Виджай бессилен оправдаться за совершенные им убийства даже в наиболее слезливых «судебных мелодрамах», где в финале его ждет длительный срок тюремного заключения. Зритель испытывает жалость к герою-мученику, обреченному страдать за свои принципы и убеждения, зато в смерти Виджай достигает искупления перед теми, кого он любит. К тому же умирает он, как и положено герою: молодым, красивым и отомщенным.
По эмоциональной окраске подобные концовки не являются хеппи-эндами ни для зрителей, ни для персонажей. Вместе с тем такое разрешение сюжета позволяет зрителю испытывать ситуативно-оценочное счастье, поскольку, с одной стороны, герой морально перерождается, а с другой — ему не удается остаться безнаказанным перед лицом закона, который он нарушал. Моральное удовлетворение для аудитории состоит в осознании того, что Виджай пытается бороться с собственной дхармой, защищая свои идеалы и бросая вызов несчастливой судьбе, и тем самым поддерживает свое видение дхармы всего общества и государства.
(Друзья говорили мне, что им нравится пересматривать фильмы с Амитабхом, поскольку каждый раз его герой снова жив — по крайней мере, до конца фильма, — однако никто из них никогда не говорил, что Виджай не должен в итоге умереть и что подобная концовка несправедлива или неправильна.)
Грустные концовки
Некоторые фильмы заканчиваются грустно, и в финале зрители разделяют с персонажами их печаль. Скажем, главный герой и героиня погибают, а злодеи или просто те персонажи, которые строили против них козни и причиняли им страдания, остаются жить. Такие концовки — редкость, и зрители, как правило, покидают кинозал в уверенности, что виновники печальной развязки рано или поздно осознают свои ошибки. Более того, печальный конец раскрывает культурный потенциал смыслов данного сюжета. В качестве примера приведу свидетельство моих пожилых индийских друзей. До знакомства с фильмом «Горбатая гора» (2005, режиссер Энг Ли) они были «против геев», однако печальная концовка этого фильма заставила их отказаться от своих прежних взглядов. Они поняли, что герои действительно любили друг друга, но пали жертвой социальных стереотипов; причем в результате зрители испытали моральный подъем, так как в собственных глазах оказались более непредвзятыми и толерантными.
К числу величайших хитов индийского кинематографа относятся и фильмы с однозначно печальной концовкой. Так, в финале «Великого Могола» («Mughal-е Azam», 1960, режиссер К. Азиф) героиню едва не хоронят заживо. Император позволяет ей бежать, не оставляя, однако, никаких шансов на воссоединение с любимым. Единственным возможным утешением может служить тот факт, что герой-любовник впоследствии станет могольским императором Джахагиром, однако это соображение никак не привязано к контексту самого фильма. Конечно, зритель может верить, что герои связаны узами вечной любви (к тому же финал несколько смягчен императорским прощением героини), но несмотря ни на что концовка фильма остается действительно печальной.
Заключительные замечания
Так как фильмы на хинди являются топосом счастья в нескольких ипостасях (как в отношении персонажей, так и в отношении зрительской аудитории), возникает ряд дальнейших вопросов о счастье и эмоциях в их связи с кино.
Наиболее фундаментальным является вопрос о том, где именно локализуются эмоции. Даже если персонажи фильма переживают хеппи-энд, испытывают ли зрители те же эмоции, что демонстрируются на экране? Если рассматривать эмоции под более широким углом, включающим зрительскую аудиторию, то правомерно ли говорить о них как о части разделяемого зрителями социального пространства, в котором общественная система ценностных координат превалирует над индивидуальными? Означает ли это, что ощущение эмоционального счастья движется от «Я счастлив/счастлива» к «Мы счастливы»? Если на эмоциональном уровне каждый чувствует счастье индивидуально, то возможно ли коллективное чувствование морального счастья? И наоборот: может ли вообще эмоциональное счастье быть коллективным?
(1) Фильмы и социальные ценности. Социальный контекст счастья в Индии также требует дальнейшего изучения. В то время как процент индийцев, живущих за чертой бедности, продолжает сокращаться, влияние резких перемен в индийском обществе на общий уровень счастья остается неоднозначным. По мнению Грэма (Graham 2009), вызываемые современными тенденциями радикальные изменения жизненного уклада в Индии и появление новых экономических и социальных возможностей не только не способствуют повышению этого показателя, но, скорее, напротив — работают на его снижение (особенно когда речь идет о тех массах населения, которые лишены доступа к этим возможностям). В этой связи Фоули (Foley 2010) задается вопросом о применимости понятия счастья к современному миру. Действительно ли, как о том пишет Бен-Шахар (Ben-Shahar 2007), при наличии реальных возможностей счастья люди — под влиянием ошибочных представлений о нем — стремятся к повышению уровня достатка и к усилению своего влияния в ущерб своим свободам и вовлеченности в социальные сети, что в конечном итоге не делает их счастливее? Утрачен ли Индией дух гандизма, в соответствии с которым путь к большему счастью возможен посредством индивидуального и социального реформирования (судхаро, Ghandi 1909)?
Как соотносится тенденция роста популярности фильмов с хеппи-эндами (а соответственно и жанров, в которых хеппи-энды предполагаются, особенно комедий и мелодрам) с реалиями современной действительности? Является ли это признаком того, что людей стало больше интересовать счастье, или просто одной из форм эскапизма — ответом на растущую потребность в средствах, позволяющих хотя бы ненадолго забыть о жизненных проблемах? Существует ли связь между этой тенденцией и параллельным бурным развитием других микрожанров, например фильмов о террористах и захватах заложников (к числу которых — в индийском контексте — относится, скажем, блокбастер 2010 года «Меня зовут Хан» — «My name is Khan» режиссера Карана Джохара) или других фильмов с моральным выводом в конце?
Каким образом хеппи-энды соотносятся с новыми медийными дискурсами (реклама, самопомощь), которые вселяют в людей веру в осуществимость определенных жизненных моделей, способных принести счастье тем, кто ими воспользуется? Является ли эмоциональное счастье продуктом эскапизма, мечты о хеппи-энде из разряда «жили они долго и счастливо», или же оно в большей степени связано с традиционными общественными и семейными ценностями («за деньги счастья не купишь», «семья должна быть дружной и крепкой» и т. п.) и возникает как реакция на картину финального торжества оных на экране? Способна ли аудитория испытывать моральное и ситуативно-оценочное счастье одновременно с более простой его формой, возникающей непосредственно от иллюзии присутствия внутри демонстрируемых на экране успешных консюмеристских моделей существования? Существует ли в данном случае возможность своего рода «морального консюмеризма»? Остается неясным, являются ли фильмы проективной визуализацией мнимых или действительных зрительских желаний.
(2) Фильмы и моральный аспект. Как известно, фильмы могут транслировать зрителю систему морально-этических взглядов (что особенно характерно для жанра мелодрамы), однако никто до сих пор не анализировал морально-дидактический аспект содержания фильмов на хинди. Существует парадоксально большое число классических фильмов с эмоционально несчастливыми концовками, которые тем не менее служат для зрителя источниками счастья — морального и ситуативно-оценочного.
В социальном пространстве зрительской аудитории эмоции перемещаются в плоскость общественных ценностей, однако роль представлений о счастье в данном случае остается неопределенной. Оказывают ли размышления о счастье влияние на действия зрителей, заставляя их иначе проектировать собственное будущее в соответствии со «счастливыми» вариантами судеб персонажей фильмов? Способны ли фильмы предлагать зрителю те или иные жизненные модели? Судя по всему, определенную значимость в данном случае приобретают дискуссии, которые разворачиваются между зрителями вне рамок непосредственного просмотра фильмов, ведь «сплетенное» обсуждение мотивов киноперсонажей нередко строится вокруг вопросов этики, морали и счастья, выражаемого через представления об идеальной любви и красоте.
(3) Делают ли нас фильмы счастливее? Развлекательная составляющая для индийских фильмов является доминирующей. В этой связи неизбежно возникает вопрос о том, насколько счастливы зрители перед началом киносеанса и каким образом меняется их внутреннее состояние после его окончания. Как бы там ни было, зрителя завлекают в кинотеатр образы красивых звезд и легко запоминающиеся песни в их исполнении, и здесь счастье играет несомненную роль. Задача фильма — развлекать зрителя путем его эмоционального вовлечения в происходящее на экране. И хотя зрительская аудитория индийского фильма способна самостоятельно достраивать сюжет, ей больше нравится наблюдать за последовательным развитием действия, которое приводит к «хорошей» развязке.
Фильмы на хинди не в последнюю очередь призваны удовлетворять непосредственным потребительским запросам, равно как и служить источником фантазий сексуального плана. Однако наряду с этим они также постулируют общественные ценности, особенно в тех концовках, где подчеркивается важность любви и семьи, а также утверждается вера в непременное торжество справедливости, неподкупность любви, нерушимость традиций и неотъемлемость человеческих свобод. Такие прописные истины и принципы, основанные на здравом смысле, постоянно встречаются в книгах по самосовершенствованию и в многочисленных руководствах по обретению счастья; это свидетельствует о том, что именно они заставляют людей чувствовать себя счастливее. Мелодрама, как правило, заканчивается хеппи-эндом; однако каждый хеппи-энд — в зависимости от его особенностей — может провоцировать у зрителя ощущение счастья различного рода, от эмоционального до морального и ситуативно-оценочного.
Непосредственное удовольствие от просмотра находит продолжение в беседах о кино — от обсуждения этической проблематики того или иного фильма до простого разговора о персонажах и звездах. Подобным же образом нередко обсуждаются мелодраматические ситуации в семье и возможности построения новых отношений. Все эти дискуссии касаются переоценки ценностей в сложных (мелодраматических) жизненных ситуациях, причем в основном собеседники не сплетничают о различных (в первую очередь сексуальных) сторонах жизни звезд, а решают вопросы поиска счастья в жизни (Dwyer 2000b).
(4) Чему мы можем научиться, смотря фильмы? Находясь в кинозале, мы переживаем настоящие, пусть и чужие, эмоции. Зритель понимает: эти эмоции отличаются от тех, что он обычно испытывает в реальной жизни. Зритель понимает: это не «чувства его к персонажу», а «чувства, вызываемые персонажем», и способен видеть разницу. Тем не менее эти чувства очень важны, так как мы имеем возможность подумать о том, являются ли они с нашей стороны справедливыми, можем ли мы благодаря им что-то постигнуть, а также отвечает ли их переживание нашим интересам. Приятно ли нам испытывать хорошие эмоции, и радует ли нас осознание того, что мы их испытываем? Действительно ли кино (вероятно, наряду с другими видами искусства) предоставляет нам возможность скорее задуматься о счастье, нежели это счастье непосредственно испытать? Очевидно, те фильмы, концовки которых не служат для зрителя источником «эмоционального счастья», не предлагают ему утопической формулы «и жили они долго и счастливо», в гораздо большей степени позволяют представить действительную оценочную иерархию человеческого счастья.
В данной главе анализировалась группа доводов и положений относительно роли и значения эмоций как составляющих зрительского опыта. Кроме того, была также затронута проблема счастья в фильмах на хинди, причем особое внимание уделялось именно их концовкам, анализ которых позволяет, на мой взгляд, глубже разобраться в представлениях об идее счастья как таковой. Выделение различных видов счастья позволяет рассматривать моральную и этическую стороны содержания фильмов, что представляется особенно актуальным применительно к изучению мелодраматического жанра и причин его устойчивой популярности.
Поскольку фильмы на хинди в первую очередь ориентированы на индийского гражданина, их можно рассматривать как инструмент формирования и закрепления национального единства (Rajadhyaksha 2000). Роль эмоций в этом процессе требует дальнейших исследований. Эмоции персонажей подчас становятся своего рода мифологемами индийской массовой культуры (как в самой Индии, так и за ее пределами), подкрепляемыми эмоциональным ответом зрительской аудитории. Все это свидетельствует в пользу справедливости распространенной точки зрения о том, что публичная демонстрация и совместное переживание эмоций (особенно эмоций бурных, избыточных) являются неотъемлемыми и коренными составляющими «индийскости».
ЛИТЕРАТУРА
Adiga А. (2008). The white tiger. New York: Free Press.
Altieri Ch. (2003). The particulars of rapture: an aesthetics of the affects. Ithaca: Cornell University Press.
Ang I. (1985). Watching Dallas: soap opera and the melodramatic imagination. London: Routledge.
Argyle M. (2001). The psychology of happiness. 2nd ed. Orig. 1987. London: Routledge.
Arora P. (1997). Devdas: India’s emasculated hero, sado-masochism and colonialism // . Viewed 28 May 2004.
Averill J. R. (1980). A constructivist view of emotion // Emotion: Theory, research and experience: Vol. I. Theories of emotion / R. Plutchik and H. Kellerman (eds.). New York: Academic Press. P. 305–339. Reprinted in: Social psychology readings: A century of research / A. G. Halberstadt and S. L. Ellyson (eds.).New York: McGraw-Hill, 1990. P. 143–156.
Banaji S. (2006). Reading «Bollywood»: the young audience and Hindi films. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Ben-Sh. T. (2007). Happier. New York: McGraw Hill.
Beth S. (2007). Hindi Dalit autobiography: an exploration of identity // Modem Asian Studies. № 41 (3). P. 545–574.
Blackburn S. (2001). Being good: a short introduction to ethics. New York: Oxford University Press.
Brooks P. (1976, 1995). The melodramatic imagination: Balzac, Henry James, melodrama and the mode of excess. New Haven: Yale.
Caroll N. (1997). Art, narrative and emotion // Emotion and the arts / M. Hjort and S. Laver (eds.). Oxford: Clarendon Press. P. 190–211.
Cornelius R. R. (1995). The science of emotion: research and tradition in the psychology of emotion. London: Prentice-Hall.
Corrigan J. (2004). Religion and emotion: approaches and interpretations. New York: Oxford University Press.
Das G. (2009). The difficulty of being good: on the subtle art of dharma New Delhi: Penguin.
Derné S. (2000). Movies, masculinity, modernity: an ethnography of men’s filmgoing in India. Westport Conn.: Greenwood Press.
Divine passions: the social construction of emotion in India / L. Owen (ed.). Delhi: Oxford University Press, 1990.
Doniger W. (2004). The mythology of self-imitation in passing: race, gender and politics. The Henry Myers Annual Lecture, delivered at SOAS, 20 September.
Dwyer R. (2000a). All you want is money, all you need is love: sex and romance in modem India London: Cassell.
Dwyer R. (2000b). Shooting stars: the Indian film magazine Stardust // Pleasure and the nation: the history, consumption and politics of public culture in India / R. Dwyer and Ch. Pinney (eds.). Delhi: Oxford University Press. P. 247–285.
Dwyer R. (2002). Yash Chopra // World directors’ series. London: British Film Institute / Berkeley: University of California Press / New Delhi: Roli Books.
Dwyer R. (2004). Yeh shaadi nahin ho sakti! (This wedding cannot happen!) // (Un)tying the knot: ideal and reality in Asian marriage. (Asian Trends, 2) / G. W. Jones and K. Ramdas (eds.). Singapore: Asia Research Institute, National University of Singapore. P. 59–90.
Dwyer R. (2005). 100 Bollywood films. London: British Film Institute.
Dwyer R. (2006). Filming the gods: religion and Indian cinema London, New York and Delhi: Routledge.
Dwyer R. (2009). Ich mag es, wenn du zomig wirst: Amitabh Bachchan, Emotionen und Stars im Hindi-film. (I love you when you’re angry: Amitabh Bachchan, the star and emotion in the Hindi film.) // Fokus Bollywood: das indische Kino in wissenschaftlichen Diskursen / C. Tieber (ed.). Mbnster: Lit. Veriag. P. 99–115.
Dwyer R. (2010a). Bombay Gothic: 60 years of Mahal / The mansion, dir. Kamal Amrohi, 1949 // Beyond the boundaries of Bollywood: the many forms of Hindi cinema / R. Dwyer and J. Pinto (eds.). Delhi: Oxford University Press (forthcoming).
Dwyer R. (2010b). «Zara hatke!»: The new middle classes and the segmentation of Hindi cinema // India’s new middle classes / H. Donner and G. de Neve (eds.). (No further details.)
Dwyer R. and Patel D. (2002). Cinema India: the visual culture of the Hindi film. London: Reaktion / New Brunswick: Rutgers University Press / Delhi: Oxford University Press.
Dyer R. (1977). Entertainment and utopia // Movie. № 24. Spring. P. 2–13.
Dyer R. (1979). Stars. London: British Film Institute.
Dyer R. (1986). Heavenly bodies: film stars and society. London: British Film Institute.
Dyer R. (1998). Stars. Supplementaiy chapter by Paul McDonald. London: British Film Institute.
Ekman P. and Davidson R. J. (1994) The nature of emotion: fundamental questions. New York: Oxford University Press.
Ehrenriech B. (2010) Smile or die: how positive thinking fooled America and the world. London: Granta.
Ellis J. (1992). Visible fictions: cinema, television, video. London: Routledge. (First edition 1982).
Elsaesser Th. (1985). Tales of sound and fury: observations on the family melodrama // Nichols B. Movies and methods. Berkeley: University of California Press. Vol II. P. 165–189. Reprinted 1972.
Elster J. (1999). Alchemies of the mind: rationality and the emotions. Cambridge: Cambridge University Press.
Emotion and the arts / H. Mette and S. Laver (eds.). Oxford: Clarendon Press, 1997.
Evans D. (2001). Emotion: the science of sentiment. Oxford: Oxford University Press.
Faking it: the sentimentalisation of modern society / D. Anderson and P. Mullen (eds). London: Penguin, 1998.
Feagin S. L. (1983). The pleasures of tragedy // American Philosophical Quarterly. № 95. P. 104.
Fisher Ph. (2002). The vehement passions. Princeton: Princeton University Press.
Foley M. (2010). The age of absurdity: why modern life makes it hard to be happy. London: Simon h Schuster.
Frey W. H. (1985). Crying: the mystery of tears. Minneapolis: Winston Press.
Frijda N. H. (1986). The emotions. New York: Cambridge University Press.
Gandhi M. K. (1909, 1997). Hind swaraj and other writings / Ed. A. J. Parel. Cambridge: Cambridge University Press.
Gilbert D. (2006). Stumbling on happiness. London: Harper Collins.
Goldie P. (2000). The emotions: a philosophical exploration. Oxford: Clarendon Press.
Graham C. (2009). Happiness around the world: the paradox of happy peasants and miserable millionaires. Oxford: Oxford University Press.
Grodal T. (1997). Moving pictures: a new theory of film genres, feelings and cognition. New York: Oxford University Press.
Haidt J. (2007). The happiness hypothesis: putting ancient wisdom and philosophy to the test of modem science. London: Heinemann.
Home is where the heart is: studies in melodrama and the woman’s film / Ch. Gledhill (ed.). London: BFI Books, 1987.
Inden R. B. (1999). Transnational class, erotic arcadia and commercial utopia in Hindi films // Image journeys: audio-visual media and cultural change in India / Ch. Brosius and M. Butcher (eds.). New Delhi: Sage Publications, 1999. P 41–66.
Keen S. (2007). Empathy and the novel. New York: Oxford University Press.
Kuhn A. (2002). An everyday magic: cinema and cultural memory. London: I. B. Tauris.
Layard R. (2005). Happiness: lessons from a new science. London: Penguin.
Levinson J. (1982). Music and negative emotions // Pacific Philosophical Quarterly. № 63. P. 327–346.
Lutz C. A. (1988). Unnatural emotions: everyday sentiments on a Micronesian atoll and their challenge to western theory. Chicago: University of Chicago Press.
Lutz T. (2001). Crying: A natural and cultural history of tears. New York: W. W. Norton.
Mayne J. (1993). Cinema and spectatorship. London: Routledge.
McMahon D. (2007). The pursuit of happiness: A history from the Greeks to the present. London: Penguin.
Moldoveanu M. C. and Nohria N. (2002). Master passions: emotion, narrative and the development of culture. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Mukherjee M. (1985). Realism and reality: the novel and society in India Delhi: Oxford University Press.
Mulvey L. (1977/8). Notes on Sirk and melodrama // Movie. Winter. P. 53–56.
Nandy A. (1988). The intimate enemy: loss and recovery of self under colonialism. Delhi: Oxford University Press [1983].
Nandy A. (2000). Invitation to an antique death: the journey of Pramathesh Barua as the origin of the terribly effeminate, maudlin, self-destructive heroes of Indian cinema // Pleasure and the nation: the history, politics and consumption of public culture in India / R. Dwyer and Ch. Pinney (eds.). Delhi: Oxford University Press. P. 139–160.
Narayan B. (2001). Documenting dissent: contesting fables, contested memories and Dalit political discourse. Shimla: Institute of Advanced Study.
Neale S. (1986). Melodrama and tears// Screen. № 27 (6). P. 6–22.
Neil A. (1996). Empathy and (film) fiction // Post-theory: reconstructing film studies / D. Bordwell and N. Carroll (eds.). Wisconsin: University of Wisconsin Press. P. 175–194.
Ngai S. (2005). Ugly feelings. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Oakley J. (1992). Morality and the emotions. London: Routledge.
Oatley K. (6 Johnson-Laird P. N. (1987). Towards a cognitive theory of emotions // Cognition a Emotion. № 1. P 29–50.
Oatley K. and Jenkins J. M. (1996). Understanding emotions. Oxford: Black-well Publishers.
Parrott W. (2001). Emotions in Social Psychology. Philadelphia: Psychology Press.
Pinney Ch. (1997). Camera indica: the social life of Indian photographs. London: Reaktion Books.
Prasad M. M. (1998). Ideology of the Hindi film: a historical construction. Delhi: Oxford University Press.
Rajadhyaksha A. (2000). Viewership and democracy in the cinema // Making meaning in Indian cinema / R. Vasudevan (ed.). Delhi: Oxford University Press. P. 267–296.
Robinson J. (2005). Deeper than reason: emotion and its role in literature, music and art. New York: Oxford University Press.
Schoch R. (2006). The secrets of happiness: three thousand years of searching for the good life. New York: Scribner.
Sinha M. (1995). Colonial masculinity: the «manly Englishman» and the «effeminate Bengali» in the late nineteenth century. Manchester: Manchester University Press.
Smith M. (1995). Engaging characters: fiction, emotion and the cinema Oxford: Clarendon Press.
Solomon R. C. (1993). The passions: emotions and the meaning of life. London: Hackett Publishing CO.
Solomon R. C. (2004a). In defense of sentimentality. New York: Oxford University Press.
Srinivas S. V. (1996). Devotion and defiance in fan activity // Journal of Arts and Ideas. № 29. P. 66–83.
Stacey J. (1993). Star gazing: Hollywood cinema and female spectatorship. London: Routledge.
Staiger J. (2000). Perverse spectators: the practices of film reception. New York: New York University Press.
Thinking about feeling: contemporary philosophers on emotions / R. C. Solomon (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2004 (b).
Thomas R. (1995). Melodrama and the negotiation of morality in mainstream Hindi film // Consuming modernity: public culture in a South Asian world. C. Breckenridge (ed.). Minneapolis and London: University of Minnesota Press. P. 157–182.
Tidrick K. (2006). Gandhi: a political and spiritual life. London: I. B. Tauris.
Vasudevan R. (1989). The melodramatic mode and commercial Hindi cinema // Screen. № 30 (3). P. 29–50.
Vasudevan R. (1998). Sexuality and the film apparatus: continuity, noncontinuity, discontinuity in Bombay cinema // A question of silence? The sexual economies of modem India / M. E. John and J. Nair (eds). New Delhi: Kali for Women: 192–215.
Weiner B. a Graham S. (1984). An attributional approach to emotional development // Emotions, cognition, and behavior / C. E. Izard, J. Kagan & R. B. Zajonc (eds.) New York: Cambridge University Press. P. 167–191.
Well-being: the foundations of hedonic psychology / D. Kahneman, E. Diener and N. Schwarz (eds.). New York: Russell Sage Foundation Publications, 2003.
Williams L. (2009, orig 1998). Melodrama revised // Emotions: a cultural study reader / J. Harding and E. D. Pribram (eds.). London: Routledge. P. 336–350.
Wollheim R. (1999). On the emotions. London: Yale University Press.
______________________
______________
Рэйчел Дуаер[464]Примечания
1
См., напр.: Graham С. Happiness Around the World; the Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires. New York: Oxford University Press, 2009; Gilbert D. Stumbling on happiness. New York: Vintage Books, 2007; Lane R. The loss of happiness in market democracies. New Haven: Yale University Press, 2000; Nettle D. Happiness: the science behind your smile. Oxford: Oxford University Press, 2005; Diener E., Oishi S. Money and happiness: Income and subjective well — being across nations // Culture and subjective well — being / E. Diener & E. M. Suh (Eds.). Cambridge, MA MIT Press, 2000. P. 185–218; Haybron D. M. What do we want from a theory of happiness? // Metaphilosophy. 2003. № 34. P. 305–329; Gerson E. M. On quality of life // American Sociological Review. 1976. № 41. P. 793–806.
(обратно)2
Среди «инаугурационных» статей первого выпуска этого журнала отметим: Fumham A., Cheng Н. Lay theories of happiness; Diener E., Lucas R. E. Explaining Differences in Societal Levels of Happiness: Relative Standards, Need Fulfillment, Culture, and Evaluation Theory; Lane R. Diminishing returns to income, companionship — and happiness // Journal of Happiness Studies. 2000. № 2. P. 227–246; 2000. № 1. P. 41–78 и 103–119.
(обратно)3
Veenhoven R. Wbrld database of happiness, distributional findings in nations, Erasmus University Rotterdam (2010) // ; Diener E., Diener M. Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem // Social Indicators Research Series. 2009/ № 38. P. 71–91.
(обратно)4
-releases/2000–2009/2006/07/nparticle.2006–07–28.2448323827; White A. G. A Global Projection of Subjective Well-being: A Challenge To Positive Psychology? // Psychtalk. 2007. № 56. P. 17–20.
(обратно)5
Матвеева И., Михайлова H., Михайлова Н. Качество жизни — новая цивилизационная парадигма // Стандарты и качество. 2000 № 5. С. 56–61; Нугаев P. M., Нугаев М. А. Теории качества жизни в современной западной социологии // Социологические исследования. 2003. № 6. С. 100–105; Бойцов Б. В., Крянев Ю. В., Кузнецов М. А. Системная целостность качества жизни // Стандарты и качество. 1999. № 5. С. 19–23; Лига М. Б. Качество жизни. Индикаторы качества жизни (социальные). Современная энциклопедия социальной работы / Под ред. академика РАН В. И. Жукова. 2-е изд., доп. и перераб. РГСУ, 200К. Аргайл М. Психология счастья. М.: Прогресс, 1990.
(обратно)6
Petrified utopia. Happiness Soviet style / M. Balina, E. Dobrenko (eds). London: Anthem Press, 2009.
(обратно)7
Гельвеций. Счастье. Поэма / Пер. и вступ. ст. М. А. Дынника. М.: Художественная литература, 1936.
(обратно)8
Город с именем Счастье один // Счастьенский вариант: Альманах. Луганск: Глобус, 2007. С. 4–5; Было ли Счастье Ковалинкой? Род Ковалинских в документах Харькова и Ростова // Счастьенский вариант III: Альманах. Луганск. 2009. С. 6–9.
(обратно)9
Прошлое веков стучится в сердце к нам. Где живет счастье? // Счастьенский вариант III: Альманах. Луганск. 2009. С. 5.
(обратно)10
Foucault М. Of Other Spaces // Diacritics. № 16. Spring 1986. P. 22–27.
(обратно)11
Только главы М. Золотухиной и М. Сапожниковой были добавлены позже. О выставке см.: Соснина О. А. Топография счастья: Русская свадьба. Конец XIX — начало XXI в. М., 2009. Бюро Прогресс-88. Выставка прошла в ГМЗ «Царицыно» с 24 июля по 27 октября 2009 г., куратор и автор концепции проекта О. А. Соснина.
(обратно)12
Габдрахманов П. Ш. Имя и счастье в средневековой Фландрии // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 4 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. М.: ОГИ, 2002. С. XX.
(обратно)13
Свенцицкая И. С. Счастье и горе у древних греков // Казус. 2002. С. 16.
(обратно)14
Frey В. S., Stutzer A. Happiness Prospers in Democracy // Journal of Happiness Studies. 2000. № 1. P. 79–102; Veenhoven R. Apparent quality — of — life in nations: How long and happy people live // Social Indicators Research. 2005. № 71. P. 61–86.
(обратно)15
Кошелева О. Е. Ракурсы «щастья» в России XVII–XVIII веков // Казус. 2002. С. 108–117.
(обратно)16
Марков А. В. Повесть о Горе-Злосчастии // Живая старина. 1913. С. 17–24.
(обратно)17
См.: Бессмертный Ю. Л. «Заметки о счастье и несчастье», а также материалы уже цитированного спецвыпуска о счастье альманаха «Казус» (Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 4).
(обратно)18
McMahon D. Happiness: a history. New York: Grove Press. О философском дискурсе см.: White N. A brief history of happiness. Oxford: Blackwell, 2006.
(обратно)19
Локк цитирует Библию: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор 2:9).
(обратно)20
Локк Дж. «Опыт о Человеческом Разумении» // Соч. Т. 1. М.: АН СССР. Институт философии / Мысль, 1985. С. 308–309.
(обратно)21
Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Соч. Т. 2. М.: АН СССР. Институт философии / Мысль, 1991. С. 74.
(обратно)22
Olson S. P. The Oregon Trail: A Primary Source History of the Route to the American West. New York: Rosen Publishing Group, 2004.
(обратно)23
Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч. Т. 3. М.: АН СССР. Институт философии / Мысль, 1988. С. 290.
(обратно)24
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Т. 1. [1845] // Соч. 2-е изд. М., 1955. С. 31.
(обратно)25
The Crisis, or the Change from Error and Misery to Truth and Happiness / Ed. by R. Owen, R. D. Owen. London: J. Eamonson, 1832.
(обратно)26
McMahon D. Happiness: a history. NY: Grove Press. P. 262.
(обратно)27
Siskind J. To Hunt in the Morning. Oxford: Oxford University Press, 1975.
(обратно)28
Hannerz U. Notes on the Global Ecumene // Public Culture. № 1 (2). Spring 1989. P. 66–75.
(обратно)29
Appadurai A. Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a Transnational Anthropology // Recapturing Anthropology. Satnta Fe: School of American Research, 1991. P. 191–210.
(обратно)30
Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. С. 74.
(обратно)31
Lane R. Diminishing returns to income, companionship — and happiness // Journal of Happiness Studies. 2000. Vol. 1. P. 103–119; Kashdan T. B., Breen W. E. (2007). Materialism and diminished well-being: Experiential avoidance as a mediating mechanism // Journal of Social and Clinical Psychology. № 26. P. 521–539.
(обратно)32
См.: Massumi B. Parables for the virtual: Movement, Affect, Sensation. Durham and London: Duke University Press, 2002.
(обратно)33
Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. С. 47.
(обратно)34
Deleuze G., Guattari F. A Thousand Plateaus. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987. P. 10.
(обратно)35
Владимир Познер. Мой первый рубль // .
(обратно)36
См. о роли выигрыша и победы в жизни и идентичности американцев: Winning D. F. Reflections on an American Obsession. Princeton: Princeton University Press, 2011.
(обратно)37
Филиппов А. Гетеротопология родных просторов // Отечественные записки. 2002. № 6/7. С. 48–62.
(обратно)38
Большая советская энциклопедия: В 30 т. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978; цит. по: /çкниги/БСЭ/çСч.
(обратно)39
Там же.
(обратно)40
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 31. С. 492.
(обратно)41
См. об этом: Ssorin-Chaikov N. The Social Life of the State in Sub — Arctic Siberia Stanford: Stanford University Press, 2003; Ссорин-Чайков H. B. (2011). От изобретения традиции к этнографии государства: Подкаменная Тунгуска, 1920-е годы // Журнал исследований социальной политики. 2011. Т. 9. № 1. С. 7–44.
(обратно)42
Соснина О., Ссорин-Чайков Н. Постсоциализм как хронотоп: постсоветская публика на выставке «Дары вождям» // Неприкосновенный запас. 2009. № 2 (64). С. 207–226.
(обратно)43
См.: Larkin В. Signal and Noise: Media Infrastructure and Urban Culture in Nigeria Durham and London: Duke University Press, 2008.
(обратно)44
Об авторе: окончил исторический факультет МГУ, кафедру этнографии (1987), имеет степень доктора философии (PhD) по антропологии Стенфордского университета (1998). Работает научным сотрудником и преподавателем в университете Кембриджа, кафедра социальной антропологии. Сфера научных интересов: этнография государства, обмена и эстетики, постсоциализм, сравнительная антропология империй, антропологическая теория, этнографические методы. Проводил полевые исследования в Сибири, а также других регионах России, в США и Великобритании. Автор монографии «The Social Life of the State in Sub-Arctic Siberia» (Stanford, 2003). Куратор выставочного проекта «Дары вождям» (Музеи Кремля, 2006).
E-mail: ns267@cam.ac.uk
(обратно)45
Akerlof G. A., Shiller R. J. Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism. Princeton University Press, 2009.
(обратно)46
Frey B. S. Happiness. A revolution in economics. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2008.
(обратно)47
Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1991. Т. 2. С. 47.
(обратно)48
См., напр.: Capitalism = Happiness? // Mudita Journal. July 30, 2006. .
(обратно)49
Interrante J. The Road to Autopia: The Automobile and the Spatial Transformation of American Culture // The Automobile and American Culture / D. L. Lewis, L. Goldstein (eds.). Ann Arbor: University of Michigan Press, 1983. P. 89–104.
(обратно)50
Ross M. Age of the Automobile. Social Trends in the United States, 1900 1930 // The Survey Graphic. 1933. Vol. XXII. № 1. P. 5 10.
(обратно)51
Flink J. The Automobile Age. Cambridge, Mass: MIT Press, 1988.
(обратно)52
Berger M. L. The Devil Wagon in God’s Country: The Automobile and Social Change in Rural America, 1893–1929. Hamden, CT: Archon Books, 1979.
(обратно)53
Rae J. B. The Road and the Car in American Life. Cambridge, MA MIT Press, 1971.
(обратно)54
Jakle J. A., Sculle K. A. Fast Food: Roadside Restaurants in the Automobile Age. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999; Jakle J. A., Sculle K. A., Rogers J. S. The Motel in America Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.
(обратно)55
Edensor T. Automobility and National Identity: Representation, Geography and Driving Practice // Automobilities / Ed. by M. Featherstone, N. Thrift and J. Urry. London: Sage, 2004. P. 101–120.
(обратно)56
Seiler С. Republic of Drivers: A Cultural History of Automobility in America Chicago, IL, University of Chicago Press, 2008. P. 2–3.
(обратно)57
См.: Rieger B. The «Good German» Goes Global: the Volkswagen Beetle as an Icon in the Federal Republic // History Workshop Journal. 2009. № 68. P. 3–26.
(обратно)58
Rubin E. The Trabant: Consumption, Eigen-Sinn, and Movement // History Workshop Journal. 2009. № 68. P. 27–44.
(обратно)59
Справедливости ради отметим, что туризм был массовым явлением в СССР и до начала автомобилизации. Многие люди устремлялись в походы; отдых «дикарем» (в палатке или снятой у частника комнаты), спортивный туризм и иные не-автомобильные путешествия пользовались большой популярностью.
(обратно)60
Это одно из неожидаемых последствий сделки между государством и автовладельцами, дополнительная возможность социальной и психологической ниши, развития и пополнения мужских связей. Начиная с послешкольных автомотокружков, организованных комсомолом и имевших продолжение в армии, подростки-мальчики и юноши учили основы автомеханики и получали навыки вождения, привязываясь не только к машинам, но и к своим сверстникам, развивая навыки «технической маскулинной социабельности». Дворы, аллеи, тротуары и другие ранее гендерно нейтральные пространства подходили в основном для маскулинных видов деятельности, связанных с ремонтом автомобилей и разговорами о них. Строились гаражи и целые гаражные кооперативы. Эти небольшие помещения, обставленные старыми стульями, а иногда обогревателями и кушеткой, становились и местом празднований, где можно выпить водки и закусить колбасой и соленым огурчиком. Изучив автомеханику, сыновья инициировались в эти коллективности и их ритуалы, входили в мужские «тайные общества». См.: Siegelbaum L. Cars for comrades. The life of the Soviet automobile. Ithaca: Cornell University Press, 2008. P. 247, 248.
(обратно)61
Nettleton N. Driving towards communist consumerism. AvtoVAZ // Cahiers du monde russe. № 47/1–2. — Repenser le Degel, 2006.
(обратно)62
См. напр.: Boehm St. et al. Part One: Conceptualizing Automobility // Sociological Review. 2006. Vol. 54. № 1. P. 1.
(обратно)63
Урри Дж. Социология за пределами обществ. Мобильности двадцать первого столетия // Социологическое обозрение. Т. 1. 2001. № 1. С. 33.
(обратно)64
См. Siegelbaum L. Cars for comrades. The life of the Soviet automobile. Ithaca: Cornell University Press, 2008; см. также: Кононенко P., Ярскоя-Смирнова E. Автомобиль — не роскошь, а средство десоветизации // Социологический журнал. 2009. № 4.
(обратно)65
История пошлин на иномарки в России // Ъ-Власть. 03.02.10. .
(обратно)66
Ильин В. И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность // Мир России. 2005. № 2. С. 27–28.
(обратно)67
См.: Anderson К. Liberal Capitalism: The Will to Happiness // Policy. Summer 2007. %2007–08/anderson_summer07.html.
(обратно)68
См.: Brooks A. C. Gross National Happiness. Why Happiness Matters for America — and How We Can Get More of It. Basic Books, 2008.
(обратно)69
Murray Ch. The Pursuit of Happiness under Socialism and Capitalism // Cato Journal., 1992. September 1. Tuesday. P. 257.
(обратно)70
Murray Ch. The Pursuit of Happiness under Socialism and Capitalism // Cato Journal. 1992. September 1. Tuesday. P. 240.
(обратно)71
Мигдисова С., Петренко Е. 1994. Молодым респондентам для полного счастья значительно чаще нужны деньги на покупку квартиры, чем на что-то иное // Фонд «Общественное мнение». Всероссийский опрос городского и сельского населения. Июль 1994 года. 1281 респондент. 12.08.1994. .
(обратно)72
Гладарев Б. С., Цинман Ж. М. Потребительские стили петербургского среднего класса: из экономики дефицита к новому быту // Экономическая социология. Т. 8. Май 2007. № 3. С. 75.
(обратно)73
Здесь и далее: орфография и пунктуация высказываний участников форума на портале Drive2.ru.
(обратно)74
По данным этого опроса, с 1994 по 2007 год число домохозяйств, в которых имеется автомобиль, выросло на 10,3 % (с 21,5 % до 31,8 %).
(обратно)75
Mises L., von. The Anti-Capitalistic Mentality. A socio-psychological study of anti-market bias. Princeton, N.J.: D. Van Nostrand, 1956; Цит. no: Idem. Capitalism, Happiness, and Beauty // The Free Market. Vol. 24. August 2004. № 8. .
(обратно)76
См.: Brooks А. С. Gross National Happiness. Why Happiness Matters for America — and How We Can Get More of It. Basic Books, 2008.
(обратно)77
См.: Lloyd R. Capitalism vs. Socialism: Happiness Could Care Less Live Science 06 July 2009. -ds-life-satisfaction.html.
(обратно)78
Урри Дж. Социология за пределами обществ. Мобильности двадцать первого столетия // Социологическое обозрение. Т. 1. 2001. № 1. С. 29.
(обратно)79
Шонина Л. От стереотипа к слогану: образ автомобиля в рекламе // .
(обратно)80
См.: Foucault М. Govemmentality // The Foucault Effect: Studies in Governmentality / Ed. G. Burchell, C. Gordon, P Miller. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 87–104.
(обратно)81
Кессиди Дж. Экономика: какой путь выберет Обама? Рец. на кн.: R. H. Thaler, C. R. Sunstein. Nudge: Improving Decisions about Health, Wfealth, and Happiness. New Haven, CT: Yale University Press, 2008, 293 p. // Пушкин. Журнал рецензий. 08.12.08. -kakoj-put-vyberet-Obama.
(обратно)82
Binkley S. Govemmentality and Lifestyle Studies 11 Sociology Compass. July 2007. -compass.com/subject/sociology/article_view?article_id=soco_articles_bpl011.
(обратно)83
Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты / Пер. с нем. Кузнецова. М.: Медиум, 1997. С. 153–154.
(обратно)84
Титов С. День зачатия стал днем трезвости. Ульяновский губернатор выступил с новым почином // Коммерсантъ. № 153 (3970). 28.08.2008.
(обратно)85
См. об этом: Радаев В. В. Социология потребления: основные подходы // Социологические исследования. 2005. № 1. С. 13.
(обратно)86
Яблочкин Ф. Н. Реклама: производство желания и стратегии власти // Виртуальное пространство культуры. Мат-лы науч. конф. 11–13 апреля 2000 г. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. С. 126–130. С. 129.
(обратно)87
Shove Е. Consuming Automobility. A discussion paper, Project Scenesustech. Scenarios for a sustainable society: car transport systems and the sociology of embedded technologies. Employment Research Centre. Department of Sociology, Trinity College Dublin. Dublin, 1998.
(обратно)88
Хоркхаймер М., Адорно T. B. Диалектика просвещения. С. 151.
(обратно)89
См., напр.: Koshar R. Cars and Nations. Anglo-German Perspectives on Automobility between the World Wars // Theory, Culture a Society. 2004. Vol. 21. № 4–5. P. 121–144.
(обратно)90
Diekstra R., Kroon M. Cars and behaviour; psychological barriers to fuel efficiency and sustainable transport. University of Leiden, 1996.
(обратно)91
Honda угадывает желания // .
(обратно)92
Шонина Л. От стереотипа к слогану: образ автомобиля в рекламе // .
(обратно)93
Твои желания обалдевают от твоих возможностей // . 28.03.2008.
(обратно)94
Рассохина И. Б. Объект желания в рекламе. Гендерный аспект // Виртуальное пространство культуры. Мат-лы науч. конф. С. 146–147.
(обратно)95
Николаева Т. Автомобиль в городской развлекательной культуре // Город развлечений — наблюдения, анализы, сюжеты. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. С. 168–183.
(обратно)96
Shukin N. The Mimetics of Mobile Mapital // S. Bohm, C. Jones (eds) Against Aitomobility. Malden, Oxford: Blackwell Publishing, 2006. P. 150–174.
(обратно)97
Цвет автомобиля — ваш характер // Студия художественной аэрографии и дизайна, %202.html. Орфография и синтаксис сохранены.
(обратно)98
Гоббс Т. Левиафан. С.74.
(обратно)99
Гладарев Б. С., Цинман Ж. М. Потребительские стили петербургского среднего класса: из экономики дефицита к новому быту. С. 76.
(обратно)100
См.: Радаев В. В. Социология потребления: основные подходы // Социологические исследования. 2005. № 1. С. 8.
(обратно)101
Rubin Е. The Trabant: Consumption, Eigen-Sinn, and Movement // History Workshop Journal. 2009. № 68. P. 27–44.
(обратно)102
Шумакова Е. Опрос населения. Автомобиль в жизни россиян // База данных ФОМ. . 05.06.2008.
(обратно)103
Mises L., von. The Anti-Capitalistic Mentality; см. также: Idem. Capitalism, Happiness, and Beauty.
(обратно)104
Gilbert D. Stumbling on Happiness. Knopf, 2006.
(обратно)105
Шонина Л. От стереотипа к слогану: образ автомобиля в рекламе.
(обратно)106
Shove Е. Consuming Automobility.
(обратно)107
Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. С. 194.
(обратно)108
См.: Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки // Вестник Московского университета. Серия 7. философия. № 3. 2003. С. 20–39.
(обратно)109
Urry J. Inhabiting the Car // Department of Sociology, Lancaster University, 2002. .
(обратно)110
Кнорр-Цетина К. Социальность и объекты. Социальные отношения в постсоциальных обществах знания // Социология вещей / Под ред. В. Вахштайна. М.: Территория Будущего, 2006. С. 267.
(обратно)111
Urry J. Inhabiting the Car.
(обратно)112
Ibid.
(обратно)113
Litman T. Mobility as a Positional good: implications for transport Policy and Planning // Car Troubles. Critical Studies of Automobility and Auto-Mobility / Edited by J. Conley and AT. McLaren. Famham, Surrey: Ashgate Publishing, 2009. P. 199–218.
(обратно)114
Две трети (64 %) российских автовладельцев ездят на отечественных машинах, при этом большинство из этих машин подержанные и реже (около 14 %) новые. Иномарками владеет 41 % россиян, наибольшее их количество приходится на владельцев в Москве и Санкт-Петербурге ().
(обратно)115
Копытофф И. Культурная биография вещей: товаризация как процесс // Социология вещей. С. 137.
(обратно)116
Русаков М. Ю. Автомобиль-олдтаймер как средство самовыражения его владельца // Социологический сб. М., 2000. Вып. 7. С. 188.
(обратно)117
Харре Р. Материальные объекты в социальных мирах // Социология вещей. С. 122–123.
(обратно)118
Kriznar N. Visual symbols of national identity: Slovene bumper stickers and the collective Unconscious // Visual Studies. 1993. Vol. 8. № 1. P. 58–63.
(обратно)119
См., напр.: Полиция безопасности Латвии комментирует «список оккупантов» // Regnum. . 05.02.2010.
(обратно)120
Об авторе: социолог, социальный антрополог. Место работы: Научно-исследовательский университет Высшая школа экономики, факультет социологии, кафедра общей социологии. Темы исследований: автомобильность, социальный капитал, фольклорное движение, дауншифтинг.
E-mail: kononenko-rv@mail.ru; Rkononenko@hse.ru
(обратно)121
Речь идет о передаче «Люди и деньги» на радиостанции «Эхо Москвы».
(обратно)122
Steams P. N. Defining Happy Childhoods: Assessing a Recent Change // The Journal of the History of Childhood and Youth. Vol. 3. № 2. Spring 2010. P. 165.
(обратно)123
Richman A. L., Miller P. M., Solomon M. J. The Socialization of Infants in Suburban Boston// R.A LeVine, P. M. Moiller, H. M. West (Eds.). Parental Behavior in Diverse Societies. San Francisco. 1988. P. 65–74. См. также: Strauss С. The Culture Concept and the Individualism-Collectivism Debate: Dominant and Alternative Attributions for Class in the United States // Culture, Thought and Development / L. P. Nucci, G. B. Saze, E. Turiel (Eds.). Mahwah, 2000. P. 85–114.
(обратно)124
См., напр., Rogoff В. The Cultural Nature of Human Development. N.Y., 2003; прекрасный обзор разных подходов к изучению детства предложен в кн.: Воососк. S.S., Scott К. А. Kids in Context: The Sociological Study of Children and Childhoods. Lanham, 2005. P. 6–48.
(обратно)125
См., напр.: Радаев В. В. Еще раз о предмете экономической социологии // Социологические исследования. 2002. № 7.
(обратно)126
Зелизер В. Социокультурное значение денег. М., 2004.
(обратно)127
Zelizer V. Pricing the Priceless Child: Changing Social Value of Children. Princeton. 1985.
(обратно)128
Idem. The Price and Value of Children // Economic lives: How Culture Shapes the Economy. Princeton, 2011. P. 44–47.
(обратно)129
Gordon L. The Perils of Innocence, or What’s Wrong with Putting Children First. The Journal of the History of Childhood and Youth. Vol. 1. № 3. Fall 2008. P. 331.
(обратно)130
В частности: Зарубина H. H. Деньги в социальной коммуникации // Социологические исследования. 2006. № 6. С. 3–12.
(обратно)131
Абрамова С. Б. Деньги как социальная ценность: поколенческий срез проблемы // Социологические исследования. 2000. № 7. С. 37–41.
(обратно)132
Тюхтенева С. П. Даем много денег // Этнографическое обозрение. 2009. № 2 (Специальная тема номера «Антропология денег». Отв. ред. С. Тюхтенева).
(обратно)133
Зарубина Н. Н. Деньги как социокультурный феномен: пределы функциональности // Социологические исследования. 2005. № 7. С. 13–21.
(обратно)134
Махлина С. Т. Семиотика культуры повседневности. СПб., 2009. С. 188.
(обратно)135
.
(обратно)136
См.: Hart К. Notes towards an Anthropology of Money // Kritikos. Vol. 2. 2005. June 20.
(обратно)137
Oliveri R. G. Looking at money in America // Critique of Anthropology. Vol. 18. № 1. P. 35–39.
(обратно)138
Russell W., Waldendoif B. M. The Sacred Meanings of Money // Journal of Economic Psychology. Vol. 11. March 1990. P. 35–67.
(обратно)139
Weatherford J. The History of Money. NY, 1997.
(обратно)140
Zeliier V. Kids and Commerce. Childhood in American Society / Ed. by K. Stemheimer. Boston, 2011. P. 377.
(обратно)141
Lino M. Expenditures on Children by Families: 2001 Annual Report. US Department of Agriculture, Center for National Policy and Promotion. Misc. Publication. № 1528–2001.
(обратно)142
The Wall Street Journal. 2010. June 19.
(обратно)143
Подробнее о стоимости и цене материнства см.: Crittenden A. The Price of Motherhood. NY, 2001; Avellar S., Smock P. J. Has the price of motherhood declined over time? A cross-cohort comparison of the motherhood wage penalty // Journal of Marriage and Family. Vol. 65. 2003. P. 597–607.
(обратно)144
Shellenberger S. Managing the Expectations of Costly Kids // The Wall Street Journal. 2010. Sept. 14.
(обратно)145
Longman Ph. J. The Cost of Children. US News ad World Report. 1998. March 30. P. 31.
(обратно)146
Подробнее см.: Zelizer V. From Baby Farms to Baby M. // Economic Lives: How Culture Shapes the Economy. Princeton, NJ., 2011. P. 61–72.
(обратно)147
Подробнее о конфликтующих ролях для родителей см.: Hewlett S. A., West С. The War Against Parents // Childhood lost: How American Culture is Failing our kids / Ed. by O. Sh. Westport. CT. 2005. P. 66.
(обратно)148
Gordon L. Op. cit. P. 331.
(обратно)149
More than 1 in 5 kids live in poverty // Loz Szabo. USA Today. 2010. June 4.
(обратно)150
«Solve this». NPR Radio. 2012 Oct. 15.
(обратно)151
См. также: Осколкова О. Б. Бедные дети богатой Америки // Социологические исследования. 2003. № 2. С. 78–86.
(обратно)152
Roverson D. A Beautiful Bundle of Bills // Baystate Parent. March 2009. P. 32.
(обратно)153
Qvortrup J. A Voice for Children in Statistical and Social Accounting // Constructing and Reconstructing Childhood / A. James, A Prout (eds.). L., 1990.
(обратно)154
Nomaguch K. M.i, Milkie M. A. Costs and Rewards of Children: The Effect of Becoming a Parent on Adults Lives // Journal of Marriage and Family. 2003. № 65. P. 356–374.
(обратно)155
Caplan В. The Breeder’s Cup // WSJ. 2010. June 19.
(обратно)156
См., напр.: Children Bound to Labour // The Pauper-Apprentice System in Early America / R. W. Herndon, Murray J. E. (eds.). Ithaca, NY, 2009.
(обратно)157
Zelizer V. From Child Labor to Child Work: Redefining the Economic World of Children // Children in American society: a reader / Ed. by K. Sterheimer. Boston, 2011. P. 5–18.
(обратно)158
Lee Y.-S., Schneider S., White L. Children and Housework: some Unanswered Questions // Sociological Studies of Children and Youth 2003. № 9. P. 105–125.
(обратно)159
Valenzuela A. Gender Roles and Settlement A;tivities Among Children and Their Immigrant Families // Childhood in American Society… P. 228–231.
(обратно)160
Athavaley A. How Tough Times Yield Model Children // The Wall Street Journal. 2009. Nov 3.
(обратно)161
Wattu С. Baby Showers // Baystate Parent. March 2009. P. 29.
(обратно)162
Etiquette Check%. We Had the Baby, Please Send Cash // The Wall Street Journal. 2009. May 27.
(обратно)163
Earle A. M. Child Life in Colonial Days. 1899. Reprinted Berkshire House Publishers. MA 1993. P. 397.
(обратно)164
The Mother’s Book by Mrs. L. Marie Child. Boston, 1831. Reprinted. P. 12.
(обратно)165
«The March of Dimes» изначально предложил президент Ф. Д. Рузвельт для сбора средств на борьбу с полиомиелитом; со временем он превратился в благотворительный проект, направленный на различные проблемы, связанные с дефектами при рождении и проч. «Quarters» шли на борьбу с лейкемией.
(обратно)166
Clark C. D. Flight Toward Maturity: the Tooth Fairy // Childhood in American Society: A Reader / Ed by K. Stemheimer. Boston, 2011. P. 355–364.
(обратно)167
Они очень любимы и российскими авторами, см. переводы К. Чуковского, С. Маршака, В. Левина и др.
(обратно)168
Best Loved Nursery Rhymes and Songs Parents Magazine. 1973.
(обратно)169
Brown M. Arthur’s Pet Business. 1990.
(обратно)170
Polacco P. Uncle Vbva’s Tree — Silver Dollar. 1989.
(обратно)171
Polacco P. Chicken Sunday. 1992.
(обратно)172
Hoban R. A Bargain for Frances. 1970.
(обратно)173
Brandenberg F. Leo and Emily’s Zoo. 1988.
(обратно)174
Hall D. Ох-cart Man. 1979.
(обратно)175
Viorsi J. Alexander Who Used to be Rich Last Sunday. Atheneum, 1987.
(обратно)176
Berenstein S. and J. The Berenstain Bears Get the Gimmes. 1988; The Berenstein Bears’ Trouble with Money. 1983; The Berenstain Bears and Mama’s New Job. 1984.
(обратно)177
.
(обратно)178
Lieber R. Too Young to Finance. Think Again. The New York Times. 2011. Aug 15. Правда, авторы давно существующей специальной программы для дошкольников () были недовольны.
(обратно)179
Kissell С. Teaching kids about cash: whose job is it. 2012. Oct. 3; -finance.
(обратно)180
.
(обратно)181
Scott K. A. In girls, out girls, and always Black: African-American Girls Friendships // Sociological Studies of Children and Youth. Vol. 9. P. 397–414.
(обратно)182
Nasaw D. Children of the City. NY, 1985.
(обратно)183
New York Times. 2001. Jan. 20.
(обратно)184
.
(обратно)185
Strauss E. Grades 1–2. Reading Activities. 1998. P. 37.
(обратно)186
Iggulden C. and I. Iggulden. The Dangerous Book for Boys. N.Y., 2007. P. 191–193.
(обратно)187
Susan Beacham, .
(обратно)188
, .
(обратно)189
McNeal J.U. The Kids Market. Ithaca, NY, 1999. P. 69, 71.
(обратно)190
.
(обратно)191
Interview with J. Chatzky. Today show // American Institute of CPAs Report. 2012. Oct. 11.
(обратно)192
Haas-Dosher M. M. What Experts Say About Allowances for Children. University Credit Union. .
(обратно)193
Sisolak P. How to Wean your Kids off Allowance and Still Help them Save // -account.
(обратно)194
Leslie. H. As the Twig is Bent. NY, 1940. C. 39.
(обратно)195
Op.cit. C. 111.
(обратно)196
Op.cit. C. 174.
(обратно)197
Op. cit. C. 17.
(обратно)198
Fuктhams A., Argyle M. The Psychology of Money. L., 1998.
(обратно)199
.
(обратно)200
Setka H. When it Comes to Parenting, Money is the Last Taboa 2012. Oct. 12. .
(обратно)201
Передача «Today», телеканал NBC. 2012. Oct 11.
(обратно)202
Rafter M. Boomerang Kids are OK? I I The Wall Street Journal. 2012. Oct. 22.
(обратно)203
When to Kick your Kids out of the House, and other Financial Lessons for Parents // The Wall Street Journal. 2005. Oct. 19.
(обратно)204
См. комментарии к ст.: Green К. When Kids Return Home // The Wall Street Journal. 2012. Aug. 17.
(обратно)205
Bodnar J. Dollars and Sense for Kids. Kiplinger. 1999.
(обратно)206
Zelizer V. A. Kids and Commerce // Childhood in American Society. P. 369.
(обратно)207
David Riley, профессор человеческой экологии из Университета Висконсина; цит. по: Has-Dosher М. Op. cit.
(обратно)208
Рекомендации Дэвида МакКурры, автора популярного сайта о деньгах, детях и родителях: .
(обратно)209
Nathan A. The Kids Allowance Book. NY. 1998.
(обратно)210
Handler C. S. Banishing Bribes. Parents. March 1998. P. 80.
(обратно)211
Pearl J. A. Kids and Money: Giving them the Savvy to Succeed Financially. Bloomberg, 1999.
(обратно)212
.
(обратно)213
American Institue of CPAs…
(обратно)214
.
(обратно)215
Godfrey N. S. The Ultimate Kids’ Money Book.
(обратно)216
Meindersma S. Ticket Your Kids for all Those Household Violations // Baystate Parent. January 2009. P. 11.
(обратно)217
Ripley A. Should kids be bribed to do well in school // ; De Baca S. Paying for Grades: what to consider before promising your kids cash for A’s // .
(обратно)218
American Institute of CPAs…
(обратно)219
Making Kids Money Savvy: Try These Financial Tricks // The Wall Street Journal. 2008. March 5. P. D1.
(обратно)220
Kansas D. Give the Gift of Learning to Save // The Wall Street Journal. 2009. Nov. 29.
(обратно)221
.
(обратно)222
www.сnn/magazines/moneymag/money-101/lesson 12.
(обратно)223
Bedway B. Fiscal Fitness for Teens. Summer 2001. P. 4–5.
(обратно)224
Danes Sh. Т., Dunrud T. Children and Money Series. Teaching children money habits for life. University of Minn, 2008 // .
(обратно)225
-literacy.
(обратно)226
Elium D, Elium J. Raising a Son. Parents and The Making of a Healthy Man. Berkeley, 1996. P. 228.
(обратно)227
Clements J. Want to be smarter with your money? Here’s how // WSJ. 2004. October 18.
(обратно)228
Marte J. How to Give Children the Gift of Investing // WSJ. 2010. Nov. 28.
(обратно)229
Greenshields D. Skip the Toys: the Case for Giving Kids Stock. 2010. Dec 2. Reuters, .
(обратно)230
Lewis M. Next. NY, 2001.
(обратно)231
Clements H. Life as a Financial Guinea Pig // WSJ. 2004. Oct. 18.
(обратно)232
Schlosser E. Fast Food Nation. NY. 2002.
(обратно)233
Linn S. The Commercialization of Childhood // Childhood lost: How American culture is failing our kids / Ed. by Sh. Olfman, C. T. Westport. 2005. P. 107.
(обратно)234
Kapur J. Coining for capital: movies, marketing and the transformations of childhood. Piscataway, NJ., 2005.
(обратно)235
Weisser C. Spa treatments for kids — Bonding with Mom or over-pampering // The Wall Street Journal. 2008. July 10.
(обратно)236
Девичье Разведывательное Агентство (перифраз ЦРУ) в 2000-е годы платило 40 тыс. долл. своим «агентам» в возрасте от 8 до 18 лет — в виде пробных товаров, чтобы они выясняли предпочтения своих сверстниц. Есть и небольшая организация «GirlCaught», пытающаяся этому противостоять. .
(обратно)237
Zelizer V.A.The Priceless Child is turning twenty Seven // The Journal of the History of Childhood and Youth. Vol. 5. № 3. Fall 2012. P. 449.
(обратно)238
Boocock. S.S., Scott K. A. Kids in Context: The Sociological Study of Children and Childhoods. Lanham, 2005. P. 4.
(обратно)239
Center for a New American Dream «Facts about Marketing to Children» // .
(обратно)240
Williams C. L. Kids in Toyland // Childhood in American Society: A reader. P. 381.
(обратно)241
Kline S. Out of the Garden: Toys, TV, and Children’s Culture in the Age of Marketing. NY, 1993.
(обратно)242
Dagher V. Save Your Clients from Raising Brats. // WSJ. Feb. 8, 2013.
(обратно)243
.
(обратно)244
Bodnar J. Dollars and Sense for Kids.
(обратно)245
Feller. B. Family Inc. // WSJ. Feb. 10, 2013.
(обратно)246
.
(обратно)247
Hohenstein S. Allowances for Children, .
(обратно)248
Yoder S. K., Yoder L., Yoder I. Girls vs. Boys: The Great Money Divide // WSJ. 2010. April 4.
(обратно)249
Zelizer V. A. Kids and Commerce // Childhood. № 9. P. 387.
(обратно)250
Подробный антропологический анализ практик афроамериканских девочек содержится в: Chin Е. Purchasing Power. Black Kids and American Consumer Culture. Minneapolis, 2001.
(обратно)251
Zelizer V. A. Kids and Commerce // Childhood in American Society. P. 368.
(обратно)252
Forman-Brunell M. Babysitter: An American History. NYU Press, 2010.
(обратно)253
Opdyke J. Should I Make My 13-Year-Old Get A Job // WSJ. 2010. Aug. 8.
(обратно)254
Scorr L., Scott J. Alex and the lemonade stand. Paje, 111. 2004.
(обратно)255
Moore D. Kids Sell the Darndest Things. The Debate Over Student Fund Raising // Ann Arbor Family. Sept. 2000. P. 60.
(обратно)256
Gamerman E. Inconvenient Youths // WSJ. Sept. 29. P. Wl.
(обратно)257
Opdyke J. D. Who’s the Boss. Sorry, Kids, it isn’t You // WSJ. 2010. Nov. 28.
(обратно)258
Soronew J. Santa Needs a Bailout: Kids Sell Old Toys to Raise Cash for New Ones // WSJ. 2008. Dec 12.
(обратно)259
Benedetti M. Preserving Childhood Innocence. How to Keep the Crass and Commercial from Corrupting your Child // Metro Parent. April 2003. P. 19.
(обратно)260
Rowley L. How to Talk to Your Kids about the Economic Crisis // .
(обратно)261
Settersten R. A. Jr., Ray B. What’s Going On with Young People Today & The Long and Twisting Path to Adulthood // The Future of Children. Transition to Adulthood. Vol. 20. № 1. Spring 2010.
(обратно)262
Schellenburger S. Is Buying Your Kid a Car Going Too Far // WSJ. 2009. July 8.
(обратно)263
Mintz S. Huck’s Raft. A History of American Childhood. 2004. P. 348.
(обратно)264
Belk R.W., Walendorf M. The Sacred Meanings of Money // Journal of Economic Psychology. Vol. 11. March 1990. P. 55–67.
(обратно)265
.
(обратно)266
Opdyke У. 0.15 Money Rules Kids Should Learn from Piggybanking: Preparing Your Financial Life For Your Kids and Your Kids For a Financial Life // WSJ. 2010. March 28.
(обратно)267
Parental Attitudes to Pocket Money / Allowances for Children // Journal of Economic Psychology. Vol. 22. Issue 3. June 2001. P. 397–422.
(обратно)268
Об авторе: кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии и социальной антропологии Московского государственного университета дизайна и технологии. Окончила кафедру новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, потом аспирантуру в Институте этнологии и антропологии Российской Академии наук (по диссертации опубликована книга «Мир американской семьи», 1999). Сфера интересов включает историю и социальную антропологию детства и семьи в США; повседневность; советское и российское детство; этничность в различных проявлениях, устная история. Проблематика исследований: социализация, формирование и передача ценностей, повседневные практики, множественная идентичность.
E-mail: maria.zolotukliina@yahoo.com
(обратно)269
.
(обратно)270
В работах православно ориентированных «сектоведов» компания «Гербалайф» выступает в качестве классического образца «коммерческого культа» (Дворкин 2000).
(обратно)271
См., напр., материалы анти-МЛМ сайта: .
(обратно)272
Голенкова, Игитханян 2008: 4–5.
(обратно)273
См., напр.: Verdery 1991: 429.
(обратно)274
Основанием для внутренней иерархии служит объем произведенного дистрибьютором и его сетью ежемесячного товарооборота. На основании этих показателей были разработаны обозначения уровней достижения (перечисляются в порядке возрастания): 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, 15 %, 18 %, 21 %, Серебряный, Золотой, Платиновый, Рубиновый, Жемчужный, Сапфировый, Изумрудный, Бриллиантовый, Двойной Бриллиантовый, Тройной Бриллиантовый, Коронованный, Посланник Короны и др.
(обратно)275
В нормативной документации компании дистрибьюторов принято называть «независимыми предпринимателями „Амвэй“», сокращенно НПА (от англ. Independent Business Owner, IBO).
(обратно)276
«И вот активности просто нет — не знаешь, ради чего. Ну, просто так идти, даже никакого спортивного интереса. Потому что какой-то опыт есть небольшой, ну он есть… работы в сетевой компании. И просто узнать, что это такое, уже не интересно. Хочется как-то, чтобы работать по системе, так сказать. Вот весь уперся вопрос конкретно по Амвэю у меня… Вот цели… у меня нет целей, которые меня движут в бизнесе» (Ж, 52 года, 6 %).
(обратно)277
О значении образов в формировании идентичности см., напр.: Ушакин 1998: 115–119.
(обратно)278
В данном случае существенно и то обстоятельство, что достигнутый уровень указывает только на объем товарооборота сети, а не на размер дохода предпринимателя. Величина финансового вознаграждения будет зависеть от сложной конфигурации элементов «построенной» сети (соотношения ее «ширины», т. е. количества рекрутированных продавцов в «первом поколении», к «глубине», т. е. количеству «поколений» в каждой из «ветвей/ног») и колебаться в довольно ощутимом диапазоне. Так, согласно бизнес-плану компании, заработок 21-процентника может составлять от 20 до 60 тыс. руб., но только при условии «хорошей ширины» (не менее трех «ног»); в противном случае нижняя граница этой суммы может опуститься вплоть до нуля.
(обратно)279
В рассуждениях, которые, заметим, имеют характер именно личных размышлений авторов, ограниченных сферой «задушевной беседы» с собирателем и вряд ли воспроизводимых в более публичной обстановке (например, в общении со своими партнерами, выступлениях на сцене и проч.).
(обратно)280
В своей самой наглядной форме подобный обмен проявляется в совете «сетевых» экспертов формулировать свои мечты так, как будто они уже произошли. Ср. запись в альбоме мечты: «Я достигла уровня бриллианта в 2014 — к 60-летию своего рождения. У нас есть у каждого автомашина, квартира в новом доме» (Ж, 54 года, 21 %).
(обратно)281
В компании «Амвэй» существуют три типа семинаров: 1. Уикенд-семинары (Weekend Seminars, WES), о них пойдет речь в статье; 2. Семинары построения бизнеса (Business Built Seminars, BBS); главная составляющая таких встреч — обучение, передача навыков по построению сетей и рекрутированию продавцов; 3. Лидерские семинары, предусмотренные для дистрибьюторов, занимающих средние и высшие позиции в сетевой иерархии (от 21 % и выше).
(обратно)282
Об авторе: специальность — культурная антропология. Место работы: МАЭ РАН (Кунсткамера); Темы исследований: антропология организаций, нетрадиционная медицина, Нью-Эйдж.
E-mail: dtereshina@gmail.com
(обратно)283
Режиссер Станислав Ростоцкий, 1968 г.
(обратно)284
Такую перестройку показывает Анна Тёмкина на примере постсоветских сценариев брака и сексуальности (Тёмкина 2008).
(обратно)285
Я позволю себе пользоваться англоязычным термином Self, поскольку его непереводимость на русский язык есть часть предмета, обсуждаемого в этой статье. Аналитически апеллируя к этому феномену, я буду использовать различные понятия, принятые в современном российском дискурсе социальных наук: субъективность и персональность, самость, Я и даже личность.
(обратно)286
В оригинале: «the combination of the ways a culture becomes „preoccupied“ with certain emotions and devises specific „techniques“ — linguistic, scientific, ritual — to apprehend them. An emotional style is established when a new „interpersonal imagination“ is formulated, that is, a new way of thinking about the relationship of self to other, imagining its potentialities and implementing them in practice» (Illouz 2008:14–15).
(обратно)287
Об этом соотношении пишет Михаил Эпштейн, давая обратное прочтение первой фразы романа Толстого (Эпштейн 2009).
(обратно)288
Премьера в Михайловском театре Санкт-Петербурга в июне 2009 г.
(обратно)289
Многочисленными экранизациями романа и их отношением друг к другу и к оригиналу занимается Ирина Маковеева (Makoveeva 2001), однако ее анализ фокусируется на вариантах визуализации романа, а не на потенциально заложенных в тексте возможностях разного понимания личности, чувств и морали.
(обратно)290
См., напр., анализ Анны Музы постановки «Анны Карениной» во МХАТе 1937 года, который обнаруживает, как искусство интерпретации может превратить историю страсти и измены в аристократическом обществе в поучительный рассказ советского соцреализма (Muza 2009).
(обратно)291
Интервью с Т. Друбич в «Комсомольской правде» от 26.04.2007.
(обратно)292
Речь идет не о психологии как дисциплине вообще, включающей разные подходы и течения, и не о психоаналитической теории, а о том преломлении, которое доминантная послевоенная лостфрейдистская психология получает в институтах массовой культуры, медиа и терапии.
(обратно)293
Как это показала уже в своей классической книге Арли Хокшилд (Hochschild 1983).
(обратно)294
См. пример обсуждения такой критики на секции медицинской антропологии на годовом конгрессе Американской антропологической ассоциации в 2008 году: А. А. А. (2008) Invited Session by Society for Medical Anthropology and Society for Psychological Anthropology on «Integrating „local“ and „western“ psychotherapies: prospects for Disciplinary and Clinical Collaboration»: Smith-Moriss C. Cultural Competency in Tribal Health Care; Sargent C. and Larchanche-Kim S. «Cultural Difference» and models of mental health for migrant populations in France; Gone J. Psychotherapy and Traditional Healing in American Indian Cultural Contexts: a comparison of Ethnotherapeutic Paradigms; Luhrmann T. M. Possessed by the Devil: Christian Psychotherapy; Pandolfo S. Psychiatric Practice and Theological Reason. Moroccan Clinical Encounters in the Aftermath of Culture and Global Health; Lester R. J. Anorexia treatment and local theories of Mind: Mexico and the US; Cohen L. Discussion. Annual Meeting of the American Anthropological Association. San Francisco, November 2008.
(обратно)295
Слово и понятие «самость» широко использовалось в русской философской и публицистической литературе XVIII–XIX веков, хотя его языковая нормативность спорна, и поэтому это слово не включено во многие словари.
(обратно)296
Смещением в значениях понятия «работа над собой» в переходе от толстовского к советскому и постсоветскому дискурсам я занимаюсь в другом месте (Lerner 2009).
(обратно)297
См., напр., интерпретацию Лидии Гинзбург (Гинзбург 1999).
(обратно)298
Важным дополнением к этим ключевым словам может служить понятие «характер», которое причудливыми путями может заменять каждое из них. «Характер» имеет иную дискурсивную природу, он привносит важный аспект «биологической натуральности» в понимание субъекта, и поэтому я позволю себе оставить это понятие за рамками данного рассуждения.
(обратно)299
В своей работе я называю такой перевод «социологизацией русскости» (Lerner 2007).
(обратно)300
См. анализ интерпретации прошлого через новые медиажанры (Ousha-kine 2007).
(обратно)301
Режиссер Авдотья Смирнова, 2006 г.
(обратно)302
Об авторе: PhD, антрополог; преподаватель кафедры социологии и антропологии Университета им. Бен-Гуриона в Негеве и научный сотрудник института Ван-Лир в Иерусалиме. Родилась и выросла в Ленинграде. В 2007 г. в Иерусалимском университете (HUJI) защитила с отличием докторскую диссертацию на тему становления нового социального знания в России («From „Soul“ to „Identity“: The constitution of the social sciences in post-Soviet Russia and the Sociologization of Russianness»). Научные интересы — в области антропологии мигрантов и миграции знания. Занимается формами и продуктами кросс-культурного перевода, как в постсоветском поле, так и в русском поле Израиля. В своих последних исследованиях обращается к анализу терапевтического дискурса в современной российской культуре, а также изучает язык новой русской религиозности в Израиле. Публикуется как на русском и английском языках, так и на иврите.
E-mail: juhaler@bgu.ac.il
(обратно)**
Цитата из интервью.
(обратно)304
Юрчак А. Поздний социализм и последнее советское поколение // Неприкосновенный запас. 2007. № 2 (52). С. 81–98.
(обратно)305
Чуйкина С. Дворянская память: «бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920–30-е годы). СПб: ЕУСПб, 2006; Эткинд А. Время сравнивать камни. Постреволюционная культура политической скорби в современной России // Ab imperio. 2004. № 2. С. 51–52; McKinney К. «Breaking the Conspiracy of Silence»: Testimony, Traumatic Memory, and Psychotherapy with Survivors of Political Violence / Ethos. Vol. 35. № 3. Sep. 2007; Walke A. Jüdische Partisaninnen. Der verschwiegene Widerstand in der Sowjetunion. Berlin: Dietz, 2007; и др.
(обратно)306
См.: Соснина О., Ссорин-Чайков Н. Постсоциализм как хронотоп: постсоветская публика на выставке «Дары вождям» // Неприкосновенный запас. 2009. № 2 (64); Фирсов Б. М. Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы. СПб: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге: Европейский дом, 2008.; и др.
(обратно)307
См. работы, упомянутые в сноске 4 /В файле — примечание № 305 — прим. верст./.
(обратно)308
См. там же.
(обратно)309
Этап строительства БАМа 1970–1980-х годов не предполагал использования труда заключенных в отличие от начального этапа (1930–1940-х).
(обратно)310
Так, например, в одном из интервью рассказывалось о семейной паре, которая приехала на БАМ днем, а вечерним поездом отправилась обратно.
(обратно)311
Воронина Т. Память о БАМе. Тематические доминанты в биографических интервью с бывшими строителями // Неприкосновенный запас. 2009. № 2Е(64) С. 77–78.
(обратно)312
Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2/3 (40/41). С. 8–12.
(обратно)313
См., напр.: McKinney К. «Breaking the Conspiracy of Silence». P. 265–299, Walke A. Jüdische Partisaninnen.
(обратно)314
Чуйкина С. Дворянская память: «бывшие» в советском городе. С. 211.
(обратно)315
Цитата из интервью.
(обратно)316
Берг М. Без оправдания. Коммунистическая утопия: жизнь после смерти. Доклад на конгрессе в Берлине. «„The Post-Communist Condition“. Искусство и культура после распада Восточного блока», 2004. /˝2 (дата цитирования 28.09.09).
(обратно)317
Manach J. Teoria de la frontera Puetro Rico: Editorial Universitaria, 1970. P. 55. Цит. по: Берг М. Без оправдания.
(обратно)318
Травина Е. Ностальгия по настоящему // Нева. 2009. № 11.
(обратно)319
Имеется в виду теоретическая разработка первых систематизированных представлений о коммунистическом образе жизни, которая опирается на идеологию гуманизма XVI–XVII веков (Т. Мор, Т. Кампанелла) и французского Просвещения XVIII века (Морелли, Г. Мабли).
(обратно)320
Энгельс Ф. Принципы коммунизма // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1985. Т. 3. С. 122.
(обратно)321
Филиппов А. Ф. Гетеротопология родных просторов // Отечественные записки. 2002. № 6. С. 50.
(обратно)322
Соснина О., Ссорин-Чойков Н. Постсоциализм как хронотоп: постсоветская публика на выставке «Дары вождям». С. 208–209.
(обратно)323
Там же.
(обратно)324
Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» // Неприкосновенный запас. 2005. № 2/3 (40/41). С. 42.
(обратно)325
Об авторе: социолог, к.с.н., научный сотрудник Центра независимых социологических исследований, член редколлегии «Laboratorium. Журнал социальных исследований». Имеет многолетний опыт исследований советского общества, позднесоветской повседневности. Также в исследовательские интересы входят социология и антропология права, исследования справедливости, социология критической способности, социология села. С 2009 г. координирует деятельность исследовательской группы «Общество и право» в ЦНСИ. В последние годы реализованы исследовательские проекты: «Жалобы Путину: правовая реформа и (ре)конструирование альтернативной системы решения проблем в современной России»; «Обращения как форма и средство политической коммуникации в позднесоветской России» (совместно с Университетом Билефельда, Германия); «Повышение доступности правосудия для малоимущих групп населения Российской Федерации» (совместно с Институтом публичной политики, Москва).
E-mail: bogdanovanova@gmail.com
(обратно)326
Об авторе: старший научный сотрудник Института полярных исследований им. Скотта и Колледжа Клэр-Холл (Кембриджский университет) в области социальной антропологии. Занимается исследованиями в области антропологии детства и молодости. В настоящее время руководит двумя международными проектами, рассматривающими концепции миграции и юношеской социализации на Аляске и в Сибири. Оба проекта осуществляются в сотрудничестве с коллегами из Университета Аляски Фэйрбенкс и Массачусетского университета (США). Автор научно-исследовательской монографии «Narrating the Future in Siberia: Childhood, Adolescence and Autobiography among Young Eveny» (Oxford: Berghahn) и одна из составителей сборника «Animism in Rainforest and Tundra: Personhood, Animals, Plants and Things in Contemporary Amazonia and Siberia» (Oxford, New York: Berghahn Books).
E-mail: ou202@cam.ac.uk
(обратно)327
Нора П., Озуф М., де Пюимеж Ж., Винок М. Франция-память. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1999.
(обратно)328
Зенкин С. Жан Бодрийяр: время симулякров // Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2009. С. 28; Ушакин С. Вместо утраты: материализация памяти и герменевтика боли в провинциальной России // Травмапункты: Сб статей / Сост. С. Ушакин, Е. Трубина. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 332; Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. с франц. Н. Автономовой. М.: Высшая школа, 1996. С. 239.
(обратно)329
Зенкин С. Жан Бодрийяр: время симулякров. С. 30.
(обратно)330
Там же. С. 27.
(обратно)331
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2009.
(обратно)332
Анализ выстраивания отношений с советским прошлым посредством метонимических или метафорических переносов см. в: Ушакин С. Бывшее в употреблении: постсоветское состояние как форма афазии // НЛО. 2009. № 100. С. 760–793. Вариантом анализа различных отношений с советским прошлым, специфики выстраивания множества топосов этих отношений является статья: Соснина О., Ссорин-Чайков Н. Постсоциализм как хронотоп: постсоветская публика на выставке «Дары вождям» // Неприкосновенный запас. 2009. № 2 (64).
(обратно)333
Agamben G. The men without content. Stanford California Press, 1999. P. 104.
(обратно)334
Глущенко И. Общепит. Микоян и советская кухня. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. С. 216–217.
(обратно)335
См., напр.: Глебкин В. Ритуал в советской культуре. М.: Янус-К, 1998.
(обратно)336
Янкелевич В. Ирония. Прощение. М.: Республика. 2004, 335 с.
(обратно)337
Hobsbawm E. Introduction: Inventing Tradition // The Invention of Tradition / E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 4.
(обратно)338
Фильм и фотографии с корпоративных праздников в советской стилистике из архива А. Рыбаковой.
(обратно)339
Барт Р. Миф сегодня. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
(обратно)340
Сайт СКБ-банка — .
(обратно)341
Как бабки СКБ-банку заработать помогли. Деловой квартал. 26.11.2007. -babki-skbbanku-zarabotat-pomogli-236585783.
(обратно)342
Как бабки СКБ-банку заработать помогли. Деловой квартал. 26.11.2007.
(обратно)343
Как бабки СКБ-банку заработать помогли. Деловой квартал. 26.11.2007.
(обратно)344
Реклама СКБ-банка признана народной, .
(обратно)345
Барт Р. Миф сегодня; Кайуа Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры. М.: ОГИ, 2007.
(обратно)346
Екатеринбургский СКБ-банк рассказал, почему использует жаргонизмы в своей рекламе, — так делает «Наша Russia». 25.11.08 11:03. NR2.ru: .
(обратно)347
Екатеринбургский СКБ-банк рассказал…
(обратно)348
Екатеринбургский СКБ-банк рассказал…
(обратно)349
Екатеринбургский СКБ-банк рассказал…
(обратно)350
Янкелевич В. Ирония. Прощение.
(обратно)351
В разделе «Реклама компании „СтарТехно“» цитируется интервью с Владимиром Типикиным (собственность авторов).
(обратно)352
Там же.
(обратно)353
(Пискунова Л.) Об авторе: кандидат философских наук, доцент философского факультета Уральского госуниверситета. Окончила исторический факультет МГУ имени Н. П. Огарева, кафедра всеобщей истории (1989). Сфера научных интересов: экономическая антропология, антропология города, философия рекламы, социокультурные механизмы потребительских практик.
E-mail: lppiskunova@gmail.com.
(Янков И.) Об авторе: кандидат философских наук, доцент кафедры общегуманитарных дисциплин Уральской государственной консерватории. Окончил исторический факультет Кустанайского пединститута (1990). Сфера научных интересов: нарративные механизмы освоения исторического опыта, миф и ритуал в структурировании социальности, места памяти на постсоветском пространстве.
E-mail: iyankov@yandex.ru.
(обратно)354
Некоторые авторы, выражая не только свое мнение, пишут, что образ «изобретенных традиций» превратился в общее место в дискурсе социальных дисциплин. Вот как это формулирует один французский этнолог, сам, кстати сказать, применяющий подход Хобсбаума (Hobsbawm 1983): «Ссылка на сборник Хобсбаума и Рэйнджера (или просто реверанс в их сторону?) превратилась в обязательный атрибут большинства антропологических статей, посвященных вопросам этничности и культурного сдвига, где все становится „изобретенным“ (даже вина Бордо) и даже „воображенным“» (Babadzan 2000: 151).
(обратно)355
О новых ритуалах времен Второй русской революции можно прочесть в книге Б. И. Колоницкого (Колоницкий 2001).
(обратно)356
Следует отметить, что в Латвийской и Эстонской ССР опыты по созданию «безрелигиозной обрядности» начались несколько ранее — с 1956 года. Эти республики служили своеобразными полигонами по испытанию новых обрядов жизненного цикла, особенно серединных, т. е. соотносимых с инициацией. Что объясняется довольно просто: в этих республиках большинство верующих составляли лютеране, и к ним можно было применить идеи социалистического ритуального творчества, выработанные в ГДР в первые годы ее существования. См.: Ramet 2000: 127.
(обратно)357
В 1959 году подобные дискуссии были проведены в «Известиях» и ленинградской комсомольской «Смене».
(обратно)358
Или еще яснее: «Как известно, обряды складывались веками. Они были связаны с важнейшими событиями жизни — вступлением в брак, рождением ребенка, сменой времен года и т. д., они пронизывали все стороны быта, влияли на мораль, вкусы, мироощущение людей. Все это не могло не привлечь внимания церковников. Стремлением человека отмечать важные события жизни воспользовалась церковь, которая все основные этапы в жизни человека — рождение, совершеннолетие, брак, смерть — облекла в форму религиозных ритуалов, тем самым подчиняя сознание и волю людей религиозному мировоззрению» (Руднев 1974: 8).
(обратно)359
Об антирелигиозной кампании конца 1950-х — начала 1960-х годов см. подробнее: Шкаровский 1999; Чумаченко 1999.
(обратно)360
Подобные материалы рассылались в виде циркуляров и откладывались в архивах чиновников, отвечающих за контроль над религиозной жизнью в республиках и областях СССР. В данной работе я цитирую документы уполномоченного по делам Русской православной церкви в Северо-Осетинской АССР, хранящиеся в Архиве Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований. Доклад Христофорова — Ф. 1. Оп. 9. Д. 51. Л. 129–134.
(обратно)361
Ср. описание московских свадеб того периода: Field 2007: 99–100.
(обратно)362
Архив СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 9. Д. 51. Л. 40–41.
(обратно)363
Об авторе: окончил исторический факультет СПбГУ, кафедру археологии (1993), аспирантскую программу Европейского университета в Санкт-Петербурге (1999). Имеет степень кандидата исторических наук (2002, РГГУ). Старший научный сотрудник в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге, факультет антропологии. Сфера научных интересов: антропологические и исторические исследования религии, вопросов этничности и национализма. Проводил полевые исследования в Сибири, на северо-западе Европейской части России и в Северной Осетии. Соредактор сборников статей «Мифология и повседневность: гендерный подход в антропологических дисциплинах» (СПб., 2001) и «Сны Богородицы. Исследования по антропологии религии» (СПб., 2006). Автор монографии «Предания об иноземном нашествии: крестьянский нарратив и мифология ландшафта» (СПб.: Наука, 2012).
E-mail: shtyr@eu.spb.ru
(обратно)364
Из материалов интернет-сайта А. Сургаева: -vybrat-svadebnogo-fotografa.
(обратно)365
Выставка экспонировалась в июне — октябре 2009 года в 23 залах Хлебного дома и включала 268 разнообразных экспонатов из музеев и частных коллекций России.
(обратно)366
Топография счастья: русская свадьба. Конец XIX — начало XX века. Каталог выставки в Музее-заповеднике «Царицыно». Автор-сост. О. А. Соснина. М.: Бюро «Прогресс-88», 2009.
(обратно)367
Жирнова Г. В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем. По материалам городов средней полосы РСФСР. М.: Наука, 1980; Громов Д. В. Посещение достопримечательностей как часть современного свадебного обряда // Традиционная культура. Научный альманах. 2008. № 2 (30). С. 28–39; Бойцова О. Роль фотографии в современном городском свадебном обряде // Визуальные аспекты культуры: Новые взгляды на социальную реальность. Саратов: Научная книга, 2007. ; Матлин М. Г. Свадебный обряд // Современный городской фольклор. М.: Изд-во РГГУ, 2003. С. 370–390.
М. Г. Матлин, исследователь из Ульяновска, предоставил для выставочного проекта «Топография счастья…» свои фотографии и авторские тексты о «замках счастья» — фрагменты его неопубликованной работы, посвященной этому новому тренду свадебного ритуала 2000-х годов. См. каталог выставки «Топография счастья: русская свадьба. Конец XIX — начало XX века» / Автор-сост. О. А. Соснина. М.: Бюро «Прогресс-88», 2009. С.173.
(обратно)368
McDowell J. (1974) Soviet Civil Ceremonies // Journal for the Scientific Study of Religion. № 13.3. P. 265–279; SontagS. (1977) On Photography. NY: Farrar, Straus and Giroux; Bell C. (1992) Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford University Press; Hollywood A. (2002); Adrian B. (2004) The Camera’s Positioning: Brides, Grooms, and Their Photographers in Taipei’s Bridal Industry // Ethos. Vol. 32.2. P. 140–163; Colchester C. Clothing the Pacific. Oxford: Berg, 2003, 215 p.; Wedding Dress across Cultures / H. B. Foster and D. C. Johnson, eds. Oxford: Berg, 2003, 227 p.
(обратно)369
Фотографии были отсняты и прокомментированы А. В. Туровским, преподавателем кафедры этнологии и этнографии МГУ им. М. В. Ломоносова, и студентами этой кафедры: Д. Опариным, В. Клименко, М. Кочерженко, С. Бассэль, А. Чупис, М. Перстневой, В. Андриенко. Эти фотографии стали основой большого раздела выставки «Современные свадебные обряды и игры». Многие из них опубликованы в одноименном разделе каталога, а также в разделах «Свадебные достопримечательности России» и «Памяти предков» (см. указ. издание «Топография счастья: русская свадьба…»).
(обратно)370
Паоло Хейвуд — автор видеосюжета, демонстрировавшегося на выставке, и статьи в каталоге: Хейвуд П. Интернет-сваха // Топография счастья: русская свадьба. С. 26–28.
(обратно)371
Приношу свою искреннюю благодарность Анне Григорьевой, аспирантке кафедры социальной антропологии Кембриджского университета, которая, работая «в поле» летом 2008 года, изучила рынок свадебных услуг в современной Москве и помогла мне найти и отобрать интересные материалы, представленные на выставке. Ее университетская диссертация «Ritual professionals in postsocialist weddings in Moscow» исследует работу служителей ритуала — сотрудников государственных учреждений (ЗАГС) и свадебных фотографов, отдельные интервью с которыми я использую в данной публикации.
(обратно)372
Статья М. Фуко, озаглавленная «Des Espace Autres» и основанная на материалах лекции «Of Other Spaces / Heterotopias» (1967), опубликована во французском журнале «Architecture / Mouvement / Continuite» в октябре 1984 года. Она не вошла в библиографию его работ и была опубликована в Интернете незадолго до его смерти. Перевод О. С. с английского варианта Jay Miskowiec. См. о гетеротопии: .
(обратно)373
«As for the heterotopias as such, how can they be described? What meaning do they have? We might imagine a sort of systematic description — I do not say a science because the term is too galvanized now — that would, in a given society, take as its object the study, analysis, description, and ‘reading’ (as some like to say nowadays) of these different spaces, of these other places. As a sort of simultaneously mythic and real contestation of the space in which we live, this description could be called heterotopology… In other words, we do not live in a kind of void, inside of which we could place individuals and things. We do not live inside a void that could be colored with diverse shades of light, we live inside a set of relations that delineates sites which are irreducible to one another and absolutely not superimposable on one another». (Foucault M. Of Other Spaces / Heterotopias. P. 59).
(обратно)374
Громов Д. В. Указ. соч.; Матлин М. Г. Указ. соч.; Бойцова О. Указ. соч.
(обратно)375
Цит. по кн. Брагина Н. Г. Память в языке и культуре. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 96. Книга, посвященная концепту «память», — наиболее целостное и полное исследование этого центрального конструкта в языке и культуре, существующее в современной лингвистике на русском языке.
(обратно)376
Нора П. Проблематика мест памяти. О памяти столько говорят только потому, что ее больше нет // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок (ред.). СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1999. С. 17–50, 38.
(обратно)377
Там же. С. 17.
(обратно)378
См. статью Энди Байфорда «„Счастье за морем — за океаном“: русские жены на Западе», автор которой, исследовав взаимоотношения в русско-английских семьях, анализирует феномен поиска счастья за рубежом (в: Топография счастья: русская свадьба. С. 28–30).
(обратно)379
Интернет-сайт К. Кузьмина: -foto.com/index.php?p=16.
(обратно)380
Из электронной версии статьи журналиста Светланы Плешаковой «Купидон экономит. К чему приводят „магические“ цифры», предоставленной автору настоящей статьи. Неполная версия опубликована в газете «Московский комсомолец» от 10 сентября 2009 г.
(обратно)381
Из электронной версии статьи… Светланы Плешаковой…
(обратно)382
Там же.
(обратно)383
Из интервью Анны Григорьевой. Москва, июль 2008 г.
(обратно)384
Окунева Д., Важдаева Н., Цой Н. Ах, эта свадьба… Как современные молодожены шокируют работников ЗАГСов // Новые известия. 5 сентября 2008.
(обратно)385
Там же.
(обратно)386
Окунева Д., Важдаева Н., Цой Н. Ах, эта свадьба… Как современные молодожены шокируют работников ЗАГСов // Новые известия. 5 сентября 2008.
(обратно)387
Там же.
(обратно)388
Из электронной версии статьи С. Плешаковой «Купидон экономит. К чему приводят „магические“ цифры».
(обратно)389
Там же.
(обратно)390
Из рекламного текста фотографа А. Сургаева.
(обратно)391
Там же.
(обратно)392
Из рекламного текста одного из московских свадебных фотографов на сайте: /6/1/.
(обратно)393
Из рекламного текста А. Сургаева.
(обратно)394
Из интервью Анны Григорьевой. Москва, июль 2008 г.
(обратно)395
Сайты этого свадебного фотографа многочисленны, текст, который я использую в статье, размещен на сайте: -foto.com/index.php?p=16.
(обратно)396
Там же.
(обратно)397
Там же.
(обратно)398
Сайты… свадебного фотографа… // -foto.com/index.php?p=16.
(обратно)399
Там же.
(обратно)400
Там же.
(обратно)401
Там же.
(обратно)402
Из аннотации к разделу фотографий «Мосты счастья», подготовленной в 2009 году к выставке «Топография счастья…» исследователем из Ульяновского государственного университета М. Г. Матлиным.
(обратно)403
Там же.
(обратно)404
Там же.
(обратно)405
Из аннотации к разделу фотографий «Свадебные обряды и игры в современном городе», подготовленной в 2009 году к выставке «Топография счастья…» исследователем А. В. Туторским и студентами кафедры этнологии МГУ им. М. В. Ломоносова.
(обратно)406
Подобных городских площадок, где в наличии имеется весь комплект свадебных услуг и игр, немного. Например, в Петербурге — это стрелка Васильевского острова и пересечение трех мостов, счастливое «магическое» место за храмом Спаса на Крови рядом с Конюшенной площадью. В Москве, пожалуй, аналогичных мест нет. Где-то есть мосты, где-то — церкви, а где-то — прочие услуги на счастье: голуби, шампанское, выстрелы.
(обратно)407
А. В. Туторский в своем тексте «Свадебные обряды в прошлом и в наши дни» на выставке «Топография счастья…» дает описание другой, аналогичной по смыслу свадебной игры: «молодоженов ставят между двумя лентами, на которых написано „матриархат“ и „патриархат“. При правильном ответе на вопросы жениха или невесты пары из их команды продвигаются на шаг в сторону патриархата или в сторону матриархата».
(обратно)408
На одном из многочисленных свадебных сайтов в Интернете (егу/6/1/) предлагается в числе многочисленных свадебных товаров и услуг развернутый сайт «Свадебное фото», где портфолио профессиональных фотографов предлагает выбор: регион, город или любая страна мира, что связано с быстро развивающимся туристическим свадебным рынком.
(обратно)409
Из рекламного текста А. Сургаева.
(обратно)410
Там же.
(обратно)411
Брагина Н. Г. Память в языке и культуре. М.: Языки славянских культур, 2007.
(обратно)412
Там же. С. 146–150, 206–208.
(обратно)413
Цит. по: Брагина Н. Г. Указ. соч. С. 143.
(обратно)414
В русле разных наук существуют разные формы концептуализации памяти. В психоанализе это экран, в истории и социологии — исторический памятник, посещаемый туристами, или юбилеи, консолидирующие общество. Психоаналитики отмечают сходство памяти с мечтой: и та и другая представляют собой сгущенные (сжатые) символы. В философии языковых структур, например, Ламбек и Энтз отмечают, что понятия памяти и счастья через метафоры языка визуализируют образ, трансформируя, переводя категорию времени в категорию пространства. См.: Брагина Н. Г. Указ. соч. С. 104–105.
(обратно)415
Там же.
(обратно)416
Нора П. Указ. соч. С. 19.
(обратно)417
Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. М.: РОССПЭН, 2004. С. 30.
(обратно)418
Об авторе: кандидат искусствоведения (история искусства), научный куратор перспективных выставочных проектов Музея-заповедника «Царицыно». Окончила отделение истории искусства исторического факультета МГУ, затем аспирантуру там же. В течение двадцати лет формировала коллекцию фарфора во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, занималась исследованием в области взаимодействия различных видов искусств в контексте русской культуры 2-й половины XVIII–XIX века. Начиная с 2001 года семь лет проработала в Музеях Московского Кремля (куратор выставочного и издательского проекта «Дары вождям»). В настоящее время сфера научных интересов — русское и советское декоративное искусство, антропология искусства, архивные и материальные источники в контексте изучения российской культуры XVIII–XX веков; проблематика исследования — искусство и власть, эстетика подарка; дипломатический церемониал в России XIX–XX веков. Куратор трех больших междисциплинарных проектов и автор-составитель каталогов и изданий: «Топография счастья: русская свадьба. XX–XXI вв.»; «Панорама империй: путешествие цесаревича Николая Александровича на Восток. 1890–1891 гг.»; «Кавказский словарь».
E-mail: solga@umail.ru
(обратно)**
Хочу выразить признательность Николаю Ссорину-Чайкову, Саре Грин, Анне Григорьевой, Паоло Хэйвуду и Срии Айер за их полезные комментарии, полученные мною в ходе работы над настоящей статьей.
(обратно)420
Боробудур является одним из наиболее значимых памятников в национальном воображении индонезийцев (см. Siegel 1999).
(обратно)421
Слово pribumi переводится как уроженцы Земли и обозначает всех потомков «исконных» индонезийских племен — в отличие от потомков китайских, индийских поселенцев, мигрировавших в Индонезию и получивших в первые годы индонезийского национализма статус resident aliens (проживающий в стране иностранец). Все набранные курсивом термины принадлежат современному индонезийскому языку, если не указано иное.
(обратно)422
Растение, используемое, в частности, для дубления кожи.
(обратно)423
В некоторых из этих работ большое количество гостей считается признаком (духовной) силы. Возможно, то же самое можно сказать и о свадьбах в Кепри, однако никто из моих информантов ни о чем подобном открыто не заявлял. Вместо этого речь всегда шла о том, как «больно» им было бы и как «разочарованы» они были бы, если бы на свадьбу пришло мало гостей.
(обратно)424
Например, мусульманские пары часто заказывали хор qasidah, распевавший исламские песни под аккомпанемент перкуссии. Некоторые яванские семьи исполняли музыкальные произведения gamelan, традиционные для их родного региона.
(обратно)425
«Ритуал быстрого переодевания» описывался как «традиционный» и для некоторых других частей Индонезии, например для представителей культуры Бетави в северо-западных регионах Явы (Dinas Kebudayaan DKI Jakarta 1989). Тем не менее остается неясным, насколько древней является эта практика в регионе и каким образом она объясняется местным населением. К тому же большинство моих информантов указывали, что этот ритуал характерен только для свадеб в Кепри.
(обратно)426
Интересно отметить, что на русских свадебных фотографиях начала XX века также нет улыбающихся лиц, и это делает их похожими на современные свадебные фотографии pribumi. По всей видимости, улыбаться в течение довольно длительного периода экспозиции первых фотоаппаратов было затруднительно (см., например: Sosnina 2009: 114–119).
(обратно)427
Местный язык, широко распространенный на западной Суматре; bahasa Minangkabau родствен малайскому.
(обратно)428
В топографии счастья, описанной Ссориным-Чайковым во введении, счастья «не видел глаз и не слышало ухо», и описывается оно идиомой поисков и преследований. Тем не менее в системе Просвещения, которая, по утверждению Ссорина-Чайкова, подверглась глобальной диффузии, счастье представляется фиксированной точкой ландшафта, к которой можно приближаться или от которой можно отдаляться (почти как в случае с горной вершиной). В моем понимании случая Кепри, альтернатива становится совершенно иной. Здесь счастье/аффект рассматривается как нечто подвижное, распространяющееся по поверхности ландшафта и не привязанное к конкретным местам.
(обратно)429
Это замечание указывает на нечто очень нежелательное. Индонезийцы, как и многие из нас, не любят, когда их со всех сторон тыкают и дергают, расчесывают и украшают.
(обратно)430
В этом отношении свадебные альбомы отличаются от альбомов других типов, которые хранят у себя индонезийцы pribumi: детских фотоальбомов, альбомов, посвященных торжественным событиям, отдельным людям или местам. К ним ко всем относятся как к памятным, все они служат средством припоминания (kenangen). Счастье, если о нем вообще может идти речь применительно к альбомам, только подразумевается, когда кто-нибудь, допустим, говорит: «Все самые близкие моему сердцу воспоминания находятся в этом альбоме».
(обратно)431
Отчасти подобный взгляд является следствием того, что в Европе и Америке свадебные наряды должны находиться в собственности, а не в пользовании. Ношеное платье диссонирует со сказочными представлениями о «happy ever after» («и жили они долго и счастливо») (Hyde 2007). Однако под удар попадает и не менее распространенная фантазия, характерная для британской свадебной культуры потребления: в соответствии с ней наряд невесты должен быть актом ее радикального самовыражения (Walsh 2005). Безусловно, представить себя как уникальную личность через акт потребления проблематично, если известно, что кто-то другой уже надевал то же самое платье.
(обратно)432
Поучительно сравнение этого случая со свадьбами в Южной Индии, где невеста часто меняет сари, каждое из которых было подарено ей одним из родственников. На свадьбе сари надевается в знак уважения к дарителю и подтверждает отношения с ним невесты (S. Iyer, pers. comm.).
(обратно)433
Надо заметить, что хотя эстетические соображения определенно играют роль в потребительском выборе, им в исследованиях брачной фотографии уделено меньше внимания, чем происхождению фасона свадебного костюма.
(обратно)434
Об авторе: окончил факультет археологии и антропологии Кембриджского университета (BA Hons, 2004), где также получил докторскую степень по социальной антропологии (PhD, 2009). Научные интересы: антропология демократии, субъективности, мотивации и достижения. Региональный фокус: Юго-Восточная Азия и новая индонезийская провинция Кепулауан Риау. Автор монографии «Being Malay in Indonesia: Histories, Hopes and Citizenship in the Riau Archipelago» (NUS, NIAS и University of Hawai’i Press), редактор сборников «The Social Life of A: hievement» (Berghahn, в печати), «Southeast Asian Perspectives on Power» (2012, Routledge), и «Sociality: New Directions» (2013, Berghahn).
E-mail: NJL34@cam.ac.uk
(обратно)435
Smith B. H. Poetic Closure: A Study of How Poems End. Chicago, L.: University of Chicago Press, 1968.
(обратно)436
Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т «Советская энциклопедия»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935–1940.
(обратно)437
Большая советская энциклопедия / Под ред. А. М. Прохорова. 3-е изд. Т. 1–30. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978. — -lib.com/articlell0047.html.
(обратно)438
Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с франц. и послесл. С. Н. Зенкина. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998.
(обратно)439
Здесь и далее цит. по: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, Универс, 1994. С. 72–130. (Номера страниц указаны в тексте).
(обратно)440
Рюмина М. Т. Эстетика смеха. Смех как виртуальная реальность. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 162.
(обратно)441
Там же. С. 164.
(обратно)442
Венедиктова Т. Д. Секрет срединного мира. Культурная функция реализма XIX века // Зарубежная литература второго тысячелетия 1000–2000 / Под ред. Л. Г. Андреева. М.: Высшая школа, 2001. С. 205.
(обратно)443
Contemporary Literary Criticism / Ed. by D. G. Marowski. Detroit, Michigan: Gale Research Company, 1986. P. 266. (Перевод мой. — M.C.).
(обратно)444
Martin В. К. David Lodge. N.Y.: Twayne Publishers, 1999. Preface: x. (Перевод мой. — M.C.).
(обратно)445
Morace R. A. The Dialogic Novels of Malcolm Bradbury and David Lodge. Southern Illinois University Press, 1989. P. 222.
(обратно)446
Lodge D. Changing Places. London: Penguin books. В статье приведен перевод О. Макаровой. (Здесь и далее страницы указаны в тексте статьи).
(обратно)447
Dictionary of Literary Biography. Vol. 14. 1983. P. 477 — «„Changing places“ simply ends». (Перевод мой. — М.С.).
(обратно)448
Lodge D. Changing Places. В статье приведен перевод О. Макарова.
(обратно)449
Lodge D. The Art Of Fiction. London: Penguin Books, 1992. (Здесь и далее страницы указаны в тексте статьи).
(обратно)450
Fielding H. Bridget Jones’s Diary / Пер. с англ. Г. Багдасарян. L.: Picador, 1997. P. 246/ (Здесь и далее страницы указаны в тексте статьи).
(обратно)451
Biró Y. Profane Mythology: The Savage Mind of the Cinema / Trans, by I. Goldstein. Indiana Univ. Press, 1982. P. 75. (Перевод мой. — M.C.).
(обратно)452
Hornby N. A Long Way Down / Пер. с англ. А. Степанова. L.: Viking, 2005. (Здесь и далее страницы указаны в тексте статьи).
(обратно)453
Об авторе: филолог, аспирант МГУ им. Ломоносова по специальности «Зарубежная литература стран Западной Европы». Тема исследования: счастливый финал в произведениях британской и американской литературы XX века.
(обратно)**
Автор выражает благодарность Питеру де Суза (Peter de Souza), Индийскому институту повышения квалификации, а также Шимле за предоставление прекрасных условий для написания данной работы. Отдельное спасибо доктору Руди Хередия (Dr. Rudi Heredia), предложившему мне такую возможность.
(обратно)455
Эквивалент русского «и жили они долго и счастливо». — Примеч. пер.
(обратно)456
От безответной любви и в чахотке или без. — Примеч. пер.
(обратно)457
Она включает не только новобрачных, но и родителей и родственников жениха. — Примеч. ред.
(обратно)458
А не создателей фильмов или их критиков. — Примеч. ред.
(обратно)459
; просмотр от 01.09.2009.
(обратно)460
Если в бенгальской версии фильма Баруа играет Девдаса, то в вышедшем параллельно с ней фильме Сайгала он появляется уже в роли приемного сына Паро. В связи с этим возникает вопрос: стремился ли тем самым режиссер лишний раз подчеркнуть платонизм отношений пары главных героев, или расчет состоял в том, что мало кому удастся посмотреть обе версии фильма?
(обратно)461
; просмотр от 01.09.2009.
(обратно)462
Автор выражает благодарность Франческе Орсини, поделившейся соображением относительно возможности провести параллели с мотивами далитской литературы. Интересно, что если Виджай отстаивает свое достоинство за счет твердого характера, богатства, протестного поведения и стиля одежды, то писатели-далиты добиваются того же через само письмо как акт. См. также: Narayan 2001: 59; Sarah Beth 2007.
(обратно)463
Blaxploitation — поджанр «эксплуатационного кино» США, ориентированный на афроамериканскую аудиторию и рассказывающий об эксплуатации «черных» (сленг. «blax»).
(обратно)464
Об авторе: окончила Лондонский университет, имеет магистерскую степень Оксфордского университета и докторскую (PhD) Лондонского. Профессор индийской культуры и кинематографа в Школе азиатских и африканских исследований Лондонского университета. Автор десяти книг, из которых несколько — об индийском кинематографе. В настоящее время работает над монографией «Индия Болливуда: кино как путеводитель по современной Индии» и над культурной историей индийского слона.
E-mail: rd3@soas.ac.uk
(обратно)
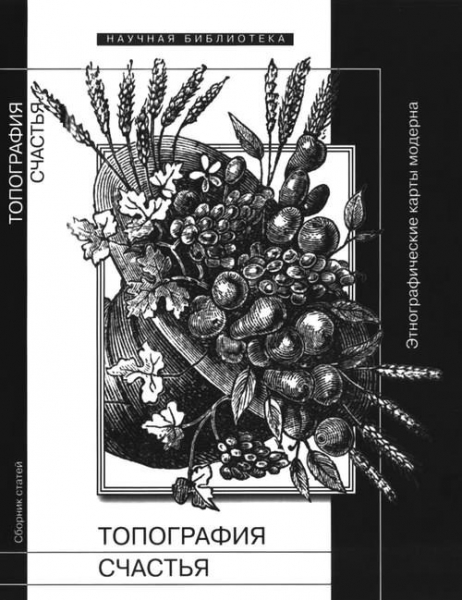




Комментарии к книге «Топография счастья», Николай Владимирович Ссорин-Чайков
Всего 0 комментариев