Татьяна Александровна Курышева Музыкальная журналистика и музыкальная критика. Учебное пособие
От автора
В программу музыковедческого образования входит специальный курс под названием «музыкальная критика». В таком названии есть неточность. Музыкальная культура в своем историческом развитии оставила большое музыкально-критическое наследие, однако цель учебной дисциплины заключена не столько в освоении существующего творческого багажа – это скорее задача курсов истории музыки, сколько в овладении самими принципами данной профессиональной творческой деятельности. А деятельность эта, если быть точными, – музыкальная журналистика, включая и важнейшее для нее музыкально-критическое направление. Поэтому настоящее пособие и называется «Музыкальная журналистика и музыкальная критика» и охватывает все стороны профессии. Именно в облике «музыкальной журналистики» ведется данный курс в Московской консерватории. Он имеет научно-практическую направленность.
Сочетание научных и практических целей отражается и в структуре книги. В ней две части: «Теоретические основы музыкальной журналистики и музыкальной критики» и «Музыкальное творчество – главный объект музыкальной критики». Первая часть, состоящая из трех разделов (внутри них располагаются главы, обозначенные сдвоенной цифрой), предлагает своего рода научную базу изучаемой области музыкально-культурного процесса. В ней с разных сторон рассматриваются основные составляющие журналистской деятельности в сфере музыки. Вторая часть, включающая четыре раздела (4–7), обращена непосредственно к творчеству, на которое направлен оценочный взгляд музыкального критика. Среди объектов внимания музыкально-критической журналистики – новая музыка во всем спектре стилей и техник, современное исполнительство, современные музыкально-сценические искусства, театрально-концертная практика, массовая музыкальная культура – все, что «бурлит и пенится» вокруг.
Разумеется, нет ни возможности, ни необходимости охватить в одной книге все стороны современной творческой жизни. В предлагаемом учебном пособии делается попытка показать будущему специалисту – куда и какими глазами смотреть, как воспринимать и оценивать, какими словами выражать свое отношение к художественным явлениям. Это очень сложный, личностный творческий процесс. Учебное пособие может лишь направлять поиск «самого себя».
На примере учиться легче, поэтому в предлагаемой книге широко представлено «чужое слово». Музыкально-критические труды классиков, корифеев музыкальной критики и современных авторов, эстетические взгляды и философские высказывания, отражающие разные подходы к художественному творчеству, научные исследования по затрагиваемым проблемам и размышления композиторов сконцентрированы в приводимых литературных текстах. Предлагаемая вниманию художественная и критическая мысль о музыке обращена и к интеллекту, и к эмоциям читателя. Думается, она должна не только вызывать интерес, но и волновать, увлекать раскрывающимися возможностями для собственного творчества. Все источники упомянуты в Примечаниях, с самостоятельной нумерацией в каждом из семи разделов. Педагог и студент, работающие с данным учебным пособием, могут сами определить, что из приведенного они хотели бы использовать, в какой связи или по какой теме.
Отправной точкой учебного пособия послужили мои очерки «Слово о музыке», вышедшие в 1992 г. С тех пор многое изменилось, но основополагающие позиции только упрочились. И сегодня, спустя почти пятнадцать лет, хочется повторить сказанное в предисловии к прошлому изданию:
«Можно ли научить музыкальной критике и музыкальной журналистике? Положительный ответ допустим настолько, насколько он мог бы быть таковым, если аналогично был бы поставлен, например, в отношении музыкального или литературного сочинительства. Подлинный успех, оставляющий след Мастера в истории, как всегда – великая тайна творчества. Но можно раскрыть механизм действия всех составляющих данной творческой деятельности, можно преподать историю художественных образцов, наконец, можно и нужно учить приемам ремесла в высоком смысле слова, необходимым для музыканта, избирающего данную стезю. Профессионал, в отличие от дилетанта, должен знать оптимальные пути достижения искомого художественного результата».
Предлагаемое учебное пособие по музыкальной журналистике и музыкальной критике призвано внести свою посильную лепту в этот образовательный процесс.
I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ И МУЗЫКАЛЬНОЙ КРИТИКИ
1. Журналистика и критика в музыкально-культурном процессе
Я верю, что, рождаясь в жизнь, художественное произведение в свою очередь рождает вокруг себя энергию мысли. Критика поэтому – не непременное порицание. Ее ценность и смысл в работе мысли от данного импульса1.
Б. Асафьев1.1. Музыкальная журналистика и современность
Журналистику нередко называют «четвертой властью». Наряду с тремя основными, независимыми друг от друга ветвями власти – законодательной, исполнительной и судебной, – современная журналистика призвана со своей стороны способствовать полноценному функционированию демократического общества. Ее главное предназначение – обеспечивать обществу всестороннюю и объективную информацию обо всем, что в нем происходит. Не случайно говорят: тот, кто владеет информацией, – владеет миром. С точки зрения журналистики – «миром» общественного сознания. В новом столетии данная истина приобретает глобальный характер. К этому влечет стремительное развитие каналов массовой информации: наряду с печатным словом (прессой), с телевидением и радио, давно пришедшими в каждый дом, доминирующие позиции постепенно захватывает всемирная сеть – Интернет.
Специальная журналистика
Интенсивное расширение направлений общественного интереса привело к постепенному расслоению журналистской деятельности на отдельные профессиональные сферы. Разумеется, важнейшей и сегодня остается общественно-политическая журналистика, обеспечивающая всестороннее освещение политических процессов в мировом сообществе. И с этой позиции успешный, авторитетный журналист всегда одновременно и политолог, и обществовед, и историк, и философ.
Но, наряду с общественно-политической журналистикой, все большее значение приобретают узкоспециализированные направления, охватывающие разные стороны жизни людей. Они требуют от журналиста особой, специальной подготовки в той или иной области, может быть, второго образования (или первого, предшествующего практической журналистской деятельности). Журналист должен профессионально разбираться в тонкостях предмета разговора – только информация, поступающая от лиц, владеющих спецификой освещаемой области, может стать авторитетной. В противном случае предлагаемый вниманию материал может оказаться дезинформацией, базирующейся на домыслах, сплетнях или намеренных искажениях, подброшенных заинтересованными в ложном освещении дела «знатоками». Либо, что не менее плохо, – собранием нелепостей, которые «широкий» потребитель, может быть, и «проглотит», но сведующие люди сразу поймут, что журналист некомпетентен. А это – конец для профессионала: «Единожды солгав, кто тебе поверит?…»
Специальная журналистика освещает разные направления, интерес к которым в обществе постоянно растет: экономика, здоровье и медицина, спорт, история и география, искусство и т. д. И, естественно, практика вербует и взращивает журналистов из специальной среды: спортивная журналистика – из спортсменов, экономическая – из экономистов, финансистов, медицинская – из врачей, художественная – из среды искусствоведов разного профиля: театроведов в освещении театрального процесса, киноведов – в сфере кино и т. п. Поток информации, сообщаемой специальной журналистикой, несет в себе – пусть в упрощенной, «адаптированной» форме – огромную познавательную энергию, расширяет круг интересов, в какой-то мере восполняя пустоты в образовании. Растущая узкая специализация в области журналистики – важнейшая примета нового времени, и эта тенденция будет только усиливаться и углубляться.
Художественная журналистика, к которой принадлежит и журналистика музыкальная, обращена к искусству как главному объекту своего внимания. Не просто к событиям общественно-культурной жизни в сфере искусства, в которых может разобраться и журналист «широкого профиля», но именно и прежде всего – к явлениям, связанным с художественным творчеством во всех видах и формах его существования, с художественным творчеством, потребность в котором – одно из сильнейших влечений человечества с самых древних времен.
Музыкальная журналистика и критика
Главным объектом внимания музыкальной журналистики является современный музыкальный процесс. Различные составляющие музыкального процесса – как творческие, так и организационные – в равной мере значимы, поскольку освещение «положения дел» во всех и в каждой в отдельности сферах должны способствовать получению максимально полной и всесторонней информации. То есть главная цель музыкальной журналистики – «поиск истины» в разных направлениях музыкального дела и доведение этой истины до общественного сознания.
Размышляя об особенностях музыкальной журналистики, для начала необходимо развести два понятия, которые нередко представляются синонимами: музыкальная журналистика и музыкальная критика. Они принципиально различны.
Понятие «музыкальная критика» отражает характер мыслительной деятельности – художественно-оценочной по своей природе, направленной на творческую составляющую современного для каждого журналиста музыкального процесса.
Понятие «музыкальная журналистика» отражает форму реализации особой музыкально-литературной деятельности, принадлежащей системе прикладного музыковедения. То есть музыкальная журналистика может служить способом выхода как музыкальной критики (оценочной мысли), так и музыкального просветительства, популяризации и пропаганды, любой публицистики, направленной на музыкально-культурный процесс.
В музыкознании сложилась традиция говорить только о музыкальной критике как об исторически развивающемся явлении музыкально-культурного процесса. Действительно, ранее во главу угла ставилось лишь изучение текстов, оставленных музыкальными критиками, что дает историку музыки бесценный материал для осмысления общественно-художественных запросов эпохи. При этом главный предмет внимания – что и кем сказано, делало менее значимым – каким способом, в каких условиях это было произнесено.
В трактовках исторического происхождения музыкальной критики существуют два подхода. Согласно расширительной трактовке музыкальная критика существует столько, сколько существует музыка, поскольку ценностный запрос к явлениям музыкального искусства, отражающий художественные потребности общества на разных этапах его исторического развития, был всегда. Согласно узкой трактовке музыкальная критика возникла тогда, когда усложнились художественные процессы и понадобился реальный механизм, который эти процессы мог бы регулировать и разъяснять (примерно в XVIII в.). Механизм этот – и есть музыкальная журналистика. И принципиально важно понимание того, что не нарождающаяся публичная музыкальная журналистика создала музыкальную критику, но музыкально-критическая мысль в более сложных условиях развития общественно-художественного сознания вышла на качественно новый уровень своего функционирования.
Таким образом, с одной стороны, музыкальная журналистика – более широкое понятие, охватывающее все направления музыковедческой деятельности данного рода. С другой – именно творчество является самой важной и самой сложной для осмысления составляющей музыкального процесса, и именно этим исторически занимается музыкальная критика. Публичный выход музыкально-критической мысли в сферу общественно-художественного сознания осуществляется главным образом посредством музыкально-критической журналистики. Представляется уместным особо выделить и ввести в оборот обозначения названных двух «подвидов» в традиционной трактовке понятия «музыкальная критика»:
1. Музыкально-критическая мысль – оценочный подход к музыкальному искусству во всех формах его проявления; именно она и есть «музыкальная критика» в точном смысле понятия.
2. Музыкально-критическая журналистика – направленная на музыкальное творчество профессиональная оценочная деятельность, реализуемая в специальных текстах (письменных или устных); а также все труды, созданные в этом жанре.
Именно музыкально-критическая журналистика – самая специфическая сфера современной музыкально-журналистской деятельности. Ее пристальное око вычленяет из современного (для каждого музыкального критика) музыкального процесса главную составляющую – творчество. Хотя прямых властных возможностей у музыкально-критической журналистики нет (к разговору о «четвертой власти» журналистики применительно к музыке!), она, подобно любым публичным высказываниям, влияет на общественное сознание. Это объективная истина. Если не знать, что приводимые ниже строки А.Н. Серова были написаны в 1858 г., можно легко перебросить их на полтора столетия вперед:
Толпу, массу журнальными статьями не переучить. В музыкальных делах это возможно еще менее, нежели, например, в деле о взяточничестве или казнокрадстве. Но тем не менее этот ожидаемый неуспех всего, что серьезно проповедуется о музыке, так же мало должен останавливать течение музыкально-критических статей, как отсутствие практической пользы не останавливает обличительной литературы нашего периода2.
Совершенно очевидно, что современная музыкальная журналистика – это лишь этап в длительной истории деятельности данного рода. Взгляд на исторический процесс функционирования музыкально-критической журналистики в мировой музыкальной культуре опирается на хорошо известные, сохраненные историей письменные источники музыкальной критики за два века ее существования – и имена писавших, и сами издания. Знание и обобщение созданного – важная составляющая профессионализма современного музыкального журналиста.
1.2. Прикладное музыковедение. музыкальная журналистика и музыкальная критика в системе прикладного музыковедения
Понятие «музыковедение», как и обозначение специалистов в этой области словом «музыковед» (или, в западном варианте, «музыколог»), обычно ассоциируется с научной сферой. Однако если считать музыковедение мыслительной деятельностью, направленной на постижение феномена музыки, ее сущности, места и роли в жизни человечества, с последующей реализацией этих знаний и навыков на пользу обществу, то собственно научный аспект, несомненно, должен дополниться и многими другими.
Систематизируя их, можно выявить три глобальные области профессиональной музыковедческой деятельности:
1. Научное музыковедение (собственно музыкознание – понятие, кстати, введенное в русский лексикон А.Н. Серовым).
2. Педагогическое музыковедение, охватывающее и разностороннюю практику музыковеда-педагога, и создание специальной учебно-методической литературы.
3. Прикладное музыковедение.
Первые два направления представляют так называемое академическое музыковедение. Их наиболее последовательно пестует высшая школа при подготовке молодых специалистов, – не случайно дипломированный музыковед ощущает себя прежде всего учителем и ученым, а лишь потом (и далеко не каждый!) профессиональным музыкальным деятелем широкого профиля: просветителем, критиком, журналистом, писателем, лектором, менеджером, организатором музыкального дела. Хотя, если вдуматься, кто, как не столь широко и всесторонне музыкально образованный человек, должен держать в своих руках все нити организации музыкально-культурной жизни?!
Академическое музыковедение в своем конечном выходе обращено к музыкантам, к специалистам (пусть разного уровня – от ученого до первоклашки музыкальной школы). Прикладное музыковедение, напротив, – это музыковедение для всех. Оно обращено, в том числе, и к немузыкантам, к неспециалистам, осуществляя выход мысли о музыке в художественную культуру в целом. «Прикладные» свойства подобной деятельности заключаются в том, что в ее результате удовлетворяются практические культурные потребности общества.
Понятие «прикладное» сегодня имеет весьма многообразное использование в самых разных сферах и научной, и художественной деятельности. Но его употребление в данном контексте нуждается, как кажется, в обосновании и защите.
Если искать параллели, то для музыканта, прежде всего, напрашивается сравнение с прикладной музыкой. Как помним, в этот разряд принято относить музыку, участвующую в синтезе в роли подчиненного, зависимого элемента, приложенного к чему-то господствующему – сюжету, драматургии, режиссуре, зрелищу. При этом предполагается, что такая музыка обладает меньшей художественной значимостью, чем собственно музыка. Однако это – уже проблема критериев, положенных в основу оценки. Не говоря о выдающихся работах в данной области, которые вошли в кладовую художественных ценностей, следует помнить о важной роли прикладной музыки в ее воздействии на общественный вкус и слух. Обладая широчайшей аудиторией, эта музыка нередко становится тем каналом, через который (не столько на сознательном, сколько на подсознательном уровне), со своей стороны, происходит музыкальное воспитание современников. И если, к примеру, мы зададимся целью ответить на частный вопрос, кто из двух выдающихся итальянцев XX в. – Луиджи Ноно или Нино Рота – в большей степени отразил в своем искусстве свое время, ответ может быть только один: оба.
Доказательством ценности прикладного музыкального канала (своего рода доказательством от противного) может служить и еще одно – «встречное» действие: обращение многих режиссеров к шедеврам мировой музыкальной классики. Нетленная музыка в «прикладной» роли в фильмах Андрея Тарковского или Ингмара Бергмана, Лукино Висконти или Никиты Михалкова идет к слушателю нетрадиционным путем, сохраняя свое значение духовной пищи. Причем конкретизированный сгусток смыслов, в который она погружается авторами, лишь подчеркивает бесконечность заложенного в ней содержательного потенциала.
В изобразительном искусстве аналогичную роль играют, например, дизайн, плакат, многие материально-художественные атрибуты быта. Их роль и значение для современной культуры трудно переоценить. При этом характер «общества потребления», к которому устремился XX в., способствует непрерывному совершенствованию прикладных художественных форм. Произведения прикладного искусства не только воздействуют сами по себе, но, думается, подспудно формируют более сложные эстетические потребности. Их художественный уровень активно влияет на зрелищное мышление, что непременно должно сказываться на контактах со всеми видами изобразительного искусства.
Наконец, в подтверждение значимости «прикладной» сферы творческой и научной деятельности можно привести и еще одну параллель – с прикладной математикой. Ситуация в этой области, пожалуй, еще ближе к тому, что наблюдается в музыковедении, с той лишь разницей, что сходные процессы происходили там пол века тому назад. Тогда прикладная математика еще ходила в падчерицах этой «королевы наук». Сегодня на ней держится мировая цивилизация. Это направление отдельно разрабатывается, ему специально учат, непрерывно расширяя и углубляя пути уже внутренней специализации.
Значение прикладных, то есть имеющих практическую ориентацию научно-творческих направлений в современной культуре очень велико. Выход искусства через средства массовых коммуникаций к многомиллионной аудитории требует глубокой профессиональной проработки массовых, демократических, доступных широкому восприятию форм, естественно, наряду с традиционными элитарными видами «высокого» творчества.
Понятие «прикладное музыковедение» охватывает все формы музыковедческой деятельности, способствующие возможно более широкому внедрению музыки в жизнь общества. Главное заключается в том, что эта деятельность публична (т. е. лишена цеховой замкнутости); коммуникативна (т. е. нуждается в непременном контакте, понимании, востребовании); обращена ко всем, в том числе и неспециалистам.
Основные цели прикладного музыковедения можно определить в виде трех компонентов. Оно призвано помочь обществу:
– познать музыкальное искусство,
– оценить его,
– пользоваться им.
Названные практические цели прикладного музыковедения выводят не только на характер деятельности, но и на формы ее реализации – то, что можно назвать, пользуясь современным деловым языком, «конечным продуктом». Именно благодаря этим разнообразным формам музыковедческий труд в прикладном музыковедении может достичь желаемой цели.
Осуществление помощи в познавании берут на себя все виды музыковедческого ознакомления – просветительство, популяризация, пропаганда музыки. Оценочную работу помогает вершить музыкальная критика. Восприятию музыкального искусства способствуют разные формы распространения – профессионально грамотная организационная работа (музыкальный менеджмент), охватывающая и концертно-театральную сферу, и телерадиовещание, и аудиовидеоиндустрию, и издательское дело, а также уже устоявшаяся многопрофильная редактура. Все это можно представить в виде схемы 1.
Схема 1
Поскольку все виды прикладной музыковедческой деятельности публичны, в них изначально заложена масштабная коммуникативная цель, предполагающая, что результат непременно найдет своего адресата, будет воспринят, понят и окажет влияние на общественно-художественное сознание. Они необычайно разнообразны в своих формах и предлагают огромные, практически неисчерпаемые возможности для реализации самых неожиданных творческих фантазий.
Ознакомление – наиболее существенная, изначальная цель прикладной музыковедческой деятельности. Только при ее достижении или одномоментно с ней приобретают смысл и другие направления. Ознакомление реализует себя через просветительство, пропаганду, популяризацию, которые, с точки зрения практической музыковедческой деятельности, нередко воспринимаются как синонимы. Однако объекты направления творческой энергии (а соответственно и характер профессиональной работы) при этих целях отличны. Так, просветительство всегда ориентировано на воспринимающего, в центре его усилий – активное воспитательное воздействие на общество, достигаемое теми средствами и на том материале, которые просветитель избирает в качестве оптимальных. При популяризации и пропаганде, напротив, в центре внимания находится само преподносимое художественное явление (произведение, личность, событие), причем если популяризация преследует лишь чисто познавательные цели, то пропаганда предполагает активное внедрение предлагаемых ценностей в художественное сознание аудитории. Разумеется, все взаимосвязано: нельзя просвещать одновременно не пропагандируя дотоле неизвестное, более того, и оценки нередко своей конечной целью имеют просветительство или пропаганду.
Для осуществления этих задач прикладное музыковедение предлагает различные формы деятельности.
Ближе всего традиционному академическому музыковедению – создание популярной литературы о музыке и музыкантах. Это могут быть книги, буклеты, статьи в популярных периодических изданиях и т. п. Их отличительная черта – коммуникативность, то есть доступность и увлекательность в идеале на уровне хорошей занимательной художественной литературы. Здесь главная проблема – уход от музыковедческого «наукообразия», сразу отторгаемого «широким» читателем, умение рассказать легко и просто о сложном.
Важную роль издавна играет публичное лекторство, куда входят различные филармонические лектории, «Университеты культуры» и пр. Работа подобного рода, наряду с багажом музыковедческих знаний, предполагает ряд дополнительных профессиональных навыков – ораторское искусство (публичные лекции по бумажке не читаются, в них велика доля импровизационное™ «по обстоятельствам на месте»), сценическое мастерство, близкое актерскому в его умении удерживать внимание зала, композиционное чутье, близкое сочинению музыки, определяющее драматургию и архитектонику лекционной программы (последовательность тем разговора с учетом постепенного утомления внимания аудитории, соотношение разговорной и музыкально-иллюстративной частей, продуманные кульминации и моменты разрядки и многое другое).
Близкими по творческим задачам и формам работы, но куда более трудными для профессиональной реализации являются другие устные прикладные формы – музыкальные радио– и телепередачи и программы. Их доля в прикладной музыковедческой деятельности будет только нарастать, электронные СМИ в наступившем столетии уже доминируют. Самая большая сложность здесь – массовый характер аудитории и ее анонимность. Если лектор видит свой зал, а люди, сидящие в нем, специально пришли на эту встречу, то в электронных СМИ этой связи нет. И независимо от того, сам ли музыковед озвучивает свой текст или только пишет его (такое часто бывает на радио), его профессиональная работа включает целый букет особых, специальных требований (см. раздел 3.6).
Наконец, уже начала создаваться прикладная музыковедческая продукция на интернет-сайтах, обращенных к музыкальной тематике. Это направление сегодня пребывает еще на начальном этапе своего развития и опирается в основном на принципы письменной популярной литературы на музыкальные темы. Но когда здесь в полную меру будет задействован звук, откроются новые безграничные перспективы…
Оценка существует в облике музыкально-критической мысли. Профессиональная художественно-оценочная деятельность, направленная на музыку, реализует себя в сфере музыкально-критической журналистики. Хотя журналистика является и важным каналом ознакомления – музыкального просветительства, популяризации и пропаганды – в письменных формах в облике «популярной литературы», в устных – в телерадиопродукции, именно оценочная составляющая делает ее совершенно особым явлением. Теоретическим и практическим основам музыкальной журналистики как отдельной формы прикладной музыковедческой деятельности и посвящена данная книга.
Распространение (менеджмент, редактура) к творчеству в привычном понимании слова отношения не имеет, в отличие от ознакомления и оценки, которые в своем конечном результате предстают в облике определенной музыковедческой творческой деятельности. Однако было бы глубоким заблуждением видеть за распространением лишь практическую значимость, которая, кстати, может быть очень велика. Творческое начало здесь, хотя и не материализуется в самом результате, в идеале должно окрашивать все подходы.
На этапе распространения музыкальный деятель выходит за пределы теории в сферу чистой практики, а важнейшие прикладные ознакомительно-оценочные цели скрываются «за кадром». Но если на поверку их не оказывается вовсе, то это – беда, означающая, что такая важная сфера духовной жизни, как распространение музыкальной культуры в обществе, захвачена не теми, кто эту миссию должен осуществлять. В идеале же ими должны быть подлинные знатоки музыкального искусства (музыковеды) и художественно-организационного дела одновременно.
Музыкальный менеджмент – это прежде всего музыкально-организационная работа. Важнейшими в ней являются не только художественные, но и экономические, и юридические знания. Грамотный музыкальный менеджмент обеспечивает условия успешного функционирования музыкального искусства. Должно ли это происходить в рамках музыковедческого образования – дискуссионный вопрос. По сути это – отдельное направление, требующее дополнительного образования[1].
Особая сфера прикладной музыковедческой деятельности в области распространения – издательская редактура. Ее главной функцией является работа с «чужим словом», предшествующая выходу труда в свет. Осуществлять ее, естественно, могут лишь специалисты, разбирающиеся в предмете разговора, то есть для музыковедческой литературы – тоже музыковеды. Практика показывает, что в данной деятельности есть много своих проблем. Конечный результат в значительной мере определяет личность редактора, от которого в роли профессиональных качеств требуются не только знания и умение, но и психологическая совместимость. Есть авторы, которым довелось познать и безапелляционную редактуру, и непонимание, и жесткое давление с требованием принципиальных изменений, как и редакторы, которым выпала судьба биться над сырыми, бездарными и бессмысленными текстами.
У кого-то может возникнуть вопрос – нужен ли вообще институт редактуры (естественно, не технической, а художественной)? Ответ должен быть положительным – она необходима, поскольку непосредственно направлена на качественные показатели распространения музыкальной культуры. Необходима, но с ясным пониманием, что у нее есть своя четко очерченная функция и свои пределы компетенции. Профессиональная художественная редактура – это творческая деятельность с правом совещательного голоса; это оценочный взгляд на самоценный творческий продукт другого лица, прежде чем этот продукт будет представлен обществу; это способность к восприятию и пониманию иного мира; наконец, это умение ощутить себя неким «вторым я» автора – в той мере, в какой он в этом нуждается. Деятельность данного рода также требует особого дарования и особого мастерства.
Целостный взгляд на прикладное музыковедение в его разных формах позволяет четко определить место в нем музыкально-журналистской деятельности. Одновременно такой взгляд показывает, что многие направления прикладного музыковедения – сообщающиеся сосуды. Их развитие может опираться на сходные образовательные принципы: образование складывается из целого комплекса специальных музыкальных, широких гуманитарных и – в необходимых объемах – экономических, юридических (для музыкального менеджмента) и технических (для работы на радио и телевидении, в интернете) знаний.
В свою очередь, и у музыкальной журналистики (включающей музыкальную критику) – главного предмета внимания настоящей книги – есть своя незаменимая роль в музыкальном процессе. И свое определенное место в системе музыковедения – она входит в прикладное музыковедение.
Современная культура нуждается в специалистах прикладного музыковедения. Совершенствование специального музыковедческого образования в интересах его прикладных форм – проблема, требующая своего разрешения[2].
1.3. Место музыкальной критики в музыкальной культуре
Как явствует из перевода с греческого, слово «критика» означает искусство судить, разбирать. То есть в основе музыкально-критической мысли всегда лежит оценочный подход, направленный на произведения музыкального искусства. Музыкальная критика – компонент музыкальной культуры, входящей в свою очередь в культуру художественную. Со своей стороны художественная культура складывается из компонентов как духовного, так и материального порядка.
Компонентами материального порядка являются учреждения функционирования музыки: концертные залы и музыкальные театры, музыкальные учебные заведения, музыкальное радио и телевидение, аудиоиндустрия, музыкально-издательское дело, вспомогательное производство (от музыкальных инструментов до костюмов или пультов) и т. п., то есть вся сфера технической организации музыкально-культурного процесса.
Духовная составляющая музыкальной культуры включает в себя три области музыкально-художественной деятельности человека: музыкальное творчество, музыкальное потребление и музыкально-эстетическое сознание.
Музыкально-эстетическое сознание охватывает музыкальные знания, взгляды на музыкальное искусство, стереотипы отношения к прекрасному и безобразному, к традициям и новаторству, нормы поведения в контактах с музыкальным искусством и т. д., и т. п. Оно включает в себя сложный комплекс художественных потребностей, приятии и неприятий, то есть множество различных мыслительных направлений, связанных с музыкальным искусством.
Музыкальная критика, естественно, принадлежит музыкально-эстетическому сознанию. Она входит в данную сферу наряду с эстетико-философской мыслью о музыке и музыкальной наукой. При этом музыкальная критика как оценочная мысль по своей природе личностна и исторически обусловлена. «Каждая эпоха, приобретая новые идеи, приобретает и новые глаза», – утверждал Генрих Гейне.
Именно в историческом движении культуры прежде всего следует искать корни таких специфических особенностей художественно-критического осмысления, как:
– непрерывно происходящая переоценка ценностей;
– относительность истины критической оценки;
– вариативность (множественность) пониманий, характерная как для одного периода, если она исходит от множества воспринимающих, так и, что особенно важно, для развертывания во времени;
– разомкнутость, неокончательность критических суждений.
Музыкальная критика (как и все виды художественной критики) обладает определенной автономией и самоценностью. Причина заключена в том, что процесс художественной деятельности непрерывно порождает художественную критику из самого себя. Критическая мысль действует как механизм саморегуляции художественной культуры, она является одновременно и реакцией на создаваемое и побудительным толчком к созиданию. Связано это с особыми свойствами самого объекта художественной критики – искусства.
Музыкальная критика и музыкальное искусство
Процесс самоидентификации музыкальной критики как оценочной мысли о музыке в первую очередь наталкивается на сакраментальный вопрос: зачем она нужна искусству? Что их связывает? Пребывает ли музыкальная критика в роли зависимого и подчиненного творчеству подразделения, как нередко кажется многим композиторам («пусть сначала сам попробует что-нибудь написать, а потом рассуждает на тему – что хорошо, а что плохо»!), или у нее есть свое место в музыкально-культурном процессе? Ф.М. Достоевский на эти вопросы дает исчерпывающий ответ: «Критика так же естественна и такую же имеет законную роль в деле развития человеческого, как и искусство. Она сознательно разбирает то, что искусство представляет нам только в образах»8.
Искусство полностью пребывает в пределах ценностного сознания. Оно не только нуждается в оценке, но вообще реально осуществляет свои функции только при ценностном к нему отношении. Например, невостребованное произведение (т. е. не являющееся ценностью для данного общества) как бы не существует. Этим объясняются длительные периоды непризнания, забвения, а значит и фактического «несуществования» многих произведений искусства для целых эпох; либо неприятие культур чужеродных, этнически далеких, а потому не воспринимаемых. Открытие таких культур равнозначно акту рождения оценочного к ним отношения.
Взаимоотношения искусства и оценочной мысли о нем в некотором роде несут на себе отсвет вечного вопроса об изначальности «слова» и «дела». Ведь невозможно определить в абстракции, что первично и что вторично, что возникло раньше – само искусство, а затем оценочное к нему отношение, или сначала возникла потребность в искусстве, ценностный запрос, а затем эта потребность была удовлетворена. Именно особенности искусства и обусловили феномен художественной критики: она вызвана к жизни необходимостью в механизме, который и предъявлял бы свои требования к искусству, и регулировал бы реализацию этих требований. Иными словами, будучи глубоко связанной с искусством, художественная критика не является его частью. Она существует не внутри него и не благодаря ему, но как бы одновременно с ним.
В результате таких взаимоотношений между музыкальным искусством и музыкально-критической мыслью как частью общественного сознания, стимулирующей развитие искусства, и родились две различные трактовки (их можно определить как узкую и широкую) того, сколько времени существует художественная и, в частности, музыкальная критика.
Согласно расширительной трактовке можно считать, что музыкальная критика существует столько, сколько существует музыка, поскольку ценностный подход к искусству, отражающий художественные потребности общества на разных этапах его исторического развития, был всегда. В частности, античное сознание в размышлениях о музыке изначально оценочно, а позиция говорящего обязательно отражает определенную систему ценностных критериев. Например, у Плутарха читаем:
Музыка – изобретение богов – есть искусство во всех отношениях почтенное. Применяли его древние, как и прочие искусства, соответственно его достоинству, но современники наши, отрешившись от его возвышенных красот, вводят в театры, вместо прежней мужественной, небесной и любезной богам музыки, расхлябанную и пустенькую4.
Исследуя исторический процесс развития музыки и конкретные образцы критико-оценочных суждений, можно проследить направленность эволюции художественных воззрений. На этом же основывается возможность диалога культур, когда между ценностными позициями прошлого и нового времени оказываются точки соприкосновения. Исследование истории эволюции ценностных суждений дает повод напрямую связывать результаты таких изысканий с музыкальной критикой5. Все это – основа для широкого толкования.
Другая точка зрения предполагает, что музыкальная критика как особая форма деятельности и особая профессия возникла примерно в XVIII в., в период, когда усложнились художественные процессы и понадобился реальный механизм, который эти процессы мог бы регулировать и разъяснять. Так, анализируя появление профессиональной художественной критики более двух веков назад, тартуский ученый Б. Бернштейн в работе «История искусств и художественная критика»6 называет две причины. Одна из них – разрушение духовной однородности общества, подрывающее основы непосредственного художественного понимания. Другая – возникновение новой, более высокой и сложной структуры художественного сознания, требующего включения критики, без которой оно уже не может нормально функционировать.
Музыкальная критическая мысль, ранее представленная в философских трактатах и эстетических высказываниях, вычленяется и локализуется в самостоятельной сфере деятельности. Эта сфера – музыкально-критическая журналистика, которая является одним из каналов выхода «в свет» музыкально-критической мысли.
Развитие музыкальной журналистики в рамках периодической печати смогло обеспечить более совершенное, динамичное действие механизма саморегуляции музыкальной культуры, каковым и является музыкальная критика. То есть не нарождающаяся публичная журналистика создала музыкальную критику, но критическая мысль в более сложных условиях развития общественно-художественного сознания вышла на качественно новый уровень своего функционирования. В чем же заключалось это усложнение?
До определенного периода процесс саморегуляции музыкальной культуры происходил как бы автоматически. Это видно, если сравнить три основных источника музыки Нового времени: фольклор, музыку быта и религиозно-культовую музыку. Фольклорные формы изначально обладали механизмом саморегуляции, в них всегда присутствовало критическое начало, которое вершило непрерывный отбор и автоматически выполняло контролирующую роль: общество само отбирало то, чему следует сохраняться во времени, а чему – отмирать, без санкции коллектива ничего не могло изменяться. В музыке быта процесс саморегуляции также происходил автоматически: утилитарные музыкальные жанры либо проживали краткую жизнь, либо постепенно смещались в сферу прекрасного, оставаясь в истории уже в новом ценностном качестве. Музыка храма вообще не воспринималась как явление, требующее оценочного отношения. Оно могло родиться и родилось уже вне рамок потребностей культа.
XVIII век – тот рубеж, когда потребности музыкальной культуры, связанные с усложнением художественного процесса, сделали музыкальную критику самостоятельным родом творческой деятельности. Осознанное наслаждение музыкой не только обострило чувство самоценности искусства, но создало слушателя – осмысленного потребителя художественных ценностей. Из публики, из слушателя (образованного, мыслящего, включая и музыкантов-профессионалов) выделилась профессиональная музыкальная критика.
Суммируя сказанное, можно прийти к двум главным заключениям:
1. Характер глубинного взаимодействия оценочных подходов и результатов музыкального творчества обосновывает широкое понимание возникновения музыкальной критики как музыкально-критической мысли – она существует столько, сколько существует искусство. Одновременно художественная практика в культуре европейской традиции позволяет определить возраст музыкальной критики как профессиональной музыкально-критической журналистики примерно двумя веками (у истоков – Маттезон).
2. Художественная критика (и музыкальная в том числе) – явление уникальное. Аналога ей нет ни в одной другой сфере человеческой деятельности, и причина кроется в объекте – искусстве. В отличие от результатов научного труда или материального производства, произведение искусства изначально дуалистично: оно одновременно объект реальный и идеальный, целиком пребывающий в пределах ценностного сознания индивидуумов. Его значимость прячется в бесконечном множестве индивидуальных восприятий. Это делает художественную критику особой творческой деятельностью и выдвигает в качестве важного условия личные качества критика. В данной связи уместно привести поистине гимническое высказывание Ромена Роллана:
Очень большой критик сто́ит для меня на одном уровне с большим художником-творцом. Но такой критик встречается крайне редко, еще реже, чем творец. Ибо критик должен обладать гением созидания, который он принес в жертву гению разума, заставив соки отхлынуть к корням: потребность знать убила потребность быть; но теперь бытие уже не представляет загадки для познания – великий критик проникает в творчество по всем капиллярам, он им овладевает7.
Музыкальная критика и музыкальная наука
Изучением феномена музыки занимаются многие научные сферы: помимо собственно музыковедения, оно привлекает внимание искусствоведения разных направлений, эстетики, философии, истории, психологии, культурологии, семиотики, а возможно, и других научных областей. К познанию музыки устремлены многие неспециальные науки, которые, не имея возможности подойти к музыкальному искусству с его специфической стороны, опираются на общие с другими явлениями – на объединяющие, а не отличительные черты.
Одновременно уже локализовалась и существует специальная наука – собственно музыкознание, предмет внимания которого именно видовые свойства искусства музыки, его специфические свойства, отличающие от всего остального в художественном мире. Именно о музыкальной науке и только о ней идет речь как об области, соотносимой с музыкальной критикой. Их объединяет происхождение – мыслительные процессы в общественно-художественном сознании, обращенные к феномену музыки, и сам объект внимания – музыкальное искусство.
Граница между музыкальной наукой и музыкальной критикой зачастую представляется размытой и даже искусственной. Нередко совпадают авторы – одному перу могут принадлежать труды как в той, так и в другой области. Более того, есть тексты, где обе сферы пребывают в неразрывном единстве. Однако и цель, и побудительная энергия, и, главное, результат у музыкальной науки и музыкальной критики принципиально различны.
Корни музыкальной науки, как и любой другой научной деятельности, – гносеологические. Она вызвана к жизни силами познания. Корни музыкальной критики – аксиологические. Ее цель – установить художественную ценность объекта.
Это определяет и весь комплекс отличий:
1. Музыкальная наука вырастает из научной деятельности общества, то есть она приходит в музыкальную культуру как бы извне. Музыкальная критика, обусловленная ценностной природой искусства, зарождается внутри самой художественной культуры.
2. Музыкальная наука исследует апробированные музыкальные ценности. Для нее главное – анализ оцененного. Внимание музыкальной критики направлено на весь художественный поток, из которого она сама вычленяет ценности. Для нее главное – оценка анализируемого.
3. Музыкальная наука тяготеет к академизму, ее результаты обращены к специалистам. Музыкальная критика – к публицистичности, она ориентирована на массовость, на широкую аудиторию.
4. Наука опирается на объективное и отстраненное, как бы надличностное мышление (вспомним характерное для научных текстов обезличенное «мы»). Критика, напротив, устремлена к субъективно окрашенной форме выражения от имени конкретного «я».
Являясь антиподами, особенно очевидными в подходах к одному и тому же явлению, музыкальная наука и музыкальная критика одновременно неразрывно связаны. Критика поставляет науке оценочные выводы, направляя научный поиск в достойное русло. Наука критике – ценностные критерии и средства аргументации, основанные на знании. По своей природе критика субъективна, наука при необходимости помогает объективизировать субъективное суждение. «Чем более методология искусствознания стремится приблизиться к точности, тем более она должна отвлекаться от ценности», – пишет Б. Бернштейн в упоминавшейся работе. И там же делает вывод: «Антагонизм научного и критического есть одновременно и связь. Одно не может жить без другого»8.
Наибольшего сближения научный и критический подходы достигают в том случае, когда объектом научного исследования становится музыкальная современность. Ученые, занимающиеся новой музыкой, обязаны быть и сильными критиками. Именно в работе с новым музыкальным материалом, который лишь осваивается в оценочном плане, аксиологический и гносеологический процессы оказываются практически не разделимыми.
Суммируя сравнительные наблюдения над характером научного и критического подходов, можно, наконец, определить основополагающие видовые черты художественной (в том числе и музыкальной) критики:
1. Направленность на «сейчас». Внимание критики всегда обращено только на явления, значимые для культуры сегодняшнего дня, ее волнуют процессы, актуальные для данного времени. Это может быть и оценка нового, и переоценка искусства прошлого, до времени забытого и обретающего вдруг новое рождение. Критике «неведома дилемма духовной реконструкции произведения в соответствии с утраченным способом художественного восприятия»9. Хотя она может оценить поиск такой реконструкции в ситуации, когда историзм пронизывает творческое мышление, а художественный результат отвечает веянию времени (к примеру, поиски аутентичного стиля исполнения, зрелищная стилизация музицирования «под старину» и многое другое, актуальное для современной культуры).
2. Оперативность. Критика не рассчитана на долголетие, ее воздействие кратко. Чем быстрее появляется отклик на волнующее событие, тем он ценнее, поскольку материал критики быстро устаревает. В живом и стремительном движении художественной культуры происходит непрерывное смещение ценностных ориентации, и критика здесь – самый чуткий барометр.
3. Документ ушедших воззрений. Принадлежа прошлому, даже сравнительно недавнему, критика в своем исходном качестве не представляет прямого интереса для общества нового времени. Сделав свое дело, она «умирает» или перерождается в качественно иное явление культуры – документальное свидетельство ушедших пониманий. И тогда ее читают другими глазами. Она ценна для исторической науки и только в качестве объекта исторического исследования способна войти в культуру иной эпохи.
Музыкальная критика и общество
Музыкальная жизнь общества, куда включается также музыкально-критическая мысль и практика, – предмет интереса музыкальной социологии. Не случайно именно социологическая наука чаще всего обращает свое внимание на художественную критику, равно как в теоретико-методологических исследованиях феномена самой художественной критики обязательно присутствует социологический аспект.
Общественное сознание, направленное на музыку, формируется под влиянием множества компонентов, охватывающих традиции, обычаи, нормы, взгляды, вкусы, идеалы, моду и многое другое. И все это создает сложный комплекс ценностных ориентации, способных в определенной мере представлять лицо времени. «Каждое поколение является историческим единством. Конечно, пристрастный современник так не считает, но видимые различия сглаживаются, и с годами разное становится компонентами единого»10, – утверждает Игорь Стравинский.
Заложенный в художественной критике «механизм саморегуляции культуры» действует по принципу обратной связи: общество способно влиять на художественный процесс оценочным к нему отношением. Причем воздействующее критическое начало представлено отнюдь не только профессиональным словом музыкального критика, но целым комплексом иных оценочных действий и ритуалов. Сюда входит и бытовая критика – обсуждение на любительском уровне, и разнообразные невербальные реакции – аншлаги или пустые залы, бурные овации или слабые хлопки и другие порицающие оценочные действия типа шиканья и свиста (когда-то на сцену швыряли гнилые овощи и фрукты). Формой критического отношения может быть и замалчивание – один из страшных по силе воздействия негативных оценочных актов.
Влияние общества на творческий процесс – сильный фактор развития культуры. Оно может быть направлено и на композиторское творчество (чуткий музыкант на подсознательном уровне ощущает художественные требования времени), и на исполнительство – стиль, репертуарную политику, и на театрально-концертную практику, и на многое другое. Можно привести печальный пример: низкая востребованность серьезной музыки в нашей стране, отсутствие должного спроса у публики на огромных территориях (столичные города, естественно, не показатель) – одна из причин массового исхода музыкантов в 90-е годы прошлого столетия, губительные последствия которого могут сказаться на развитии отечественной музыкальной культуры последующих десятилетий.
Разумеется, общество неоднородно, и можно достаточно четко представить, какую часть его (в идеале – образованную, художественно развитую, заинтересованную) представляет профессиональная музыкальная критика. Не говоря уже о естественном разбросе мнений и внутри этого культурного слоя. Тем не менее, в силу действия «механизма саморегуляции культуры», живая критика вольно или невольно фокусирует в себе требования разного порядка, выдвигаемые в данный момент обществом к искусству.
Будучи явлением и художественной, и социальной природы одновременно, профессиональная художественная критика предъявляет к искусству как бы двойной счет: как с позиций критериев чисто художественного характера, так и с позиций ценности внеэстетического (идеологического, нравственного, духовного и т. п.), но общественно-значимого характера. Пушкин в статье «О журнальной критике» ясно определяет эту сторону оценочного акта: «Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство; не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных»11.
Перенося размышления Пушкина на музыкальную почву, можно вспомнить известные образцы музыки «на случай» и им подобные общественно значимые сочинения. С научной позиции произведения такого рода скорее могут оказаться предметом внимания исторической, культурологической или социологической наук, нежели музыкально-теоретической, поскольку их ценность, выявленная оценкой критики, находится более в плоскости общественно-идеологической, чем в собственно художественной.
В еще большей степени это относится к феномену самой музыкальной критики. Научное осмысление данной области художественной культуры началось именно в рамках музыкально-социологической науки, и один из выводов, к которому приходит исследователь Р. Грубер, гласит: «История музыкальной критики не есть только история „музыкально-художественных воззрений“, ни история „господствующего вкуса“ или „история музыкально-художественных памятников“, взятых разобщенно; она представляет собой продукт взаимодействия этих трех категорий явлений как итог общественной актуальности музыкально-художественного произведения в каждый данный момент»12. Разработка теории и методологии художественной критики тоже осуществлялась прежде всего в рамках социологических, культурологических, эстетико-обществоведческих исследований.
Самосознание музыкальной критики как особой и значимой сферы общественно-художественного процесса формировалось именно как самосознание личности критика. Характерно, что многие авторы активно размышляли о предмете своей деятельности, причем каждый из них, по существу, исходит из целей и задач, которые он сам перед собой ставит, из тех требований, которые себе предъявляет. Во главе угла, как правило, оказывается благородная просветительская миссия, осознание необходимости служения, воспитания, помощи. Искусство, музыка как абсолютная ценность для общества изначально возведены на пьедестал. Роль критика в идеале видится как миссионерская, способствующая духовно-нравственному совершенствованию человека через искусство. «Задача критики только наполовину принадлежит к эстетике, наполовину она общественная педагогика и публицистика»18, – пишет Л. Выготский в «Психологии искусства».
Чувство ответственности перед обществом пронизывает практически все рассуждения музыкальных критиков о своей деятельности. Сравнение высказываний известных мастеров на протяжении столетия показывает, что время явно не властно над этой проблемой, позволяя принять ее как одно из основополагающих свойств музыкально-критической деятельности:
1852 г. «…нечего сидеть сложа руки, надо бороться за лучшее будущее, бороться за то, чтобы поэзия искусства снова получила признание! Так возникли первые страницы новой музыкальной газеты…»14 (Р. Шуман).
1856 г. «У музыкального критика главная цель должна заключаться в том, чтобы всеми доступными ему способами действовать на воспитание музыкального вкуса в публике»15 (А. Серов).
1873 г. «…я мнил приносить пользу моим согражданам, содействуя их музыкально-эстетическому развитию, направляя их вкус, руководя их мнением, разъясняя им достоинства и недостатки того или другого музыкального явления, подлежащего публичной оценке»16 (П. Чайковский).
1915 г. «Строго говоря, это всемерное со всех возможных сторон облегчение свободного подхода слушателя к данной музыке – единственная задача здравой и отдающей себе отчет в своих силах критике»17 (В. Каратыгин).
1941 г. «…чтобы всюду, в самой маленькой оценочной заметке была мысль, цель, намерение, образ, отражение живой музыкальной действительности и противодействие всему косному, тормозам творчества и новому мышлению о нем»18 (Б. Асафьев).
1949 г. «В XVIII столетии, когда музыкальная критика еще только отправлялась в свое путешествие, она стремилась внести в жизнь, общество и искусство больше разума, больше света, больше человечности. Сейчас, когда критика находится на пороге нового исторического периода, перед ней, быть может, встанет новая трудная задача – помочь сделать искусство всеобщим достоянием. Никогда великая задача не возлагалась на музыкальную критику, никогда более благородная работа не возлагалась на благородных людей»19 (М. Гоаф).
Возвышенные заключительные слова из эпилога книги «Композитор и критик» известного австро-американского музыковеда и критика Макса Графа (1873–1958) обращены в будущее, которое уже стало настоящим. Однако поставленные им проблемы не утратили своей остроты. Скорее наоборот – их актуальность только возросла.
Музыкальная критика в условиях тоталитарного государства. Свобода мысли и свобода слова
«Свобода мысли» (в нашем случае музыкально-критической мысли) и «свобода слова» (музыкально-критической журналистики, освещающей музыкальный процесс) – ценности абсолютные, обусловленные естественными законами существования музыкальной культуры. Их соблюдение – необходимое и достаточное условие здорового общественно-художественного сознания. Однако объективно важная социокультурная роль музыкальной критики в музыкальном процессе во многом оказалась искажена и нарушена принципами функционирования института художественной критики в условиях тоталитарного государства, которым отмечен ушедший век. Это недавнее прошлое профессионалу нельзя забывать.
Тоталитаризм посягнул на свободу мысли так, как никогда прежде не могли вообразить. Важно отдавать себе отчет в том, что его контроль над мыслью преследует цели не только запретительские, но и конструктивные. Не просто возбраняется возражать – даже допускать – определенные мысли, но диктуется, что именно надлежит думать; создается идеология, которая должна быть понята личностью, норовят управлять ее эмоциями и навязывать ей образ поведения. Она изолируется, насколько возможно, от внешнего мира, чтобы замкнуть ее в искусственной среде, лишив возможности сопоставлений. Тоталитарное государство обязательно старается контролировать мысли и чувства своих подданных, по меньшей мере, столь же действенно, как контролирует их поступки20 (Д. Оруэлл).
В своем публицистическом эссе «Литература и тоталитаризм» (1941) Джордж Оруэлл не говорит впрямую о нашей стране, но с осязаемой конкретностью строит модель взаимоотношений личности и государства, при которых практически невозможно существование индивидуализированной, личностной художественно-оценочной деятельности, каковой по своей природе является художественная критика. И, действительно, как показывает более чем 70-летний советский период истории отечественной музыкальной культуры, музыкальная критика, а шире – вся художественно-критическая мысль испытала на себе жесточайший прессинг.
Вопрос о возможности ее существования в полноценном виде – не праздный. Об этом свидетельствуют сохранившиеся как документ эпохи многочисленные псевдокритические тексты в периодике. Одновременно, как ни парадоксально, об этом говорят и частые публичные сетования по поводу отсутствия или слабости критики, хотя, естественно, без истинного диагноза – почему. В статье «О качествах советского критика» (1960) Ю. Келдыш пишет: «Нельзя не признать, что критика не заняла должного места в нашей творческой жизни… Она до сих пор еще малоинициативна, не обладает необходимой смелостью, принципиальностью и независимостью суждений»21. Призыв к «смелости» и «независимости» для того времени заведомо лицемерен.
В силу своей дуалистической (общественно-художественной) природы, а также способности воздействовать и на творческий процесс, и на художественное восприятие, именно художественная критика становится предметом пристального внимания и неизменной «заботы» указующих и запрещающих идеологических структур. Заложенный в художественной критике механизм саморегуляции культуры рождает иллюзию, что она и есть тот идеальный канал, посредством которого Система может ковать и перековывать по своему усмотрению новую духовно унифицированную человеческую субстанцию. Именно поэтому вопросы музыкальной, а шире – литературно-художественной критики на всем протяжении 70-летней советской истории непрерывно оказываются в радиусе принципиальных интересов власть предержащих.
Наиболее явственно это прослеживается в цепи партийных постановлений по культуре, каждый раз обязательно содержащих в себе указания по поводу художественной критики. Уже в Постановлении ЦК ВКП(б) 1925 г. «О политике партии в области художественной литературы» проходит ключевая мысль, словно освещающая пути действования на десятилетия вперед: «Критика – одно из важнейших орудий в руках партии» (курс. авт. – Т.К.).
Выделенная милитаристская словесная деталь существенна – боевая, агрессивная тональность надолго станет важным атрибутом всех официальных деклараций на эту тему. На протяжении десятилетий последует череда постановлений ЦК ВКП(б) – КПСС, решений партийных пленумов и совещаний, докладов идеологов разного ранга, газетных и журнальных передовиц и прочих программных статей, в которых либо прямо, либо косвенно будут «спускаться» оценки творческой деятельности и предлагаться готовые клише «нужных» критических суждений и подходов.
Исходная позиция во всех случаях едина: абсолютный приоритет принадлежит не проблемам культуры и искусства с его тонкой, трудно постижимой и притягательной материей, не сложным взаимоотношениям художественных процессов и жизни, творцов и общества, но посредством разговора об искусстве продвижению сугубо идеологических интересов правящей партии. Иногда этот интерес обряжается в «мнение народа», хотя чаще идеологический заказ и не скрывается.
Сравнение многих официальных текстов и непременно следующих за ними откликов, устных и письменных обсуждений «в поддержку» выявляет поразительное единодушие и единообразие подходов: меняется лишь уровень агрессивности, форма подачи, но не идеи. При этом само преподнесение идей предельно упрощено – существуют всего два стиля словесного давления: диктующий, предписывающий (критика должна, обязана и т. п.) или распекающий, одергивающий, поучающий (критика виновата, забыла, больна, не может, не сигнализирует)… Вчитаемся в свободно подобранные фрагменты из текстов на тему литературно-художественной критики прошлых лет.
1925 г. «Ни на минуту не сдавая позиции коммунизма, не отступая ни на йоту от пролетарской идеологии, вскрывая объективный классовый смысл различных литературных произведений, коммунистическая критика должна беспощадно бороться против контрреволюционных проявлений в литературе» (из Постановления ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы»).
1948 г. «Музыкальная критика перестала выражать мнение советской общественности, мнение народа и превратилась в рупор отдельных композиторов» (из Постановления ЦК КПСС «Об опере „Великая дружба“ В. Мурадели»).
«Наша музыкальная критика… забыла уроки партии и скатилась в болото аполитичности и беспартийности»22 (К. Саква).
«Необходимо оздоровить нашу критику. Необходимо тщательнейшим образом проанализировать все ее ошибки и добиться того, чтобы критика была действительно партийной, принципиальной критикой, чтобы критика вела борьбу за коммунистическую идеологию»23 (Ю. Келдыш).
1958 г. «Отдельные заблуждающиеся или просто недобросовестные критики взялись за „пересмотр“ принципов марксистско-ленинской эстетики в отношении народности творчества, природы новаторства, выдвинули требования о необходимости „поправить“ оценку модернистских течений в музыке XX века. Они пытались смазать коренное различие между нашим, социалистическим искусством, с его новыми, глубоко прогрессивными идейно-художественными качествами, и искусством старого, буржуазного мира. Музыкальная общественность дала решительный отпор этим ревизионистским попыткам» (редакционная статья в газете «Правда» от 8 июня 1958 г.).
«Нашим критикам надо перестроить методы и формы своей работы, надо изжить кабинетные методы. Критики должны отражать мнение народа, рабочих, колхозников, интеллигенции – тех, для кого создается музыка» (А. Новиков. Из доклада на Пленуме Союза композиторов, посвященном Постановлению ЦК КПСС «Об исправлении ошибок в оценке опер „Великая дружба“, „Богдан Хмельницкий“ и „От всего сердца“»).
1972 г. «Критика все еще недостаточно активна и последовательна в утверждении революционных, гуманистических идеалов искусства социалистического реализма, в разоблачении реакционной сущности буржуазной „массовой культуры“ и декадентских течений, в борьбе с различного рода немарксистскими эстетическими концепциями» (из Постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике»).
«…постановление… напомнит союзам композиторов о необходимости… рассматривать область критики не как заброшенное „подсобное хозяйство“, а как подлинно авангардный „горячий цех“ боевого социалистического искусства»24 (И. Нестьев).
1983 г. «Главным методом влияния на художественное творчество должна быть марксистско-ленинская критика – активная, чуткая, внимательная и вместе с тем непримиримая к идейно чуждым и профессионально слабым произведениям» (из доклада Ю. Андропова на Пленуме ЦК КПСС).
«Чтобы выполнить программное положение партийных документов – быть главным методом влияния на художественное творчество – музыкальная критика должна в полном объеме овладеть марксистско-ленинской методологией, в частности по-новому претворить традиции подлинно научной критики, заложенные в партийной печати В.И. Лениным и его славными соратниками по строительству социалистической культуры. Назовем здесь М. Горького и А. Луначарского, В. Воровского и М. Ольминского, С. Шаумяна, Н. Крыленко, С. Спандаряна» (редакционная статья журнала «Советская музыка», 1983, № 12)[3].
1986 г. «Литературно-художественной критике пора стряхнуть с себя благодушие и чинопочитание, разъедающие здоровую мораль, памятуя, что критика – дело общественное, а не сфера обслуживания авторских самолюбий и амбиций» (из доклада М. Горбачева на XXVII съезде КПСС).
«В новой редакции Программы нашей партии особый акцент сделан на боевых, наступательных свойствах и качествах критики, отмечена – в одном ряду с творческими союзами и общественным мнением! – самостоятельная ее роль как помощника партии против проявлений парадности, безыдейности, эстетической серости»26 (Ю. Корев, курс. авт. – Т.К.).
Как видно, наряду с тремя объективно существующими аспектами функционирования художественной критики в культуре, а именно: критика и искусство, критика и наука, критика и общество, для культуры эпохи тоталитаризма возникает еще один – критика и правящая идеологическая структура. Эта структура, намереваясь подчинить, ломает естественный механизм функционирования художественной критики, в сущности, уничтожает ее, но при этом стремится создать видимость ее нормального, естественного присутствия в общественно-художественной жизни.
В романе «Доктор Живаго» Бориса Пастернака есть размышление, впрямую не связанное с проблемой отношения к искусству, но очень точно отражающее то, что происходило с общественным сознанием, с мыслью. «Я думаю, – пишет он, – коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности»27 (курс. авт. – Т.К.).
Лицемерие, фальсификация, догматические натяжки (якобы с благими целями) являются естественной составляющей санкционированного псевдокритического процесса. Как и имитация процветающей жизни, так и имитация свободной критической мысли, подобно правилам определенной игры, принимается всеми ее участниками. Иначе не выжить. В уже упоминавшейся статье Д. Оруэлла «Литература и тоталитаризм» все это изложенно предельно точно и просто: «Особенность тоталитарного государства та, что, контролируя мысль, оно не фиксирует ее на чем-то одном. Выдвигаются догмы, не подлежащие обсуждению, однако изменяемые со дня на день. Догмы нужны, поскольку нужно абсолютное повиновение подданных, однако невозможно обойтись без коррективов, диктуемых потребностями политики власть предержащих»28. Именно здесь, в царстве догм, кроется источник многих периодически возникавших в сфере искусства художественно-идеологических кампаний по разным поводам: то борьба с «формализмом», то с «низкопоклонством перед Западом», то с «буржуазным модернизмом» или «космополитизмом»… Слова-догмы, подобно гоголевскому Носу, начинали жить своей жизнью, вырастая до гигантских значений.
Такой критической деятельности надо было учить, и уже во второй половине 20-х годов в Московской консерватории организуется «семинарий по музыкальной критике». Цель его, судя по опубликованному проекту, была сугубо идеологической: «выработка методологических основ марксистской критики музыкального творчества», при помощи которых молодой профессионал должен уметь «найти правильный способ увязки повседневной работы музыкального рецензента с общими задачами художественно-идеологической работы»29.
Оценочное отношение, существуя в сознании критика на невербальном уровне, в самом критическом суждении всегда словесно оформлено. Значение слова в профессиональном критико-оценочном процессе абсолютно. Это – еще одна объективная причина того, что в тоталитарные времена критика, обращенная к произведениям искусства, была не только целью давления на художников, но и средством.
Формулируя абстрактные ценности (социалистический реализм, партийность, «понятно народу» и т. п.), изобретая их музыкальные эквиваленты, разрабатывая критерии оценок, Система устами своих специалистов предлагала по сути умозрительный мир, в который тщетно втискивался музыкально-художественный процесс. Это было «Зазеркалье», перевернутый мир слов – штампованных оценочных суждений (восхвалений или порицаний), клишированных обобщений, вроде бы и не связанных напрямую с миром звуков. Однако от этого «мира слов» во многом зависела жизнь искусства, а нередко и физическая жизнь музыканта.
«Спускаясь сверху», слова тиражировались, принимая вид оценочной деятельности, подменяя ее. Первым признаком такой подмены был отказ от убедительной аргументации, питаемой знанием. Резкая отрицательная оценочная характеристика, не подкрепленная аргументацией, превращалась в ярлык (согласно «Словарю русского языка» С. Ожегова, «ярлык» – это не только «указ ханов Золотой Орды», но и «листок с клеймом»). Перекос в сторону речевой выразительности за счет аргументации при клеймящей направленности выступления приводил и к еще одной серьезной потере: в художественно-критических текстах стали возможными грубые, бестактные оценочные характеристики, попирающий достоинство стиль. Словесное унижение, как всякое унижение, со своей стороны давило и без того уязвимую личность художника (объекта критики или его коллеги – читателя, свидетеля унижения), внося атмосферу страха. Примеров много. Вот лишь некоторые из опубликованного (курс, везде авт. – Т.К.)30:
1936 г. «Сумбур и конструктивистские изыски „Леди Макбет“, крикливое убожество музыки „Светлого ручья“ в одинаковой мере дают искаженное, фальшивое представление о действительности» (В. Белый).
1948 г. «Нет надобности полемизировать с этим реакционным бредом» (Ю. Келдыш о книге Л. Сабанеева «История русской музыки»).
«Предельного уродства достиг молодой Мосолов в своих „Газетных объявлениях“ и в невыносимо какофоничной симфонической пьесе „Завод“» (доклад Т. Хренникова на I съезде Союза композиторов).
1958 г. «Одна известная певица пела детские песни Каретникова. Это было собрание какофонических аккордов» (Г. Крейтнер).
Приведенные образцы оценочных характеристик, произнесенных профессиональными музыкантами, всего лишь – знаки времени. Они принадлежат ритуальному оценочному поведению, где главный элемент ритуала – уничижительные слова (при противоположной цели на их месте было бы столь же бездоказательное парадное славословие). Атмосферу тоталитарного оценочного ритуала в виде гиперболической «двух-минутки ненависти» с убийственной остротой запечатлел Оруэлл в своей антиутопии:
Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь тридцать секунд – и притворяться тебе уже не надо. Словно от электрического разряда, нападали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности…31.
Являясь результатом личного творческого акта, критика предполагает истинность сказанного для его автора, который говорит от своего «я», ставит подпись и как бы несет моральную ответственность за свою позицию, свои убеждения и оценки. Псевдокритика подобна круговой поруке. Даже будучи с подписью, она проводит в жизнь некую обобщенную «генеральную» линию.
Коллективная ответственность развращает. Приведенные выше фрагменты анонимных постановлений, передовиц и докладов, с одной стороны, и авторских выступлений на те же темы – с другой, абсолютно идентичны, как будто их писала одна рука (в некоторых случаях одна рука и писала – многие скрытые авторы сегодня известны, задания такого рода поручались людям из той же профессиональной среды). Альфред Шнитке, вспоминая пережитое, затрагивает эту проблему: «Я даже полагаю, – говорит он, – что никто из тех, кто формулировал обвинения, персонально за них как бы не отвечал.
Формулировки существовали вне людей – они были растворены в воздухе»32.
Однако «спускались» не просто слова, но обязательные к тиражированию оценки и критерии. Тексты постановлений, погромных редакционных статей, официальных докладов уже сами по себе, по своей жанровой принадлежности относятся к области художественной критики, поскольку по смыслу это оценочные суждения поясняющей или регулирующей направленности, обращенные к вопросам искусства и художественной жизни. А значит, их анонимность – условная. И речь не о том, кто писал заготовки, а о том, кто их визировал. Это и есть автор, текст отражает его позицию, уровень его компетентности и запросы среды, им представляемой. Отсюда нередкие нелепости вплоть до невежества в трактовках музыкальных явлений, неуважение к творческой личности, популистские заигрывания с необразованной частью общества, канцелярское косноязычие и даже грубости. Можно вспомнить, например, рассуждения Жданова о «новаторстве» – ценностном критерии, очень важном для музыки европейской традиции. Или рассуждения Хрущева о додекафонии (звучало это примерно так: я не знаю, что такое додекафония, но, по-моему, это то же, что какофония).
Такая «критическая деятельность» вершила свое черное дело. Она взращивала неуважение к творческому труду, к личности художника, а шире – к творческой интеллигенции, открывая простор для посредственностей. Плоды мы будем еще долго пожинать. Направленность этой деятельности была прямо противоположна тому, что исторически вызвало к жизни художественную критику, и тому, что двигало ее великими мастерами – развитие искусств, совершенствование неповторимой человеческой личности. То есть корабль отечественной художественной критики вроде бы плыл, но штурвал был захвачен аппаратом духовного подавления.
Распространение авторитарной власти на духовную жизнь общества – одна из важных черт средневековья. «В средние века господствовало теологическое понимание музыки, которая рассматривалась с церковно-утилитарной точки зрения как „служанка религии“. Такой взгляд не допускал свободы критических суждений и оценок», – пишет известный советский музыкальный ученый и критик Ю. Келдыш в Музыкальной энциклопедии33. Но тот же автор в той же статье утверждает, что «неотъемлемым качеством сов[етской] критики является партийность, понимаемая как сознательная защита высоких коммунистических идеалов, требование подчинения искусства задачам социалистического строительства и борьбы за окончательное торжество коммунизма, непримиримость ко всем проявлениям реакционной буржуазной идеологии…» Что есть эти требования подчинения и борьбы, непримиримость, как не проявления того же средневекового, феодально-крепостного диктата в области духовной жизни?!
Феодально-средневековые ассоциации, весьма распространенные применительно к советскому времени, отнюдь не просто эффектный образ. Здесь налицо прямая генетическая связь. Причем речь идет именно об общественно-эстетическом сознании, хотя и в творчестве много сходного. Например, в атмосфере жестких ограничений созидательная художественная энергия, если ей удавалось сохранить себя, особенно сильно аккумулировалась именно в области творчества. Вот почему и средневековье, и советский феодализм оставили нам художественные шедевры. Хотя сохраниться было не просто.
В блистательном исследовании М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» встречаем характеристики, ошеломляющие параллелями: «Средневековая серьезность была изнутри проникнута элементами страха, слабости, смирения, резиньяции, лжи, лицемерия или, напротив, элементами насилия, устрашения, угроз, запретов. В устах власти серьезность устрашала, требовала и запрещала; в устах же подчиненных – трепетала, смирялась, восхваляла, славословила»34.
Сравнение некоторых текстов уже нашего времени, исходивших «сверху» и «снизу», демонстрируют сходные моральные основы взаимоотношений власти и «подданных». Их лексика очень точно отражает жизнь в страхе, когда сильный может быть грубым, устрашающим, а подчиненный, зависимый – трепетно-вернопоподданническим. Для подобного сравнения можно привести некоторые официальные тексты 1948 и 1958 гг., содержащие критико-оценочный взгляд на музыку. При этом если 1948 г. позднее непременно трактовался в черном цвете, то 1958-й нередко выдавался за время «исправления ошибок» (так называлось и партийное постановление). Однако даже выборочный анализ оценок и характеристик, сравнений и эпитетов говорит об обратном – суть не менялась. Это одна эпоха. Сравним.
1948 г. «…композиторы, у которых получились непонятные для народа произведения, пусть не рассчитывают на то, что народ, не понявший их музыку, будет „дорастать“ до них. Музыка, которая не понятна народу, народу не нужна… Композиторы должны пенять не на народ, а на себя, должны критически оценивать свою работу, понять, почему они не угодили своему народу, почему не заслужили у народа одобрения»… (из доклада А. Жданова).
1948 г. «Вооруженные ясными партийными указаниями, мы сумеем разгромить до конца всякие проявления антинародного формализма и декадентщины»…(из доклада Т. Хренникова)
1958 г. «Советская музыка предстает перед всем прогрессивным человечеством как юное, бодрое, убежденное в правоте своих исканий и утверждений искусство. В нем по вешнему звенит чувство рождения нового мира и пламенеет ненависть к врагам его»… (из ред. статьи газеты «Правды»).
Это – на одном полюсе. А вот как выглядит полюс другой – раболепно подобострастный: текст официального (!) письма московской композиторской организации Центральному комитету КПСС в ответ на Постановление 1958 г. «Об исправлении ошибок…»:
Композиторы и музыковеды города Москвы с чувством искреннего волнения и глубокой благодарности восприняли постановление ЦК КПСС. Этим постановлением Коммунистическая партия вновь показала пример отеческой заботы о нашем музыкальном искусстве, пример кровной заинтересованности в творческой судьбе советских музыкантов. Вдохновляющие идеи великой партий на протяжении всей истории советской музыки являются незыблемой основой ее успешного развития, ее идейно-художественного роста. Коммунистическая партия всегда была и будет для нас верным другом, требовательным критиком, заботливым и мудрым наставником 35 (курс. авт. – Т.К.).
Приведенный текст ясно демонстрирует, кто в доме хозяин и как живется его крепостным. Сравнение послания композиторов с предшествующими цитированными материалами удивительным образом напоминает «Двух евреев» из «Картинок с выставки» Мусоргского. По тону общения, по театральной броскости ролей. Это тем более грустно, что «письмо композиторов и музыковедов» появляется тогда, когда на дворе 1958 г., хрущевская «оттепель». Но это же подтверждает и главное наблюдение: Система продолжает благополучно жить и действовать. Обращение музыкантов, как чуткий барометр, отражает это. Оно – «ритуальный танец» самосохранения…
Так существовала ли, могла ли существовать подлинная музыкальная критика в отечественной художественной культуре эпохи тоталитаризма?
Как это ни покажется парадоксальным, ответ все же должен быть положительным. Во-первых, художественно-критическая мысль существует объективно, независимо от чьей-то воли, она исчезнет лишь тогда, когда исчезнет искусство и потребность человека в нем. Оценочное отношение, как помним, способно проявлять себя и в невербальных формах – в слушательском поведении, а также в виде параллельных, неуправляемых форм оценки типа личных впечатлений, раскрываемых в кругу единомышленников, в кулуарах разной слушательской среды, любительской и профессиональной, то есть в молве.
Проявляется оно и в творческой практике – в стремлении подражать, развивать, двигаться в том направлении, ценность которого определяет собственная художественная интуиция, настроенная на волну своего времени. Кроме того, сильным оценочным актом является и исполнительский выбор (репертуарные приоритеты из новой музыки) – здесь также были и конформисты и нонконформисты, готовые отстаивать свой художественный выбор. История музыки советского периода сохранила много примеров столкновений музыкантов с идеологическими чиновниками, когда из-за репертуарного выбора под угрозой оказывалось не просто отдельное выступление (например, премьера Тринадцатой симфонии Шостаковича под управлением К. Кондрашина в декабре 1962 г.), но и зарубежные гастроли или даже вся публичная исполнительская карьера. Запрещения сломали не одну творческую судьбу.
Однако, независимо от трагедий, имело место и другое: факт запрета в конечном счете становился лучшей рекламой, априори выводя сочинение в разряд значительных явлений культуры. Он поднимал ажиотажный интерес у публики, а значит, согласно механизму критической деятельности, влиял и на творческий процесс (увеличивалось число последователей опальных композиторов) и на отношение слушательской аудитории, заранее благосклонное. То есть силы духовного подавления и принуждения рождали и противодействие. Они приучали жить «от противного», руководствуясь принципом, согласно которому все, что запрещают, чему мешают, на что навешивают клеймящие ярлыки, и есть настоящее, художественно ценное, а то, что усиленно проталкивают, поддерживают сверху, – эрзац, искусство, ценность которого весьма сомнительна. И если художественно образованная и самостоятельно мыслящая часть общества сама формировала свои оценочные суждения, в том числе поддерживая гонимых талантов, если другая, конформистски настроенная часть шла в ценностном форватере, предлагаемом официальной идеологией, то была и третья часть, для которой названный выше оценочный подход «от противного» уже по законам моды стал важнейшим критерием в общении с новым отечественным искусством: раз запрещают, значит хорошо.
Во-вторых, возвращаясь к поставленному вопросу, – была ли критика, положительный ответ может быть дан, не только исходя из той оценочной атмосферы, которую можно восстановить по косвенным признакам – воспоминаниям современников, эпистолярному наследию, репертуару ведущих мастеров. К положительному ответу влекут и критические работы ряда профессиональных музыковедов, то есть в прямом смысле музыкальная критика в ее отдельных образцах.
О том, что независимая профессиональная критическая мысль не иссякала полностью, говорит хотя бы тот факт, что среди громимых были не только композиторы (писатели, поэты, художники, режиссеры…), но и критики. Да и сами постановления, как правило, содержали в себе разносную часть, направленную на критиков, которые делают «не то», особенно если с их стороны глубокого анализа и высоких оценок удостаивались сочинения и авторы, не приемлемые для официальной линии. Так, в партийном постановлении 1948 г. в качестве главного упрека в адрес критики произнесено следующее: «… некоторые критики вместо принципиальной объективной критики, из-за приятельских отношений, стали угождать и раболепствовать перед теми или иными музыкальными лидерами, всячески превознося их творчество». А «лидеры» эти, как помним, Прокофьев, Шостакович, Мясковский, Шебалин… И тут же постановлению вторят критические выступления «коллег», к примеру такое: «Книга т. Мартынова о творчестве Шостаковича – крайне вредная книга, заполненная ужасающей смесью словесной шелухи и откровенного подхалимства, нередко выходящего даже из рамок здравого смысла»36 (М. Коваль).
Иными словами, периодически возникавшие партийные постановления, а следом разносные статьи одной из причин своего появления имели именно выходившую из повиновения критику. Живая, независимая мысль, как только чуть ослаблялся прессинг, вырывалась наружу. Ее надо было одернуть, загнать в нужное русло, а то и припугнуть (лицемерно посоветовав быть «смелее»). При этом совершенно не обязательно, чтобы музыкально-критическое слово было направлено на творчество опальных современников, музыкальных лидеров. Удар настигал любую независимую от официального догмата мысль, несшую в себе оценочное начало. В критической статье, посвященной сборнику материалов о Танееве и Рахманинове, громя участников – С. Бэлзу, В. Каратыгина (к тому времени давно покойного), Л. Мазеля, В. Протопопова, ее автор Ю. Келдыш пишет: «Появление этих сборников связано с реакционно-идеалистическими и формалистическими тенденциями… Приходится удивляться беспечности издательств, которые позволяли протаскивать в печать махровую декадентщину и идеализм в столь слабо замаскированном виде»37.
В приведенной цитате ощутима угроза, направленная не только в сторону авторов, то есть мысли, но и в сторону издательства, то есть художественного производства. Она дает почти физическое ощущение монолитной связи всех структур, полного подчинения культуры жесткому идеологическому диктату. Над всеми довлела сила, которая незримо диктовала что писать, кого издавать, как редактировать и т. п. Права профессиональной личности – издателя, редактора, и, особенно, автора – в тотально неправовом государстве в юридическом смысле никого не волновали. При этом наиболее легко попиралось именно авторское право (автор – одинок), а прикладная музыковедческая деятельность в области редактуры, естественно, глубоко деформировалась. Редактору музыки, наверное, никогда не пришло бы в голову выбросить несколько тактов, изменить гармонию или дописать от себя мелодический пассаж, который более соответствует его вкусу. А с музыковедческим текстом (газетным, журнальным, а то и книжным) считалось вполне возможным и одно (выбросить) и другое (переписать по-своему). В основе подобных подходов – и традиционное неуважение к творческой личности, и столь же привычное игнорирование авторского права, и тотальный административно-командный стандарт: начальник – подчиненный. Каждая издательская структура советского времени была абсолютным монополистом и, одновременно, идеологическим цензором. Автор, жаждавший публикации, не имел другого выхода, кроме подчинения, он всегда был зависим…
Наконец, интенсивному развитию профессиональной критической мысли способствовала и научная деятельность, направленная на исследование новейших явлений как отечественного, так и западного музыкального искусства. Научные по жанру труды – диссертации, статьи, доклады, связанные с творчеством современников, нередко оказывались той нишей, где могла развиваться независимая оценочная деятельность, поскольку наука более элитарна, замкнута на узкую аудиторию, то есть не столь публична, а значит, менее контролируема. Хотя всевидящее око в лице коллег по цеху было способно добраться и сюда – всегда могли найтись недоброжелатели и доносчики, готовые сигнализировать о свободомыслии и неблагонадежности, якобы спрятанных в научных изысканиях. И все же именно из среды ученых, занимавшихся проблемами новой музыки, выходила серьезная независимая критическая мысль.
Главное заключение налицо: музыкальная критика все годы продолжала существовать не благодаря, а вопреки Системе. Ее питало и стимулировало живое музыкальное творчество и неистребимый мыслительный процесс. Но одновременно внутри самой музыкальной культуры именно критика испытала на себе наибольшее давление и пагубные последствия. Подобно литературе и в отличие от самой музыки, будучи явлением конкретной, вербальной природы, да к тому же общественно-художественного характера, официальная критика в наибольшей степени отразила все извращения своего времени. Ведь именно моделируя единое для всех восприятие, «спуская» общие ценностные критерии, унифицируя литературную манеру тиражированием идеологизированных штампов, создавался эрзац критической деятельности. Этим было отравлено не одно поколение и авторов и читателей.
Сегодня все эти тексты – далекое прошлое, красноречивый документ эпохи. Подобно любому критическому суждению на дистанции времени, все приведенные оценочные высказывания интересны не сами по себе, а лишь как отражение «ушедших пониманий». И как назидание специалистам, чье орудие труда – слово. Они уже принадлежат истории и история их сохранит.
1.4. Профессиональная музыкальная журналистика
Во главе угла современной музыкально-журналистской практики стоит важнейшая проблема – проблема профессионализма. Из чего он складывается? Можно выделить несколько важнейших компонентов, позволяющих отличить профессионала от дилетанта в разных областях:
– человек обучен (или самообразован) избранному роду деятельности, он владеет ее спецификой в объеме, достижимом лишь в условиях специальной подготовки;
– человек понимает цели и смысл своей работы (речь, естественно, идет не о материальной стороне труда, хотя для профессионала это и кусок хлеба);
– человек знает оптимальные пути, как короче и эффективнее этих целей достичь.
В автобиографических записках «О себе» Б. Асафьев очень интересно формулирует свое становление музыкальным журналистом-критиком или, как он сам называет, – «музыкальным писателем». Это был осознанный и целенаправленный процесс самоформирования и самосовершенствования в определенном направлении: «Я основательно развил в себе процесс оценочного мышления, недурно знал историю музыки и историю искусств, прочитал основополагающие исследования в области музыко– и искусствознания, следил за литературой, понимал эстетические учения, сам прошел ряд исторических и философских дисциплин, обладал чутким слухом»38.
Становление профессии музыкального журналиста в современном ее понимании происходило постепенно. Осмысление этого пути для начала нуждается в определенном историческом экскурсе – надо проследить эволюцию авторства.
Эволюция авторства
Общественная потребность в публичном освещении музыкально-критической мысли на начальном этапе прежде всего связывалась с просветительской тенденцией. И реализовать эту потребность могли просвещенные любители музыки, а точнее – наиболее широко образованные (в том числе и музыкально) люди, принадлежащие, с одной стороны, к слушательской элите, с другой – к наиболее общественно активной, просвещенной части общества. При этом музыкальная журналистика могла сделать свои первые шаги только на базе периодической печати, то есть уже существовавшей платформы массово ориентированного печатного слова. Слово о музыке, в котором все более нуждалось общественное сознание, мог произнести тот, кто это умел сделать профессионально. Писатели, «гуманитарии» широкого профиля, как сказали бы мы сегодня, стали предтечами профессиональной музыкальной журналистики.
Именно ожидание и поиск таких просвещенных «особливых писателей» сквозит в словах Ломоносова в отношении литературного процесса, но эта мысль также проецируется на музыкальную ситуацию:
Настоящее время заставляет опасаться, чтоб число умножившихся ныне в свете авторов не завело в таковую же темноту разум человеческий, в каковой он находился от недостатку писателей разумных. Опасность сия отвергается одним только способом, когда помогать нам будут особливые писатели, которые различать станут добрых авторов от худых39.
Иными словами, музыкально-журналистская практика зарождалась в недрах общей литературно-журналистской деятельности. В частности, в истории русской музыкальной критики (музыкальной журналистики, в современном понимании) первым профессионалом следует считать князя В.Ф. Одоевского (1804–1869) – писателя, ученого, философа, человека с университетским образованием, сочинявшего также музыку, организатора Русского музыкального общества, крупнейшего общественно-музыкального деятеля в культуре России той поры.
В качестве обще гуманитарной образовательной основы, которая со своей стороны способствовала формированию профессионального музыкального критика, нередко оказывалось юридическое образование. В нашем отечестве его, в частности, имели А.Н. Серов, В.В. Стасов, П.И. Чайковский, В.П. Коломийцов, Ю.Д. Энгель, А.В. Оссовский (как, кстати, и Э.Т.А. Гофман или Э. Ганслик на Западе). Видимо, развиваемый данной профессией усиленный логический аппарат вносил свою лепту в успешное развитие профессионального музыкально-критического мышления (хотя, например, С.Н. Кругликов и В.Г. Каратыгин учились на математическом факультете университетов, а Ц.А. Кюи окончил военно-инженерную академию). Само собой разумеется, все это дополнялось тем или иным образованием музыкальным.
Растущая «узкая специализация», то есть постепенное углубление и профессиональное обособление деятельности, естественно, должно было выдвинуть на первый план авторство музыкантов по профессии. Ими нередко становились композиторы. XIX в. особенно богато представлен критической деятельностью музыкантов, самих сочинявших музыку. Достаточно назвать такие имена, как Шуман, Берлиоз, Лист, Григ, Серов, Чайковский, Кюи… В XX в. к ним присоединились Дебюсси, Мясковский, Асафьев и многие другие… Причиной того, что композиторы берут в руки перо музыкального критика, нельзя считать лишь материальные проблемы многих из них, что чаще всего акцентируют историки музыки. Ведь даже позднее, когда профессия музыкального критика-журналиста, как правило музыканта с консерваторским образованием (возможно в придачу к другому), обособилась в самостоятельную сферу деятельности, композиторы с музыкально-критической деятельностью не порвали. Они до сих пор занимают в ней свое особое место.
Композиторская музыкальная критика
Это самобытное явление требует отдельного рассмотрения. Еще у Пушкина мы встречаем рассуждение о том, что «состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы». В нем – не просто уважительное отношение великого поэта к творческой деятельности в родственном цехе. Критика для него – важный источник просвещения и воздействия на общественное сознание, она готовит почву, в которую можно сеять мудрое, доброе, вечное. Очевидно, многие художники испытывали потребность участвовать в процессе формирования «единомыслящих» и «единочувствующих», они хотели бы создать своего идеального читателя-слушателя-зрителя. Подобным строем чувств продиктованы многократные высказывания композитора-критика А.Н. Серова, мечтавшего приучить публику относиться к области музыки и театра с «логическим и просвещенным мерилом».
Однако одно дело воспитание чувств и мыслей или просветительство как таковое, другое – собственно критико-оценочная деятельность. Здесь композиторскую критику подстерегают серьезные сложности. Гёте, например, считал, что «художник, создающий ценные произведения, не всегда в состоянии давать оценку своим и чужим работам»40. А Арнольд Шёнберг полагал, что они и не должны к этому стремиться в отличие от собственно критиков, роль которых, по его мнению, принципиально иная. В одном из своих писем он развил данную мысль:
Теперь, наконец, по поводу Вашего вопроса, считаю ли я, что композиторы, как правило, бывают честными и беспристрастными критиками других композиторов. Я думаю, они, прежде всего, – борцы за свои собственные музыкальные идеи. Идеи других композиторов им враждебны. Инстинкт борца невозможно сдержать, его удары оправданы, если крепко бьют в цель, и только тогда он честен. Я не считаю обидными слова Шумана о Вагнере и Брукнере, или слова Гуго Вольфа о Брамсе. Но меня раздражает то, что о Вагнере и Брукнере говорил Ганслик41.
Таким образом, композиторская критика, при всей ее значимости для современников, в истории музыкальной культуры особенно важна как зеркало внутреннего мира, ценностных ориентации, философских взглядов и мироощущения данного конкретного музыканта в контексте его собственного творчества. Она позволяет за внешней картиной критической деятельности композитора, за остротой суждений, пристрастиями и антипатиями понять атмосферу времени и окружающей культуры, в каковой, по его собственному, субъективному ощущению, он творил, боролся, страдал, то есть жил.
В рамках профессиональной музыкально-критической журналистики композиторская деятельность данного рода занимает свое частное место, не она определяет картину в целом. Усложнение музыкально-культурного процесса вызвало к жизни критико-журналистское творчество в куда больших объемах, что стимулировало зарождение и совершенствование целой когорты профессионалов. Общим для них становится обязательное музыкальное образование, поскольку усиление аналитического начала в специальной музыкальной журналистике требует все более углубленного владения предметом оценки. Именно здесь зарождалось и развивалось прикладное музыковедение. И не только оно.
Если предтечей профессиональных музыкальных журналистов-критиков, как уже говорилось, были философы и писатели, а, например, музыкальных ученых-теоретиков – композиторы, формулировавшие правила и принципы музыкального сочинительства, то историческая музыкальная наука в современном ее понимании в значительной мере формировалась внутри музыкальной критики. По мере усложнения задач критики, в частности углубления аргументации, равно как и роста профессиональной ориентированности ее авторов, музыкально-критические труды все чаще принимали вид трудов научных.
Так, многие статьи корифеев русской музыкальной критики, опубликованные в периодических изданиях, газетах и журналах, могут в равной мере считаться работами научного уровня. Тому есть несколько причин.
Во-первых, в воздухе XIX – начала XX в. витала потребность глубинного осмысления проблем отечественной истории музыки и музыкальной культуры, и просвещенные авторы музыкальной публицистики использовали для этого любую трибуну. Во-вторых, сами издания, такие, например, как еженедельник (первоначально выходил ежемесячно) «Русская музыкальная газета» (1894–1918, СПб., редактор-издатель Н.Ф. Финдейзен), еженедельный журнал «Музыка» (1910–1916, М., редактор-издатель В.В. Держановский), журнал «Музыкальный современник» (1915–1917, Пг., редактор-издатель А.Н. Римский-Корсаков), имели достаточно образованного читателя. Публикуясь в них, авторы обращались к посвященным, знающим и заинтересованным читателям, то есть как бы к специалистам – адресату научных изысканий. В-третьих, это была еще традиция русской литературной критики XIX в., по размаху проблем и обобщений поднятой до научного уровня. Иными словами, русская классическая музыкальная критика была чревата музыкально-исторической наукой.
Современные формы музыкальной журналистики
Современная ситуация в отечественном музыкальном процессе иная. Сферы научной и критической мысли о музыке достаточно четко разграничены: на одном полюсе академическое музыковедение – диссертации, монографические исследования, статьи в научных сборниках, на другом – собственно музыкальная журналистика.
Журналистика также функционирует в разных формах, внутри которых есть своя специфика.
Во-первых, в традиционном письменном выходе через периодику – журналы (отсюда и название рода деятельности и профессии), газеты, а также через любое доступное ей печатное слово, например стенную печать или листовки (именно в таком виде в свое время выходили во Франции хлесткие публикации – фельетоны, жанровое обозначение которых происходит от слова feuille – листок).
Во-вторых, в облике журналистики устной. Она реализует себя главным образом через электронные средства массовых коммуникаций, а именно радио и телевидение.
Третьим каналом выхода современной музыкальной журналистики становится стремительно набирающий силу Интернет.
Газетно-журнальная (пресса) музыкальная журналистика. Исторически сложилось так, что именно печатное слово в периодической печати прежде всего ассоциируется с понятием музыкальной журналистики. Она зародилась в ее недрах, и долгое время это был единственный канал публичного выхода профессиональной музыкально-критической мысли. История сохранила богатейшее наследие в этой области творчества, которое продолжает пополняться. Вопреки опасениям скептиков, считающих, что будущее только за электронными СМИ, а остальное отомрет, в неослабевающем интересе к печатному слову – гарантия его значения на долгую перспективу.
Важнейшим российским печатным органом федерального значения, где постоянно освещаются события и проблемы музыкальной жизни, остается газета «Культура» (в советское время, соответственно, «Советская культура»), основанная в ноябре 1929 г. В 90-е годы в новой России начали выходить и специальные музыкальные газеты: «Российская музыкальная газета» (как бы воссозданная «Русская музыкальная газета»), «Музыкальное обозрение». Вероятно, есть и достаточное количество региональных и ведомственных специальных изданий, уделяющих первостепенное значение музыкальным вопросам. К примеру, газета Московской консерватории «Российский музыкант» (в 1938–1991 гг. под названием «Советский музыкант») с приложением «Трибуна молодого журналиста» (с 1998 г.), в которой публикуются студенты.
Важным местом выхода серьезной музыкальной критики, ориентированной на профессионалов и просвещенных любителей, в нашей стране остается единственный специальный «толстый» журнал – «Музыкальная академия» (до 1992 г. – «Советская музыка»). А также «тонкий» журнал «Музыкальная жизнь», в котором преобладает скорее просветительская, чем критико-оценочная направленность. Однако в журнале с его длительным производственным процессом, критический отклик лишается своего важнейшего свойства – оперативности.
Любопытно сравнение с современной ситуацией на том же поприще в Соединенных Штатах, отраженной в интервью с известным журналистом В.Познером. «В Америке ведь не меньше музыкальных критиков, чем у нас, – говорит В. Познер (и, пожалуй, в этом ошибается – у нас их много меньше. – Т.К.). – Но пишут они главным образом в массовой печати – „New York Times“, „Washington Post“ и пр. Как только происходит заметное музыкальное событие, музыкальные критики (подобно своим собратьям по театру или литературе) откликаются большими серьезными статьями. И вот это читается. Так что журналам в общем-то нет места: важен сиюминутный отклик на события, намного более жизненный»42 (курс. авт. – Т.К.).
Сегодня музыкально-журналистская практика и у нас движется в том же направлении. И, наряду с еженедельником «Культура», актуальная музыкальная критика широко представлена во многих ведущих ежедневных газетах («Известия», «Труд», «Ведомости», «Коммерсант» и др.). В них работают профессионалы с консерваторским образованием, причем уже не по совместительству, временно выходя в музыкально-критическую журналистику из своей основной академической деятельности, а на постоянной основе. Это важно. Не занимаясь журналистикой постоянно, автор, как правило, лишен ощущения разносторонних явлений непрерывно текущей музыкальной жизни (имеющиеся исключения только подчеркивают правило). В результате целостный музыкально-культурный процесс может вообще не попасть в его поле зрения – тщательно перепахивая свою научно-творческую ниву, он зачастую оказывается не в состоянии охватить общую социокультурную картину, вне которой музыкально-критическая журналистика существовать не может. Круг доминирующих вопросов в таких публикациях может оказаться принадлежащим иной системе ценностных координат.
Музыкальная радио– и тележурналистика. Электронные СМИ – радио и телевидение – интенсивно осваиваются всеми формами журналистики. Для музыкальной журналистики здесь также необъятный творческий простор. Особенно это относится к телевидению. Будучи, с одной стороны, блестящим информационным каналом, с другой – оно является популярным каналом художественным, способным иллюстрировать любой разговор разносторонним, полноценным музыкальным и музыкально-театральным материалом. А что, спрашивается, может быть ценнее для прикладного музыковедения?
Основной инструмент музыкального журналиста – слово. Произнесенное в эфире, особенно с экрана, слово обладает широчайшими возможностями, у него своя магия воздействия. Вот почему на телевидении во всем мире с таким успехом выступают говорящие музыканты – композиторы, дирижеры, исполнители. Известно, что Леонард Бернстайн за несколько лет своих блестящих телевизионных выступлений буквально на 180 градусов изменил отношение Америки к серьезной музыке!
Публичные беседы о музыке и музыкальной жизни – огромное и ответственное поле деятельности профессиональной музыкальной журналистики. Особенно когда собеседником каждого по ту сторону экрана оказывается известный исполнитель, популярный музыкальный критик, просветитель, комментатор, ведущий, рассказчик. Благодаря «эффекту участия» – важнейшему завоеванию телевизионной эстетики – телезритель имеет возможность быть не просто пассивным наблюдателем происходящего. Он втягивается в живой мыслительный процесс, активно взаимодействует со своим визави на экране не только интеллектуально, но и эмоционально.
У музыкальной тележурналистики, разумеется, есть своя специфика. Будучи не только словом, мыслью (как журналистика письменная), но и «звукозрелищем», тележурналистика выставляет требования и других профессиональных качеств и приемов. Здесь важна манера речи – интонация, тембр, темп, а также (как в любом визуальном явлении) артистизм, в том числе и своего рода саморежиссура в организации себя в пространстве. И это при том, что телеэкран – беспощадный рентген, он не прощает фальши и наигрыша, требуя абсолютной органики, естественности и простоты, особенно в передачах интеллектуального плана. То есть деятельность музыкального тележурналиста связана с целым рядом специальных требований.
В современной России радиоэфир, к сожалению, «забит» звучащей «попсой» и крайне поверхностными разговорами на околомузыкальные темы. Исключение – единственный музыкально-просветительский канал «Орфей», который нуждается в бережной охране и государственной поддержке. Зато чрезвычайно важной музыкально-просветительской трибуной стал телеканал «Культура», основанный в 1997 г. На его базе профессиональная музыкальная тележурналистика может развернуться в самых разнообразных формах и жанрах (о жанрах радио– и тележурналистики см. раздел 3.6).
Интернет-журналистика. Термин «интернет-журналистика» еще достаточно новый, хотя это направление в сфере журналистики развивается стремительно. Ряд университетов включили его в свою программу, выходят учебные пособия, множатся веб-издания. В сети можно получить и широкую информацию обо всех начинаниях, и изложение основных теоретических позиций, освещающих данное направление. На некоторые хочется обратить внимание:
«Важной особенностью интернет-журналистики является и ее интерактивность, то есть возможность оперативно вступать в диалог с заинтересованным читателем при помощи форумов или гостевой книги, которыми оснащены многие виртуальные издания».
«В обозримой перспективе журналистика on-line вряд ли полностью вытеснит традиционные печатные издания. Но даже при наличии такой альтернативы, к Интернету будет психологически тяготеть та часть общества, которая стремится жить „в ногу со временем“»43.
Музыкальная журналистика в Интернете еще не стала полноценным самостоятельным творческим направлением. Она, прежде всего, присутствует в нем как альтернативный канал, дублирующий основной источник. Ведущие периодические издания создают специальную интернет-версию каждого выпуска. Телевизионные каналы, в частности канал «Культура», – также. Московская консерватория размещает на своем сайте в Интернете обе консерваторские газеты – «Российский музыкант» и студенческая «Трибуна молодого журналиста»44.
Новой, уже самостоятельной формой музыкальной интернет-журналистики можно считать специальные сайты, посвященные музыкальным деятелям, коллективам, различным музыкальным организациям, злободневным событиям. Уже сейчас ощутимы огромные плюсы их присутствия в культурном пространстве – возможность получения в режиме on-line многообразной актуальной информации по интересующим вопросам и проблемам. Но есть и серьезные минусы: частая анонимность веб-журналистов, а значит безответственность, и как следствие – возможность натолкнуться на недостоверную, тенденциозную и даже лживую информацию.
Музыкальная интернет-журналистика существует пока в основном в письменной форме. Она выходит к читателю в виде текста, возможно с иллюстрациями, который он принимает с экрана. Но когда в Интернете звук займет равнозначное изображению место, для музыкальной интернет-журналистики начнется новая, «звездная» эра. Изучение специфики и возможностей интернет-журналистики применительно к музыкальной культуре должно занять свое место в учебном процессе.
Образование
Каждая сфера музыковедческой деятельности нуждается не только в талантах, но и в профессионалах. А профессионализм в равной мере достигается и практикой, и образованием. В ряду основных направлений современного музыковедческого образования прикладное до сих пор остается нелюбимым ребенком, специалистов формирует в основном практика. Однако, как особая профессия, имеющая аналоги в других, внемузыкальных областях культуры, журналистика музыкальная также нуждается в образованных специалистах.
Каков же выход из существующего положения? Разумеется, не такой, какой прозвучал в одной из статей 30-х годов прошлого столетия: «… необходима поголовная „мобилизация“ всех музыковедов, под тем или иным предлогом уклоняющихся от трудной и неблагодарной деятельности музыкального критика; каждый музыковед должен быть музыкальным критиком!» Автор статьи Р.И. Грубер отнюдь не солидаризируется с подобной, видимо распространенной позицией, утверждая как раз, что музыкальная критика требует специальной одаренности. «Требовать от каждого музыковеда таких данных, – пишет он далее, – значит требовать невозможного»45. Но выход есть. Он – в создании дополнительного направления в музыковедческом образовании.
Начало было положено еще Б. Асафьевым. По собственному опыту осознавая музыкальную критику как особую и нужную профессию, он, будучи одним из основателей музыковедческого факультета в Ленинградской консерватории в 1929 г., предложил четыре специальности для музыковедческой специализации: историю музыки, теорию музыки, музыкальную критику и музыкальную этнографию46.
В первый специальный учебный план для критиков-профессионалов входили такие предметы, как история музыкальной литературы, история музыкально-теоретических воззрений, психология музыкального творчества и восприятия, история музыкальной критики и журналистики, музыкально-критический и лекторский практикум, практикум по изучению музыкального быта и слушателя. Именно Асафьевым была организована в консерватории «лаборатория музыкального быта», вне которой не мыслилось полноценное формирование музыкального журналиста.
Конечно, современная ситуация в музыкальной культуре требует значительно более широкого круга необходимых для воспитания профессионального музыкального журналиста дисциплин. К асафьевскому проекту сегодня надо бы добавить музыкальную социологию и культурологию, философию и историю искусств, школу литературного, ораторского и сценического мастерства, историю и теорию видов и форм массовой музыкальной культуры, технологию каналов массовых коммуникаций, владение аудио– и видеотехникой, освоение принципов работы в Интернете. В музыкальных вузах, которые введут специализацию по музыкальной журналистике, должна быть своя печатная трибуна для студентов (газета, журнал), своя учебная телестудия и монтажная. Огромные, уже ощутимые в контурах будущего перспективы музыкальной интернет-журналистики также нуждаются в специальном изучении и подготовке. XXI век шагает по планете, и профессиональная музыкальная журналистика должна двигаться вместе с ним.
Примечания
1. Асафьев Б.В. Симфонические этюды. – Л., 1970. С. 193.
2. Серов А.Н. Статьи о музыке в семи выпусках. Вып. 3. – М., 1987. С. 211.
3. Достоевский Ф.М. Полное собр. соч. Т. 13. – М.; Л., 1930. С. 551.
4. Цит. по: Античная музыкальная эстетика. Вступительный очерк и собрание текстов профессора А.Ф. Лосева. – М., 1960. С. 269.
5. Чередниченко Т. Ценностный подход к искусству и музыкальная критика// Эстетические очерки. Вып. 5. – М., 1979.
6. Бернштейн Б. История искусств и художественная критика// Сов. искусствознание, 1973. Вып. 1. С. 245–272.
7. Роллан Р. Воспоминания. – М., 1966. С. 405.
8. Бернштейн Б. История искусств и художественная критика. Цит. изд. С. 267.
9. Там же. С. 264.
10. Стравинский И. Диалоги. – Л.,1971. С. 277.
11. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 7. – М., 1948. С. 99.
12. Гоубер Р.И. О музыкальной критике как предмете теоретического и исторического изучения// De musica. – Л., 1926. С. 58.
13. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968. С. 323.
14. Шуман Р. Избр. статьи о музыке. – М., 1956. С. 70.
15. Серов А.Н. Статьи о музыке в семи вып. Вып. 2а. – М., 1985. С. 86.
16. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. – Л., 1986. С. 139–140.
17. Каратыгин В.Г. О музыкальной критике // Критика и музыкознание. – Л., 1975. С. 277.
18. Асафьев Б.В. О себе // Воспоминания о Б.В. Асафьеве. – Л.,1974. С. 476.
19. Гоаф М. Композитор и критик // О музыкальной критике. Из высказываний современных зарубежных музыкантов / Сост. – ред. В.Н. Брянцева. – М., 1983. С. 31.
20. Оруэлл Д. «1984» и эссе разных лет. – М.,1989. С. 245.
21. Келдыш Ю. О качествах советского критика// Сов. музыка, 1960, № 10. С. 7.
22. «Сов. музыка», 1948, № 3. С. 21.
23. «Сов. музыка», 1948, № 1. С. 75.
24. «Сов. музыка», 1972, № 3. С. 6.
25. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 1 – М., 1990. С. 302–397.
26. «Сов. музыка», 1986, № 8. С. 28.
27. Пастернак Б. Доктор Живаго. – М., 2004. С. 580.
28. Оруэлл Д. «1984» и эссе разных лет. Цит. изд. С. 245.
29. Келдыш Ю. Семинарий по музыкальной критике// Муз. образование, 1929, № 3. С. 43.
30. «Сов. музыка», 1936, № 3. С. 29; «Сов. музыка», 1948, № 10. С. 11; «Сов. музыка», 1948, № 2. С. 28; Материалы обсуждения Постановления ЦК КПСС от 28 мая 1958 г. М., 1958. С. 59.
31. Оруэлл Д. «1984» и эссе разных лет. Цит изд. С. 29.
32. Рождественский Г., Шнитке А. Семь нот в мажоре и миноре // Лит. газета, 1989, 8 марта. С. 8.
33. Музыкальная энциклопедия: В 6 т. Т. 3. – М.,1976. Кол. 48 и 47.
34. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1990. С. 108.
35. Материалы обсуждения Постановления ЦК КПСС от 28 мая 1958 г. Цит изд. С.40.
36. «Сов. музыка», 1948, № 1. С. 73.
37. Келдыш Ю. Новые книги о Танееве и Рахманинове// Сов. музыка, 1948, № 6. С. 100.
38. Воспоминания о Б.В. Асафьеве. – Л., 1974. С. 473.
39. Ломоносов М.В. Избранные философские произведения. – М., 1950. С. 517.
40. Гёте И.В. Об искусстве. – Л.; М., 1936. С. 343.
41. Цит. по: О музыкальной критике. Из высказываний современных зарубежных музыкантов. С. 20.
42. Познер В. Искусство всегда сострадательно // Сов. музыка, 1990, № 11. С. 8.
43. . По материалам журнала e-media.
44. Официальный сайт Московской консерватории:
45. Грубер Р.И. Вопросы ленинградской музыкальной критики и музыкальной науки за сезон 1934/35 г. // Сов. музыка, 1935, № 12. С. 56.
46. См. сообщение Л. Данько//Сов. музыка, 1984, № 6. С. 31.
2. Музыкальная журналистика как словесное творчество
Padre Martini… сказал, что трудно ожидать в печати верных суждений о музыке, потому что «литераторы не знают музыкального дела, а музыканты не умеют писать»1.
А.Н. СеровМузыкальная журналистика – литературная деятельность. Она естественно подчинена законам этой деятельности, которые едины для всех сфер художественной культуры. У музыкальной, как, например, и у литературной критики в рамках литературного творчества, есть свои особенности и свой путь, поиск которого волновал многих литераторов. Еще Юрий Тынянов в 1924 г. в статье «Журнал, критик, читатель и писатель», отвечая М. Эйхенбауму в их полемике, касающейся специфики и художественных возможностей литературно-критического творчества, писал: «Литература бьется сейчас, пытаясь завязать какие-то новые жанровые узлы, нащупать новый жанр.[…] И только критика продолжает как ни в чем не бывало допотопные типы и даже не задумывается над тем, что пора и ей, если она хочет быть литературой живой – а стало быть, нужной, – задуматься над критическими жанрами, над своей собственной, а не чужой литературной сущностью»2 (курс. авт. – Т.К.).
«Художественность» художественной критики осознавалась ее практиками, а позднее и теоретиками как одно из важнейших свойств, отличающих ее, в частности, от собственно науки об искусстве. Интерпретируя и оценивая художественное явление, критический текст одновременно становится отражением личности самого пишущего, его позиции и образного мышления, мироощущения, темперамента, таланта восприятия. Более того, к художественности влечет не только характер осмысления, но и сам объект – произведение искусства. На этом заостряет внимание один из отечественных теоретиков художественной критики: «Необходимость отразить объект столь специфичный заставляет критика прибегать к художественному слову и самому выступать в роли художника, творца. В муках слова ищет он путей разрешения конфликта между эмоциональным резонансом, равным иногда глубочайшему потрясению, меняющему взгляды, настроения и жизненные установки, и ограниченностью речевых возможностей. И находит их, создавая подчас формы, покоряющие строгой логикой мысли, не менее яркие и своеобразные, чем сам эстетический объект»3.
К музыке как объекту критической мысли все сказанное приложимо в полной мере. А может быть, и сверх того. Из всех искусств музыка – самое неуловимое, труднопостижимое. Мысль эта не нова, ее на разные лады не уставали повторять многие известные мыслители – музыканты, поэты, писатели, философы. «Музыка – самое далекое от реальности, в то же время самое страстное искусство, абстрактное и мистическое»4, – считал, например, Томас Манн. А потому для профессиональной музыкальной журналистики, быть может, самой сложной, если не ключевой, является проблема художественного слова о музыке – словесного творчества. То есть «осознание своей литературной сущности», повторяя Ю. Тынянова, необходимо и критике музыкальной. Подобно тому, как музыкальный инструментарий, а шире – все источники звука, способные стать художественным материалом в процессе становления музыкального произведения, являются «орудием» творчества музыканта, как краски, грифель и холст служат воплощению замысла художника, как все зримо-слышимые богатства театра под воздействием режиссуры превращаются в художественную концепцию, так и словесное выражение музыкально-критических идей по сути своей есть явление литературной природы, его специфическая художественная ветвь.
Охватывая масштаб данной проблемы, профессиональные музыкальные критики-журналисты во всем мире не только искали пути ее решения в процессе собственного творчества, но, со своей стороны, пытались изложить ее особенности. Вербализуя, они как бы нащупывали контуры своего особого литературного труда – труда музыкального писателя, каковым, например, считал себя Б. Асафьев.
Для иллюстрации сравним два весьма убедительных размышления на эту тему Б. Асафьева и известного французского музыкального критика Бернара Гавоти:
«Как научиться писать о музыке, чтобы слово о музыкальных произведениях было сотворческим, чтобы обойтись без технологии и технического анализа, ничего не говорящего неспециалистам, а для профессионалов – излишнего (технику они сами знают!), чтобы не заблудиться между „резонерством по поводу“ или навязыванием музыке „картинности“, иллюзорной видимости?»5, – спрашивает Б. Асафьев…
«… среди других видов критики музыкальная, несомненно, самая трудная. Проблема состоит вот в чем: как передать с помощью слов то, что выражено в звуках? Можно дать вкратце изложение романа, проанализировать пьесу, рассказать содержание фильма, описать тот или иной аспект картины, но как объяснить симфонию, сонату, квартет? Как говорить о музыке? Соединение этих слов, по природе антипатичных друг другу, выявляет трудность задачи. Если справедливо, что музыка начинается там, где смолкает слово, то как оно может дать представление об области, куда ему закрыт доступ?»6, – вторит ему Б. Гавоти…(курс. авт. – Т.К.).
В обоих высказываниях обращает на себя внимание обилие вопросительных знаков. Они воссоздают и состояние поиска, и его направленность, дают почти физическое ощущение неуловимости задачи, которая каждый раз стоит перед каждым мастером, в том числе и зрелым, каковыми к моменту написания являлись и оба названных музыкальных писателя. Но шире – за вопросительными знаками скрываются две глобальные проблемы музыкально-журналистского словесного творчества.
Первая из них связана с необходимостью отражения в тексте «образа музыки», в идеале – на уровне, способном воссоздать живое звучание. Этот идеал, естественно, недостижим, однако без устремленности к нему слово о музыке пропадет втуне. По существу, перед автором всегда стоит задача «транспонирования», перевода музыкальной образности в адекватную образность словесную. Сложность этой задачи очень точно сформулировал композитор Поль Дюка, считая, что «легко говорить о нотах и трудно о музыке, легко принять одно за другое»7 (курс. авт. – Т.К.).
В словесном отражении музыки главный и наиболее распространенный бич – описательность. При пересказе звуковых событий или технологии (с терминами или без них) происходит всего лишь разговор о внешних параметрах музыкального текста – «о нотах». Разговор же «о музыке» предполагает обязательное сотворчество – построение литературного образа на основе воспринятого образа музыкального. Каким путем пойдет музыкальный писатель, какие литературные средства он изберет в своей интерпретации музыки, зависит от его воображения и писательского таланта.
Вторая проблема – словесное выражение оценочной позиции пишущего. Позиции активной, заражающей, способной если не увлечь, то хотя бы убедить. «Форма, в которую облекается критика, конечно должна быть вполне свободна, – писал в свое время Серов. – Можно высказать свой взгляд в виде догматическом, дидактическом, серьезно поучительном или в форме разговора в царстве мертвых, в форме сатиры, комедии, пожалуй, хоть водевиля. […] На это нет ни правил, ни законов»8. То есть пишущий о музыке и с этой стороны стоит перед сознательным и свободным художественным выбором литературного подхода. И совершаемый им оценочный акт в своем конечном выходе принадлежит уже творчеству словесному.
Таким образом, решение обеих названных проблем находится в пределах литературно-художественных возможностей. Здесь вступают в действие законы литературной стилистики.
2.1. Литературная стилистика
Нормативная стилистика охватывает владение языком с позиции «правильно – неправильно». Образцовый языковый стиль представляет именно «правильный», как бы «стерильный», тип высказывания, свободный от эмоциональной выразительности, выдающей авторство. Согласно «норме» такой стиль предполагает чистоту, краткость, ясность, отсутствие двусмысленности, многозначности9. Последнее особенно существенно: образцовое выражение не допускает оттенков, оно означает только то, что сказано.
Однако язык художественного высказывания опирается на иной – экспрессивный языковый стиль. Его сущность кроется в индивидуальном своеобразии выражения, в возможности передать посредством слова не только его значение, но и различные нюансы отношения говорящего к предмету разговора, то есть воспринимать наряду с объектом внимания также и субъекта речи.
«Стилистическая специфика, – считает выдающийся отечественный лингвист Б. Томашевский, – проявляется в том или ином типе речевой системности во взаимосвязи единиц различных языковых уровней (лексического, морфологического, синтаксического), а также в индивидуальном отборе и использовании экспрессивно-выразительных средств языка (тропов, риторических фигур)»10. В этом «индивидуальном отборе» и выявляется субъект речи. С позиции музыкальной журналистики, особенно ее музыкально-критической ветви, личностно окрашенная речь, в которой отражается субъективное восприятие произведения искусства, и есть важнейшее проявление художественной стороны музыкально-критического творчества. Именно экспрессивная стилистика делает музыкальную журналистику явлением литературно-художественной природы.
Средства словесной образности
Многообразны и систематизированы наукой о языке средства словесной образности. Остановимся на важнейших из них, особенно широко применяемых в музыкально-критических текстах.
Лексика. Слова, имеющие длительную и сложную историю своего появления и функционирования в языке, в конкретном современном тексте влекут за собой широкий круг ассоциаций. Употребление некоторых из них способно придавать высказыванию множество оттенков от возвышенного или подчеркнуто сдержанного, строгого, «книжного» до нарочито раскрепощенного, «свойского», даже фамильярного, от сердечного, радостно восторженного до подчеркнуто ироничного, резкого, откровенно злого и саркастического. Выбор слова выдает и образ мыслей, и строй чувств автора. Уже через слово читатель воспринимает разлитое между строк отношение пишущего.
К примеру, даже односложную положительную оценочную характеристику, сводящуюся, условно, к ясным значениям хорошо-отлично, на современном русском языке можно выразить посредством множества слов. Будучи синонимами или близкими понятиями, они заключают в себе огромный спектр эмоциональных оттенков: правильно, верно, ладно, добротно, совершенно (спокойная характеристика с акцентом на качестве); превосходно, отменно, блестяще, исключительно (с акцентом на уникальности, на выдающихся из нормы свойствах); великолепно, прекрасно (с эстетическим оттенком – красота, лепота); замечательно, удивительно, изумительно, поразительно, восхитительно, потрясающе, захватывающе (с печатью эмоционального воздействия – способности удивить, изумить, поразить, захватить и т. п.); чудесно, необыкновенно, необычайно, сказочно, волшебно, божественно (то же, но уже с «мистическим» оттенком присутствия чуда – высших сверхчеловеческих сил). Данный перечень можно и расширить, дополнив его бытовой разговорной лексикой, имеющей фамильярный оттенок (например, здорово, классно) и даже жаргонный характер (например, прикольно). Как видим, в русском языке богатство синонимов – один из существенных источников экспрессивности литературного стиля на уровне лексики.
Разумеется, далеко не каждое слово обладает аффективной окраской. Уровень его «напряжения» может быть различен. При этом любопытна закономерность: чем точнее слово передает реальное значение, тем слабее его экспрессия. И наоборот, аффективная окраска не свойственна терминам, однозначным словам и понятиям. Они не способны обнаружить лицо говорящего, а значит и заразить своим отношением.
Экспрессивная речь всегда индивидуализирована, а ее ключевая лексика – многозначна. Чем больше в слове настроения, тем более размытым, множественным оказывается его реальный смысл. Если сравнить приведенные выше положительные характеристики, то на одном полюсе будет отлично в значении экзаменационной отметки (термин), а на другом, идя по нарастающей примерно в предложенной последовательности (от констатации качественного уровня, например совершенно, к воссозданию эмоции, например потрясающе или восхитительно), на противоположном полюсе будет самая далекая от конкретики, полная экспрессии характеристика – божественно!
«Критик больше, чем кто-нибудь, ощущает в процессе своей работы „муки слова“»11, -утверждает Л. Выготский. Поиск оптимального словесного решения знаком каждому музыковеду не понаслышке, это непрерывная работа, начиная со студенческих лет. Но в музыкально-журналистской практике поиск становится задачей абсолютной, поскольку извечное писательское «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» в творчестве музыкального журналиста имеет особый смысл. Эта творческая деятельность существует только ради контакта, она целиком «направлена на читателя», автор должен не просто предугадать, как отзовется его слово, но, в идеале, он призван реакцию моделировать. А достичь этого можно только при помощи выразительного слова. «Рассуждение может быть глубоким и верным, – пишет Бернар Гавоти, – но человека, не владеющего пером, скорее всего не услышат»12.
Слово производит более сильное впечатление, прежде всего, благодаря своей свежести – редкое, забытое, оригинальное. Вспомним известное утверждение Цицерона, считавшего, что оратор должен «избегать затасканных и приевшихся слов, а пользоваться избранными и яркими». Либо слово воздействует благодаря неожиданности (даже неуместности) своего употребления в данном контексте. В каждом случае «встряска» читателя (или слушателя) усиливает его сотворческое внимание к предмету разговора. Попробуем проиллюстрировать это на примере одного современного музыкально-журналистского текста – развернутой статьи-беседы Р. Щедрина13, весьма разнообразной и богатой с позиции литературной стилистики.
Источники лексических богатств многообразны. Для размышления об искусстве, принадлежащем к «вечным ценностям», такими адекватными словесными красками нередко оказываются слова древние (архаизмы, славянизмы). «Старинные слова, – по мнению тончайшего мастера русской речи С. Маршака, – как бы отдохнувшие от повседневного употребления, придают иной раз языку необыкновенную мощь и праздничность»14.
В названной публикации Р. Щедрина, когда разговор обращается к музыке на пушкинские тексты, лексика неожиданно изменяется. «Прежде всего, Пушкин – один из моих богов», – начинает ответ композитор. А далее в размышление вплетаются такие слова, как дивился, божественный дар, внимал, возрадовался, благоговение. И речь ощутимо меняет тональность…
Еще один источник специфической лексики – так называемые варваризмы – слова, заимствованные из чужих языков и именно так «чужеродно» и воспринимаемые (в отличие от пришедших, но уже прижившихся, ассимилировавшихся слов). В той же публикации Р. Щедрина есть и такой фрагмент: «Может быть, именно нехватка мелодического начала (дара) в современной серьезной музыке и вызвала гигантскую волну, это цунами музыки развлекательной, заполняющей мелодический вакуум. Попеть хочется. И чем острее кризис в сфере настоящего искусства, тем легче завладевают умами людей коммерческие суррогаты. Не случайно возникновение так называемого третьего направления с тем, чтобы как-то примирить эти два полюса».
Приведенный фрагмент несет в себе пафос глобальной интернациональной проблемы, причем восприятию ее именно в таком ключе в значительной мере способствует лексика, такие неожиданные в контексте разговора о музыке слова, как цунами, вакуум, коммерческие суррогаты.
Особый стилистический прием на уровне лексики – неологизмы, своего рода выразительное словотворчество. Неологизмы – прежде всего сфера собственно художественной литературы, поэзии. Талантливо и много экспериментировали со словообразованием Андрей Белый, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский, много выразительных «авторских» слов оставили и классики. Но и в текст приводимой беседы неожиданно вплетаются «новые» слова, своим появлением резко усиливая напряжение в изложении мысли: «А „Вешние воды“ как написаны! Вообще в обстоятельности, неспешности этой прозы есть такая современность, завтрашность!»[…] «И музыканты стоят в ряду мироулавливателей»…
Тем не менее самый сильный литературно-стилистический эффект вносят слова разговорного языка – просторечие, жаргон (популярное французское обозначение) или сленг (как чаще говорим мы сегодня, адаптируя для большей выразительности английское слово). Атмосфера разговорной речи вносит ощущение живого, взволнованного, как бы трудно сдерживаемого аффективного высказывания. Причем воздействует на читателя (или слушателя) разговорная лексика именно его времени, которая стремительно и непрерывно пополняется и меняется.
Уже у классиков музыкальной критики можно встретить колоритные разговорные обороты. Например, в памфлете В. Стасова «Музыкальное безобразие» наряду с заголовком есть и такие слова: дескать, будемте жить, фокус сыгран и др. Однако современный литературный художественный язык значительно активнее, чем раньше, взаимодействует с устным языком улицы, стимулируя для выразительности привлечение все более неординарных по вольности языковых средств.
У данного явления есть свои глубокие причины. Выдающийся русский культуролог, литературовед Ю. Лотман видит их, в частности, в воздействии кино на современную литературу, ее стиль:
Наиболее «кинематографичным», оказался сленг, сокращенный, эллиптированный разговорный язык. Одновременно введение этого пласта речи в киноискусство повысило его в престижном отношении в культуре в целом, придало ему необходимую фиксированность, культурно-эквивалентную письменности… Это привело к широким последствиям уже за пределами кино: возникла сознательная ориентация на «неправильную речь». Если прежде говорить «как в книге» или «как в театре» («как в искусстве») было искусством говорить правильно, искусственно, «по-письменному», то в настоящее время «говорить как в кино» («как в искусстве») в ряде случаев стало «говорить как говорят» – с акцентированной косноязычностью, неправильностями, эллипсами, сленговыми элементами. Нарочитая «неправильность» речи стала частью «современного» стиля. Устное говорение ориентируется, в этом случае, на свою подчеркнутую специфику как на идеальную культурную норму15.
В научном тексте подобные языковые средства могут шокировать, оставляя впечатление чужеродного стиля. Но в журналистике, публицистике, при полемическом задоре и критическом запале, особенно при направленности на широкую читательскую аудиторию, использование разговорной лексики нередко вносит ощущение искреннего волнения и непосредственности, живо и образно передающих остроту мысли. Сила подобного языкового действия столь велика, что даже статья М. Тараканова, опубликованная в научном сборнике и содержащая намерение научной систематизации, в силу подобных литературно-стилистических деталей, воспринимается как критико-публицистический текст. Приведем несколько фрагментов:
… музыка, повторяющая прежние завоевания, не мудрствуя лукаво, будет в лучшем случае скучна, а в худшем – будет вызывать раздражение…
… сейчас мы привыкли ко всему: и к тому, что по клавиатуре рояля бьют локтями, и к тому, что пианист копается в чреве своего инструмента…
… Музыка, пытающаяся возродить древний стиль, создает лишь иллюзию, верить в которую могут только те, кто принимает поддельные деньги за настоящую монету16.
Как помним, критическая мысль всегда «направлена на сейчас». А разговорно-бытовая лексика эту «сегодняшность» усиливает, овеществляет. Нарочитое столкновение контрастных литературных стилей (условно: «высокого» и «низкого») возникает чаще всего в текстах острокритических, резко бичующих, как бы заставляя вздрогнуть вдвойне – и от изложенной мысли и от формы ее подачи. Именно как кульминация-эпатаж во вполне умеренном оценочном высказывании, осуществленная литературно-стилистическими средствами, воспринимаются заключительные слова одной из рецензий Ю. Энгеля (1910):
В первый раз исполнен был также отрывок (любовная сцена) из комической оперы Рихарда Штрауса «Feuersnoth». Грузная, вязкая музыка, полная какого-то искусственного, пряного аромата. Сначала эти любовные пряности как будто и приятны, но скоро от них начинает делаться нечто вроде зубного нытья17.
Зубное нытье, а ранее: копается в чреве, бьют локтями, поддельные деньги, раздражение – все это лексика из многотрудной реальной, а не художественной жизни. Ее появление в контексте разговора о музыке дает очень сильный эффект. Причем она воздействует не только благодаря своему резкому прямому значению, но и самим фактом появления в контексте «высокой» беседы о музыкальном искусстве.
Подобно другим видам музыковедческой деятельности, музыкальная журналистика существует в двух формах – письменной и устной. Однако, в отличие от музыкальной науки, опирающейся преимущественно на письменный текст (даже выступления на научных симпозиумах, конференциях, защитах диссертаций требуют изложения подготовленного, отшлифованного в своих формулировках, то есть, как правило, заранее написанного текста), в музыкальной журналистике обе формы практически равноправны. Более того, изначальное условие коммуникативности, публичности и доступности неизмеримо повышает значение именно устной формы подачи – образной, броской, выразительной речи. Именно поэтому стилистические средства живого разговорного языка так характерны и для письменных журналистских текстов.
Эпитеты. Особую роль в экспрессивной стилистике играют слова в измененном значении. Такие слова предстают в новой, неожиданной окраске, благодаря выдвижению на первый план признаков, которые для данных понятий не типичны. Основным средством здесь являются эпитеты, сравнения, метафоры, гиперболы, то есть сопутствующие предмету разговора слова или развернутые словесные конструкции, благодаря которым они подаются в непривычном, образно выразительном, порой парадоксальном, субъективно окрашенном виде.
Эпитет, сравнение, метафора – излюбленные литературно-стилистические компоненты текстов, связанных с музыкой. Любых – и беллетристических, и научных, и критико-публицистических. Именно с их помощью прежде всего открывается возможность словесно воссоздавать музыкальную образность, настроение, состояние, погружая читателя в определенную атмосферу посредством предлагаемых неординарных ассоциативных связей.
«Обилие эпитетов свойственно человеку, говорящему в состоянии аффекта», – утверждал Аристотель. Причем эпитеты не просто выдают уровень повышенной эмоциональной температуры, то есть количественное отклонение от «нормы», но и качественное, а именно: внутренний облик субъекта речи. Лингвистике хорошо известно, что эпитет – «одна из тех черт, которая в наибольшей степени характеризует индивидуальность писателя, литературное направление, эпоху»18. При оценочном подходе привносимый признак, как правило, содержит именно оценочную окраску, в которой запрятано восхищение, удовлетворение или равнодушие, скепсис, уничижение и даже возмущение или насмешка… Таковы, к примеру, в приведенном выше отрывке из Ю. Энгеля эпитеты грузная, вязкая применительно к музыке: в них мерцает и образная характеристика музыки Рихарда Штрауса и ее достаточно негативная оценка самим критиком.
Важно осознавать, что эпитет – не признак, постоянно сопутствующий определенному понятию и как бы сросшийся с ним. Напротив, он скорее разрушает устоявшееся представление о нем, либо укрупняя и высвечивая какую-то одну сторону, либо выдвигая на первый план какое-то новое свойство, порой парадоксальное, противоречащее логике. И эта неожиданная словесная деталь вносит в изложение ту степень экспрессии, которая призвана поразить, увлечь, «встряхнуть» читателя, эмоционально воздействовать на него.
Для примера остановимся на отрицательной рецензии В. Коломийцова в газете «День» от 19/6 апреля 1918 г., посвященной концерту молодого Прокофьева:
…в этом шумливом и необыкновенно самоуверенном таланте, отчасти примыкающем к Рих. Штраусу, в этих нарочитых «гротесочных» уродствах я нахожу весьма мало для себя привлекательного. Такую музыку слушаешь, в большинстве случаев, с любопытством, но почти никогда – с искренним глубоким наслаждением. Ибо затейливые «примитивы» г. Прокофьева, его схематичные и в то же время донельзя шаржированные «музыкальные карикатуры» и гримасы – жесткие, колючие, изобилующие изысканно-грязными штрихами и кляксами, – отличаются крайней вещностью, крайней материальностью при удивительной пока что внутренней, духовной бедности19.
В приводимом фрагменте, наряду с несколькими экспрессивными, оценочно окрашенными словами (уродства, привлекательное, любопытство, наслаждение, музыкальные карикатуры и гримасы, вещность, духовная бедность), важнейшая смысловая нагрузка ложится именно на эпитеты. Их выразительная амплитуда впечатляет. При этом часть эпитетов «работает» на усиление понятия, в основном и без того весьма броского, колоритного, другая рождает новые причудливые образы: талант – шумливый и необыкновенно самоуверенный; уродства – гротесочные; «гротесочные уродства» – нарочитые; наслаждение (которого нет!) – искреннее и глубокое; примитивы – затейливые; музыкальные карикатуры – схематичные и донельзя шаржированные; гримасы – жесткие, колючие; штрихи и кляксы – изысканно-грязные; вещность и материальность – крайние; духовная бедность – удивительная. Не касаясь позиции автора, нельзя не отдать должное блестящей форме ее литературного воплощения.
Способность эпитета быть прообразом музыкальной характеристики интересно проследить и в непосредственно композиторском освещении своей музыки. Например, Прокофьев в заметке о только что законченном балете «Золушка»20, характеризуя главных музыкальных персонажей, прибегает именно к эпитетам, точно и ясно воссоздающим его музыкальный замысел. По словам Прокофьева, в его балете Золушка – обиженная, чистая и мечтательная, милая, влюбленная, счастливая; отец – робкий; мачеха – придирчивая; сестры – своенравные, задорные; юный принц – горячий; дыхание природы (метафоpa) – живое, поэтическое; свойство феи-бабушки – таинственность; двенадцати карликов – фантастичность.
Подобные авторские характеристики созданных им музыкальных персонажей можно считать своего рода хрестоматийным образцом перевода музыкальной образности в образность словесную. В данном случае – на уровне эпитетов. Но куда более сложно аналогичная задача реализуется на базе сравнений и метафор.
Сравнения. В приеме художественного сравнения главным становится образ, посредством которого, подобно эпитету, хотя и сильнее, предлагаемый вниманию признак укрупняется, углубляется, иногда и гиперболизируется. Сравнениям часто сопутствуют слова как, будто, словно, подобно, точно, создается впечатление и т. п., весьма привычные для музыковедческих текстов, непрерывно стремящихся к образным параллелям и аналогиям. Хотя объектом сравнения, разумеется, может быть не только само музыкальное звучание, но и любой другой предмет размышления.
В начале знаменитой «Славянской литургии эросу» Б. Асафьева страстный, публицистический напор, обостренное ощущение проблемы, о которой идет речь (трагическая сценическая судьба «Руслана и Людмилы» Глинки), приводят автора к исключительно сильным литературным средствам:
А между тем суждение Кукольника, как штамп о подсудности, наложенный на паспорте, как печать антихристова, обезобразило лик великого произведения и создало опору той атмосфере ленивой и бесконечной беспечности, какой окутаны общие представления о «Руслане» как о сценически беспомощной, конструктивно невоплотимой композиции, несмотря на гениальную музыку21.
Касаясь взглядов Кукольника, автор прибегает не к жестким эпитетам (каковыми, например, могли бы быть более расхожие слова – убийственное, роковое и т. п.), но вводит разящие наповал сравнения – как штамп о подсудности, наложенный на паспорте, как печать антихристова, – страшные, сильные уже на уровне лексики. Причем сразу два, одно за другим, создавая дополнительное внутреннее нагнетание.
Сравнение будит воображение читателя, стимулируя его эвристическую деятельность в процессе восприятия музыкально-критической мысли. А поскольку музыкальная материя – вещь тонкая и трудно уловимая, для критика нарисовать образ, отражающий его оценочную позицию нередко оказывается легче, а по результату убедительнее и точнее, нежели ясно и строго эту позицию сформулировать «открытым текстом». Именно по такому пути идет, например, и Ю. Энгель в одной из своих рецензий (1911):
Трудно судить, впрочем, о фортепианной музыке А. Крейна, ибо характер ее исполнения был таков, что каждая пьеса точно разрывалась на клочья, из которых каждый, может быть, и жил своей отдельной, издерганной жизнью, но все вместе никак не складывалось в нечто единое, цельное22.
Образный материал сравнений – плод индивидуальности пишущего, его вкуса, воображения, темперамента, ассоциативного мышления, знаний, привязанностей. Мир видимый и слышимый, мир реальный и вымышленный, мир осязаний и ароматов, мир искусства и техники – все может стать материалом, питающим воображение автора. В качестве еще одного примера, уникального, как многие другие, но поразительного неожиданностью «видения», можно привести маленький фрагмент из статьи Г. Нейгауза о Святославе Рихтере, содержащий сразу два изысканных сравнительных пассажа:
В его черепе, напоминающем куполы Браманте и Микеланджело, вся музыка, вся прекрасная музыка покоится, как младенец на руках Рафаэлевской мадонны23.
Сравнение особенно ценно как средство воссоздания образа музыки. В частности, множество прекрасных страниц подобного рода разбросано в критическом наследии В. Каратыгина. Среди них и эпизод в статье «Новая музыка» (1924), где речь идет о прозвучавшей в концерте музыке Прокофьева. Ассоциативный ряд автора, естественно, произволен и субъективен, но при этом исполнен богатейшего художественного воображения, которое прямо-таки завораживает читателя. Его словесная интерпретация опирается на образы зрительные, в известной мере вызывая параллели с мышлением хореографа, переводящего музыку на язык зримо-пластический. Одновременно текст пронизывают и какие-то архитектурно-конструктивистские идеи. Такое переплетение урбанистических и хореографических мотивов удивительным образом соответствует сути прокофьевской музыки. Весь текст, насыщенный колоритной лексикой, эффектными эпитетами, строится автором как огромное длящееся сравнение:
… пьеса прежде всего давала впечатление какой-то схемы, какого-то, – если допустимо для музыки такое сравнение, – железобетонного, крепкого, но сурового и угловатого остова, на каковое сооружение там и здесь накидывались драпировки самых пестрых цветов. Бросались они как бы небрежно, в кажущемся беспорядке; однако, когда взгляд синтетически охватывал целое, – совершалось чудо: все жило, трепетало, из линий и красок слагались живые мускулы человеческого тела, откуда-то возникали потоки мощной энергии, приводившие в движение все «конструктивистские» музыкальные механизмы, все ликовало, шумело, проявляло самую буйную волю к жизни, свету, к кипучему разливу и разгулу сил. Это рождение подлинно органического и такого – я бы сказал – вещественно-органического, почти видимо материального, и осязаемо плотного и ощутимо движущегося, разрастающегося и размножающегося, это рождение жизни из бездушной системы переплетающихся под разными углами бревен, балок и перекладин основной конструкции было всегда так странно, так поразительно, но и так реалистически убедительно, что казалось каким-то колдовством24.
Степень индивидуальности музыкального писателя-критика, его слышание-видение-чувствование, запечатленное в слове, в приведенном тексте Каратыгина исключительно высоки. Настолько, что у кого-то может вызвать несогласие и даже протест в силу естественной субъективности восприятия. Однако сам ассоциативный круг писателя бесспорно близок именно миру прокофьевской музыки – сегодня, на дистанции времени, это особенно очевидно и говорит об очень высоком уровне профессионализма музыкального критика и таланте литератора. В подтверждение сказанному приведем фрагмент из другой статьи Каратыгина, посвященной уже личности Дебюсси (1918): иной звуковой мир влечет автора к другим ассоциациям в сравнениях и, соответственно, к другим словесным образам:
Область подсознательного, царство смутных видений, снов, мечтаний, воспоминаний и предчувствий, сфера тончайших, едва доступных психологическому анализу настроений, переливы еле заметно мерцающих в самых потайных уголках человеческой души получувств, полуидей, которые еще не успели достичь оформленности, еще не образовали никакого связного и отчетливого переживания, тем более не породили никаких волевых импульсов – таково основное содержание причудливых созданий звуковой фантазии Дебюсси…25
Метафоры. К сравнению примыкает следующее, еще более сильное стилистическое средство – метафора. Известный филолог, литературовед Б. Томашевский в своем исследовании, посвященном литературной стилистике, утверждает: «В метафоре всегда соединяются одновременно два значения. Одно значение, которое определяется контекстом, и другое значение, которое определяется привычным употреблением слова, то есть значение, присущее данному слову вне контекста»26. Подобно сравнению, в метафоре амбивалентно мерцают два смысла – реальный и воображаемый, но уже отсутствуют поясняющие слова как, словно, подобно и т. п. Читатель как бы призван разгадывать загадку, он вместе с автором участвует в своего рода интеллектуальном заговоре. При использовании метафоры литературный образ усложняется, эвристическое напряжение читателя возрастает.
Для начала приведем красивую метафору А. Серова из статьи «Музыка и толки о ней», посвященной проблемам музыкальной критики в России, ее задачам, развитию, общественным и художественным возможностям:
Поле музыкальной критики у нас, в России, почти не начинали возделывать. А поле широкое, богатое…27
Ключевое слово здесь – поле, с которым сравнивается музыкальная критика. Предлагаемый образ спокоен, значителен, эпичен.
Метафора, при минимальной затрате слов, позволяет сказать и дать почувствовать очень многое. В приведенном примере – почти физически ощутить и масштаб разворачивающихся проблем, и их благородную значимость. А вот совершенно иной по настроению образ рождается благодаря метафоре в уже упоминавшейся «Славянской литургии эросу» Асафьева (о судьбе «Руслана» Глинки):
И пошли множиться сказочно-феерические (с бытовыми «отсебятинами») постановки многострадальной оперы, всячески затемнявшие ее смысл и путем анатомирования и вивисекции (купюры!) убивавшие ее ткань28.
Сила этой метафоры – в трагическом характере предлагаемого образа. Речь идет о ситуации, которую, также метафорически, называют «резать по живому». Здесь, конечно, воздействует и лексика – как далекие от музыковедения медицинские понятия, причем весьма жесткие по смыслу (анатомирование, вивисекция), так и просторечие (отсебятины). Но в куда большей степени потрясает сам гигантский по своему трагизму метафорический образ убиения живой ткани музыки.
Метафора способна стать кульминационным моментом в повествовании, разрывая границы реального смысла резким эмоциональным всплеском путем введения неожиданного и выразительного образа. Именно так, например, строит Стасов заключительное предложение упоминавшейся статьи «Музыкальное безобразие», кульминация которого – метафора (надвинуть гасильный колпак) и ее контраст с возвышающими заключительными эпитетами:
А теперь уже навеки осталось известным, как несколько малопонимающих людей решились расправиться по-свойски с тем, что было повыше их понимания, и надвинуть гасильный колпак на одно из значительнейших и оригинальнейших созданий нашего века…29
Подобно эпитетам и сравнениям, метафора выявляет индивидуальность пишущего, приоткрывая завесу его характера, мышления, фантазии, воображения, а также степень авторской экспрессии по тому или иному поводу. Особенно ярко это видно тогда, когда образное высказывание достигает уровня гиперболы, которую Аристотель рассматривал как частный случай метафоры. Гипербола в еще большей степени, чем ранее названные приемы, передает аффектированный характер высказывания, она усиливает выделяемый признак, стремясь увеличить его до предела.
Остановимся для примера на заключительном абзаце публикации Стасова на смерть Мусоргского, написанной, естественно, с огромным душевным волнением. В приводимом фрагменте идет постепенное эмоциональное нарастание: «высокими» словами (судьба, талант, отечество, свершает, призван), сильными эпитетами (чугунная, неумолимая, горькая), ритмом набегающих повторов. Кульминацией же становится краткое последнее предложение, которое все целиком – метафора, выросшая до уровня гиперболы:
На него наложила чугунную неумолимую руку та самая горькая судьба, которая тяготеет над всеми почти без исключения самыми большими талантами нашего отечества. Почти никто из них не живет долго, сколько бы мог и должен бы жить, почти никто из них не совершает всего, к чему, по-видимому, был призван и для чего родился. Почти все скошены на полдороге…30
Использование метафор как эффектного языкового средства предполагает одно непременное требование – неординарности, свежести. Если метафора повторяется, она «стирается», превращаясь в новое значение. Именно так, из стершихся метафор нередко образуются термины. «Мелодический рисунок», «легкая музыка», «тяжелый рок», «танцевальный характер», «связующая партия», «музыкальная драматургия» и т. п. – все эти понятия в своем языковом происхождении являются стершимися метафорами.
Ирония. Не стремясь охватить все средства литературной стилистики, которые изучает наука о русском слове, остановимся на еще одном приеме, обладающем очень сильным воздействием и весьма характерном для художественной критики, в том числе и музыкальной, а именно – иронии. В его основу также положено смысловое изменение слова, причем такое, когда воспринимаемое значение равно исходному с точностью до наоборот.
Ироническое высказывание рождено юмором, насмешкой. Как литературный прием, несущий сильную оценочную энергию, ирония не знает себе равных. В зависимости от поставленной задачи и эмоционального настроя пишущего, иронический стиль высказывания может вырастать до едкого сарказма. Ироническое письмо – основное литературное средство фельетонов, памфлетов, сатирических заметок и других подобных по содержательной направленности критико-журналистских жанров.
Принадлежа сфере юмора, ирония предполагает определенную остроту ума и писателя и читателя, поскольку оба пребывают в ситуации как бы совместного интеллектуального «заговора», хитроумной шарады, разгадка которой доставляет обоюдное эвристическое удовольствие. Непонимание иронического стиля грозит полным невосприятием информации. При этом ирония дает возможность излагать достаточно острые критические суждения в более закодированной, изящной форме, без резкой лексики «открытого текста».
Человек тонкого, деликатного склада души и, одновременно, острого ума, в своей публицистике к иронии очень часто прибегал П.И. Чайковский. Это касалось и сложных, обобщенных размышлений об искусстве, о судьбе отдельных жанров, и кратких характеристик, относящихся к конкретному моменту, ситуации рецензируемого спектакля или концерта. Автор, например, вплетает многочисленные ироничные пассажи в текст рецензии на оперный спектакль, где объектом критики оказываются то солистки, то оркестранты:
…срок контракта г-жи Оноре еще в далеком будущем, когда вместо пяти недостающих нот будут блистать отсутствием уже все регистры ее голоса и нужно будет иметь бездну утонченной хитрости, отваги и ловкости, чтобы в течение нескольких часов сряду заставлять публику воображать себе, что она слышит звуки, которые никто не издает…
…в дуэте пятого акта г-жа Скрюдери до того запуталась, что сбила всегда твердую в знании своей партии г-жу Оноре, отчего произошло совершенно неожиданное контрапунктическое сплетение голосов, на которое композитор никак не рассчитывал…
…большинство гг. артистов явилось в театр, я полагаю, с именинных обедов, в ненормальном состоянии своих духовных сил…31.
Идиоматика. Идиомы – постоянные комбинации слов определенного содержания. В каждой такой комбинации отражается не прямой смысл входящих в нее слов, но определенное целостное переносное значение. Не случайно, как известно, идиомы впрямую не переводимы, и в каждом языке они изучаются специально. Источники идиоматических выражений различны: пословицы и поговорки, цитаты из древних книг (особенно из Библии, которые у многих поколений были «на слуху» и вошли, выражаясь идиоматически, «в кровь и плоть»), а также и из более поздних литературных, поэтических произведений, фразы которых фольклоризировались, перейдя в «крылатые слова».
Идиоматика – важное литературно-стилистическое средство, способное уплотнить художественную информацию и усилить напряженность высказывания. Особая экспрессивность идиоматических выражений связана с тем, что смысл здесь оказывается как бы спрессованным. Идиома приносит с собой богатый фон, связанный с появлением и последующим существованием данного выражения в языке. В каждой идиоме незримо пульсирует история, причем разной протяженности и происхождения.
Употребление идиоматического выражения предполагает, что читатель непременно знает его, и что этот образ для него интересен. Оно рассчитано на взаимодействие интеллектов, на сотворчество при восприятии, на посвященных – ведь если идиома не воспринимается в своем полном значении, то высказывание теряет львиную долю смысла.
Выбор идиоматического выражения – творческий акт, в котором отражаются и характер высказывания, и, в неменьшей мере, сам говорящий, его тип мышления, знания, настроение в данный конкретный момент. Поговорки и пословицы, как знак «народной речи», способны создать атмосферу искреннего и незамысловатого разговорного стиля, доступного каждому. В. Стасов, например, в упоминавшейся статье «Музыкальное безобразие», сокрушаясь о судьбе «Бориса Годунова» Мусоргского, говорит: «Вот так и будемте жить, сидеть у моря да ждать погоды».
Библейские цитаты, представляя «нетленные ценности», вносят в текст атмосферу вечных истин, философского отношения к жизни и миру. Например, название беседы с композитором А. Николаевым «Благословенны чистые сердцем» в журнале «Музыкальная академия» (1992, № 1) изначально настраивает читателя на философский лад. Цитаты из литературных произведений в качестве идиоматических выражений предполагают достаточно образованного читателя, органично связанного с художественным богатством изящной словесности. Например, когда В. Каратыгин в статье «Памяти Римского-Корсакова» цитирует пушкинского «Пророка», для него, вероятно, важны не только содержание использованной поэтической строки, но «за кадром» – и весь смысл данного стихотворения, а шире, символически – и некий знак русской поэзии и великого поэта. Цитата в роли идиомы создает здесь возвышенное настроение, которое читатель должен воспринять:
«Глаголом жечь сердца людей» не дано было Римскому-Корсакову, как ни влекло его, вообще, к отражению в своем искусстве переживаний бурных, крайних, острых, грозовых, хотя отдельные подъемы больших напряжений душевных или космических сил и встречаются изредка в его творчестве…32
Поэтический синтаксис
Экспрессивная стилистика проявляет себя не только при помощи смыслового значения слов и словосочетаний, но и посредством поэтического синтаксиса – способа соединения слов внутри предложения и сочетания предложений. Это со своей стороны позволяет влиять на характер высказывания, играть его оттенками. Если в устной речи необходимых смысловых акцентов можно достичь при помощи интонации, то в письменной подаче это осуществляется либо наглядными средствами (разрядка, курсив, жирный шрифт и т. п.), либо стилистикой – инверсивными приемами, риторическими оборотами, а также характером развертывания текста во времени.
Русский язык в отличие от аналитических языков с жестким порядком слов в предложении, является языком синтетическим с порядком слов свободным. Например, постановка определений за определяемым словом в последнем из приводимых примеров В. Каратыгина (переживаний бурных, крайних, острых, грозовых) усиливает эти яркие эпитеты именно таким их местоположением. Тот же эффект дает перенесение наиболее важного, ключевого по смыслу слова в конец предложения – наиболее активно воспринимаемую зону.
Своей выразительностью обладает и очень распространенный прием «единоначатия» (анафора), способный дать ощущение большого нарастания, ускорения в набегающих волнах повторов начальных слов (как смыслово значимых, так и служебных – союзов или предлогов). Именно такое нарастание, к примеру, возникает во второй половине приведенного ранее колоритного текста Каратыгина, воссоздающего характер музыки Прокофьева (см. с. 77). Прием анафоры использован здесь трижды: сначала со слова «все» начинается первая волна нарастания (все жило…, все ликовало..); далее со слов «это рождение» идут два очень развернутых, образно насыщенных периода; а затем трехкратным повторением слова «так» происходит стремительная раскрутка на коду (так странно, так поразительно, но и так реалистически убедительно…), в результате чего читатель буквально вылетает на последнее, ключевое слово – колдовство.
Восклицания, вопросы и ответы – также эффектные приемы поэтического синтаксиса, широко используемые в музыкально-критических текстах. Они прекрасно передают как состояние большого душевного волнения (от восторга до негодования), так и ощущение непосредственного, прямого и открытого контакта с читателем. Хотя наука о слове считает подобные риторические обороты особенно типичными для лирического развертывания темы, они вполне уместны и даже весьма характерны и для художественной публицистики.
Именно приемы поэтического синтаксиса открывают возможность для темпоритмической выстроенности текста, напоминая в этом другие процессуальные художественные формы: художественную прозу, поэзию и, особенно, музыку. Контрастные сопоставления предложений по длине и характеру, соотношение повествовательного развертывания, когда мысль течет спокойно и неспешно, и ускорений, резких сдвигов в изложении – все это является важным литературно-стилистическим средством, родственным приемам музыкальной драматургии.
2.2. Риторика и логика. композиция
Долгий путь от восприятия музыки через оценочные ощущения к их словесному оформлению завершается лишь на уровне целостного текста, выстроенного, сочиненного автором. Чтобы осмыслить эту сторону литературного мастерства – принципы построения формы целого, – необходимо остановиться на некоторых теоретических аспектах словесной деятельности. Прежде всего речь должна идти о риторике.
Риторика – наука, изучающая отношение мысли к слову. Она была разработана еще в античности и является основой и предтечей всех филологических наук. Согласно энциклопедии, античная риторика включала в себя пять частей: нахождение материала, расположение, словесное выражение, запоминание и произнесение. То есть она охватывала все стороны словесного высказывания, устного или письменного.
Риторика сегодня – одна из филологических дисциплин, внимание которой обращено на прозаическое высказывание и публичную аргументацию. Как явствует из современного учебника риторики33, «высказыванием может быть реплика в разговоре, ораторская речь, научная статья, газетный материал, философский трактат, письмо, финансовый отчет и т. д. Большая часть высказываний используется однократно и исчезает; высказывания, которые сохраняются, воспроизводятся и многократно используются, составляют культуру языка. […] Влиятельными являются высказывания, которые организуют, объединяют и обучают общество. Публичными называются высказывания, предназначенные любому лицу, способному их оценить и использовать. […] Печатная речь позволяет строить объемные высказывания любой сложности и остается главным двигателем культуры и основой профессионального умственного труда» (кур. авт. – Т.К.).
Риторика изучает правила построения речи (вступление, тезис, изложение, завершение), принципы аргументации, стилистические приемы (выбор слов, построение фразы, фигуры речи и т. п.). При этом «правила риторики, – говорится в том же учебнике, – не являются обязательными предписаниями и запретами, они лишь обобщают опыт великих мастеров слова, указывая на трудности и опасности, подстерегающие всякого говорящего или пишущего публично».
Центральная фигура этого процесса – человек, создающий «влиятельные публичные высказывания», – ритор. «Русская риторика предполагает специальное и литературное образование ритора: осознанную мировоззренческую позицию, компетентное владение предметом аргументации и использование уместной техники речи, вытекающее из изучения литературных норм ее построения», – читаем в той же книге.
Все приведенные теоретические постулаты легко проецируются на музыкально-журналистскую литературную деятельность. И знание основ риторики было бы полезным для пишущих музыкантов. Однако только этими знаниями профессиональная литературная работа музыкального критика-журналиста не ограничивается. Ее задачи сложнее, а возможности шире. Как сказано в том же труде по риторике, «философия, публицистика и другие виды так называемой изящной словесности, которые отличаются индивидуальным стилем, свободой композиции и авторской терминологией, часто с трудом поддаются описанию». К музыкально-критическим текстам это наблюдение относится в полной мере, поскольку это тексты не прозаические, а художественные. Художественная природа – их важная черта, но не единственная.
«Образ ритора, – читаем в том же исследовании, – складывается в трех аспектах проявления личности человека в слове – этосе, логосе и пафосе». Из этих аспектов выделим один, важный для следующего этапа наших наблюдений, а именно – логос, в котором отражается «владение интеллектуальными ресурсами аргументации».
Словесное обоснование оценочной позиции музыкального критика – акт рациональный. В нем эмоциональное восприятие произведения искусства переходит в осмысление, «гармония поверяется алгеброй». Выбор аргументов, процесс их изложения имеет своей конечной целью воздействие на читателя сложившимися умозаключениями. На первый план выдвигается логика.
Логика – наука о мышлении. Ее основателем считается Аристотель, который впервые определил ее законы, составившие позднее основы так называемой «формальной логики». Логику изучают юристы, философы, литераторы – специалисты разных интеллектуальных, гуманитарных направлений. Мыслительные процессы – одни из сложнейших в жизнедеятельности человека, и наука логики изучает и систематизирует их. «Всегда было принято считать, что знание логики обязательно для образованного человека, – читаем во вступлении современного учебного пособия „Логика“34. – Сейчас, в условиях коренного изменения характера человеческого труда, ценность такого знания возрастает. Свидетельство тому – растущее значение компьютерной грамотности, одной из теоретических основ которой является логика».
Такие логические операции, как утверждение, оценка, доказательство, опровержение и другие, играют важнейшую роль в профессиональной музыкально-критической деятельности. Поэтому в качестве важнейшего (с точки зрения развертывания музыкально-критических наблюдений) и обязательного фундамента следует считать следующее положение названного пособия: «Сфера конкретных интересов логики существенно менялась на протяжении ее истории, но основная цель всегда оставалась неизменной: исследование того, как из одних утверждений можно выводить другие» (курс, авт. – Т.К.). То есть еще одним обязательным литературным действием автора музыкально-критического текста является подача материала – продуманная последовательность рассуждений.
Суммируя сказанное, можно подойти к важнейшему выводу: процесс развертывания музыкально-критического текста предполагает двойную профессиональную задачу, каждый раз стоящую перед автором. С одной стороны, этот текст должен быть выразительным, экспрессивным, будучи отражением художественного образа, преломленного через призму индивидуального художественного восприятия критиком. С другой – текст должен убеждать логикой подачи предлагаемых умозаключений. На это направлено композиционное решение.
Композиция. Музыкальная журналистика имеет дело со сравнительно малыми литературными формами. Более того, такое ограничение, как правило, выставляется изначально, когда заказывается материал определенного объема (в знаках, страницах или хронометраже). Поэтому авторский поиск должен быть непременно направлен на то, как компактно выстроить в последовательности необходимые идеи. Результат такого поиска – логическая и художественная целостность публикации, ее комплексное воздействие на читателя.
Писатель-музыкант, изучавший средства музыкального развертывания во времени, может ставить перед собой драматургические задачи, сходные с композиторскими. Музыкально-журналистский текст можно выстраивать по законам художественной формы, в нем может быть своя оригинальная архитектоника. В отличие от научного материала, нередко композиционно регламентированного (типа: изложение идей – развитие идей – выводы), музыкально-журналистский текст может пребывать в «свободном полете». Автор каждый раз сам решает для себя задачу, как будут начинаться и соотноситься между собой абзацы – связно или монтаж-но, где и каким образом подать главную мысль, как выделить смысловую кульминацию, чем начать и чем закончить изложение и т. д., и т. п.
Попробуем проанализировать как целостную художественную форму полный текст рецензии В. Коломийцова «Шаляпин – Демон»35, опубликованной в «Молве» 1/14 января 1906 г. На состоявшейся премьере оперы А. Рубинштейна критик испытал огромное художественное потрясение, и в тексте рецензии он стремится не только дать оценку происшедшему, но и воссоздать пережитое соприкосновение с шедевром. Однако объект осмысления немыслимо сложен – перед ним сверкает целый сгусток художественных вершин, достигнутых гением Лермонтова, Рубинштейна, Врубеля и, наконец, Шаляпина. А единственное средство, которым обладает автор – слово. И практически все возможные литературные средства, о которых ранее шла речь, критик устремляет на решение своей увлекательной профессиональной задачи:
Мрачные, дикие ущелья, дикие, громадные утесы, седые тучи и нависшая мгла… Пустыня застыла, прислушиваясь к далеким голосам небесных духов… Суровые, непроницаемые скалы как будто таят вековечную тайну – страшные, неподвижные, но все же точно живые скалы! Вглядитесь вон в эту – какою странною, жуткою тенью она подернута… Тень не шелохнется, она приросла к камню, она слилась с ним в одно причудливое целое. Но вы чувствуете, что она сейчас вздрогнет, зашевелится! Полно, скала ли это? Луч таинственного света падает на нее, и перед вами вырисовывается фантастический образ, величественная фигура, окутанная в темные, эфирные одежды… И вы различаете очертания дивного лица, какого не найти между смертными. Печать глубокого, бесконечного страдания лежит на этом бледном лице, обрамленном целым снопом черных волос, тяжелыми космами падающих на плечи. Взгляд огромных глаз, полный муки, устремлен в пространство… И вот уста, скованные великой гордыней и великим презрением, размыкаются и из них несется могучее, злобное проклятие всему миру… Перед вами – изгнанник небес, отверженный ангел, перед вами сам Демон!
Да, это был тот таинственный, непонятный, но обольстительно-прекрасный страдалец, которого породила гениальная фантазия нашего поэта, которым вдохновился наш великий музыкант, которого безумной игрой красок пытался изобразить на полотне Врубель, один из наших даровитейших художников.
Теперь наш гениальный артист-певец воплотил этот образ на сцене, создав нечто удивительное, недосягаемое, совершенное. Мечта приобрела осязательные формы, иллюзия стала действительностью! Сколько нечеловеческой злобы и адской ненависти звучало в голосе этого Демона, когда он оставался наедине с собой, лицом к лицу с «твореньем бога своего», или когда он гневно возражал лучезарному херувиму, посланнику неба! Но боже, как менялся этот голос, когда Демон, охваченный новым, давно забытым чувством, навевал Тамаре «сны золотые»! Сколько грусти, сколько нежной манящей страсти слышалось тогда в этих неземных звуках!
То не был ада дух ужасный, Порочный мученик, – о нет! Он был похож на вечер ясный: Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет!..А эта сцена клятвы, готовой потрясти вселенную, это безнадежное отчаяние в конце! Да где это мы были вчера, неужели в опере?..
Шаляпин доставил вчера всем, бывшим в театре, высочайшее, исключительное художественное наслаждение. Это был один из тех редких, незабываемых спектаклей, после которых уходишь домой радостный, пораженный и восхищенный силой и величием истинного искусства: не находишь слов, чтобы выразить полноту впечатления, чтобы высказать горячую признательность артисту за этот животворящий дар, которым наделило его небо.
Рецензия четко делится на три раздела, у каждого из которых своя смысловая задача и своя нарастающая внутренняя динамика с кульминацией в конце. Первый раздел – это первый абзац. Он наиболее сложен в литературном отношении, наиболее личностей, поскольку в нем сотворчески воссоздается «образ спектакля». Следующий короткий абзац играет роль логической связки-перехода и, одновременно, вступления к основной части рецензии. Третий абзац вместе со стихами и примыкающим к ним кульминационным восклицанием «Да где это мы были вчера, неужели в опере?» – центральная часть восторженного оценочного текста, направленного на исполнение великого певца. Последний абзац – кода, переключение на другой, как бы спокойный «надличностный» уровень, торжественным мажорным аккордом завершающий изложение.
Архитектоническая выстроенность – важное качество текста. Читатель должен понимать, чувствовать логику его развертывания, мысль нельзя просто бросить, не завершив, как и нельзя ее долго «жевать». Каждый абзац, как глава в большом литературном произведении, имеет свою «тему» в изложении и свою функцию в развертывании формы.
Зачин. Музыкально-журналистский текст – это, по замыслу, текст одноразового чтения, хотя прекрасно, если его хочется перечитать и, особенно, если он остается в истории. Более того, это чтение добровольное, которое может и не состояться, если не возникнет интерес к дальнейшему изложению. Начало текста, или зачин, во многом зависит от сверхзадачи выступления, помогая читателю настроиться соответственно замыслу автора. Он может быть как информативным (повествовательное сообщение о месте и дате события, о котором пойдет речь), что не несет экспрессии, так и художественным, помогая сразу схватить, воспринять образную задачу текста. Корней Чуковский прямо советовал критикам: «Читателю надо устроить „ловушку“, надо поймать его на крючок».
В приведенной публикации Коломийцова «Шаляпин – Демон» первый абзац – поэтичный художественный текст. Автор стремится передать и образ потрясшего его спектакля, и само свое потрясение. Ему важно настроить читателя на явление необычайное, поразившее его до глубины души. Лишь затем он сможет быть убедительным, постепенно разворачивая свой восторженный отклик.
А вот иной пример. П.И. Чайковский, тонкий знаток тайн процессуального развертывания, даже в своих, казалось бы, прозаических (по сравнению с музыкой) рецензиях очень большое внимание уделял зачину. Так, уже цитированная ранее статья с ироничной оценкой некоторых оперных исполнителей (речь в ней идет о постановках русских опер – «Рогнеды» и «Ивана Сусанина») начинается развернутым и вроде бы отстоящим от всего последующего изложения вступлением. На первый взгляд оно может показаться информативным, хотя по сути – это важнейший этап публикации, своего рода смысловая «вершина-источник», призванная повлиять на восприятие всей рецензии. В ней автор разворачивает целую картину музыкально-театральной жизни своего времени. Но, одновременно, это – выступление-протест с яркой кульминацией в заключении, благодаря впечатляющим метафорам и сравнению:
Каждый год, после Успенского поста, наша русская опера начинает усиленно заявлять о своем эфемерном существовании. Афиши то и дело возвещают о возобновлении той или другой русской оперы; сердца патриотов сладостно сжимаются, публика ломится в театр, гг. артисты едва успевают, за беспрестанными репетициями, исправлять свои домашние обязанности, все кипит живою деятельностью, но прилетают итальянские соловьи, и отечественной оперы как не бывало….. весь этот мишурный блеск кратковременного процветания местной оперы погружается в глубокий мрак забвения. Нечто подобное происходит в барском доме, когда господа разъезжаются36.
Законы художественного развертывания для временных искусств едины, они прежде всего обусловлены требованиями восприятия. «Художественность» музыкально-критического текста подчиняется тем же законам, нередко позволяя ощутить параллели, к примеру, между музыкальным и литературным текстом.
В одном из телеинтервью с Родионом Щедриным у нас возник разговор об этой стороне творческого процесса. В размышлениях моего визави речь идет именно об этом:
Любое творчество – я имею в виду художественное творчество и композитора, и поэта, и писателя – всегда диктуется первой строкой. Это тот шаг, который сделать труднее всего, потому что если ты сделаешь его не в правильном направлении, если он будет таить в себе зародыш ошибки, сомнения, то он выведет тебя на неправильную дорогу. Поэтому я с великим трудом искал первый шаг, чтобы «открыть» эти страницы Гоголя («Мертвые души». – Т.К.). Перебрал несколько вариантов и, думаю, что остановился на наиболее правильном…
– А что написалось первым? Уже не помнится?
– Нет, помнится. Это помнится очень хорошо. То написалось, с чего опера начинается (Хор «Ой не белы снеги». – Т.К.). Вообще мой творческий процесс – я не знаю, как у других моих коллег – всегда начинается с первой страницы (затем я могу перескочить). Потом мне очень важен конец, те или иные кульминационные моменты, но первая строка всегда дается мне труднее всего, потому что она уже таит в себе все победы и поражения37.
Для литературного музыкально-журналистского текста также важны и зачин, и кульминационные моменты, и завершения. При разговоре о кульминациях речь, разумеется, должна идти о смысловых моментах, где наиболее ясно и броско проводятся главные идеи, ради которых текст создается. По знакомой логике музыкального развертывания это может быть и «вершина-итог», когда главная идея появляется в конце, и «вершина-источник», если с ее декларации начинается разговор, и «вершина-кульминация», если мысль, постепенно «напрягаясь», выводится на нее, а затем переключается на другое. В рецензии Коломийцова начало стихов приходится примерно на точку золотого сечения.
Не менее важны и завершения. Последние слова остаются в памяти дольше, поэтому важно не уходить в формальное «кадансирование», а выстраивать текст до последнего слова. Хотя сама «кода», роль которой, как правило, исполняет последний абзац, может быть и логической вершиной (что уже говорилось), и «репризой», перекликаясь с началом изложения, и содержать новые идеи, создавая ощущение открытой формы, незавершенного разговора, который хорошо бы продолжить…
Заголовок. Как театр «начинается с вешалки», журналистский материал начинается с заголовка (на языке газетчиков – «шапка»). Он также может быть чисто информативным, извещая о событии, о котором пойдет речь, или времени и месте происшествия, а значит быть как бы нейтральным по отношению к основным выводам и настрою предлагаемого вниманию текста. Но может иметь активный, даже агрессивный характер, завлекая заложенным в нем художественным (или нарочито «антихудожественным») образом, то есть намеренно заранее оказывать на читателя определенное эмоциональное воздействие.
Классическая русская музыкальная критика не всегда придавала этому значение. «Шестой концерт Кусевицкого», «Седьмой концерт Кусевицкого» и т. п. в статьях В. Каратыгина – ничего не значащее обозначение. Оно вполне уместно в постоянной рубрике постоянно пишущего автора. Авторские подходы в таких случаях раскрываются постепенно.
Современная журналистская традиция, напротив, весьма требовательна к заголовкам. Заголовок экономит читательское время в достижении искомого автором коммуникативного результата. Подобно эпиграфу он дает настрой и направляет читательскую мысль в желаемом направлении, подобно рекламе привлекает внимание, втягивая в чтение. Хорошо, когда в заголовке есть своя интрига. Даже в казалось бы скромном, но очень удачном заголовке приведенной рецензии «Шаляпин – Демон» мерцает несколько смыслов, усиливая интерес к публикации: и прямой, говорящий о новой театральной роли любимого артиста, и иносказательный, манящий чудом, сверхъестественной силой, поднимающий имя великого певца на уровень небожителя.
Название упоминавшейся беседы с композитором А. Николаевым «Благословенны чистые сердцем» готовит читателя к разговору о серьезном, о вечных ценностях. А приснопамятные статьи 30-х годов прошлого века в газете «Правда» о новых театральных работах Д. Шостаковича «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь» – сразу извещают читателя о «погроме». В студенческой публикации о проблемах популярного направления «аутентичного» исполнительства критически настроенный автор называет свой материал «Аутентизм или аутизм?»38, как бы сразу приглашая читателя к полемике и затем весьма убедительно излагая свое видение ситуации.
Примеров множество. Делая интервью с ректором Московской консерватории А.С. Соколовым о намерениях определенных кругов отторгнуть от Московской консерватории ее знаменитый Большой зал, его эмоциональное восклицание «Этого греха не должно произойти!» я оставила как последние слова текста и, одновременно, вынесла в заголовок39. Причем на первой полосе газеты, – мы все боролись за консерваторию, как могли.
В реальной жизни авторские заголовки чаще всего не доходят до читателя, вместо них редакторы периодических изданий, как правило, ставят свои. Хотя в этом можно усмотреть посягательство на авторское право, здесь все-таки есть и своя логика: редактор выпуска может точнее чувствовать стиль и концепцию издания, лучше знать своего читателя, наконец, обладать большим опытом. Но может и навязывать свои вкусовые пристрастия, вплоть до привычных и удобных штампов.
2.3. Литературный штамп
Экспрессивный литературный стиль – источник художественности словесного творчества. Но он же порождает и главного антагониста художественности – литературный штамп.
По свидетельству Энциклопедического словаря, «штамп» или «клише» есть «стереотипное выражение, механически воспроизводимое в типичных речевых контекстах и ситуациях; шаблонная фраза, выражение»40. Есть ряд сфер человеческой деятельности, связанных со словом, которые принципиально опираются на клишированные тексты: точные науки, медицина, право. Для них особенно важным является понятие «термин», которое предполагает точность и безусловность выражения. Распространенная фраза «договоримся о терминах» означает, что слова в процессе данного разговора будут иметь одно определенное значение, не допуская иных смыслов и разночтений.
К шаблонной лексике и фразеологии тяготеет также бюрократический язык. Существует даже понятие – «канцеляризмы». Причем если в науке словесные стереотипы возникают из стремления к точности, то канцеляризмы – порождение некой «надчеловеческой» машины. Бюрократический словесный стиль – бесчувственный, мертвый, а зачастую и косноязычный – со своей стороны отражает это. «Какая гадость чиновничий язык!.. Читаю и отплевываюсь…» – ужасался А.П. Чехов.
Однако литературный штамп – это принципиально иное. Сила речевого воздействия, как уже говорилось, во многом определяется неожиданностью появления тех или иных слов, фраз в данном контексте. В том числе и тогда, когда эти слова принадлежат другой области, для которой они – четкое понятие, может быть, даже термин, а в музыкальном контексте – образное выражение. Источником свежей лексики часто оказываются смежные искусства, хотя в принципе им может стать любая сфера человеческой деятельности. Но в процессе многократного употребления подобные слова из эффектного образа превращаются в термины (например, в музыке: колорирование, суммирование, дробление, сдвиг, драматургия, монтаж, фабула и многое другое) или… в литературный штамп.
То есть речь идет об экспрессивной по происхождению (точнее – по замыслу автора) словесности, выразительность которой от частого употребления, тиражирования стерта. Результат такой стилистики производит совсем другой эффект: избитые эпитеты, набившие оскомину сравнения, ходульные метафоры и прочие приметы «типовой» выразительности и есть тот самый «язык готовых выражений», фразы которого, как говорил Алексей Толстой, «скользят по воображению, не затрагивая сложнейшей клавиатуры нашего мозга».
Музыковедческие штампы
Для музыковедческой литературной деятельности эта проблема очень важна. С одной стороны, для нее образная речь – непременный и обязательный компонент, поскольку из всех гуманитарных сфер слово о музыке требует, пожалуй, наибольшей фантазии. С другой – недостаточно развитая индивидуальность, закрепощенное мышление, прочно вбитые в сознание и память типовые музыковедческие словесные стереотипы являются идеальной питательной средой, на которой расцветает штампованная литературная стилистика. Именно здесь, вероятно, кроется одна из причин нередкого отказа массовых изданий от журналистских услуг «чистых» музыковедов. Здесь же следует искать причины и новых закономерностей: талантливые музыкальные журналисты сегодня, как правило, целиком отдаются этой деятельности, не стремясь совмещать ее с академическими научно-педагогическими направлениями. А когда в дипломных или курсовых работах, исходя из направленности работы, появляется более свободный литературный стиль, нередко звучит упрек: «это журналистика, а не музыкальная наука!».
С позиции музыкальной журналистики один из источников музыковедческих штампов – наукообразие. Оно утяжеляет речь, делая ее чужеродной для широкого читателя, а главное, затемняет мысль. Не увлекаясь написанным и даже не всегда понимая, что же хочет сказать автор, читатель без сожалений расстанется с таким текстом.
Второй источник типовых образов – описательность «музлитературной» традиции. Например, на протяжении только первого абзаца одной музыковедческой статьи на тему новой музыки, предполагающую оценочные, то есть музыкально-критические подходы, встречаем целый каскад ходульных словосочетаний: «многоликое творчество», «огромные завоевания», «неуклонный подъем», «всюду расцвело самобытное песенное творчество», «заметные успехи» и, наконец, ключевое – метафорическое! – последнее предложение: «Сливаясь воедино, творчество […] композиторов образует многоголосную палитру, в которой каждый голос органично вливается в единое полифоническое целое и вместе с тем отчетливо слышен во всей неповторимой специфике». А далее в аналитическом эпизоде статьи возникает такая характеристика: «В умиротворенное, проникнутое светлой печалью звучание этой темы (у альтовой флейты на фоне выдержанных аккордов струнного квинтета) вторгается контрастный, сумрачный, словно окутанный туманной дымкой, серийно организованный эпизод»41.
В приведенных отрывках налицо набор образных словосочетаний. Однако большинство из них – типовые «музлитературные» словесные краски. И нужное автору ощущение уникальности свершающихся культурных и звуковых событий при таком литературном преподнесении у читателя вряд ли возникнет. Виной тому все тот же литературный штамп…
Встречаются и композиционные штампы, цель которых благая: повернуть мысль в новое русло. Среди них – бесконечные хочется. «Теперь хочется сказать о…», «хочется пожелать…», «хочется поблагодарить…». Если хочется, то надо делать! Для этого литературный язык предоставляет безграничные возможности.
Идеологические штампы
Любой стиль высказывания диктуется двумя механизмами – чутьем и навыком. А навык вырабатывается в разных условиях – ив атмосфере поддержки индивидуальности, неповторимой, оригинальной мысли и формы суждения. И в атмосфере жестких предписаний или необходимости «соответствовать», «быть в струе». Типовое по мысли суждение невозможно высказать в свежей оригинальной форме – оно останется не узнанным, поскольку живет только в своем клишированном языковом стиле.
Широко представленный штампованный стиль, рожденный идеологической подоплекой, – еще одна из примет музыкальной критики и публицистики эпохи тоталитаризма. Среди множества клишированных словесных образов в музыкальной публицистике советского времени остановим свой взгляд на одном – на сегодняшний взгляд абсолютно фантасмагоричном. Такой гротескной гиперболой воспринимается распространенный в музыкально-критических текстах тех лет литературный штамп на базе армейского лексикона. Небольшая подборка из напечатанного за более чем полувековой период производит, как кажется, сильное впечатление (курс. авт. – Т.К.)42:
1931 г. «Как отразилось социалистическое наступление на музыкальном фронте?»
1933 г. «…крайний недостаток пролетарских композиторских кадров на музыкальном фронте естественно сказался очень болезненно на оперном его участке».
«Бытовая музыка – одна из боевых задач советского композитора».
«Музыкальный участок художественного фронта не привлек еще до сих пор такого горячего и пристального внимания советской общественности… Музыка сбрасывается со счетов классовой борьбы и как определенная форма идеологии, и как фактор классовой борьбы, одно из ее орудий».
1948 г. «Вооруженные ясными партийными указаниями, мы сумеем разгромить до конца всякие проявления антинародного формализма и декадентщины».
«Силы музыковедения должны быть мобилизованы на боевую публицистическую деятельность».
1958 г. «Союз композиторов должен стать штабом творческой дискуссии».
«Новое постановление партии является громадным оружием в наших руках».
1967 г. «Нам необходимо тщательно изучить и показать широкому кругу любителей искусства ту благотворную, поистине оздоровляющую роль, которую играл революционный музыкальный фронт в условиях идейного бездорожья и духовного разброда значительной части буржуазной интеллигенции межвоенных лет».
1986 г. «Собрались, чтобы отчитаться… перед многомиллионной армией почитателей искусства, чтобы окинуть взором итоги прошедшего периода, а главное наметить новые рубежи и пути к ним».
Подобная воинствующая лексика, обильно представленная в советской музыкальной публицистике как экспрессивное языковое средство, была призвана передать «боевитость» и «молодцеватость» (важные для армии понятия!) пребывающих в «строю» авторов. Ее шествие по страницам музыкальной периодики советского времени имеет под собой особую почву. Корни, разумеется, идут от официальных идеологических текстов, в которых прямо или завуалировано мерцал неугасимый дух «классовой борьбы» и сопутствовавшей ей атмосферы устрашения. Но также сказывается и вся военизированная атмосфера существования, когда даже творческий процесс преподносился как сражение с враждебным искусством, а его участники были солдатами (некоторые, впрочем, генералами!) или врагами непрекращающейся борьбы не на жизнь, а на смерть. Метастазы штампованной военизированной лексики, надо надеяться, ушли из искусствоведческой литературной стилистики навсегда.
Литературный штамп – следствие неразвитости, несамостоятельности или задавленности образного мышления, его зависимости от стереотипов или других еще больших «опасностей». Самой сильной из них является идеологическое давление. Уже говорилось, что штампы, автоматизм речи отключают мышление. Равно как верно и обратное: бездумная речь возможна лишь готовыми разговорными формулами. «Чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься», – саркастически замечает Д. Оруэлл в антиутопии «1984».
Сгусток именно этих проблем, причем доведенный до масштабов гигантского трагического абсурда, описан писателем в той части книги, где он исследует понятие «новояз» устами одного из персонажей романа:
Неужели вам не понятно, что задача новояза – сузить горизонты мысли? В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным – для него не останется слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним единственным словом, значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и забыты… Мышления в нашем современном значении вообще не будет. Правоверный не мыслит – не нуждается в мышлении. Правоверность – состояние бессознательное43.
Разумеется, оруэлловский «новояз» – это не просто набор штампов, но уже антиречь. Однако фантасмагорический прогноз писателя впечатляет. Роман Оруэлла, как и должно художественному произведению, лишь ассоциативно воздействует на понимание реальности. Тем не менее пережитая нашей страной эпоха оставила схожие приметы, пусть и выраженные иначе. В одном из писем Асафьева 30-х годов, периода очередной травли и погромов в культуре, проскальзывает полная горечи маленькая фраза, за которой в полный рост встает трагедия профессионала: «Я старомодный писатель о музыке: я мог писать о ней только „эмоционально сигнализируя“, то есть, заражаясь сам, заражать других. Теперь так нельзя. А иначе я не умею» 44 (курс. авт. – Т.К.).
* * *
Как музыкант-исполнитель или композитор работает со звуком, музыкальный журналист в своем творческом «конечном продукте» работает со словом. Литературное мастерство, легкое перо (или речь) из вспомогательного средства с точки зрения других сфер музыковедческой деятельности, в музыкальной журналистике превращается в одно из важнейших профессиональных качеств. От специалиста в этой области требуется не только чувствовать, слышать, воспринимать, разбираться, знать, но и заражать, увлекать, вести за собой. Музыкальный журналист всегда и обязательно – мастер слова. Постоянное внимание к словесному творчеству – важнейшее условие профессионализма.
Примечания
1. Серов А.Н. Статьи о музыке в семи выпусках. Вып. 2а. – М., 1985. С. 83.
2. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. С. 149.
3. Щукина Т. Эстетическая оценка в профессиональных суждениях об искусстве // Сов. искусствознание, 1976. Вып. 1. С. 301.
4. Манн Т. Собр. соч. Т. 10. – М., 1961. С. 309.
5. Асафьев Б.В. (Глебов И.). Мысли и думы (фрагменты) // Сов. музыка, 1983, № 2. С. 26.
6. Цит. по: О музыкальной критике. Из высказываний современных зарубежных музыкантов. С. 55.
7. Там же.
8. Серов А.Н. Статьи о музыке в семи выпусках. Вып. 4. – М.,1988. С. 87.
9. Томашевский Б.В. Стилистика. – Л., 1983. С. 15.
10. Там же. С. 17.
11. Выготский Л. Психология искусства. – Цит. изд. С. 348.
12. Цит. по: О музыкальной критике. Из высказываний современных зарубежных музыкантов. С. 56.
13. Щедрин Р. Музыка идет к слушателю// Сов. музыка, 1983, № 1. С. 18.
14. Маршак С. Мысли о словах // Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. – М., 1971. С. 92.
15. Лотман Ю. Феномен культуры // Труды по знаковым системам. – Тарту. 1978. С. 11–12.
16. Тараканов М. Традиции и новаторство в современной советской музыке // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. – М., 1982. С. 31, 47.
17. Энгель Ю.Д. Глазами современника. – М., 1971, С. 292–293.
18. Томашевский Б.В. Стилистика. С. 202.
19. Коломийцов В. Статьи и письма. – Л., 1971. С. 142.
20. См.: Прокофьев С.С. Материалы. Документы. Воспоминания. – М., 1961. С. 250.
21. Асафьев Б.В. Симфонические этюды. С. 15.
22. Энгель Ю.Д. Глазами современника. С. 304.
23. Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избр. статьи. Письма к родителям. – М., 1975. С. 239.
24. Каратыгин В.Г. Новая музыка// Избр. статьи. – М.; Л., 1965. С. 322.
25. Каратыгин В.Г. Клод Дебюсси// Избр. статьи. С. 236
26. Томашевский Б.В. Стилистика. С. 217.
27. Серов А.Н. Статьи о музыке в семи выпусках. Вып. 2а. С. 89.
28. Асафьев Б.В. Симфонические этюды. – С. 15.
29. Стасов В.В. Статьи о музыке в пяти выпусках. Вып. 3. – М., 1977. С. 120.
30. Там же. С. 46
31. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. С. 45–46.
32. Каратыгин В.Г. Избр. статьи. С. 2.
33. Волков А.А. Риторика, /!/library.
34. Ивин А. Логика, .
35. Коломийцов В. Статьи и письма. С. 24–26.
36. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. С. 47.
37. Курышева Т.А. Диалоги о музыке перед телекамерой. – М., 2005. С. 130–131.
38. Ушаков Д. Аутентизм или аутизм? // Российский музыкант, 2001, № 6.
39. «Российский музыкант», 2003, № 3.
40. СЭС. – М., 1982. С. 597.
41. Советская музыка на современном этапе. Статьи и интервью. – М., 1981. С. 204, 233.
42. «Пролетарский музыкант», 1931, № 9. С. 29; «Сов. музыка», 1933, № 1. С. 19; «Сов. музыка», 1933, № 3. С. 119; «Сов. музыка», 1933, № 4. С. 1; «Сов. музыка», 1948, № 2. С. 45; «Сов. музыка», 1948, № 3. С. 77; Материалы обсуждения постановления ЦК КПСС от 28 мая 1958 г. С. 34; Там же. С. 54; «Сов. музыка», 1967, № 3. С. 86; «Сов. музыка», 1986, № 7. С. 2
43. Оруэлл Д. «1984» и эссе разных лет. С. 52.
44. Цит по: Орлова Е.; Б.В. Асафьев. – Л., 1964. С. 243.
3. Жанры музыкальной журналистки и музыкальной критики
Жанр всегда тот и не тот, всегда стар и нов одновременно. Жанр возрождается и обновляется на каждом новом этапе развития литературы и в каждом индивидуальном произведении данного жанра…1
М. БахтинЖанр – одно из ключевых понятий в любой области художественного творчества, музыкального или литературного, изобразительного или театрального. Во всех искусствах он в качестве доминанты прежде всего заключает в себе критерий определенного содержания, воплощенного в определенной форме. Но для художественной, в частности музыкальной, критики важно не только это.
Музыкальная журналистика и критика, являясь по своему языку особой ветвью литературы, а точнее – литературно-художественной критики, тоже прочно опирается на жанры как роды и виды произведений данного типа творчества. Однако их происхождение и вся исторически сложившаяся жанровая система, естественно, специфичны. Они обусловлены особой ролью художественно-критического мышления и музыкально-журналистской деятельности в культуре.
Будучи в своем исходном импульсе вторичным, вызванным к жизни каким-либо другим явлением в сфере музыкального искусства, творчество музыкального журналиста – критика, публициста – выполняет, как помним, общественный эстетико-социальный «заказ». И в формировании жанрового облика текста рядом с двумя традиционными вопросами «о чем?» и «как?», отражающими пару содержание-форма, с не меньшей остротой перед автором стоят и два других – «зачем?» и «для кого?». В них отражается важнейшая специфика именно журналистского выступления, обусловленного общественно-культурным «заказом». Речь идет об отражении в жанровом облике текстов цели выступления и адресата, на которого это выступление направлено. Вне таковых выступление окажется лишенным своей общественной значимости.
3.1. Цель и адресат музыкально-журналистского выступления
Цель выступления
За вопросом «зачем?», отражающим цель музыкально-журналистского выступления, стоит ситуация, которую, используя знаменитое понятие К. Станиславского, можно определить как сверхзадачу. Изначальная аксиологическая (оценочная) направленность музыкально-журналистской деятельности предполагает, что сверхзадача как генеральная цель выступления охватывает разные стороны творческого и художественно-организационного процесса в тех его узловых точках, поворотах, пересечениях, которые воспринимаются как «горячие». Это – отклоняющиеся от условной нормы экстраординарные, выдающиеся (со знаком плюс или минус) события, то есть все то, что обращает или, по мнению чуткого журналиста, пристрастно наблюдающего за музыкальным процессом, должно обратить на себя внимание. Таковыми могут быть как новое художественное явление, произведение, личность (рождение нового – всегда мгновение «всплеска»), так и их длительное отсутствие; как культурно значимое событие, так и негативное, за которым может стоять общественное потрясение, возмущение.
Однако сверхзадача как цель выступления не всегда носит глобальный, масштабный характер. Процесс функционирования музыки в обществе складывается из бесконечного множества частностей разного уровня, которые в разные моменты приобретают для музыкального журналиста актуальное значение и требуют своего отражения. Таким образом, цели, которые преследует то или иное музыкально-журналистское выступление, в том числе и критико-публицистическое, могут быть качественно различны. Систематизируя и схематизируя, следует выделить четыре основные группы, идущие по возрастающей степени сложности (схема 2):
Схема 2
Информация общества обо всех сторонах музыкального процесса – главная цель музыкальной журналистики. И она присутствует всегда, на всех уровнях сложности поставленных задач. Однако в предлагаемой классификации под чисто информационными целями предполагается лишь привлечение внимания к тому или иному факту или явлению без открытого выражения оценочного отношения. Тем не менее даже простая «сухая» информация является в некотором роде потенциальным оценочным актом, поскольку она противостоит самому страшному для художественной сферы наказанию – замалчиванию и забвению.
За пропагандистскими и популяризаторскими целями уже скрывается специальная информация – пристрастная, с просвечивающей положительной ценностной позицией автора. Главный акцент при популяризации и пропаганде падает на укрупненную, откровенно заинтересованную подачу предлагаемого вниманию явления (сочинения, исполнения, постановки, личности, события и т. п.). Здесь налицо доминанта художественного.
Музыкальное просветительство и воспитание, напротив, скорее социально ориентировано, поскольку основное внимание (явно или скрыто) направлено на воспринимающего. Они предполагают активное оценочное воздействие на общественное мнение. Здесь в центре внимания музыкального журналиста прежде всего сама читающая (или слушающая) аудитория и то влияние, которое он стремится на нее оказывать.
Аналитические цели – наиболее сложная из профессиональных задач журналистского выступления. Не случайно в карьере журналиста (это особенно видно в тележурналистике) создание собственной аналитической программы – «высший пилотаж», который достигается постепенно и доступен лишь избранным. Аналитика предполагает углубленное освещение вопроса, направленное к аргументированным оценочным умозаключениям, а значит, требует от журналиста не просто «быть в материале», но владеть им профессионально. Так, музыкальный журналист должен быть музыкантом, спортивный – спортсменом, политический – политиком и т. п. Сложность профессиональных задач здесь заключается в том, как выстроить логический путь и образно, ярко, убедительно подвести читателя (слушателя, зрителя) к желанным выводам.
Сверхзадача может со своей стороны диктовать выбор жанра публикации по одному и тому же поводу: развернутая рецензия или фельетон, аналитическая статья или всего лишь информационная заметка. Равно как и в эфире одно событие или художественное явление могут быть отмечены и одним предложением в информационном блоке, и специальным репортажем, и отдельной встречей или даже целой передачей.
Именно в цели, в сверхзадаче выступления проявляется исходная позиция музыкально-критической деятельности автора. В идеале – любовь к музыке, служение искусству ради всестороннего духовного развития каждой человеческой личности, борьба за развитие и увеличение культурной составляющей в духовной жизни общества. Хотя цель выступления, к сожалению, даже в художественной журналистике бывает и иной (коньюктурной, политиканской, коммерческой), весьма далекой от художественных задач. И это в общественном сознании нередко девальвирует значимость профессиональной критической мысли.
Не менее плохо, если читатель (а еще хуже – сам автор!) не понимает, зачем журналист взялся за перо или вышел в эфир, если смысл сверхзадачи, поставленной автором перед собой, не просматривается и даже не домысливается, если предлагаемый вниманию текст остается в восприятии разговором ради разговора, пусть и очень эффектного по форме. Такой труд не становится явлением художественной журналистики. Это – литературная деятельность какого-то иного рода, лишь рядящаяся в тогу деятельности музыкально-журналистской.
Адресат музыкальной журналистики
Вопрос «для кого?» подводит к следующему явлению – чувству адресата, существенному для понимания сути критико-журналистской деятельности в сфере искусства.
Коммуникативная сторона творчества важна для всех художественных сфер. В той или иной степени мастера всех искусств нуждаются в своем слушателе-читателе-зрителе. Они ищут его, думают о нем, независимо от словесных деклараций, в том числе последователей «искусства для искусства». Известно, что композитор, литератор и даже ученый, в силу обстоятельств, бывают вынуждены писать «в стол». Хотя это может стать трагедией конкретной личности, с позиции самой творческой деятельности работа «в стол» – все равно движение, развитие художественной или исследовательской мысли, прорыв в неизведанное. И оно станет достоянием для следующих поколений.
Однако для художественной, в том числе и музыкальной, журналистики вопрос о большей или меньшей необходимости контакта в принципе не стоит. Контакт – главное условие деятельности, поскольку художественная критика, во-первых, публична, как публичны, к примеру, концертное исполнительство, театр, кинематограф, а во-вторых, она, как помним, вызвана к жизни общественно-эстетической необходимостью, а не потребностью самовыражения или познания.
То есть музыкальная журналистика всегда активно «направлена на читателя». Критик, журналист не может писать в «никуда». Даже если его выступление затем не встретит широкого одобрения, сочувствия, даже если у его позиции окажется много противников, в самом его обращении уже заложен некто, к кому обращается автор. Он должен чувствовать адресата, моделировать его, взаимодействовать с ним – убеждать, полемизировать. В противном случае труд музыкального журналиста-критика не имеет смысла.
П.И. Чайковский в роли музыкального критика, например, даже озаглавил две свои статьи «Объяснение с читателем». И надо полагать, ему достаточно четко представлялся адресат в статье, начинаемой подобным вступлением: «С тяжелым сердцем, с чувством, близким к отвращению, принимаюсь я, почтенные читатели и многоуважаемые читательницы, за свои периодические беседы с вами о музыкальных делах нашего города…»2 Адресатом для Чайковского были прежде всего читатели «Русских ведомостей», то есть определенный общественный слой со своим местом в иерархии потребителей культурных ценностей.
Возвращаясь к настоящему и моделируя тип адресата, к которому может обращаться современный музыкальный журналист, понимаешь, что единого адресата нет и быть не может. Хотя в идеале хотелось бы, чтобы речь шла обо всем обществе как адресате музыкальной журналистики, в реальности имеет место другое: в своих взаимоотношениях с музыкальной культурой общество сильно расслоено по ряду параметров.
Для потребителей музыкальной информации, столь специальной по своей направленности, определяющим следует считать образовательный параметр. Музыкальная культура – слишком сложный и замкнутый в себе мир, плодотворное общение с которым требует определенных навыков. Музыкальные интересы и потребности надо воспитывать. Уровень востребованности музыкально-художественных ценностей определяет и уровень заинтересованности в получении новой информации в этой сфере.
С позиции образовательной адресат музыкальной журналистики можно представить в виде четырех условных групп: музыканты-профессионалы, просвещенные любители музыки, просто любители музыки и музыкально несведущая аудитория. Интерес к музыкальному явлению, на которое обращает внимание журналист, может возникнуть в каждой из них, но подача идей должна отличаться, иначе контакт, о котором шла речь, не состоится.
Профессионалы – те, кто, во-первых, по роду деятельности исследует, изучает музыкальную культуру, думает о ней, вникает в ее специфику, то есть профессионально занимается многими ее проблемами. Это – композиторы, музыковеды, педагоги, музыкальные ученые. Во-вторых, профессиональные музыкальные деятели, практики: солисты и оркестранты, дирижеры и артисты музыкальных театров, режиссеры и балетмейстеры, а также организаторы музыкальной жизни – менеджеры, руководители концертных и театральных организаций и т. п. Их волнует музыкальный процесс, и они разбираются в его сложностях, хотя интересы каждого, прежде всего, обращены на конкретную область их непосредственной деятельности. Для такого адресата особенно ценен отклик в связи с близкими им профессиональными проблемами. Ориентация на профессионального читателя предполагает возможность углубиться в собственно музыкальные детали. Таковой, к примеру, может оказаться и рецензия, опубликованная или произнесенная в расчете на специальную аудиторию.
Просвещенными любителями музыки можно считать людей других профессий, имеющих какое-то музыкальное образование, воспитание. Просто любителями – такового не имеющих, хотя при этом, возможно, и широко самообразованных в области музыкального восприятия и специфики современного музыкального процесса. И те и другие способны жить активной и насыщенной музыкально-культурной жизнью, нередко даже более углубленной и тонкой, чем многие профессионалы, поскольку в их судьбе музыкальное искусство, не будучи средством существования, остается только чистой духовной привязанностью.
Наконец, музыкально несведущий «широкий» читатель музыкальной журналистики – это лишь потенциальный слушатель, потенциальный потребитель культурных ценностей, своего рода чистая книга, путь в которую желанен для каждого просветителя, но сложен и часто непроходим. Чем можно привлечь внимание такого адресата, каковы должны быть подходы музыкального журналиста в общении с ним – вопрос особый, который специалист должен решать каждый раз.
Наряду с образовательным, сегодня немаловажны и другие параметры. Например, возрастной. В частности, было бы ошибкой не замечать в современном звуковом потоке огромную массу «молодежной музыки», как и сам факт подчеркнутой самостоятельности ценностных ориентиров так называемой молодежной культуры, заявляющей о себе в разных областях художественной жизни. Журналист, желающий общаться с этой аудиторией на темы музыкальной жизни и творчества, должен ее понимать, искать пути к контакту. То есть если музыкальная практика предлагает обществу программы, события, рассчитанные на разные возрастные группы слушателей, то и журналистика, отражающая их (предварительно или постфактум), должна понимать, к кому она обращается.
Одно из новых явлений российской культуры постсоветских лет – прогрессирующее общественно-социальное расслоение. Активно меняется общественная картина потребителей художественных ценностей, а значит, также меняются требования к специальной художественной, включая музыкальную, информации. Дорогие или «общедоступные» концерты, спектакли, музыкальные шоу, как и разные залы, собирают разную публику, которая в качестве адресата возможных музыкально-журналистских выступлений также значительно отличается друг от друга.
В определенных ситуациях может заявлять о себе и национальный или религиозный параметр, обусловленный традициями данного этноса в общении с музыкой. Причем речь идет не только об этнических музыкальных традициях, которые могут оказаться в поле зрения журналиста, но и о самих оценочных подходах, которые в тех или иных национальных или религиозных условиях будут восприниматься соответственным читателем (зрителем, слушателем) по-разному.
Пеструю картину адресата современной музыкальной журналистики можно представить в виде схемы 3:
Схема 3
Возникает естественный вопрос – как музыкальному журналисту и критику определить адресата? Здесь сложности нет: тип адресата выявляется благодаря используемому средству массовой коммуникации. Иными словами, кто прочтет или услышит журналистское выступление зависит от того, в каком периодическом издании, с какой трибуны (в какой радио– или телепрограмме) журналистский материал выходит в свет.
«Узкая специализация» газетно-журнальной продукции отражает именно проблему читателя, на которого ориентирован данный орган. И сверхзадача (цель, тема выступления) и многие другие стороны, связанные с выбором жанра, стиля, лексики, определяются не произвольным решением автора, а именно адресатом. Вот почему об одном и том же событии нельзя одинаково писать в специальный музыкальный журнал (типа «Музыкальной академии»), в художественно-культурный еженедельник (типа «Литературной газеты» или газеты «Культура») и в ежедневные общественно-политические, деловые газеты («Известия», «Ведомости», «Коммерсант», «Труд» и т. п.) или популярно-популистские (типа «Московского комсомольца» – «МК»). У них разный читатель, и уже в самом музыкально-журналистском тексте должен быть запрограммирован выход именно на него. Не говоря и о более тонкой внутримузыкальной ориентации разных адресатов, направленной, например, на академическую музыку или рок, джаз, традиционную восточную музыку и т. п.
Следует учитывать и появление нового «состоятельного» адресата, нередко недостаточно музыкально-образованного, но с большим желанием и амбициями в освоении «высоких» культурных ценностей. В частности, в этой сфере есть и особое направление – женские «гламурные» издания, многие читательницы которых, имея время и средства, стремятся приобщиться к серьезному искусству и тоже нуждаются в оценочных музыкально-журналистских материалах «на злобу дня».
Сказанное в равной мере относится не только к письменной, но и к устной журналистике. Авторский подход здесь с позиции чувства адресата одинаков. Выступление может быть обращено и к специальной аудитории (например, дискуссия на профессиональном музыкантском уровне), и к художественно просвещенной общественной группе (различные культурные форумы или специализированные передачи), и к разноликой непосвященной, а значит и к непрограммируемой аудитории. Устная музыкальная журналистика, подобно другим публичным формам деятельности – музыкальному исполнительству, актерскому творчеству, с одной стороны, и любой устной журналистике и публицистике – с другой, может быть профессиональной и результативной лишь в ежесекундно ощущаемом контакте с аудиторией. Контакт этот, как чувство адресата, определяет в выступлении все: и частности, и общее (замысел, тему, форму, манеру преподнесения).
Обостренное ощущение адресата – одно из основных качеств профессионального музыкального журналиста. Отсутствие такового, нередкое для традиционного музыковедческого безадресного письма, является главным препятствием на пути музыковедов в сфере профессиональной музыкальной журналистики.
Завершая разговор об адресате и еще раз обращаясь к недавней истории нашей страны, зададимся одним частным вопросом – а был ли конкретный адресат у тех многих погромных статей эпохи партийного диктата в культуре, о которых уже шла речь? Да, был, и весьма многочисленный. Разумеется, это был не «народ», далекий от проблем культуры (хотя формально тексты предназначались якобы ему), но, напротив, люди более или менее причастные к художественной сфере. Помимо самих партийных управленцев искусством, нуждавшихся в непрерывных директивах и указаниях «куда идти», сюда входили и конформистски настроенные профессионалы, для которых также нужны были свежие ориентиры, чтобы являть свою лояльность и преданность. Не случайно все идеологизированные критические материалы по вопросам музыки, откровенные в своей сверхзадаче, много цитировались, изучались на специальных семинарах, перепевались в устных выступлениях, статьях и даже научных трудах.
3.2. Объекты музыкально-журналистского выступления
Третий вопрос – «о чем?» – касается уже непосредственно содержательной стороны журналистского выступления, со своей стороны обуславливающий выбор жанра и его особенности. Здесь речь должна идти о понятии объекта музыкально-критического осмысления. Если вспомнить, что в поле зрения журналистики находится весь современный процесс функционирования музыки в обществе, то систематизация разных объектов музыкальной журналистики и критики схематически может быть представлена следующим образом (схема 4).
Схема 4
Предложенная схема, как видим, в широком плане включает в себя четыре группы объектов журналистского осмысления, качественно отличающиеся друг от друга и охватывающие разные стороны процесса функционирования музыки в культуре.
Музыкальное творчество
Первая группа – музыкальное творчество – включает в себя всю художественную продукцию, создаваемую в процессе функционирования музыки. Музыкальное творчество в своих разных ипостасях – стержень музыкального процесса, основная ценность в духовной жизни общества, удовлетворяющая его музыкально-эстетические потребности. Творчество в облике конкретных проявлений искусства музыки непрерывно взывает к своему осмыслению и оценке. Оно – главный объект музыкально-критической журналистики. Этой важной теме посвящен 5-й раздел книги – «Творческие объекты музыкального рецензирования».
На первое место в этой группе объектов следует поставить важнейший творческий акт музыкального процесса – сочинение музыки. Музыкальное произведение – результат сочинения, его творческий итог. Речь здесь должна идти как о новой музыке, приходящей в мир в результате современного композиторского творчества, так и о забытой старой, до времени выключенной из музыкального процесса и нуждающейся в новом оценочном освещении.
Следующий творческий объект – музыкальное исполнительство – заключает в себе звуковое воплощение уже созданной музыки. Для основной массы слушателей музыкальное исполнительство – самый близкий и любимый вид музыкального творчества. Стремление оценить и осмыслить его сопровождает музыку на всем протяжении ее существования, поэтому именно оно исторически является главным предметом внимания музыкально-критической журналистики.
Третий творческий объект в предлагаемой классификации – музыкальная постановка. Он охватывает все музыкально-зрелищные художественные формы, в которые в качестве одной из значимых составляющих входит музыка. Это, прежде всего, музыкальный спектакль – опера, балет, оперетта, мюзикл и любые производные от них смешанные музыкально-театральные жанры. Это также музыкально-драматический спектакль или музыкальный фильм, в которых музыка несет свою самостоятельную художественную нагрузку. Это, наконец, музыкальное представление любого уровня сложности и жанрового наклонения, реализуемое в любом пространстве: на театральной сцене, в естественном интерьере на открытом воздухе – площадях и улицах, парках и исторических местах, на экране – телевизионном, кино или любой другой проекции (к примеру, на стенах домов в музыкальных лазерных шоу).
Наконец, сегодня число творческих объектов следует дополнить художественными радио– и телепередачами на музыкальные темы. Именно художественными, срежиссированными как самоценная художественная форма с определенным сценарием и музыкальной доминантой. Кроме того, в теоретической разработке творческих объектов музыкально-критической журналистики по логике вещей не должен был бы возникать отдельный вопрос о массовой музыкальной культуре, поскольку ее модели охватывают те же виды творчества – сочинение, исполнение, постановка синтетического представления. Однако в реальности ситуация и проще, и специфичнее. Поэтому и то и другое – массовая музыкальная культура и музыка в системе масс-медиа – как объекты музыкальной журналистики будут рассмотрены в заключительном разделе (см. раздел 7).
Выбор подхода к тому или иному художественному объекту – творческий акт. Он зависит от индивидуальности критика, его таланта восприятия и оценки музыки, его кругозора и специальных знаний. Что окажется приоритетным для пишущего: технические открытия во владении звуковой палитрой или образный мир; искренность, обращенная к сопереживанию, или блеск игры; новизна неожиданных решений или виртуозное владение вековыми традициями; направленность музыки к узнаванию или познаванию, развлечению или размышлению; что автор вкладывает в понятия красоты, гармонии, совершенства; где, в каких сферах гнездятся тайники его ассоциативного мышления и воображения – все это очень личностно.
Однако есть одно обязательное требование – профессиональное «владение объектом». Оно предполагает знание, понимание возможностей и проблем данного вида творчества, будь то музыкальное сочинение, исполнение, постановка или аудиозапись. При этом речь не идет о том, что музыкальный критик непременно должен был ранее сам попробовать себя в творческой деятельности подобного рода. Хотя существует и такое достаточно распространенное мнение. Думается, что точнее и вернее позиция, высказанная еще Серовым: «Для того чтобы судить о художественных произведениях, необходимо знать искусство, иметь самые точные понятия обо всем, что до него касается, иметь верный, образованный вкус, также порядочную дозу впечатлительности, сочувствия к поэтическим предметам, но нисколько не требуется быть самому поэтом, художником на практике. Это другое дело, совершенно не зависимое от критических способностей»3.
Владение спецификой объекта дают специальные знания. Профессиональным музыкальным критиком может стать лишь музыкально образованный человек. В идеале – музыковед, хотя бы потому что весь академический курс музыковедения прежде всего направлен именно на освоение проблем музыкального произведения в его историческом и теоретическом аспектах (поэтому же музыковеду нередко сложнее реализовать себя в исполнительской или музыкально-театральной критике, здесь ему нужны дополнительные знания и навыки). Но и консерваторски образованные музыканты других специальностей могут найти себя в музыкальной журналистике, если у них есть склонности к аналитической художественно-оценочной деятельности и вкус к слову.
Если сравнить с современной ситуацией в смежных искусствах, то и там театральная критика находится в руках театроведов, художественная – искусствоведов. Зато в сфере кино работают не только киноведы – многие кинокритики вышли из среды журналистов, поскольку этой художественной области более доступна возможность самообразования (смотреть фильмы, читать соответствующую литературу). Для профессиональной музыкально-критической деятельности такого пути нет. Музыкальное образование является обязательным фундаментом, на котором строится все остальное. И касается это критического осмысления практически всего музыкального творчества.
Сказанное, естественно, прежде всего относится к серьезной музыке. Картина в области музыки неакадемической до недавнего времени в нашей стране была иной. Знатоки достаточно высокого уровня в этой сфере были люди в основном самообразованные – в ней хорошо разбирались те, кто хотел и имел возможность слушать и читать. Однако важно, что поворот профессиональной музыкальной мысли (науки и критики) к явлениям неакадемической музыки и разным формам массовой музыкальной культуры уже произошел: появились специальные исследования, в музыкальных вузах такая дисциплина введена в качестве обязательной.
Участники музыкального процесса
В следующей группе предложенной классификации объектов музыкальной журналистики речь идет о личностях, которые «делают свое дело» в разных областях музыкальной жизни. Это композиторы и музыканты-исполнители всех специальностей и направлений. Это учителя, педагоги любого уровня, от детской музыкальной школы до профессуры консерваторий, среди которых были и будут выдающиеся люди, оставшиеся в истории. Без них, «Учителей» с большой буквы, музыка перестала бы развиваться. Это постановщики всевозможных зрелищно-музыкальных произведений, авторы и ведущие музыкальных радио– и телепередач, со своей стороны развивающие творческую составляющую музыкального процесса. Это музыкальные ученые, обогащающие мир новым знанием о музыке. Это, наконец, организаторы музыкального дела (вспомним С.П. Дягилева, придумавшего и осуществившего знаменитые парижские «Русские сезоны» в начале XX в., или В.И. Сафонова, прекрасного дирижера и педагога, оставшегося в истории как выдающийся организатор – ректор Московской консерватории, более века тому назад выстроивший ее в современном, всемирно известном виде).
Разумеется, прежде всего, интерес представляют именно сами мастера музыкального искусства в разных сферах творчества. Однако музыкально-критическая журналистика, наблюдая весь музыкальный процесс своего времени, может остановить свое внимание и на организаторах этого процесса – на выдающихся педагогах или исследователях музыки, на талантливых менеджерах и на самой проблеме личности в культуре.
Организация музыкального процесса
Третья группа объектов музыкальной журналистики, исходя из ранее предложенной схемы, связана со сферой организации музыкального процесса, поскольку сам процесс функционирования музыки в обществе также нуждается в осмыслении и оценке. Здесь речь должна идти о музыкальных структурах, музыкальных событиях, музыкальном образовании и музыкальном производстве.
Музыкальные структуры – это общественные институты, посредством которых музыка реализует себя в окружающей жизни. Сюда можно отнести, во-первых, концертные залы и любые другие концертные площадки, а также концертные организации разного уровня и масштаба, от государственных гигантов (типа «Госконцерта») до небольших частных продюсерских фирм. Во-вторых, стационарные музыкальные театры и отдельные труппы, оперные, балетные, танцевальные, функционирующие на разной основе. К структурам относятся многочисленные управленческие организации культуры, занимающиеся проблемами музыки, музыкальные творческие союзы (Союз композиторов, Союз музыкальных деятелей, Союз театральных деятелей и т. п.), музыкальные издательства, музыкальные редакции радио– и телевещания. Подобный перечень с разной степенью подробностей можно длить долго.
В деятельности музыкальных структур в единый клубок сплетены художественные, экономические, финансово-коммерческие и правовые аспекты, вне которых современный музыкальный процесс невозможен. И общество, заинтересованное в информации о состоянии «музыкальных дел», должно получать ее из журналистских рук. К примеру, публичные дискуссии о Большом театре или работе столичной филармонии, журналистские расследования деятельности управленческих структур, вопросы реорганизации одних и создания других, проблемы творческих союзов и многое, многое другое, что имеет предметом внимания жизнедеятельность организаций, от которых зависит функционирование музыки в обществе, – все это объекты журналистского внимания, относимые к области музыкальных структур.
К музыкальным событиям следует отнести все происходящее в текущей музыкальной жизни. Публичное музыкальное событие – важная составляющая культурного процесса, один из способов вхождения музыкальных ценностей в общественно-культурный обиход. Такие события анализируются и оцениваются как с творческих, так и с организационных позиций. Здесь в качестве объекта внимания можно представить и отдельный концерт или музыкально-театральный спектакль, и ряд художественных событий как целостность более высокого порядка: конкурс, фестиваль, гастроли художественного коллектива (оркестра, театральной труппы), декада музыки страны (народа, этнической группы), циклическая программа, сезон концертного зала и т. д., и т. п. Но это могут быть и плоды музыкально-производственной деятельности – выход издательской или аудиовидеопродукции, нового журнала или газеты, их презентация.
Еще одна чрезвычайно важная и специфическая область музыкального процесса – музыкальное образование – особый тип художественно-организационной деятельности, направленной на самовоспроизводство и самосохранение. Именно от того, насколько успешно организовано музыкальное образование в масштабах всего государства и в каждой отдельной территориальной ячейке, во многом зависит жизнеспособность данного вида искусства. К музыке это относится в наибольшей степени, поскольку уровень профессионализма занимающихся ею, как и уровень музыкальных познаний и восприятия, в широком обществе обусловлены качеством музыкального образования.
Будучи органичным средством жизнедеятельности музыкального искусства, музыкальное образование в разных формах существовало во все времена. Его значение и ценность неоспоримы. Поэтому предметом внимания журналистики музыкальное образование, как правило, становится в случае нарушения этой органики, в периоды неблагополучия, конфликта между желаемым и существующим, между изменяющейся общественной потребностью и реальностью. А круг вопросов и степень детализации в осмыслении проблем музыкального образования всегда определяет адресат – те, кого эти проблемы волнуют, и кто ищет пути к их разрешению.
Например, в настоящее время (второе 10-летие постсоветской эпохи) в отечественной культуре вновь остро встали проблемы музыкального образования как специального, так и общего (начального), мимо которых журналистская мысль не должна проходить. Одна из глобальных проблем – коммерческая (платное – бесплатное; государственная дотация – хозрасчет; помощь студентам – стипендии, жилье, возможность подготовки к международным конкурсам и обеспечение участия в них; наконец, поддержка особо одаренных, талантов как национального достояния…). Другая – организационная в сфере высшей школы. В частности, общегосударственная реформа высшей школы в стране (на основе Болонского соглашения) может пагубно отразиться на органично выстроенной системе отечественного специального музыкального образования. Здесь также нужна публичная дискуссия профессионалов, вести которую может и должен музыкальный журналист.
Наконец, к организации музыкального процесса следует отнести все материальное музыкальное производство – нотопечатание; аудиовидеоиндустрию; производство музыкальных инструментов и т. п. Имея достаточно отдаленное отношение к собственно музыкальному искусству (многие люди, работающие в этой области, не имеют и не обязаны иметь специальное музыкальное образование), музыкальное производство, тем не менее, играет в функционировании музыки важную роль. Без него нормальный процесс может быть нарушен. А это значит, что и здесь профессиональный музыкально-журналистский взгляд необходим.
Таким образом, с позиции общественного «запроса», именно организационные аспекты как реальные стороны реальной жизни, оказываясь объектом внимания музыкальной журналистики, могут помочь в решении очень важных задач в сфере культуры. Журналистская информация, журналистское расследование в этой сфере, как правило, носит проблемный, публицистический характер. Условно говоря, если «музыкально-культурный организм» функционирует нормально, музыкальной журналистике незачем вмешиваться в этот процесс. Но, когда возникает сбой, нарушается порядок вещей или возникает необходимость в переменах, реорганизации, в поиске новых подходов, журналистика может и должна вмешаться с целью осветить разные стороны проблемы, чтобы затем донести до общества ответы на возникший «запрос». От музыкальной журналистики, в частности, во многом зависит насколько гласным, публичным, ответственным перед обществом будет то или иное принимаемое решение в организационной сфере музыкальной культуры.
Отражение музыкального процесса
Группа объектов музыкальной журналистики, условно обозначенная как отражение музыкального процесса, занимает более скромное, как бы сопутствующее место. Освещение происходящего в этой сфере имеет скорее профессиональную «цеховую» направленность, поскольку многое делается силами самой музыкальной журналистики.
Отражением бытия музыки можно считать музыкальные книги, особенно направленные на достаточно широкого читателя (с точки зрения общественной потребности) и имеющие явную просветительскую цель. Они также могут оказаться в объективе журналистского взгляда. Предметом внимания должно быть и состояние специальной периодической печати о музыке, уровень ее компетентности, количественные и качественные «показатели», равно как и аналогичные вопросы, обращенные к информационным музыкальным радио– и телепрограммам, а теперь и к Интернету. Наконец, участие музыкальных журналистов в пресс-конференциях, публичных дискуссиях и «круглых столах», посвященных проблемам музыки, может иметь вторым этапом работы их последующее публичное освещение.
Таким образом, в большинстве случаев музыкальная журналистика, освещая отражение музыкального процесса, предлагает публичный, нередко заостренно критический взгляд на ситуацию в собственном цехе. И это естественно, поскольку и музыкально-критическая мысль, и музыкально-журналистская деятельность сами являются неотъемлемой частью этого процесса.
3.3. Форма музыкально-журналистского выступления. Смысловые компоненты
Ответ на четвертый вопрос – «как?» – заключает в себе собственно формальную сторону музыкально-журналистского высказывания, в наибольшей степени определяющую конкретные жанровые признаки журналистского выступления. Причем речь здесь идет о форме в широком смысле слова, как комплексе профессиональных средств, используемых в данном виде творчества. Он охватывает качественно разные параметры (схема 5):
Схема 5
Современная журналистика практически «на равных» реализует себя в двух принципиально различных формах – письменной и устной. Музыкальная пресс-журналистика, как и Интернет (пока!) – это письменные тексты; а радио– и тележурналистика – устные (подготовленные или спонтанные). Любопытно, что даже в позапрошлом веке, на заре русской музыкальной критики один из первых отечественных профессионалов в этой области А.Н. Серов провидчески ставил перед собой вопрос о таких различиях: «Устное слово может и должно себе позволить гораздо больше свободы в изложении, больше отступлений от главного предмета, больше зигзагов в плане, больше мелких эпизодических подробностей. От статьи, напротив, читатель вправе требовать несравненно больше выработанности в мысли и форме, больше строгости и сдержанности»4.
Разумеется, практические рекомендации сегодня могли бы быть и несколько иными, чем у Серова. В частности, как помним, современный язык письменной музыкальной журналистики интенсивно обогащается элементами разговорной речи. Однако столь же интенсивно эволюционирует и сама устная речь. Наряду с содержательными деталями (больше «отступлений», «зигзагов в плане», «мелких подробностей», по Серову) и литературным стилем, в устном выступлении оказываются существенными также специальные средства именно звуковой речи – темп, интонационно-тембровые оттенки, смысловые акценты, наконец, артистизм.
Объем – для музыкально-журналистского выступления показатель весьма существенный. Он выражается в знаках, строках, страницах, печатных листах при письменном задании, или в хронометраже – при устном. Объем, как правило, определяют органы СМИ, исходя из множественных задач: характера объекта, адресата данного органа, цели освещения того или иного явления.
Заданный еще до начала работы объем диктует автору не только уровень допустимых подробностей и углубления, но и, в определенной мере, выбор конкретного жанра. Возможность посвятить избранному событию или явлению полторы или пятнадцать страниц, сделать минутный репортаж, десятиминутный сюжет или целую передачу – все это, естественно, определяет подход автора к создаваемому материалу.
Литературное оформление, на котором лежит основная смысловая нагрузка, диктуется творческими задачами, которые перед собой ставит музыкальный писатель-журналист. Это самый броский и самый сложный из формальных параметров музыкально-критического выступления. Он охватывает тип литературной стилистики (от строгой, образцовой до предельно индивидуализированной, экспрессивной), композиционные принципы, заголовок. В какой манере высказываться, к какой лексике прибегать, на какую стилистику опираться – решает автор. Но не только по «велению души», а исходя из жанра выступления, избранного им или заказанного ему в связи с темой (объектом) и целью выступления. В письменной журналистике литературное оформление включает в себя и такие чисто полиграфические приемы, как игра шрифтами и организация текста в пространстве. Средствам словесного творчества в музыкальной журналистике специально посвящен предыдущий раздел книги.
Смысловые компоненты – важнейшее проявление специфики профессионального музыкально-журналистского выступления. Это как бы клишированные содержательные сгустки, которые в разных пропорциях, концентрированно или рассредоточенно, с разной значимостью и не обязательно в полном объеме могут быть представлены в одном выступлении, письменном или устном. К смысловым компонентам относятся: описание объекта, постановка проблем, анализ, интерпретация, оценка, выводы.
Описание объекта – важный информационный компонент выступления. Его цель – ознакомление с музыкальными явлениями или событиями, о которых идет речь и свидетелем или знатоком которых читатель, возможно, не является. Описание (живое, образное) несет на себе значительную пропагандистскую, просветительскую, популяризаторскую нагрузку, поскольку, информируя, оно предполагает вызвать интерес к факту, явлению, проблеме.
Содержанием такого описания может быть информация об участниках и месте события (если речь, к примеру, идет об ожидаемом или состоявшемся концерте, спектакле, конкурсной программе и т. п., включая, в частности, и публику – сколько было, как принимала); о времени создания, об особенностях композиции, характере тематизма и прочих важных для восприятия и понимания музыки деталях (если речь идет о музыкальных произведениях); о фактах жизни и творчества (если речь идет о художнике). Описательные моменты нередки в «зачинах», но и они не претендуют на отдельные, непременно самостоятельные разделы текста – информация может быть искусно вкраплена в иные по смысловой нагрузке этапы повествования.
Постановка проблем, непременная составляющая научного труда, в музыкально-журналистском выступлении имеет как бы факультативный характер. Круг возможных вопросов, затрагиваемых для достижения поставленной цели выступления, а также характер их подачи в каждом отдельном случае определяется авторским видением. Эти вопросы могут быть в центре внимания выступления, а могут создавать сложный «глубинный» фон при разговоре «о другом». То есть авторская позиция может быть выражена открыто и достаточно развернуто, а может «слегка мерцать» в тексте или вообще отсутствовать.
Однако, не будучи обязательным для музыкально-журналистского выступления, проблемный аспект в нем, как правило, в какой-то мере представлен. Именно он активизирует восприятие читателя, его эвристическое, а не чисто потребительское отношение к тексту, выводя разговор на уровень причинно-следственных связей и обобщений, более широких, чем, казалось бы, того требует тема беседы. И сам круг проблем музыкально-критического выступления журналиста специфичен – он обусловлен и художественной, и социокультурной сторонами музыкального процесса.
Если взглянуть с этих позиций, к примеру, на одну из рецензий П.И. Чайковского («Русалка» Даргомыжского. – «Итальянская Опера»5), можно обнаружить в ней целый ряд попутно затронутых проблем:
– культурно-музыкальной среды («…и во время оперно-концертного сезона московская музыкальность есть в большинстве случаев не более, как весьма комическая, по своим размерам и продолжительности, иллюзия, что, за исключением концертов Русского музыкального общества, все явления нашей музыкальной жизни или возмутительны, или смешны…»). (Курс. авт. – Т.К.);
– вкусов публики («…москвичи, падкие до грубых эффектов силы, не замечают всех этих маленьких недостатков и, как только г. Марини хватит свою грудную ноту, приходят в какое-то восторженное беснование, как будто в этом крайне антихудожественном выкрикивании и заключается вожделенная цель их усердного посещения итальянских спектаклей»);
– низкого исполнительского уровня оркестра, хора, балета в оперно-театральной практике («В ансамблях царствовала полнейшая безурядица, оркестр играл вяло и слабо, хоры, как всегда, фальшивили нещадно…»);
– взаимоотношений музыки и литературного текста в оперном произведении, а шире – самой концепции оперы как жанра (в кратком отступлении по поводу «Каменного гостя» Даргомыжского: «Известно, что речитатив, будучи лишен определенного ритма и ясно очерченной мелодичности, еще не есть музыкальная форма, – это только связующий цемент между отдельными частями музыкального здания, необходимый, с одной стороны, вследствие простых условий сценического движения, с другой же стороны, как контраст к лирическим моментам оперы […] Написать оперу без музыки – не есть ли это то же, что сочинить драму без слов и действия?»).
Анализ как компонент музыкально-журналистского выступления является своего рода его научным фундаментом. С позиции пишущего он предполагает не просто свободную ориентацию в предмете разговора, но профессиональные знания его истории и теории, а также профессиональное владение методологией, аппаратом его исследования. В отличие от описания, аналитическое мастерство в критическом тексте связано с умением выделить и ясно сформулировать природу именно тех деталей в исследуемой художественной картине, которые наиболее убедительно подтверждают авторскую концепцию. Аналитическое начало в содержании публикации или иного выступления может быть представлено достаточно широко вплоть до отдельных близких к научным построений, может просто пронизывать многие рассуждения (без употребления специальных понятий и терминологии), но может и отсутствовать вовсе.
Интерпретация, напротив, по своему содержанию представляет художественную часть критического выступления, причем наиболее личностную. Выдающийся русский критик В.Г. Белинский, например, полагал, что стремясь сделать интерпретацию адекватной художественной мысли, «критик должен вобрать в себя широчайшие слои жизненного и эстетического опыта». Такой опыт позволяет критику-журналисту включать в орбиту своих образных представлений любую параллель, любую идею, мысль, менее рискуя показаться ограниченным, наивным. Здесь преобладают художественное чутье и интуиция, особенно если учесть, что толкованию в музыкально-критической журналистике чаще всего подвергается наиболее тонкая субстанция – сама музыка, ее звучание и ее восприятие. Любопытно, что аналогичные размышления уже по поводу литературной критики привели даже к сравнению с режиссерским искусством. «Задача критика близка к задаче режиссера, когда он берет рукопись и вскрывает ее скрытую между строк энергию на сцене в конкретных образах перед зрительным залом»6, – считает писатель А.Н. Толстой.
Касаясь проблем интерпретации, М. Бахтин в «Эстетике словесного творчества» определяет два возможных направления в «комментировании образных структур»7:
1. Относительная рационализация смысла (научный анализ).
2. Углубление исследуемого смысла с помощью других смыслов (философско-художественная интерпретация).
Именно второй из двух названных ученым путей соответствует задачам музыкально-критической журналистики. Философский склад ума, ценностные ориентации, мироощущение, воображение, направленность ассоциативного мышления, обращенного к миру звуков или предметно-пространственным представлениям, к пережитому или желаемому, к реальной «прозе дня» или к «художественному вымыслу» – все это способно стимулировать рождение необходимых «других смыслов».
Оценка – есть и цель, и средство музыкально-критической журналистской деятельности. Но кроме того, она – непременный смысловой компонент любого оценочного выступления. Оценка может быть направлена на любую сторону затрагиваемых в тексте явлений, вопросов. Она может излагаться открыто или быть завуалирована эзоповым языком, иронией, недомолвками, прячась в подтексте, может быть подана концентрированно, ясно сформулирована или растворена в эпитетах, в избранной лексике. Оценочное мастерство, как и мастерство интерпретации, индивидуально, его результаты со своей стороны могут оцениваться как любой другой творческий акт.
Выводы – последний из названных ранее содержательных компонентов критического выступления – требуют ясной подачи, в них открыто выражается цель выступления. В выводах может наиболее целенаправленно реализоваться воспитательная роль публицистической журналистики. Однако в отличие от научного труда, для которого выводы – цель и главный итог работы, в музыкальной журналистике, критике, публицистике выводы не являются обязательным компонентом. Они могут вытекать из всего изложения, явно прочитываться, исходя из авторской позиции, отраженной в интерпретации и оценках, но при этом оставаться «за кадром», то есть в тексте отсутствовать. Есть особое мастерство и определенный принцип критического выступления журналиста, в котором не делаются прямые выводы, а доминируют «вопросительные знаки». Подобное выступление намеренно ориентировано на сотворчество читателя, на его ответный критический порыв.
3.4. Жанры содержательного параметра
Исторически сложившиеся жанры музыкальной журналистики условно можно разделить на две основные группы, как своего рода две оси в построении единой системы: одна обусловлена содержательно-тематическими требованиями, другая – формальными. Разумеется, журналистская практика чаще предлагает не чистые образцы, а скорее полижанровые разновидности, в которых можно обнаружить черты разных жанровых видов. Однако осознанное привлечение элементов одного жанра в другой – тоже профессиональный прием, выявляющий владение всем комплексом возможностей, а значит, и способность оптимального достижения поставленной творческой задачи. «Каждый хороший музыкант, а особенно теоретик-критик, должен испробовать себя во всех родах сочинения»8. Эту мысль П.И. Чайковского можно спроецировать и на музыкально-журналистское творчество.
Цель, адресат, объект, форма в их взаимодействии – признаки, благодаря которым музыкально-журналистское выступление способно принимать тот или иной жанровый облик. Жанры содержательного параметра определяются различными объектами и целями музыкально-журналистского осмысления, то есть тем, что и с какой целью освещается в предлагаемом выступлении.
Информация. Анонс. Аннотация
В самом обозначении данных жанров уже заложена цель выступления. Согласно толковому словарю С. Ожегова, информация есть «сообщение, осведомляющее о положении дел, состоянии чего-либо». С позиции объектов музыкальной критики информация обращена на музыкальное событие, которое должно произойти или уже произошло. С позиции смысловых компонентов как формального признака это – описание объекта.
Информация не требует оценочного подхода, тем не менее сам факт подачи той или иной информации на фоне огромного потока происходящего вокруг является, как помним, потенциальным оценочным актом. Она помогает современникам ориентироваться в море событий, вырабатывать для себя приоритеты, дает возможность хотя и поверхностно, но более широко охватывать музыкальный процесс. Для музыкального журналиста умение вовремя выявить и обнародовать интересные сведения – непременное профессиональное качество.
Информационный жанр весьма распространен в средствах массовой информации, он охватывает все, что направлено на музыкальный процесс. Информативные материалы бесценны и для историков последующих поколений.
Анонс – особая информация, предваряющая художественное событие и, одновременно, рекламирующая, пропагандирующая его. В нем, как и должно рекламе, всегда делается акцент на лучших, наиболее выигрышных сторонах преподносимого явления. Цель анонса – не просто обратить внимание на ожидаемый факт, но заинтересовать, даже заинтриговать, а в конечном результате завлечь слушателя-читателя-зрителя, способствуя его участию в ожидаемом мероприятии. «Спешите видеть!» – старый как мир призыв из анонса художественного зрелища.
Аннотация – также заинтересованная информация, но информация специальная, поскольку объектом является уже не событие, а само музыкальное произведение. Аннотация несет популяризаторскую и даже просветительскую нагрузку. Упомянутый толковый словарь С. Ожегова трактует понятие аннотации как «краткое изложение содержания».
Тут, естественно, может возникнуть извечный для музыковедения вопрос – как отразить содержание аннотируемого музыкального произведения? Вербализацией смысла в произвольных ассоциациях или объяснением структуры? В музыкальной аннотации ключ к решению этой задачи следует искать в четком осознании цели.
Главная цель аннотации – не пересказ и не оценка музыкального произведения, а подготовка к восприятию. Вот почему нередко так раздражает читателя наполнение аннотаций нежелательными для них развернутыми оценочными суждениями, навязывающими свою трактовку. Знакомство с аннотацией предваряет соприкосновение с самим произведением, а не заменяет его. Аннотация должна вызывать заинтересованность, а не потребность полемизировать, она призвана дать необходимые ориентиры музыкально-теоретического и музыкально-исторического порядка, чтобы облегчить путь к контакту с музыкальным произведением всем, кто в этом нуждается.
Публичный выход аннотаций – концертные и театральные программки, буклеты, вступительное слово. В качестве составной части аннотация может входить и в анонс.
Хроника
Слово «хроника» происходит от греческого «хронос» – время. Понятие хроника известно и как тип литературного произведения, содержащего историю событий (к примеру, знаменитые «Хроники» Шекспира), и как газетно-журнальный жанр – «краткое сообщение о факте» (СЭС). От этого последнего и идет давняя журналистская профессия – хроникер.
В области музыкальной журналистики с подобным понятием чаще сталкиваемся в значении рубрики того или иного печатного органа, постоянно информирующей о состоявшихся событиях. При этом в отдел «Хроники» может попасть и сугубо информационный материал о событии, и более сложный, приближающийся к мини-рецензии, если событием, например, был концерт, который журналист параллельно оценивает. Таковы, к примеру, многие критические материалы, принадлежащие перу В. Каратыгина. Именно в разделе «Хроники» появились его первые отклики на премьеру Второго фортепианного концерта Прокофьева в Павловске9 или на актовый консерваторский концерт, на котором выпускник Сергей Прокофьев был награжден первой премией10.
Будучи прежде всего оперативной информацией, хроникальный материал допускает и жанровые усложнения в зависимости от того, насколько профессионально труден объект внимания и какова цель публикации (только информировать или параллельно пропагандировать, просвещать).
Репортаж
Репортаж – французское слово (reportage), образованное от английского report – сообщать. Репортер – классическая профессия газетного журналиста, доставляющего оперативную информацию о событиях, фактах, свидетелем или участником которых ему удается быть. Репортаж – материал, отражающий полученную информацию с позиции самого репортера. Это оценочно окрашенное, индивидуальное, то есть авторское освещение. С точки зрения музыкальной журналистики объект репортажа (по предложенной ранее классификации) – музыкальное событие.
Жанр репортажа не очень распространен в музыкальной журналистике. Он предполагает определенную экстраординарность событий, нуждающихся в немедленном освещении, а значит, и оперативность самого средства массовой информации (типа ежедневной газеты или ежедневного авторского информационного радио– или телеканала). А такие органы отданы, как правило, не культуре, а политике.
В музыкальной жизни репортажи особенно ценны в периоды фестивалей, конкурсов и других больших публичных музыкальных мероприятий, включающих в себя целую цепь событий. Они могут выходить и в ежедневных газетах, и в специальных выпусках – бюллетенях. Их нередко специально готовит и распространяет пресс-центр художественного мероприятия.
В наше время наиболее уместной формой музыкального репортажа стала устная радио– и тележурналистика – прямо из залов, фойе, артистических комнат и т. п. Именно она приобретает все большую популярность в мировой практике. Специальные авторские музыкальные репортажи – частый спутник ведущих информационных радио– и телепрограмм в разделах культуры (о жанрах музыкальной радио– и тележурналистики см. раздел 3.6).
Рецензия
Рецензия – главный жанр музыкально-критической журналистики. Более того, само понятие музыкальный критик нередко ассоциируется именно с деятельностью музыкального рецензента. Жанр рецензии предполагает текст непременно оценочного характера, внимание которого направлено на произведение искусства, в нашем случае – искусства музыкального.
Присутствие рецензионной составляющей возможно и в других жанрах – творческом портрете, проблемном выступлении, направленном на собственно музыкальное творчество, обозрении, если оно охватывает творческие события и т. п. История музыкально-критической мысли – это прежде всего история музыкального рецензирования, равно как и история творческой деятельности классиков данного жанра. Музыкальному рецензированию посвящен отдельный раздел книги (см. раздел 5).
Творческий портрет
Жанр творческого портрета занимает огромное место в музыкальной журналистике. Здесь объектом внимания становится не только творчество, но и сама уникальная личность художника. Элементы «портретирования» естественны и в других жанрах, когда возникает речь об авторе художественного явления. В той или иной степени он всегда присутствует в интервью, даже если тема беседы не касается личности интервьюируемого.
О популярности жанра творческого портрета свидетельствует и количество работ такого плана на всем видимом историческом пространстве, и их качественное разнообразие (подробно о жанре творческого портрета см. раздел 6).
Обзор. Обозрение
Понятие обзор определяется как «сжатое сообщение о ряде объединенных общей темой явлений» (толковый словарь С. Ожегова). Обозрения, обзоры в роли журналистского жанра весьма распространены, что отражается и в специальном профессиональном наименовании их авторов – обозреватель. Не избегает его и журналистика музыкальная.
Объектом музыкального обозрения является цепь музыкальных событий, объединенных определенным временем или местом и образующих некое смысловое единство: фестиваль, конкурс, пленум, циклическая программа, культурная декада, гастроли художественного коллектива и т. п. Оценочное отношение при этом распространяется не столько на каждое творческое событие в отдельности, сколько на всю совокупность событий как целостность. Однако для обзора весьма типичны и внутренние мини-рецензии, направленные на новую музыку, на исполнителей, на отдельную концертную программу или спектакль; в нем возможны и мини-портреты отдельных участников.
Помимо кропотливой рецензионной работы, направленной на частности, обзор особенно нуждается в способности систематизировать и обобщать, умении взглянуть на развернутый во времени многосоставной объект как бы с высоты птичьего полета. Именно поэтому в обзоре могут совмещаться разные цели – и аналитические (чаще культурологического наклонения), и просветительские, и информационные (для непосвященных). Оценочное отношение обзорных материалов охватывает разные стороны многопланового мероприятия – как творческие, так и организационные, общественные, социокультурные.
Проблемное выступление
Наряду с рецензией и творческим портретом, проблемное выступление можно считать важнейшим жанром музыкальной журналистики. Именно в нем в наибольшей степени реализует себя ее публицистическая сторона.
Проблемное выступление тяготеет к полемичности. Уже сама форма изложения в нем, как правило, содержательно насыщенна. Острота подачи идей обусловлена целью выступления, которая должна четко прочитываться читателем. Актуальность поднимаемых вопросов – его непременное условие.
Объектом проблемного выступления может стать любая сторона текущего музыкального процесса (творческая, организационная), освещение которой выявляет причинно-следственные связи и закономерности (а чаще – нарушение таковых) в функционировании искусства. Сами проблемы также могут быть разного порядка – художественно-эстетического, социокультурного, нравственного, идеологического. Именно проблемные выступления призваны фокусировать внимание современников на болевых точках в развитии культуры и искусства своего времени.
Эти свойства проблемного выступления широко эксплуатировались в эпоху советского тоталитаризма. Практически все официальные материалы, направленные на искусство, все погромы и проработки, все нравоучения, установки, «ценные и руководящие указания» – как писать музыку и как ее оценивать, как развиваться искусству и как его воспринимать, – все это с жанровой точки зрения реализуется именно в виде проблемных выступлений.
Основная цель проблемного выступления – фокусировать внимание современников на болевых точках в развитии музыкальной культуры своего времени. Сверхзадача, стоящая перед автором, должна четко прочитываться и восприниматься читателем. Она может быть представлена в четырех вариантах:
1. Подвести к постановке проблемы.
2. Поставить проблему.
3. Подвести к решению проблемы.
4. Предложить решение проблемы.
Проблемное выступление предполагает определенные выводы, ради которых разворачивается все изложение. Они могут быть ясно и открыто поданы в тексте, но могут быть преподнесены более завуалированно или подаваться в какой-то неожиданной форме, что со своей стороны должно привлечь к ним особое внимание. Разумеется, выступление даже на одну животрепещущую тему может содержать целый сгусток проблем, уровень решаемости и даже понимания которых может быть различен. Однако, если сверхзадача не ясна и конечная цель «словесного напряжения» не воспринимается, такое выступление бессмысленно.
На излете «оттепели» 60-х годов в журнале «Советская музыка» появилась публикация М. Тараканова «Музыкальной критике – конец?!». Сверхзадачей этого острого, полемичного по стилю проблемного выступления можно считать намерение автора привлечь внимание к крайне низкому уровню музыкально-критической практики, где подлинная деятельность долгие годы подменялась мнимой. Статья содержит постановку и ряда локальных проблем – уровня оценочного мастерства, литературных штампов, условий публикаций и многое другое. Однако важнейший постулат, кульминация, в которой кроется вывод, очерчивающий (хотя и не формулирующий) главную проблему, излагается автором перед самым финалом в новой, до этого не употребляемой в тексте, форме условно прямой речи, тем самым резко приковывая к себе внимание:
Поэтому, дорогие товарищи, руководители наших творческих союзов, подумайте о воспитании кадров музыкальной критики – задаче, требующей огромного внимания и, в частности, умения ценить прежде всего самостоятельность и независимость суждений молодого автора. Одернув его, вы рискуете не только тем, что потеряете потенциального критика, но и тем, что другим не очень-то захочется последовать его примеру, подвергнув себя подобной опасности11.
Будучи наиболее сложным жанром музыкальной журналистики, проблемное выступление может использовать весь арсенал средств журналистского мастерства: широкую научную базу в системе доказательств как фундамент ценностных критериев; философскую оснащенность, позволяющую погружать любое художественное явление в контекст человеческого бытия; свободный ассоциативный полет, выражающий личностную авторскую позицию; раскованное экспрессивное литературное письмо. Главным же является профессиональное владение поднятыми вопросами и остро заинтересованное к ним отношение.
В процессе критико-журналистского образования музыковедов работа над проблемным выступлением обязательна. И важно, чтобы тему выступления каждый находил сам. Для студентов характерны свежесть взгляда, неординарность мышления, а нередко, и поиски оригинальной формы для усиления эффекта воздействия. Для примера можно взглянуть на оригинальный проблемный материал, принадлежащий студенческому перу. Волнующая молодых специалистов проблема музыкально-стилистических поисков в современной музыке предстает перед читателем в облике художественной аллегории, смысл которой заключен уже в заголовке статьи:
Опять Вавилонская башня?
Разбирал я немца Клопштока, и не понял я премудрого: не хочу я воспевать, как он, я хочу меня чтоб поняли все от мала до великого.
А.С. Пушкин
пшэфукайхлвистъездырщьжогмюцёнчбя
Не пугайтесь. Это не компьютерный сбой и не вражеская шифровка. Это буквенный аналог музыкальной серии – тридцать три буквы алфавита, расположенные в произвольном порядке. Мы могли бы разбить их на части и составить из этих частей небольшой рассказ. Он мог бы начинаться так: «Пшэ фукайх лвис…». Думаю, тем не менее, что найдется немного охотников читать подобные литературные экзерсисы. Впрочем, серийная музыка тоже смогла завоевать не столь широкую аудиторию.
А чтобы вспомнить, как все начиналось, позвольте рассказать сказку.
Давным-давно на свете жила Модальность. Несколько нот – в какой-то момент все поняли, что их должно быть семь – собирались вместе, и любая из них могла становиться главной. Но как-то раз одна нота была признана самой главной. Ее провозгласили тоникой, и на смену Модальности пришла Тональность.
Ах, как хорошо жилось в это время! Люди пели и танцевали под музыку. Композиторы с удовольствием пользовались Тональностью – то мажором, то минором, а люди смеялись и плакали, потому что слышали в музыке что-то очень знакомое… Но вот однажды композиторам показалось, что семь нот – это слишком мало. Тогда Тональность стала одалживать ноты у родственников и соседей.
Постепенно нот стало двенадцать, но по-прежнему все подчинялись одной. И в один день ноты сказали: «Мы не хотим больше подчиняться!» Тонику свергли, и наступила Атональность.
Композиторы схватились за голову: как все упорядочить? Тогда они предложили нотам рассчитаться по номерам – от одного до двенадцати. Именно в таком порядке ноты и появлялись в произведении. А назвали все это сложным словом «додекафония», от слова «двенадцать» по-гречески.
Додекафония понравилась не всем. Люди не услышали в ней чего-то родного и огорчились. «Это не страшно, – подумали композиторы. – Это они с непривычки». Прошло полвека, а многие так и не привыкли…
Может, их плохо учили?
Мою музыку будут петь дети»
А. Веберн
Маленькой елочке холодно зимой…
Дети
Многие действительно полагают, что мы просто привыкли к тональной музыке. Вот если бы нас с детства приучили к музыке додекафонной… Но как в музыкальной школе объясняют мажор и минор? В моей школе висело две картинки: на одной – веселый гномик в оранжевом колпаке под ярким солнцем. А на другой – грустный синий гном с фонариком. Утрированно, конечно, упрощенно, но вы же не начинаете изучать иностранный язык со сложных слов?
Конечно, это в какой-то мере условность: просто все знают, что мажор – это «весело», а минор – «грустно». Мы «договорились» об этом. Но ведь так же договорились называть стол «столом», а дерево – «деревом». Литература на эту «договоренность» не посягнула – вот и нет у нас «серийных рассказов». Музыка же разрушила свой старый язык, полагая, что силами нескольких человек в одночасье можно создать новый.
Ну и как вы объясните детям, о чем говорит серия?
Любой язык – это алфавит символов, предполагающий, что у собеседников есть некое общее прошлое.
Х.Л. Борхес
Сегодня наука пытается объяснить закрепление определенных ассоциаций за определенными составляющими музыкального языка. Бесспорны две вещи. Во-первых, такие ассоциации все-таки сложились: «веселый» мажор и «грустный» минор – тому примеры. А во-вторых, сложились они не за год и даже не за век. Понадобился длительный период установления типовых элементов музыки. Это и есть наше «общее прошлое». И в слове «типовой» не может быть ничего негативного – разве не на этом основан любой язык? И разве создание музыкального языка, понятного людям, говорящим на разных языках, не величайшее достижение европейской музыки?!
Также кажется вполне очевидным, что именно тональность является фундаментом этого языка. Ведь именно основанные на тяготении в тонику интонации заставляют наше восприятие откликаться на звучание. Разрешениями неустойчивых ступеней в устойчивые «плачет» «Lacrimosa» Моцарта. Несокрушимым тоническим трезвучием торжествует «Gloria» Баха. С появлением атональности мы потеряли ощущение консонанса и диссонанса. Диссонанс «интереснее» для авторов. Однако музыка, состоящая в основном из диссонансов, вызывает в слушателе, у которого тональный язык заложен в генетической памяти, угнетенность и подавленность. И это не вопрос привычки: строение обертонового ряда показывает, что консонантная основа звучания более естественна.
XX век был увлечен индивидуализацией художественного языка, и не только в музыке. Но авторский стиль – это одно, а разрушение механизмов, на которых основано человеческое восприятие – уже другое. И иногда возникает вопрос: не постигнет ли нас участь строителей Вавилонской башни? Всегда ли мы понимаем то, что нам хотят сказать? Сегодня бывшие композиторы-авангардисты отказываются от додекафонной техники и чистой атональности. Люди по-прежнему хотят быть понятыми?12
Приведенный студенческий материал целиком проблемен. Но проблемность может быть представлена в музыкально-журналистских текстах и как жанровый компонент. Она приветствуется и в рецензии, и в творческом портрете, и в любом другом жанре, как правило, в качестве «авторского отступления», усиливающего напряжение, подчеркивающего аффективный характер изложения, погружающего рассматриваемое частное явление в широкий культурный контекст.
3.5. Жанры формального параметра
Жанры формального параметра возникают благодаря различию адресатов (т. е., печатных органов, трибун) и, соответственно, всему набору требований, влияющих на форму выступления. А именно: данные жанровые разновидности определяются тем, как, какими средствами и для кого вершится работа музыкального журналиста. Здесь также образуется последовательность жанровых типов разного уровня сложности.
Заметка
В предложенной ранее условной классификации, заметка – наиболее простой жанр. Как свидетельствует толковый словарь С. Ожегова, заметка есть «краткое сообщение в печати». Данная формулировка, как и привычное понимание этого слова, говорит о том, что заметка – это прежде всего письменный текст малого объема.
Жанр заметки не ставит перед автором никаких специальных литературно-стилистических и композиционных задач. А с позиции содержательного наполнения заметка чаще всего бывает информационной (у газетчиков – «информашка»), но может быть и хроникальной, и рецензионной, в зависимости от цели публикации.
В журналистской практике данное обозначение нередко встречается во множественном числе – заметки. Причем зачастую в виде жанрового подзаголовка в публикациях, достаточно развернутых по объему. Такой подзаголовок подчеркивает уже не размеры, а скорее композиционную свободу, возможную дискретность в изложении в духе дневниковых записей. Оригинальный пример подобного типа – проблемная по содержанию публикация Э. Алексеева «Разговор в пустыне Гоби. Путевые заметки фольклориста»13. В ней автор в свободной форме документального рассказа, с пространными бытовыми диалогами участников экспедиции и собственными отступлениями, подводит читателя к серьезным проблемам музыкальной фольклористики. Избранная форма не оставляет читателя безучастным, активизирует его воображение.
Этюд. Эссе
Как жанр в традиционной газетной журналистике этюд не значится. Однако тот же толковый словарь С. Ожегова среди разных определений слова «этюд» предлагает и следующее: «…название некоторых произведений (научных, критических и т. п.), небольших по объему, посвященных частному вопросу», а также «вид упражнения».
В отличие от заметки, этюд как жанр музыкальной журналистики – это не просто небольшой по объему текст. Это как бы уменьшенная, усеченная модель содержательного жанра, для полноценной реализации которого уместной была бы более развернутая форма. Например, творческий портрет в виде текста с образным подзаголовком «набросок», «эскиз портрета», «штрихи к портрету» и т. п. Или отклика по первому впечатлению от прослушанного (увиденного, прочитанного), который еще не оформлен в виде полноценной рецензии, но уже несет в себе ее предощущение (нередко с жанровым подзаголовком «вместо рецензии»). При всей произвольности и открытости композиции, возможной в этюде, его литературная стилистика требует индивидуализированного подхода, позволяющего, подобно этюдам в изобразительном искусстве, ощутить в предлагаемой миниатюре скрытую возможность более масштабного художественного решения.
Эссе – от французского essai переводится как «опыт», «набросок». То есть это текст, по своим жанровым признакам подобен этюду. Однако, как показывает литературная практика, их общность заключена не в малых объемах (эссеистика подобных ограничений не ставит), но в свободной, подчеркнуто индивидуализированной литературной манере, несущей на себе печать личности пишущего.
Главная особенность эссе – оригинальный взгляд, выраженный в оригинальной форме. Это выделяет и энциклопедическая трактовка жанра: «эссе – жанр философской, литературно-критической, художественно-публицистической литературы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь» (СЭС).
Для музыкальной журналистики эссе – благодатная форма, поскольку музыка, трудно переводимая в словесные образы, изначально подталкивает пишущего о ней к поиску неординарных выразительных языковых средств. Эмоциональное, образное или опоэтизированное письмо о музыке тяготеет к жанру эссе. Примером тому может служить и субъективная романтическая критика и, например, многие эпизоды «Симфонических этюдов» Асафьева, литературно-стилистическая самобытность которых очень высока (не говоря о содержательной стороне – исторической базе в анализах, виртуозной художественной интерпретации и аргументированных оценках).
С точки зрения содержания в жанре музыкально-журналистского эссе способны реализоваться разные замыслы: объектом может быть и музыкальное произведение, и исполнение, и творческая личность, вдохновляющая на оригинальную портретную зарисовку, и событие или проблема, влекущие к глубоко личностным размышлениям. Из всех жанров музыкальной журналистики именно эссе наиболее требовательно к мастерству «изящной словесности», оно ближе всего стоит к собственно художественной литературе.
Творческая практика оставила не один образец, допускающий его подобную жанровую трактовку. В качестве возможного примера можно привести миниатюрную публикацию Генриха Нейгауза к 100-летию смерти Пушкина, своего рода эскиз портрета поэта на музыкальном фоне:
…О Пушкине в эти дни сказано, написано и напечатано так много, что вряд ли нужно к этому что-нибудь прибавить. Скажу только два слова об отношении музыканта к Пушкину.
Если музыкант – художник, он не может не чувствовать с той же силой музыку поэзии, с какой он чувствует поэзию музыки. Гармония стиха для него – явление почти еще более чудесное и загадочное, чем гармония чистых звуков, гармония музыкальной речи. Он как бы удивляется, что без специфики музыкальных средств поэт создает самую подлинную музыку.
Осознание общей основы всякого искусства – человеческой мысли – приводит к простому выводу, что искусство вообще едино, никаких особых искусств нет. Все его «виды» имеют общую основу и общую цель. Диалектика вопроса состоит в том, что чем более совершенен данный вид искусства (например, стихи Пушкина), тем менее он нуждается в помощи другого вида и, порождая бесчисленные отклики во всех областях искусства (музыке, живописи, скульптуре и т. д.), остается в то же время непревзойденным образцом, совершенным началом, идеальным прототипом. И поэтому я не могу сравнить (хотя знаю, что сравнивать в этом случае вообще не следует) силу воздействия на меня даже такого чудесного романса, как романс Бородина «Для берегов отчизны дальной», с силой воздействия самого стихотворения Пушкина – без музыки.
Самой совершенной музыкой к стихам Пушкина я считаю романсы Глинки. Музыка здесь является как бы скромной подругой, непритязательной спутницей поэзии, она ничего не навязывает, ни во что не вмешивается, достоинство и обаяние ее – в ее «служебной роли». И все это достигается прежде всего изумительной верностью передачи интонационного начала пушкинского стиха. С этой точки зрения (и не только с этой) лозунг: «вперед к Глинке» мне представляется самым плодотворным для наших молодых композиторов, перелагающих на музыку пушкинские тексты (и, конечно, не только в отношении пушкинских текстов).
Как педагог-исполнитель я не устаю твердить моим ученикам, что музыкант, не воспринимающий поэзии или не развивающий в себе способности к ее восприятию, не может быть полноценным музыкантом и исполнителем. И поэтому имя Пушкина звучит в нашем классе всегда так же, как и имена Моцарта, Бетховена, Шопена…14
Почему приведенная миниатюра воспринимается как музыкально-литературный этюд-эссе? Во-первых, поднятая тема – Пушкин и музыка – достойна большой работы, однако автор в данном случае не стремится быть ни доскональным, ни всеохватным. Он лишь легкими штрихами намечает возможные «субтемы» (поэт и музыка, музыкальное прочтение стиха, Глинка и Пушкин и многое другое), через которые просвечивает облик гениального русского поэта. Во-вторых, само литературное изложение художественно и импровизационно, как в наброске. В-третьих, это явный музыкально-журналистский текст просветительски-воспитательного характера, что откровенно обнажается в последнем абзаце.
Очерк
Классический жанр литературного творчества – очерк. Существует даже профессиональное понятие – очеркист. При этом очерк как жанр занимает свое важное место и в собственно художественной литературе, и в журналистике, в том числе и музыкальной. В этом очерк подобен эссе.
Как и в эссе, в очерке существенную роль играет литературно-стилистическая и композиционная сторона. Авторская позиция и индивидуальность пишущего в очерке выделяются во всех формальных параметрах, причем особенно на уровне интерпретации предлагаемых вниманию объектов осмысления. Здесь, при всей серьезности избранной темы, возможны и даже желательны свободный полет фантазии, определенная недосказанность, разомкнутость оценочных постулатов, пристрастный взгляд с какой-то одной, увлекающей автора позиции.
Предметом внимания жанра очерка (как и жанра статьи, о которой речь пойдет далее) могут стать любые значимые объекты музыкальной культуры и жизни: творчество, личность, события и проблемы текущего музыкального процесса.
Например, очерк как повествование, открытое по форме и подчеркнуто личностное по авторской интонации, предстает перед читателем в портретной публикации В. Каратыгина «Клод Дебюсси» (1918). Хотя поводом к написанию послужила смерть великого французского музыканта, это не некролог и не статья, последовательно освещающая экстраординарное явление культуры, но творческий портрет именно в виде очерка. Здесь вольно переплетены облик описываемой личности, колорит эпохи и художественно-философское осмысление того и другого. В тексте много важных музыкально-теоретических и исторических подробностей – автор глубоко «погружен в материал». И при всем этом публикация оставляет впечатление свободного по форме и субъективного по духу размышления музыкального писателя о случившемся. Причем тон задает уже зачин – словесная фреска, разворачивающая перед читателем почти космический облик эпохи:
Умер Дебюсси. Для современного человечества, волею судеб вверженного в поток событий, которым равных по размаху не знала доныне всемирная история, смерть Дебюсси, быть может, пройдет мало замеченной.
Но пройдут года. Рассеется красный туман, в объятиях которого четыре года задыхается Европа. На развалинах старого воздвигнется новая гражданственность и образованность. «Тогда считать мы станем раны, товарищей считать». И музыканты в числе своих товарищей, унесенных роком в эпоху всесветного пожара, с чувством особенной горечи и сожаления назовут имя Клода Дебюсси, художника, указавшего новые пути музыкальному искусству, строителя нового звукосозерцания, творца художественных образов, обогативших нашу душу переживаниями, ранее неведомыми, и овеявших звуковую стихию тем трепетом новой жизни, который впервые вдохнули в живопись соотечественники покойного – Мане, Моне, Дега и их ближайшие последователи15.
Статья
Наиболее обстоятельная, капитальная форма критико-журналистского выступления – статья. Однако данный жанр отнюдь не является прерогативой лишь музыкально-критической журналистики. Напротив, как известно, статья не менее важна и распространена в области научно-исследовательской. Более того, приоритет научной составляющей в музыковедческом образовании ведет к тому, что нередко любой в жанровом плане текст, выходящий из-под пера, называют «статьей», что методологически не точно. У статьи есть свои четкие признаки.
Уже при сравнении жанров очерка и статьи видно, что очерк ближе художественной литературе, статья – научной. Находясь где-то в пограничной области между наукой и публицистикой, музыкально-критическая статья предполагает много черт, свойственных именно научному выступлению. Среди них: концептуальность, а значит, и большой удельный вес логического, а не импульсивно-эмоционального, импровизационного начала; умение выстроить эту концепцию в причинно-следственных связях ее составляющих; системность; важная роль аналитической части, формирующей аргументы для оценочных умозаключений; определенное равновесие между анализом и интерпретацией; наличие выводов. Статья проблемного характера чаще выстраивается дедуктивным методом – от общего к частному, от определения проблемы к ее последующему освещению с разных сторон.
Эти же особенности делают жанр критико-публицистической статьи более привлекательным и уместным в рамках специального журнала, художественной газеты узкого профиля или иного периодического издания с адресатом, заинтересованным в более сложных по форме, профессионально направленных публикациях. Такой читатель должен быть приучен к серьезным материалам, влекущим к анализу и размышлению.
С позиции содержательного наполнения в жанре статьи могут быть выполнены и музыкальная рецензия, и творческий портрет, и обзор. Но, бесспорно, она является наиболее распространенной формой проблемного критического выступления.
Жанр статьи не предъявляет специальных требований к литературной стилистике, однако он не предполагает и ограничений. Критическая статья может быть написана как в достаточно строгой литературной манере, так и броским языком с использованием всех средств экспрессивной литературной стилистики. В отличие, например, от эссе, определяющим здесь является не литературный стиль автора, а принципы организации формы и логика изложения с использованием, как правило, всех смысловых компонентов музыкально-критического выступления. Для статьи особо важно ощущение предполагаемого адресата, то есть читателя того печатного органа, для которого она предназначена.
Фельетон. Памфлет
Название обоих жанров происходит от французского feuilleton и английского pamphlet. Их объединяет ряд общих признаков: злободневность, полемичность, сатирическая направленность. При этом черты памфлета, цель и пафос которого – обличение, могут проникать и в различные литературные жанры: романы, пьесы. Фельетон же сугубо газетно-журнальный жанр подчеркнуто критического характера.
Французское происхождение фельетона как бы изначально предполагает «острый галльский смысл» – легкую, ироничную, насмешливую речь. Из классических фельетонов Берлиоза это особенно ярко видно в материалах, вошедших позднее в сборник «Музыкальные гротески». В качестве подобного примера обратимся к рефрену написанного в форме рондо фельетона «Иеремиады». В этом проблемном по смыслу тексте мишенью авторской иронии и насмешливого сожаления становится сама музыкальная критика, тщетно бьющаяся в тисках общественного непонимания:
О, безмерно несчастные критики! Зимой для них нет огня, летом – льда. Им постоянно приходится коченеть, им постоянно приходится обжигаться! Им постоянно приходится все выслушивать, им постоянно приходится все выносить! А кроме того, им постоянно приходится танцевать среди сырых яиц, под страхом разбить их каким-либо неосторожным жестом – одобрения или порицания, – тогда как, на самом деле, им так хотелось бы растоптать обеими ногами всю эту груду совиных и индюшечьих яиц, не подвергая никакой серьезной опасности соловьиные, по той простой причине, что последние встречаются слишком редко в наши дни… И не сметь, в конце концов, повесить исписавшиеся перья на вербы рек Вавилонских и, сев на берегу, плакать вдосталь!16.
Современное понимание жанра фельетона предполагает обязательное выражение критического отношения посредством сатиры, насмешки, сарказма. Главным признаком является именно специфическая литературная стилистика – ироническая речь и как форма высказывания, и как принцип подачи основных идей.
Интервью
Английское слово interview представляет жанр публицистики в форме разговора журналиста с одним или несколькими лицами. Главная отличительная черта – только прямая речь в литературном изложении.
Жанр интервью в настоящее время чрезвычайно популярен. Его главная притягательность – в документальной подлинности происходящего, в возможности эвристической деятельности читателя, который получает возможность сам, минуя чужое толкование, формировать свое отношение и к интервьюируемой личности, и к поднимаемым в беседе проблемам.
«Факт, документ, конкретность обладают своей собственной громадной и взрывчатой силой» – написано в одной из записных книжек писателя Юрия Трифонова. Интервью способно дать такое ощущение документа, подобно дневниковым записям или эпистолярному наследию, поскольку оно основывается на прямой речи с характерной манерой говорящего – его лексикой, стилистикой и образностью. Убедительность идей, поданных в интервью, для современного читателя поддерживается и высокой значимостью разговорной культуры как таковой, о чем уже шла речь в предыдущем разделе настоящей книги.
Данный жанр может быть представлен разными подвидами:
1. Собственно интервью как диалог двоих, где журналист пребывает на втором плане, а внимание читателя сосредоточено на ответах, в которых и заключена основная содержательная изюминка.
2. Беседа-диалог, в которой равно важны оба участника, когда во взаимодействии и пересечениях их мнений, в самой энергии мыслительного взаимодействия раскрывается главное содержание предлагаемого текста.
3. «Круглый стол» – коллективная беседа группы участников, обычно объединяемая журналистом, который этот «круглый стол» проводит, а затем готовит материал к публикации. Как правило, такого рода обмен мнениями имеет характер дискуссии, и особенно интересен при столкновении разных взглядов на совместно обсуждаемые вопросы.
4. Коллективное интервью чаще всего по одной или ряду проблем, где журналист готовит серию вопросов, рассылает участникам, а те отвечают на них, устно или письменно (сохраняя разговорную манеру речи). В этом случае эвристический эффект для читателей заключается в сопоставлении мнений, позиций – то есть индивидуальности участников.
С позиции содержательной форма интервью, беседы не ставит никаких жанровых барьеров и допускает разные наклонения в зависимости от темы разговора. Интервью с выдающейся творческой личностью, как правило, тяготеет к творческому портрету. Даже если круг размышлений выходит за пределы собственно творчества, за взглядами и типом мышления непременно проступит личность. Если темой разговора является конкретная новая музыка или определенные исполнения, оценочные суждения могут внести в беседу признаки рецензии. Однако чаще всего интервью и беседы имеют проблемный характер. Именно этот жанр дает возможность в, казалось бы, легкой для восприятия, доступной форме касаться самых сложных вопросов культуры, музыки, жизни, втягивая читателя в происходящий «на глазах» совместный мыслительный процесс и усиливая аргументацию авторитетом участников.
Во всех случаях очень многое зависит от мастерства журналиста: именно он определяет характер и постановку вопросов, концепцию разговора. Его профессионализм проявляется в способности «раскрыть» партнера при портретном замысле. Наконец, именно журналист определяет, с кем беседовать и в какой форме (диалога, «круглого стола») решать поставленную творческую задачу. Избирая объект для беседы, продумывая вопросы, поворачивающие разговор в нужном для него направлении, стремясь к конкретному эффекту, интервьюер, естественно, готовится к такой встрече. Хотя удельный вес импровизационности при работе в данном жанре всегда достаточно велик, к этому тоже надо быть готовым.
В своем первом номере журнал «Музыкальная академия» предложил читателям целый каскад интервью с современными композиторами – А. Николаевым, А. Чайковским, М. Ермолаевым, А. Шнитке, С. Слонимским, наглядно подтверждая исключительную актуальность данного жанра. В этих интервью разворачивается широкоохватное проблемное повествование «о времени и о себе», о пережитой истории отечества и вехах собственного художественного пути, о тайнах композиторского творчества и философских, внемузыкальных аспектах бытия, о восприятии музыки и еще многом и многом другом. Читатель начинает взаимодействовать с поднимаемыми проблемами и с конкретными лицами, их поднимающими. Живая разговорная речь чрезвычайно облегчает контакт с читателем, процесс воздействия на него. Для примера можно привести один из микросюжетов бесед – рассуждение композитора Сергея Слонимского о музыкальном восприятии, предлагающее еще один взгляд на музыку в современном мире:
Есть еще одно, о чем я не сказал, и зря не сказал, когда речь шла о некоторых штампах. Дело в том, что даже дикарь, даже питекантроп один элемент музыкальной композиции обязательно воспримет, это– тембр. Если средства выразительности расположить по шкале доступности, то самым элементарным, привычным из них, которое может быть понятно даже обезьянам, будет тембр, далее ритм, а уже потом мелодическая линия и так далее. Поэтому тембр электрогитары да плюс еще микрофонное пение, обязательное использование звукоусиливающей аппаратуры уже сами по себе гарантируют привычность и рефлекторную «приятность» восприятия.[…]
Напев, если он прост и элементарен, полностью зависит от ритма и находится во власти тембра электрогитар, воспринимается. А своеобразный длительный ладово-свежий, развивающийся мелос (не говоря уже о комплексе сопряженных линий, голосовых пластов), как выясняется, это и есть самое сложное для восприятия, требующее высокоорганизованного интеллекта. Итак, мелодия – далеко не самое простое и доходчивое в музыке с точки зрения рефлекторного восприятия17.
Другой пример – интервью с композитором Владимиром Тарнопольским, посвященное консерваторскому ансамблю «Студия новой музыки» и проблемам новейшей музыкальной практики. На вопрос о современном оркестровом составе он отвечает следующее:
Такой состав даже академизировался. Он стал абсолютно обязательной единицей в системе концертной жизни. Например, в Лондоне таких ансамблей несколько десятков. И в Берлине тоже. Он также репрезентирует музыку XX века, как, скажем, струнный квартет – камерную музыку XVIII века. Это абсолютно стабильный состав, как футбольная команда18.
Привлекательность жанра интервью прежде всего в свободной, разговорной, а не «книжной» манере речи. И важно, чтобы письменное в своем конечном выходе интервью изначально фиксировалось звукозаписывающей техникой – никакой пересказ или конспектирование не могут обеспечить полноценный художественный эффект. Важно также, чтобы окончательный текст был авторизован (прочитан и подписан участником беседы до публикации). Только эти условия способны в полной мере реализовать самое важное достоинство интервью и беседы – эффект присутствия и участия в разговоре для читателя.
3.6. Жанры устной музыкальной журналистики
Хотя устную музыкальную журналистику можно отнести к «формальному» параметру, на деле она – явление более широкое. По сути, это альтернативный тип выхода к общественной аудитории, внутри которого также образуется свое жанровое многообразие, и по форме, и по смыслу. Но если с содержательной точки зрения можно провести много аналогий с традиционными журналистскими жанрами, то с формальной позиции акцент следует делать на главном – специфике устной подачи материала, где одной из важнейших оказывается стилистика речи.
Усиление удельного веса разговорной культуры в жизни современного общества, а также бесспорное лидерство телевидения среди каналов массовой информации открывают перед устной музыкальной журналистикой необозримый простор для творчества, для разработки новых жанров и форм. Систематизация жанров устной музыкальной журналистики носит достаточно общий характер, однако уже сейчас можно говорить о ряде их сложившихся типов.
Интервью, или беседа – самая органичная форма устной журналистики, которую широко использует радио– и особенно тележурналистика. Это и наиболее эффектный жанр, поскольку текст предстает перед слушателем в своем первозданном звуковом (а не письменном) виде, когда воплощаемый в слове диалог дополняется интонационным и зрительным рядом. Зритетель-слушатель имеет возможность наблюдать мыслительный процесс, следить за ходом разговора, за реакцией участников. Еще более ценно, когда интервью ведется в интерактивной форме, с телефонами для обратной связи и зритель может задать вопрос, то есть включиться в беседу и повернуть ее в интересующем его направлении (к примеру, долгожитель подобных культурных программ на российском телевидении – телепередача «Ночной полет» журналиста Андрея Максимова).
Жанр телеинтервью в еще большей мере, чем его письменный аналог, ориентирован на портретную задачу – «показать» творческую личность «крупным планом». Но, одновременно, в нем может быть очень сильна проблемная составляющая, когда перед зрителем-слушателем оказывается человек глубоко разбирающийся в своем деле, мыслитель и философ по складу характера со своим заинтересованным отношением к острым проблемам искусства и окружающей реальной жизни. Тем более что сам мыслительный процесс впрямую «протекает на глазах»[4].
В телеинтервью очень многое зависит и от мастерства ведущего беседу журналиста. Именно он определяет концепцию разговора, манеру постановки вопросов, «тональность» беседы. Его профессионализм проявляется и в знании предмета беседы, и в способности раскрыть партнера, показать его с неожиданной стороны. От этого зависит значительная доля успеха передачи, а значит и возможность продолжения, сохранения в сетке вещания.
Вступительное слово со сцены или в эфире перед концертом, спектаклем, трансляцией по радио или телевидению, а также в начале специальных радио– или телевизионных музыкальных театрально-концертных программ. По смыслу чаще всего это вариант аннотации (т. е. художественной информации без целенаправленной оценки), которая должна подготовить к восприятию музыки. Однако вступительное слово может далеко превосходить информативные рамки, включать в себя оценочный и проблемный аспекты. В радио– и телепрактике во вступительной роли может быть использовано интервью или беседа, когда темой разговора будет музыкальное произведение или исполнение, которое затем прозвучит.
Музыканты-исполнители нередко сами стремятся подготовить публику к дальнейшему прослушиванию. Они не только охотно дают интервью журналистам, готовящим вступительное слово в эфире, но и делают это сами прямо со сцены, непосредственно перед концертным исполнением. Такое «вступительное слово» способно вырастать до развернутого театрализованного эссе, как, например, знаменитые «преамбулы» дирижера Геннадия Рождественского, которыми он открывает большинство своих программ.
Репортаж с места художественного события (фойе концертного зала, театра, артистическая комната, подходы на улице и т. п.) является одним из важнейших и наиболее распространенных жанров оперативной тележурналистики. Здесь, наряду с информацией и популяризацией художественных событий, в завуалированной форме может реализоваться и проблемно-аналитический аспект. Блицинтервью со слушателями, оценочные суждения в виде разговоров о впечатлениях, подобие социологических мини-опросов на темы искусства, его роли и места в жизни участников диалога и т. п. – все это в эффектной подаче журналиста, с умелым комментарием может воссоздать перед зрителем-слушателем достаточно сложную панораму современной культуры и жизни, взывающую к соразмышлению на уровне проблемного выступления.
Музыкальный репортаж непосредственно с места художественного события приобретает все большую популярность в мировой практике. Специальные авторские репортажи о происходящем – основная составляющая всех информационных блоков в разделах культуры. Их ценность в возможности не только рассказать, но и показать, дать услышать фрагмент, то есть всесторонне обозначить контуры события. У этого жанра устной музыкальной журналистики стабильное место в эфире и большое будущее. Кроме того, подобные записи – ценнейший материал для историков культуры[5].
Обозрение. Радио– и телеобозрения цепи прошедших музыкально-культурных событий как целостности, наряду с репортажами – важный компонент постоянного музыкально-информационного вещания. Такие передачи по следам прошедших событий имеют возможность фрагментарно или полностью (при помощи музыкальных иллюстраций) в подлинном виде знакомить с ними слушателя-зрителя.
В отличие от репортажа обозрение всегда оценочно. Оно вправе содержать весомую рецензионную составляющую, а также проблемный комментарий с возможным выходом в более широкий круг вопросов. Здесь могут реализоваться воспитательная, пропагандистская, оценочная и аналитическая задачи музыкальной журналистики и критики. Все зависит от профессиональной оснащенности журналиста.
Благодаря обозрениям заинтересованная широкая общественность также получает возможность участвовать в текущей музыкальной жизни: и пассивно – наблюдая, размышляя, формируя собственные взгляды и оценки, и активно – в результате сформированного отношения слушать музыкальные передачи, посещать музыкальные мероприятия, то есть в качестве подготовленного слушателя входить в музыкально-культурный процесс.
Участие в «круглом столе», дискуссии, диспуте (или ведение таковых). Это могут быть, например, традиционно происходящие обсуждения в пресс-клубах музыкальных конкурсов, фестивалей, по горячим следам отзвучавших концертов, спектаклей, прослушиваний, в присутствии многих, включая, возможно, и самих авторов. Выступление на дискуссии, диспуте может превратиться в устную рецензию, хотя, как правило, оно ориентировано на проблемность, на полемику, на столкновение разных позиций. Для участвующего журналиста важна способность отстаивать свои художественные взгляды на основе плюрализма мнений, причем факт спонтанности размышления позволяет в устном проблемном выступлении быть особенно острым, хлестким, полемичным (оправданное состояние аффекта).
Массовой подобная дискуссия может стать в системе электронных СМИ в облике стремительно набирающего силу жанра телевизионного ток-шоу. В политической журналистике телевизионное ток-шоу – один из самых эффектных видов проблемного жанра. В нем могут принимать участие разные специалисты, но особая, труднейшая, роль, естественно, принадлежит ведущему журналисту – он выбирает и тему дискуссии, которую надо вести в нужном темпе и уровне напряжения, и состав гостей-участников, причем, возможно, разной значимости (их, соответственно, и рассаживают по разному).
Музыкальная передача как целостная художественная форма находится на стыке собственно музыкальной журналистики и авторской художественной работы в оригинальном виде творчества. От журналистики идут ее информационные, просветительски воспитательные свойства: такая передача основывается на заимствованном музыкальном материале с целью его пропаганды. От художественного творчества – ее драматургия и режиссура, построение синтетической зрелищно-музыкально-словесной формы как законченного произведения.
Построение подобной музыкальной передачи, как и ее возможная последующая оценка (критикой), требует сосредоточить внимание на таких составляющих, как:
1. Идея (цель передачи: информация, развлечение, просветительство, аналитика).
2. Музыкальная основа (отобранный музыкальный материал, его стилистическая совместимость; источник – непосредственное музицирование в студии, студийные записи, фрагменты трансляций и т. п.; качество аудио или аудиовизуального преподнесения).
3. Сценарий.
4. Изобразительный ряд.
5. Режиссура.
6. Монтаж (темпоритм передачи).
7. Журналистская работа (использование разных форм и жанров устной журналистики).
8. Личность ведущего.
Авторская музыкальная передача – одна из наиболее сложных форм устной музыкальной журналистики. Она предполагает, что ее основные компоненты – идея, сценарий, подбор музыкального материала, формы журналистской работы – в основном сосредоточены в руках автора. Хотя в целом такая передача – коллективный труд, в котором кроме автора принимают участие режиссер, художник, редактор, операторы, инженеры и многие другие. Коллективная «мозговая атака» – залог успеха.
* * *
Жанровая структура музыкальной журналистики сложна и многомерна. Она формируется под воздействием многих факторов, предлагая в качестве результата широкий спектр жанровых разновидностей, склонных к смешениям и взаимопроникновению. Эти факторы – цель, адресат, объекты и избираемая форма критико-журналистского выступления. При этом, хотя в качестве доминанты в классификации может, как помним, быть представлен либо содержательный, либо формальный параметр, в каждом критико-журналистском тексте, естественно, скрещивается и то и другое. Именно поэтому живой организм жанровых видов музыкальной журналистики не имеет жестко устоявшегося характера, здесь все гибко, подвижно, изменчиво.
Знание особенностей и выразительных возможностей различных критико-журналистских жанров – важное условие профессионализма. Только творческий подход к каждому жанровому решению, его осознанный выбор, в зависимости от предмета разговора, сверхзадачи и ясного ощущения читающей или слушающей аудитории, дает возможность кратчайшим путем идти к цели – контакту с теми, ради кого трудится музыкальный журналист-критик-публицист.
Примечания
1. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972. С. 178.
2. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. С. 232.
3. Серов А.Н. Избр. статьи. Т. 1. – М.; Л., 1950. С. 650–651.
4. Серов А.Н Избр. статьи. Т. 2. – М., 1957. С. 187.
5. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. С. 131, 135, 134, 131.
6. Толстой А.Н. О литературе. – М., 1956. С. 182.
7. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. С. 362.
8. Чайковский П.И. Из письма Н.Ф. фон Мекк от 18 июля 1883 г.
9. «Театр и искусство», 1913, № 35. Хроника.
10. «Аполлон», 1914, № 5. Хроника.
11. Тараканов М. Музыкальной критике – конец?!//Сов. музыка, 1967, № 3. С. 30–31.
12. Моисеева М. Опять Вавилонская башня? // Трибуна молодого журналиста, 2004, № 3.
13. «Сов. музыка», 1987, № 8.
14. Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. С. 150–151.
15. Каратыгин В.Г. Избр. статьи. М., 1965. С. 235.
16. Берлиоз Г. Избр. статьи. – М., 1956. С. 338.
17. «Музыкальная академия», 1992, № 1, С. 25.
18. «Российский музыкант», 2004, № 8.
II МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО – ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ МУЗЫКАЛЬНОЙ КРИТИКИ
4. Оценочный подход к музыкальному искусству
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.
А.С. ПушкинО ценности искусства размышляли многие, чья жизнь тесно соприкасалась с художественным творчеством. «Еще порой гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь» – знаменитые пушкинские строки звучат как гимн искусству, наслаждение которым бесконечно. Ценность искусства для поэта априорна, признаваясь в любви к нему, он говорит именно об этом: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман». «Гармония», «вымысел», «возвышающий обман» – в этих смысловых аналогах пушкинских строк прячется образ искусства, спасительного в мире «низких истин», желанного и драгоценного. К музыке все это имеет особое отношение, ведь, продолжая цитировать великого русского поэта, «из наслаждений жизни одной любви музыка уступает». Так в чем же ее ценность?
В поисках ответа на этот сакраментальный вопрос Б. Асафьев в статье с примечательным названием «Ценность музыки» пишет: «Музыка – требующая громадного напряжения сил деятельность. Знание ее языковых средств выражения дает возможность легче разобраться в иных сферах духовной деятельности человека, но не наоборот»1. Означает ли сказанное, что ценность музыки заключена лишь в возможности «разобраться» в духовной жизни? Только ли функцией познания мира ценна она? Некоторые выводы автора зовут к дискуссии, но путь его размышлений в поисках осязаемых эквивалентов, при помощи которых можно попытаться ухватить нить истины, важен: музыкальное искусство рассматривается им через призму духовной жизни и деятельности человека. Искусство – часть этой жизни и, одновременно, модель ее.
4.1. Художественная ценность и художественная оценка
«Художественное произведение как бы окутано музыкой интонационно-ценностного контекста, в котором оно понимается и оценивается», – писал М. Бахтин в «Эстетике словесного творчества»2. Однако прежде чем обратиться к музыкальным закономерностям в этой сфере, необходимо осмыслить суть фундаментальной пары эстетико-философских понятий: художественная ценность и художественная оценка.
«Ценности […] играют большую роль в развитии общества как регуляторы поведения людей, как „аккумуляторы“ человеческой культуры»3, – утверждается в специальном исследовании «Природа эстетической ценности». «Ценностью обладает то, что может быть использовано»4, – считает А. Моль. «Генетически прекрасное и ценное вышли из общего источника – полезного»5, – заключает другой ученый. Иными словами, ценности служат удовлетворению определенных потребностей общества. Однако полезность как ценность применительно к искусству имеет особый характер.
Существуют различные по своей природе ценности:
– познавательные ценности (мера – истина) удовлетворяют интеллектуальные потребности человека;
– утилитарные ценности (мера – выгода, практическая польза) удовлетворяют материальные потребности человеческой жизни;
– нравственные (мера – добро, совесть) и эстетические (мера – красота) удовлетворяют потребности духовного порядка, что, например, позволило Р. Шуману заметить: «Законы морали те же, что и законы искусства»6.
Искусство пребывает в системе ценностей эстетических, причем существует грань между понятиями «эстетическая» и «художественная» ценность. Если первая охватывает все, что удовлетворяет потребность человека в наслаждении прекрасным, в том числе и нерукотворные красоты бытия, то вторая – только результаты художественного творчества, то есть собственно произведения искусства. Но и та и другая – явления одной природы: эстетические и художественные ценности, подобно ценностям нравственным, удовлетворяют духовные (не утилитарные) потребности человека.
Таким образом, не вдаваясь в проблемы аксиологии как философской науки о природе ценностей, выделим главное: художественная ценность имеет духовный характер. В музыкальном искусстве в силу его выразительной природы это проявляется особенно ярко. Полезность музыкальных ценностей, упрощенно говоря, в том, что они способны стать «пищей для души».
Научная мысль выдвигает понятие двух состояний художественной ценности, обусловленных потребностями общества в тот или иной исторический период, а именно: потенциальной и актуальной. Потенциальная художественная ценность «имеет своим источником ценные качества, достоинства воплотившейся в ней творческой деятельности художника»7. Актуальная, хотя и обусловлена потенциальной, зависит от конкретных запросов данных членов социума, от своей значимости для них.
С точки зрения музыки актуальные ценности – это произведения, которые звучат, исполнители, которые выступают, оперы, которые ставятся (или которые хотят слышать, ставить, играть, о которых думают). Иными словами, актуально все то, что известно, желанно, востребовано, может быть, изучается и в том или ином виде существует в представлении людском.
Потенциальные ценности, напротив, – это произведения или композиторы, исполнения и исполнители, которые с позиции культуры данного момента как бы не существуют (неизвестны или забыты). К примеру, музыкальное искусство античности для нас также ценность потенциальная – она безвозвратно утрачена. И лишь отраженный свет в исторических документах позволяет этой воображаемой музыке «мерцать» в нашем сознании и даже периодически вызывать потребность в ее «воссоздании», «реконструкции».
Одной из важных сфер приложения сил музыкально-критической журналистики как оценочной деятельности является содействие актуализации потенциальных ценностей, до времени пребывающих как бы в латентном состоянии, активное участие в востребовании их обществом. В этом, в частности, реализуется просветительская миссия музыкальной журналистики, письменной и устной.
Оценка – акт осознания ценности. При этом если художественная ценность, возникающая в процессе общественной художественной практики, по своей природе объективна, то художественная оценка – субъективна. За последней стоят интересы и художественные потребности конкретного культурно-исторического субъекта, ее формируют ценностные требования, образующие исторически подвижную и сложную иерархическую систему. Кроме того, художественная оценка всегда несет в себе эмоциональный, чувственный оттенок – как бы отражение испытанного переживания, которое уже затем переводится на интеллектуальный уровень. И это тоже фактор ее субъективности. Сказанное, тем не менее, не мешает художественной оценке быть действенным механизмом в объективном развитии культуры.
Объективное и субъективное
Соотношение субъективного и объективного в художественной критике – одна из ключевых проблем в ее методологии. Рождение критической деятельности в сфере искусства из общественной потребности в объективной оценке, казалось бы, должно исключать постановку вопроса, как соотносятся в ней субъективное и объективное. И право на жизнь должно иметь лишь суждение объективное. Но возможно ли это?
Особый характер художественного отражения действительности в произведении искусства уже изначально предполагает сочетание объективного и субъективного, а именно: воплощение объективных сторон бытия (для музыки, например, разнообразнейших градаций состояний, отражающих духовный мир человека), поданных через призму индивидуального, субъективного авторского видения (слышания). Условно говоря, объективно существующая образная идея может найти бесконечное множество художественных воплощений, каждое из которых вершится творческой личностью.
Это, естественно, влечет и к множественности смысловых значений, подходов, прочтений при восприятии и оценке художественных явлений. «Отчего такая непомерная разница во впечатлении одного и того же предмета на слушателей? Отчего такой хаос во мнениях, который даже и не поражает никого – так к нему прислушались, привыкли?»8 – спрашивает А. Серов в своей концептуальной статье о критике «Музыка и толки о ней». Корень зла видится выдающемуся русскому критику в неоднородной музыкальной подготовленности слушателей. Однако эта справедливая причина далеко не единственная. История знает множество разночтений, принадлежавших и образованным музыкантам.
«Известно, что Шопен питал странное, непобедимое отвращение к некоторым сочинениям Бетховена»9, – писал в одной из своих статей П.И. Чайковский, а сам, например, не принимал искусства Вагнера, считая его «гением, следовавшим по ложному пути»10. Можно вспомнить диаметрально противоположное отношение Шумана и Мендельсона к творчеству Берлиоза, казалось бы, парадоксальное для художников одного времени и круга, музыкантов-единомышленников в искусстве и друзей в жизни. Подобные примеры многочисленны и общеизвестны.
Совершенно очевидно, что не отдельные внешние факторы – причина существующей множественности художественных суждений. Суть проблемы глубже. Она кроется в специфике художественной ценности, которая воздействует и на характер ее осмысления. Это обосновано наукой:
Диалектика объективного и субъективного в художественной ценности определяет самое существо критической деятельности, которое и состоит в том, чтобы устанавливать – а если надо, то и пересматривать – ценность каждого конкретного произведения искусства, основываясь на реальной силе его художественного воздействия и, следовательно, двигаясь через собственное – субъективное! – переживание к выявлению социокультурной – объективной! – значимости этого произведения… Критик осуществляет ту же самую духовную работу, что и обыкновенный читатель, слушатель, зритель, только он делает ее более квалифицированно и осознанно, вернее – самосознательно, рефлективно, поскольку задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, собственным восприятием обнаружить ценность произведения, а с другой – уметь осознать этот процесс, осмыслить его и описать – дабы сделать свою оценку всеобщим достоянием11.
Иными словами, оценочный подход к произведению искусства изначально опирается на законы художественного восприятия (о нем пойдет речь в следующей главе), которое в основе своей субъективно, поскольку «субъективность понимания, привносимый нами от себя смысл… есть признак всякого вообще понимания»12. Именно на этой объективной закономерности основывается возможность различных прочтений, несхожих трактовок одного и того же произведения искусства, порой полярная противоположность мнений, оценок творческой деятельности отдельных художников и плодов их творчества. На этом же базируется возможность художественных дискуссий, открытого столкновения мнений в печати и устных высказываниях. Их цель – не обретение единственно правильной версии понимания (таковой нет!), а демонстрация множественности подходов в осмыслении столь же множественного содержания произведения искусства. Даже житейская мудрость, заключенная в популярной поговорке «О вкусах не спорят», по существу, утверждает ту же идею: субъективность понимания и оценки, как и множественность прочтений объективны по своей природе.
Однако, выполняя «социальный заказ» – помочь ориентироваться в потоке произведений искусства, профессиональная музыкальная критика при сохранении индивидуального взгляда и личностного тона намеренно стремится переводить результаты субъективного восприятия и оценки в объективные формы. Профессиональный подход непременно ищет объективное обоснование субъективному восприятию даже в том случае, когда акт критической деятельности не является непосредственной целью.
«Когда углубляешься в свое ощущение прекрасного, – писал, например, Г. Нейгауз, – и пытаешься понять, откуда оно возникло, что было его объективной причиной, тогда только постигаешь бесконечные закономерности искусства и испытываешь радость от того, что разум по-своему освещает то, что непосредственно переживаешь в чувстве»13. Как видно, в данном суждении отражен процесс перехода субъективного по своей природе художественного восприятия в сторону объективности путем подключения к нему интеллектуального начала.
Осознанный процесс музыкально-критической деятельности отличается от подсознательных художественных оценочных операций именно этим стремлением «подвести базу» под свои суждения, то есть «объективизировать» их. В том, как и насколько убедительно это делается, проявляется мастерство критика – качества, которые прежде всего отличают профессиональную музыкально-критическую деятельность от открыто субъективных дилетантских (любительских) суждений.
Намеренный перевод субъективного в объективное – объективизация суждения – требует от профессионала привлечения специальных средств:
– широко развернутой аргументации – системы доказательств, которые должны опираться на научные знания;
– подчинения эмоционального, чувственного восприятия логике рационально оформленного законченного суждения.
Таким образом, хотя научный и критический подходы принадлежат к различным способам освоения художественной реальности (познавательному и оценочному), именно здесь, при преобразовании субъективного в объективное, происходит их теснейшее взаимодействие. В частности, распространенное и в сущности противоречивое понятие «научная критика» могло возникнуть именно в подобной ситуации – при наблюдении над использованием научно-логического аппарата в профессиональном музыкально-критическом суждении. При этом какого рода знания окажутся необходимыми в тот или иной момент, какого рода научный фундамент, видимый или скрытый подобно айсбергу, привлечет критик для построения своей концепции, заранее предрешить нельзя. Все определяет его профессиональное мастерство во всем комплексе данных. Однако чем шире круг знаний – специальных, эстетических, исторических, философских, а сегодня, зачастую, и технических, тем полноценнее может оказаться результат: убедительное, яркое и неповторимое критическое суждение.
Для примера можно остановиться на фрагменте рецензии В. Каратыгина на «Весну священную» Стравинского (статья вышла 16 февраля 1914 г., через четыре дня после премьеры в симфоническом концерте в Петербурге). Автор сразу называет сочинение «событием чрезвычайной значимости в жизни русского искусства». В приводимом далее отрывке можно наблюдать, как живая фантазия и индивидуальное слышание-видение пишущего переплетаются с рядом обобщений музыкально-теоретического, исторического и искусствоведческого характера, во взаимодействии которых рождается оценочная концепция нового сочинения гениального современника В. Каратыгина. Вчитаемся в этот протяженный фрагмент:
… если музыкант хочет создать в звуках нечто адекватное идейно-мифологической концепции музыкально-хореографических сцен, ему надо прежде всего отразить в партитуре всю грубость, косность, первобытность, стихийность того быта и того душевного строя, вне которых фантазия наша не может мыслить жизни доисторического славянства. Как иначе можно выразить в музыке первобытность и стихийность, как не сочетанием резких самодовлеющих диссонансов с примитивными конструкциями из голых унисонов, кварт и квинт?
С другой стороны, можно ли явить с помощью этих приемов новую музыкальную красоту, если не пользоваться в проведении диссонансных последований той изощренной их разработкой, принципы которой с наибольшей убедительностью показаны были чистым импрессионизмом?
Крайняя изощренность в соединении с нарочитой музыкальной симплификацией, влияния Мусоргского и Римского-Корсакова в сочетании с заметным подчинением французским импрессионистам – вот основа, которую творческой работой яркого и смелого личного своего таланта Стравинский превратил в одну из самых необычайных партитур всемирной литературы. Жестокая, колючая, глыбистая музыка «Весны» – не только музыка. Она стремится войти в дух «синкретической» эпохи, соответствующей сюжету. Она хочет слиться с природой, окружавшей первобытного человека, с душой славянина на ранней заре его сознательного существования. Она хочет кричать голосами зверей и птиц, трепетать шелестами и шорохами вековых лесов, верещать нестройными свирельными напевами древних пастухов. Таковы задания Стравинского, ради удачного разрешения которых он не скупится на изобретение самых фантастических гармоний и самых странных ритмов, на самые резкие взрывы художественного темперамента14.
Конечно, образное наполнение восторженной рецензии В. Каратыгина несет на себе печать личности автора и глубоко субъективно по своей сути. Это – его отношение к новой музыкальной данности, его оценка. Однако привлекаемый научный «арсенал» его суждения объективизирует.
Ценностные критерии
Фундаментальное место в теории художественной ценности и художественной оценки занимает понятие ценностного критерия. В переводе с греческого «критерий» означает мерило для оценки чего-либо, средство проверки ценности. Ценностные критерии как воображаемые свойства предполагают наличие некоего художественного эталона, идеальной модели данного вида искусства.
По Канту, идеальное и прекрасное – синонимы. Более того, «идеал» допускается только в искусстве. Однако если художественная ценность имеет духовный характер и мера ее – красота, то, спрашивается, какого рода критерии могут быть положены в основу оценочной деятельности в сфере искусства и, в частности, музыки? Из чего складывается идеал!
Прежде всего, важно понимание того, что в характере ценностных критериев отражается тип культуры определенной эпохи, что каждый этап развития человечества, каждое поколение решает эту проблему для себя само. Художественные ценностные критерии исторически обусловлены, изменчивы и относительны в своей истинности. Они определяются духовными потребностями своего времени и складываются под воздействием многих факторов. Эволюция ценностных критериев, запечатленных в сохранившихся оценочных суждениях об искусстве, отражает исторический путь развития художественно-критической мысли.
В античной культуре, к примеру, художественная оценка целиком базируется на прикладном, практичном отношении к искусству. «Античная эстетика, – утверждает А. Лосев, – понимает красоту именно так, что она, с одной стороны, должна быть абсолютно полезна, утилитарна и производственна, а с другой стороны – настолько прекрасна, чтобы можно было любоваться ею, не учитывая ее утилитарности»15. С позиции музыки эта утилитарность двоякая.
Во-первых, музыка – составная синкретической художественной формы, от нее требуется телесность, пластичность, зримость. «Даже и без всякого звукоподражания, – пишет А. Лосев, – музыкальные тоны сами по себе представлялись тогдашнему эстетическому сознанию как нечто танцевальное, хореографическое, как нечто вещественное, осязательное и мускульно-вещественное, как нечто телесное»16.
Во-вторых, ее практическое значение заключено в способности быть одним из важнейших средств воспитания, морально-этического и психического воздействия. В насквозь оценочных музыкальных рассуждениях в «Законах» Платона декларирование некоего музыкального идеала напрямую связывается с идеалом человеческой личности, вкус которой только и может быть принят как эталонный:
Я также соглашаюсь с толпой, по крайней мере, в том, что мерилом мусического искусства является наслаждение. Однако самой прекрасной я признаю ту музу, что доставляет удовольствие не первым встречным, но людям наилучшим и получившим достаточное воспитание; в особенности, ту музу, которая доставляет удовольствие отдельному, выдающемуся своею добродетелью и воспитанием человеку. Мы потому утверждаем необходимость добродетели для тех, кто судит об этих вопросах, что им нужно быть причастными к остальной разумности, а в особенности к мужеству. Ибо настоящий судья не должен судить под влиянием театральных зрителей, не должен быть ошеломлен шумом толпы и своей собственной невоспитанностью. Человек сведущий не должен из-за недостатка мужества, из-за трусости легкомысленно произносить ложное суждение теми же устами, которыми призывал он богов перед началом суда. Ведь судья восседает в театре не как ученик зрителей, но, по справедливости, как их учитель, чтобы оказывать противодействие тем, кто доставляет зрителям неподобающее и ненадлежащее наслаждение. Именно таков был старинный эллинский закон17.
В данном развернутом тексте не только возникает образ музыки, ценностным мерилом которой служит уровень ее психологического воздействия, но и излагается концепция самого оценочного отношения к музыкальному искусству, при котором «судья» обязан противостоять мнению и вкусам несведущей «толпы» и тем самым воспитывать ее. Туже идею, но высказанную уже не в виде постулата, а как чисто критическое суждение, направленное на художников и результаты их труда, встречаем еще раз у Платона:
В вакхическом восторге, более должного одержимые наслаждением, смешивали они френы с гимнами, пэаны с дифирамбами, на кифарах подражали флейтам, все соединяли вместе; невольно, по неразумению, извратили они мусическое искусство, точно оно не содержало никакой правильности, и будто бы мерилом в нем служит только наслаждение, испытываемое тем, кто получает удовольствие, независимо от его собственных качеств18.
При всей отдаленности художественно-ценностных позиций античной культуры от нашей современности, в приведенных фрагментах (особенно последнем) намечается еще одна глобальная тема, которая красной нитью проходит через всю историю оценочного взаимодействия человека с художественным миром и, особенно, музыкой – тема наслаждения искусством.
В эпоху средневековья на первом плане, естественно, пребывает «божественная» функция музыки, то есть доминирующей выступает сакральная ценность музыкального искусства. Как, впрочем, и в недавние времена отечественного тоталитаризма, когда официальная идеология выдвигала, например, «партийность» и «коммунистическую идейность» в качестве ценностного мерила.
В европейской музыкальной культуре Нового времени сформировалась ценностная модель, сохраняющая свое значение и для нашей современности. Главное в ней – абсолютный приоритет уникальности художественного творчества. В идеале автор – гений, произведение – шедевр, искусство – бесценный космос, сложное отражение духовного бытия человека.
Ценностные критерии в музыке настоящего времени ориентированы на индивидуализацию творческой личности, творческого процесса и его результатов. В иерархии художественно-оценочных характеристик на высшей ступени пребывает критерий уникальности (слова оригинальное, неповторимое, несравненное, нестандартное – различные в оттенках положительные характеристики-синонимы; их негативные по смыслу антонимы – стандартное, банальное, тривиальное, вторичное и т. п.). Соответственно оценивается и сама творческая личность, к примеру в условных градациях по нисходящей: гениальный – талантливый – одаренный – способный – бездарный.
Критерий уникальности является как бы стержнем, на который нанизываются все остальные подходы. Оценочные характеристики типа привычных антиномий талантливо – бездарно; ярко – серо; эффектно, выразительно – бледно, блекло; интересно – скучно и т. п. – предполагают именно изначальное присутствие (или отсутствие) такой «божьей искры», то есть печати уникальности, в той или иной степени выделяющей (или нет) данное явление из ряда подобных. Именно с этих ценностных позиций, например, «расправляется» с Рихардом Штраусом Игорь Стравинский:
Я хотел бы подвергнуть все оперы Штрауса любому наказанию, уготованному в чистилище для торжествующей банальности. Их музыкальный материал, дешевый и бедный, не может заинтересовать музыканта наших дней19.
Разумеется, свежесть художественных впечатлений не для всех является осознанной потребностью, равно как и высокая степень художественного удовольствия у разных людей может быть вызвана совершенно разными художественными явлениями. Но общим критерием остается способность музыки удовлетворять художественные потребности, нести художественное удовольствие, высшая форма которого – художественное наслаждение.
Наслаждение музыкальным искусством
В разговоре о наслаждении музыкальным искусством речь не ведется о гедонизме как этической позиции, утверждающей наслаждение высшим благом человеческого бытия. Хотя гедонистический подход к искусству (особенно к музыке), порицаемый или одобряемый, существовал всегда. В данном случае важно понимание наслаждения как высшей формы удовольствия, как совершенного сгустка положительных эмоций. Художественное наслаждение, быть может, одно из важнейших в ценностном отношении к искусству – если искусство не доставляет удовольствия, то зачем оно? Возможность наслаждения музыкой – и есть выражение ее «полезности», значимости для человеческой жизни, причем полезности именно нематериального характера.
Удовлетворение, которое доставляет общение с музыкальным искусством, имеет бесконечное множество оттенков, градаций, направлений. С одной стороны, само музыкальное звучание является источником глубокого и разностороннего эмоционального воздействия. С другой – его (удовлетворение) могут определять не только художественные запросы, но и требования внеэстетического, идеологического порядка. «Музыка на случай», к примеру, ценна прежде всего своей внемузыкальной востребованностью (патриоты, в частности, ценят свой гимн не за его музыкальные достоинства). О том же свидетельствует и приведенное ранее размышление Пушкина (см. с. 33) касательно некоторых литературных сочинений, прежде всего «замечательных по своему влиянию» на современников. В ценностных критериях, предъявляемых к музыке античными мыслителями, как помним, также превалируют внемузыкальные мотивы, хотя есть и описание того, как толпа с наслаждением отдавалась музыкальным звучаниям, потакавшим, по мнению автора, не лучшему вкусу.
Суммируя наблюдения, можно определить три различных комплекса музыкальных потребностей, которые влекут к художественному удовольствию вплоть до наслаждения музыкальным искусством. В каждом из них одновременно заключены и цель, и процесс, и результат художественного контакта, и каждое по-своему удовлетворяет духовные художественные запросы человека при взаимодействии с музыкой. Эти побудительные мотивы наслаждения искусством, отражающие разные стороны художественной ценности, условно определим как развлечение, познание и служение.
Развлечение. В нашем сознании развлечение связывается прежде всего с гедонистическим мироощущением, причем в разных его оттенках – и с чувственным удовольствием, и с безмятежностью духа, и со стремлением отключиться от страданий, переживаний. Музыка, в силу своей выразительной природы, способна здесь дать больше, чем любое другое искусство. Именно таким способом она воздействует на неподготовленного слушателя (естественно, в пределах его художественных потребностей и возможностей восприятия), за что он платит ей нежной и верной привязанностью.
Ценность гармоничного и радостного состояния духа, эмоционального наслаждения в человеческой жизни очень велика. А для многих в общении с музыкальным искусством она имеет абсолютный характер. Причем отнюдь не только «примитивное» восприятие ценит развлекательные возможности музыки. Важность этой сферы понимал, например, и Д. Шостакович, когда на дискуссии о симфонизме(!) говорил следующее: «…я хотел написать хорошую развлекательную музыку, которая доставила бы удовольствие или хотя бы рассмешила, может быть, и цивилизованного слушателя. И когда публика во время исполнения моих произведений смеется или просто улыбается – мне это доставляет удовольствие»20.
Для музыки, удовлетворяющей потребность в развлечении (отвлечении, эмоциональном переключении и т. п.) менее значим критерий уникальности собственно музыкального порядка. Она чаще ориентирована на привычное, знакомое, известно, что большинство слушателей предпочитает узнавать, чем познавать, не хочет «напрягаться» в контактах с музыкой. Но при этом «уникальным», оригинальным может оказаться контекст подачи знакомых музыкальных идей, свежесть обстановки, обостряющая восприятие, неожиданные сопутствующие внемузыкальные средства (свет, изобразительный ряд, игровые моменты и т. п.). Главный «враг» развлекательной (увлекательной) ценности музыки – однообразие, скука.
Познание. Понятие наслаждения у многих нередко связывается только с чувственным удовольствием. Это – не верно. Интеллектуальное удовлетворение также способно нести наслаждение, причем еще более сложное, глубокое. Наслаждение познанием имеет составной характер: эмоциональный подъем, восторг, потрясение, удовлетворение приходят вслед за осмыслением, за радостью открытия. Это состояние знакомо и ученому-математику, чьему взору внезапно отрывается красота совершенной по логике формулы… И гениальному поэту, создавшему шедевр, подобного которому его разум не знал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» – воскликнул потрясенный автор, завершив «Бориса Годунова»… И чуткому слушателю, ушам, уму, душе которого раскрывается космос музыки Баха или Моцарта, Малера или Шостаковича… Во всех этих случаях художественные потребности личности удовлетворяет познание – составное интеллектуально-эмоциональное удовольствие при контакте с искусством.
Уникальность – как ценностный критерий, о котором уже шла речь, заключает в себе именно познавательную ценность. В упоминавшейся статье «Ценность музыки» Б. Асафьев делает акцент именно на познавательных способностях музыкального искусства. «В музыке, – пишет он, – дана возможность ощутить в некоем мыслимом единстве правильность воззрения, указующего на совместимость в идеальном представлении бытия обеих пространственно-временных форм: формы непосредственного переживания […] и формы опосредованного познавания» 21 (курс. авт. – Т.К.).
Констатируя, что в музыкальном становлении прячутся «возбудители мысли», Асафьев искал своего рода формулу ценности музыки, заключенную в ней самой, без привлечения внемузыкальных смыслов. И ценностью становилась возможность познания духовного мира человека, мира, отраженным светом светящегося в самих звуках музыки. «А что для нас, – замечает в одной из своих статей о новой музыке В. Каратыгин, – может быть непосредственно ценнее, исполнено более животрепещущего интереса, чем отражение души современного человека, сиречь своей собственной, в зеркале современного искусства?»22. В этом восклицании заключены не только заинтересованное отношение критика к его музыкальной современности, но и жажда познания посредством искусства.
Если гедонистический подход к музыке в большей или меньшей степени свойствен многим, а для неподготовленного слушателя он нередко и единственный, то ощущение познавательной ценности искусства – удел просвещенного слушателя и, конечно, профессионалов. Потребность в духовном обогащении через искусство, неприятие «пустого» и, напротив, тяга к значительному, серьезному, глубокому, раскрывающему новые грани на пути постижения мира, – все это находится именно в плоскости познания посредством художественного контакта. Знаменитые чеховские строки из «Чайки» очень точно отражают такой подход к художественной ценности: «Только то прекрасно, что серьезно».
XX век – эпоха величайших научных открытий. «Искусство в век науки» (повторяя название оригинальной работы философа А. Гулыги) не могло не отразить в себе приметы нового времени. Например, такое самобытное явление, как музыкальный авангард во всех своих неожидан-нейших модификациях, мог возникнуть и возник именно на этапе научного прорыва в истории человеческой культуры. Пиршество интеллекта и игры ума, которыми отмечено ушедшее столетие, безусловно повлияло на художественное творчество. В сфере музыки это вылилось в увлечение технологизмом, экспериментами в области звуковой материи, своего рода «расщеплением звукового атома», где «любопытство» мастера-музыканта оказалось сродни «любопытству» ученого.
Размышляя об этой животрепещущей для музыки XX столетия проблеме, Стравинский говорит: «„Эксперимент“ что-то значит в науках, но ничего не значит в композиции. Ни одно хорошее музыкальное сочинение не могло бы быть только „экспериментальным“: это или музыка или не музыка; ее нужно слушать и оценивать, как всякую другую. Удачный „эксперимент“ в музыке может быть точно таким же провалом, как неудачный…»23. Сказанное справедливо с позиции результата, но не с позиции творческого процесса. Ведь к экспериментированию (отнюдь не всегда художественно результативному) устремились многие крупные мастера музыки XX столетия – видимо, для них и для их слушателя оно и само по себе обладало ценностью. Очевидно, в самом стремлении постичь и даже абсолютизировать красоту и тайну отдельного звука, сонорной краски, формы и т. п. кроется не просто «игра в бисер». Это тоже одно из проявлений познания через искусство, равно как и одна из граней художественной ценности, востребованной определенными членами общества.
Служение. Ценность музыки, рождаемой для служения, заключена во внемузыкальных мотивах ее появления. И предпосылки подобной роли надо искать в особой природе музыкального искусства.
Из всех художественных видов музыка одна не имеет прямого аналога в реальности. Она – величайшая тайна человеческой культуры, неземная, непонятно откуда сошедшая красота. «Божественное» происхождение в сочетании с глубоким эмоционально-психологическим вплоть до магнетического воздействием исторически сделали музыку одним из важнейших компонентов ритуальных отправлений (религиозных, государственных, бытовых). Причем во многих традиционных национальных культурах этот ценностный критерий является одним из важнейших, а носитель таких ценностей – музыкант – человек, отмеченный печатью Бога, личность особо почитаемая.
«Духовная музыка без религии почти всегда тривиальна»24, – считает Стравинский, опираясь на критерий уникальности как главной внутримузыкальной ценности. Но ценность музыки ритуала, культа – это ценность иной, вне музыкальной природы. Собственно музыкальные достоинства или недостатки как бы не существуют, мерой ценности выступают некие идеологические требования, связанные с предназначением данной музыки, с уровнем ее соответствия особой духовной задаче.
Более того, история знает случаи, когда музыкальный шедевр, созданный в жанре духовного сочинения, мог не допускаться к исполнению в храме (вероятно, по причине оригинальных, «отвлекающих» от молитвенного состояния свойств). В то же время музыкальные шедевры в жанрах духовной музыки, как бы рожденной для служения, обладая более широким ценностным спектром, становятся достоянием светской культуры. «Месса» Баха и «Реквием» Моцарта, «Литургия» Чайковского и «Всенощная» Рахманинова – в силу своей музыкальной уникальности в условиях концерта оказываются объектом чисто музыкального наслаждения. В храме (верующими) и вне его они будут восприниматься по разному, это будут ценности разной природы.
Подобное отношение может быть и со знаком минус, когда музыкальное произведение, даже великое, оказывается как бы «антиценностью». Именно такая участь постигла, например, музыку Вагнера в Израиле: ставшая культовой для нацистской Германии и лично Гитлера, служившая символом национального величия и расового превосходства, которые привели к трагедии Холокоста, она до сих пор там принципиально не звучит. За более чем полвека табу было нарушено дважды: в 1981 г. Зубин Мета включил в программу вступление к «Тристану и Изольде», но из-за протестов в зале исполнение не состоялось; в 2001-м г. Даниэль Баренбойм во главе берлинской «Staatskapelle» эту же музыку исполнил на бис, предварительно предложив всем несогласным покинуть зал (за событием последовал общественный скандал и дискуссия в прессе).
Наслаждение искусством, направленным на служение, отмечено печатью сакральности. Здесь нет места личному вкусу и интеллекту воспринимающего, напротив, запечатлена своего рода надындивидуальная, общая для всех духовная значимость. Именно такова роль гимнов – государственных, национальных, корпоративных («Гаудеамус», к примеру) – или музыки, чаще всего заимствованной из «популярных кладовых», принимающей на себя роль духовного символа. И если слушательская отдача при ее восприятии достигает высокого эмоционального накала, значит, такая музыка отвечает своему предназначению, и ее ценность в служении высока.
Разумеется, при подобных контактах с музыкой оказываются задействованными многие психические механизмы, близкие гипнозу, некое «коллективное бессознательное». Именно поэтому не только культовые отправления разных времен и народов, но и, в частности, современная медицина может опираться на музыкальные звучания, помогающие исцелению (например, музыка для релаксации). Значимость такой музыки именно в служении.
Музыкально-критическая журналистика должна всегда четко отдавать себе отчет в том, что лежит в основе ценностной природы того или иного музыкального явления, в чем причина его значимости, высокой востребованности в определенных слушательских кругах или обществе в целом.
Мода
Гипертрофированной формой выражения актуальной ценности может считаться такое специфическое явление, как мода. Характерная для самых разных сфер человеческой жизни, она играет важную роль и в искусстве. Мода снимает верхний слой интересов, она фиксирует внимание на внешних, бросающихся в глаза проявлениях и со своей стороны в нарочитой форме выявляет, какие ценностные запросы (утилитарные, эстетические, художественные, идеологические) в данный момент являются главенствующими. Не случайно в бытовом плане модное – всегда самое дорогое, оно пользуется самым высоким спросом и ценится выше всего.
Настроенная на волну актуального, мода способна переживать стремительную эволюцию. Перемены в моде, нередко кажущиеся хаотичными, необоснованными, наделе могут отражать глубинные процессы движения культуры, в том числе и культуры художественной. Музыкальный журналист должен понимать эти процессы, видеть их, критически осмысливать.
Разумеется, в слепом следовании моде реализуется потребность обладать ценностью, опираясь на заимствованную систему ценностных координат: ценно не само явление, сколько престижность – возможность «соответствовать», быть «на уровне». Однако сами законодатели моды – своего рода локаторы художественно-ценностных процессов в культуре. Это удел ярких, творческих и сильных личностей.
С позиции музыки мода может проявлять себя и в композиторском творчестве (мода на определенные жанры, выразительные приемы, технику), и в исполнительстве (мода на определенных авторов, на музыку определенной исторической эпохи, стиля, даже на исполнительскую манеру), и в музыкально-общественном поведении (модными могут быть посещения концертов определенных исполнителей или залов, манера слушательского поведения, стиль обмена впечатлениями и т. п.). Мода иногда может действовать даже в академической музыкальной среде (например, влиять на темы диссертационных или дипломных работ).
Непосредственное действие механизма моды всегда принадлежит области коллективного и даже массового спроса. Уникальное, неповторимое – вне ее. Поэтому в творчестве мода ярче всего заметна в тех направлениях, где возможно «тиражирование». В наибольшей степени, естественно, ее присутствие ощутимо в сфере культуры массовой.
Для музыкального журналиста, который подобно чуткому локатору настроен на волну общественных интересов и потребностей, очень важны как понимание новомодных веяний, их природы и общественной значимости для того или иного момента, так и умение дистанцироваться от «всеобщей увлеченности», трезво и критически оценивая музыкальный процесс.
4.2. Музыкальное восприятие
Музыкальное восприятие – творческий акт. Таковым его сделал длительный опыт музыкально-художественной деятельности человека, постепенно формировавший слушателя как самостоятельную фигуру. В историческом процессе эволюции музыкальной практики перенесение внимания с музыкальной деятельности, обслуживавшей ритуал, обряд, увеселительный досуг, на музыкальное произведение принципиально изменило расстановку сил: центром музыкально-культурного процесса стал homo audiens – человек слушающий.
«Способность слышать, на мой взгляд, в значительной степени не менее трудное искусство, чем умение сочинять»25, -утверждает Геннадий Рождественский, музыкант, всю жизнь находящийся между звучащей музыкой и залом. В этих словах выдающегося дирижера музыкальное восприятие предстает как особый талант. Им должен быть наделен слушатель и особенно музыкальный критик, как наиболее «продвинутый», чуткий из них.
Именно в плоскости восприятия заключена основная энергия, движущая музыкально-критическую мысль, а значит и весь музыкальный процесс. «Одна из исторических функций музыкального восприятия, – читаем в специальном исследовании, – заключалась в выработке и установлении музыкальных критериев для отбора жизненного материала, постепенно вовлекавшегося в систему художественных музыкальных средств. Образно говоря, именно в индивидуальных актах музыкального восприятия (как и в актах творчества и исполнения) осуществлялось психологическое вето на неудачные, случайные звукосочетания и закрепление звукосочетаний, приемов, структур, удовлетворяющих требованиям характерной для той или иной эпохи музыкальной деятельности»26.
Процесс художественного восприятия един для разных художественных сфер, при всем различии объекта осмысления, принадлежащего, например, литературе или изобразительному искусству, театру или музыке. Единство заключено в личностном характере восприятия, в бесконечном множестве индивидуальных подходов. Это рождает и еще одну закономерность, особенно важную именно для музыкально-критической деятельности: в тексте непременно заложено персональное авторство.
Речь в данном случае идет не о формальной стороне – кем и как текст написан, но о сущностной – о самом характере высказывания. Критическое суждение способно убедить, захватить, разбудить встречную мысль читателя лишь в том случае, когда за ним явственно проступает личность говорящего. Только личностно окрашенный подход, живая, непосредственная интонация, собственный «угол зрения» впечатляют, активно воздействуя на того, кому высказывание адресуется. Тип мышления пишущего, его позиция, направленная к единомыслию или полемике, неординарность взгляда, темперамент – все имеет значение для читателя, ищущего в критическом тексте ценностные ориентиры. И если научный текст чаще стремится нивелировать индивидуальность автора, пряча ее за традиционным «мы» и подчеркивая тем самым надличностный, объективный характер предлагаемых выводов, то художественно-оценочный текст всегда несет в себе «я», даже если это местоимение открыто не произносится.
Известно высказывание Гоголя, считавшего, что «критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней еще более виден еще более сам разбирающий»27. Творческий акт, который вершит «разбирающий», по своей природе принадлежит не созиданию, а осмыслению. На читателя воздействует запечатленное в слове мастерство восприятия.
Компоненты художественного восприятия
Механизм художественного восприятия в равной мере и значении действует во всех сферах художественной критики. Как утверждает наука, художественное восприятие включает в себя четыре основных компонента, которые «являются необходимыми и достаточными для приема художественной информации»28. Это: свойства личности, вкус, навыки восприятия, установки.
Свойства личности. Здесь речь должна идти об индивидуальных человеческих чертах, врожденных или приобретенных: о темпераменте и жизненных пристрастиях, о мировосприятии и идеалах, о социальных и психологических сторонах личности (в частности, о соотношении эмоционального и рационального начал в ней). Сюда же следует отнести систему полученных знаний, общих или специальных, а также и сам жизненный опыт, напрямую отражающийся на внутреннем мире человека. Яркие, неповторимые качества личности, ясно выраженная индивидуальность в мышлении, в мироощущении – важнейшее условие глубокой и содержательной критической деятельности в сфере искусства.
Однако реальная музыкально-критическая практика требует дополнить эту позицию некоторыми важными деталями. Так, при всех вообразимых достоинствах музыкального критика с позиции его индивидуальных личностных свойств, эти достоинства не всегда непременно приводят к «справедливой» оценке художественного явления. И одним из специфических моментов в плане личностного подхода к художественной данности оказывается родство духовных миров автора произведения искусства и воспринимающего. Родство, которое наиболее способствует приближению к сути воспринимаемого. В своей знаменитой статье о Брамсе Шуман бросает примечательную фразу: «Во все времена действует некий тайный союз родственных душ»29.
Такое родство мироощущения, темперамента, художественных идеалов и прочее позволяет на интуитивном, подсознательном уровне погрузиться в глубины, недоступные другим. Равно как различие психического склада духовно чуждых людей способно поставить непроходимый барьер в постижении иного художественного мира. Именно здесь, прежде всего, следует искать корни «великих непониманий» вплоть до полного отрицания, исходивших от выдающихся композиторов, людей с обостренной индивидуальностью, по отношению к своим столь же выдающимся коллегам. Чуждые художественные миры в подобных ситуациях отторгались и отвергались зачастую безоговорочно и в жесткой форме.
Для профессионального критика такая проблема, казалось бы, не должна существовать – от него требуется «беспристрастность». Однако, сопротивляясь чуждому художественному миру, намеренно подключая рациональные (объективизирующие) доводы, полностью избежать давления несовместимости мироощущений вряд ли возможно. Здесь действует объективно существующая личностность восприятия. И писать желательно о том, что близко, что затрагивает.
Вкус. Понятие вкуса как совокупности свойств воспринимающего подразумевает уже специальный психический механизм, который действует при приеме художественной информации в качестве информации специфической. Оно охватывает эстетические нормы, сформировавшиеся в результате воспитания, привычек, обычаев. В какой-то мере здесь можно говорить и о выявлении черт характерной социальной группы, для которой близки подобные вкусовые нормы. Но в целом понятие вкуса также личностно. И это влечет к одной важной для художественного восприятия особенности – избирательности вкуса.
Избирательность вкуса особенно ясно можно наблюдать на примере отношения к одним и тем же художественным явлениям у людей, близких по воспитанию, образованию, социальной принадлежности. Общеизвестны факты, когда вкусовые различия даже у людей одного круга могут достигать огромного диапазона – одним ближе одно, другим другое. Интересный пример – одно из высказываний Игоря Стравинского. Выросший в Петербурге, воспитанный Римским-Корсаковым как музыкант, он в «Диалогах» на вопрос о его отношении к Чайковскому разворачивает целую панораму, суть которой – резкий выпад против кучкистов:
Я протестовал против картинности в русской музыке и выступал против тех, кто не замечал, что эта картинность, эта живописность достигаются применением весьма ограниченного набора ловких приемов. Чайковский был самым большим талантом в России и – за исключением Мусоргского – самым правдивым30.
Вкус – очень тонкий элемент восприятия. Для композитора, испытавшего, благодаря механизму обратной связи, воздействие критической мысли, вкус оказывается своего рода фильтром, который помогает развиваться, сохраняя и даже углубляя свою индивидуальность. Так было, в частности, с молодым Прокофьевым. После скандального приема Второго фортепианного концерта в Павловске и «Скифской сюиты» в Петрограде композитор характерным для него образом отреагировал на это в своем творчестве: «Ободренный интересом, который вызвала „Скифская сюита“, – писал он в „Автобиографии“, – я выбирал для „Игрока“ язык как можно более левый»31. Тем более трагичной, противоречащей природе музыканта-новатора оказалась внутренняя ломка Прокофьева в последние годы жизни, когда после партийного постановления 1948 г. он стал намеренно упрощать свой язык. Альфред Шнитке в своем прекрасном слове о Прокофьеве, произнесенном на торжественном открытии юбилейного прокофьевского фестиваля в Германии, коснулся этой проблемы:
Любое приспособление к якобы единому вкусу единого народа – неправда. Это был всего лишь один шаг навстречу официальной ложной концепции «народного вкуса», но он повлек за собой целый ряд шагов в сторону от индивидуального вкуса одного из величайших композиторов в русской музыкальной истории32.
Навыки восприятия. «Чтобы слышать, надо слушать» – гласит известное изречение. Это означает, что навыки восприятия вырабатываются в процессе общения с искусством. Когда возникает речь о «подготовленном» слушателе, о «понимающем» зале, речь идет именно об аудитории, обладающей навыками восприятия предлагаемой вниманию музыки, нередко достаточно сложной по своей внутренней организации.
С позиции музыкально-критической деятельности речь здесь уже должна идти о профессиональном мастерстве критика. Оно воспитывается и частотой общения с музыкальными явлениями, и эстетической активностью – потребностью и умением быстро входить со звучащей музыкой в контакт.
Общение с произведением искусства, как уже говорилось, – сложный творческий акт, а точнее – сотворческий. И среди многих развиваемых качеств – как, например, чуткий слух (и не столько в акустическом, сколько в «историческом» аспекте), архитектоническое чутье и т. п. – здесь не менее важно художественное воображение: богатое ассоциативное мышление, образное видение. Причем речь идет не о предметной или какой-либо иной конкретизации звучания или непременной вербализации слуховых художественных впечатлений, а о способности быстро «загораться» при соприкосновении с художественным явлением и многогранно с ним контактировать.
Однако важно понимать, что навыки слушания не абсолютны. Они вырабатываются в определенной художественной среде, на определенной музыкально-стилевой базе, они исторически подвижны и изменчивы даже в масштабе жизни одной личности. Развиваемые в живой практике, они могут «не сработать» при соприкосновении с новой звуковой системой. Например, восприятие традиционной музыки Востока может оказаться недоступным даже для развитого слушателя европейской традиции, как, впрочем, и восприятие европейской музыки для замкнутого в своей системе ценностных координат знатока восточной музыки.
Перенос навыков слушания из одной музыкальной среды в другую невозможен, необходимо их развитие для каждой сферы особо. Это, в частности, проявляется и во взаимоотношениях с современной массовой музыкальной культурой. Например, многие слушатели рок-музыки, ее подлинные знатоки и ценители, люди с большим слушательским и аналитическим опытом в этой сфере нередко «с ходу» совершенно не способны воспринимать серьезную музыку академической традиции. Равно как и слух, сформировавшийся в процессе академического обучения и практики, может оказаться глухим ко многим явлениям нетрадиционной музыкальной культуры, что, естественно, отразится на ее оценке.
Художественные установки. В характере художественных установок заключена целая система эстетических требований, ожиданий, предъявляемых к произведению искусства. Именно здесь выявляются ценностные критерии, характер духовных и социальных потребностей личности, принципиальные различия идейно-эстетических позиций, которые для критика выступают в роли некоего ценностного ориентира.
В сравнении с типом личности, вкусом и навыком художественного восприятия характер установок – самый «благоприобретенный». Причем не на интуитивном уровне общения с искусством (как вкус и навыки восприятия), а на рациональном. Слушатель-критик осознанно позиционирует себя в определенных художественных рамках (типа: «это – искусство, а это – уже профанация»; или «это не симфония, а просто музыка для оркестра»…). Художественные установки образованного музыкального критика – его главная опора при объективизации субъективных впечатлений.
Однако преобладание рационального начала в контакте с искусством, в том числе, например, и внемузыкальных мотивов, влияющих на оценку, формирует не только ценностные критерии, но и догмы. А догма – это некое априорное оценочное суждение, которое не допускает сомнений и доказательств.
Его надо принимать «на веру». Именно в этой, рационализированной, части восприятия кроется опасность утраты живого непосредственного контакта с искусством, возникновения снобистских позиций, фанатичной приверженности какому-нибудь узкому направлению, отрицание звукового «инакомыслия». Здесь же находится тот мостик, по которому на восприятие может давить «скрытый цензор» – конъюнктурные обстоятельства и прочие идеологические причины.
Для примера любопытно взглянуть на один музыкально-критический текст, связанный с восприятием «Агона» Стравинского. Его автор Ю. Келдыш изначально находится в плену определенной установки на додекафонию и на творчество Веберна и Стравинского. Позиция автора раскрывается во втором предложении оценочного отрывка, она догматична и, как это характерно для догмы, доказательность в ней подменена резкой, унизительной лексикой (деградация, старческое бессилие, полное оскудение выдумки). Однако именно эта позиция и определяет направленность восприятия и выводов, предложенных читателю в первом предложении:
В «Агоне» Стравинского могут вызывать любопытство у слушателя разве лишь отдельные звуковые курьезы, в общем же от этого произведения остается впечатление удручающего однообразия, внутренней пустоты и отсутствия всякой художественной фантазии, при всей виртуозности владения композитором средствами фактуры и оркестрового письма. «Додекафонный этап» Стравинского свидетельствует не об обогащении и прогрессе, а, напротив, о дальнейшей творческой деградации, о печальном старческом бессилии и полном оскудении выдумки, которое он тщетно пытается прикрыть ложной мудростью веберновского музыкального вероучения, получившего несколько запоздалое признание с его стороны33.
Названные четыре компонента художественного восприятия в совокупности и создают предпосылки индивидуальной неповторимости критических суждений об искусстве. Они определяют их личностную природу, о которой все время идет речь. Субъективность художественной оценки имеет объективный, всеобщий характер, а потому особенно открыто проявляется в непрофессиональных суждениях об искусстве. Применительно к литературе, например, о такой «читательской» критике Л. Выготский говорил как об откровенно субъективной, ни на что не претендующей, и в качестве аргумента подчеркивал: «Эта критика питается не научным знанием, не философской мыслью, но непосредственным художественным впечатлением»34.
Музыкальное содержание и адекватное восприятие
В ситуации художественного восприятия, а значит и музыкально-критической деятельности, участвуют две стороны: личность воспринимающего и художественное явление, в нашем случае – музыкальное произведение, музыкальное исполнение и т. п.
Как явствует из психологии искусства, художественное произведение «допускает бесчисленное и неограниченное множество толкований, множество разных подходов, в неисчерпаемом богатстве которых – залог его неувядаемого значения»35. Предполагает ли это, что в художественном произведении нет единого смыслового значения, постичь которое должен стремиться критик? Или что это значение существует, но оно прячется во множестве разночтений, приближающихся или отдаляющихся от главного смысла? И что вообще можно считать мерилом истинности понимания?
Как видим, подобные размышления связаны с поиском содержания музыкального произведения, делающего его носителем духовной ценности. Причем подход к смысловому значению произведения с позиции оценочной, на которой основывается музыкальная критика, далеко не однозначен. Он обусловлен, кроме того, конкретной целью критического выступления и теми ценностными критериями, которые эту цель поддерживают. А сами ценностные критерии, как помним, многомерны и исторически подвижны.
Музыкальная наука, касаясь вопросов содержания музыки, не может пройти мимо ценностного аспекта. Ось содержание – восприятие – ценностные критерии четко прочерчивается, например, в «Логике музыкальной композиции» Е. Назайкинского. Трактуя музыку «как сложно построенное содержание», автор подчеркивает огромную роль в ее восприятии исторически сложившихся систем ценностных подходов. «В соответствии с ними, – пишет он, – ив той мере, в какой слушатель усвоил их, произведение предстает и как мастерски сделанная вещь, и как своевременно, к месту и с определенным значением прозвучавшая пьеса, и как явление исполнительского творчества, и как культурно-историческая ценность – „памятник культуры“, и как феномен музыки или искусство вообще, и как репрезентация музыкального языка, жанра или стиля, и как обнаружение индивидуального авторского замысла, и как воплощение жизни, да и сама жизнь в особом художественном мире…»36.
Множественность аспектов в приводимом высказывании, которое, по словам автора, не охватывает всех возможных подходов и произвольно в последовательности их преподнесения, позволяет уточнить несколько важных моментов:
во-первых, то, что за каждым из них стоит система запросов и критериев, с позиции которых соответствие этим запросам оценивается;
во-вторых, что подобные аспекты (как и другие возможные, но не названные) содержательны, то есть они имеют самое непосредственное отношение к пониманию смыслового значения произведения;
в-третьих, что содержание произведения само образует сложную систему, составляющие которой определяются ценностными запросами воспринимающего.
Все это позволяет подойти к главному выводу:
Смысловое значение произведения, которое стремится воспринять и оценить музыкальная критика, существует не само по себе как постоянная и неизменная данность художественного текста, реализованная в совокупности технических средств; и не как форма воплощения авторского замысла, поскольку художественный результат не тождествен идее, его породившей. Оно существует только в постижении.
Идеальной формой такого постижения можно считать адекватное восприятие. Пуская в обращение данное понятие и исследуя его феномен в специальной статье, В. Медушевский так определяет свойства адекватного восприятия: «…это оборотная сторона произведения, условие его самотождественности, зеркало, в котором выявляется духовный мир произведения»37. То есть в адекватном восприятии, в равной мере как и в самом художественном произведении, отражаются ценностные критерии. С их позиции прочитывается и оценивается данная музыка, ее образная система, стилистика, жанровые особенности, языковые закономерности и т. п. Общим знаменателем, объединяющим в неразрывное целое адекватное восприятие как некую идеальную абстракцию, как эталон совершенного понимания и само художественное произведение, оказывается культура, в которую и произведение, и его восприятие погружены. Реальное восприятие способно приближаться к культурной норме, а именно: к восприятию адекватному, и способно значительно от него удаляться.
Когда Пушкин утверждал (по отношению к литературной критике), что «судить художника следует по законам, им самим над собою признанным», имелась в виду именно подобная взаимосвязь произведения и адекватного восприятия. Ту же мысль можем встретить у М. Бахтина, говорившего, что «понять – значит перестроить мышление». Очевидно, перестроить сообразно той культурной норме, той логике, которые исследуемое художественное явление породили.
Но культура, как известно, не застывший организм, она неоднородна, многослойна и, главное, пребывает в непрерывном развитии и преобразовании. Исторический музыкальный процесс отражается не только в эволюции композиторского мышления, которая прослеживается в сравнении музыки разных времен и стилей, не только в эволюции исполнительских прочтений, ной в эволюции музыкально-критических «пониманий».
Интерпретация (слушательская)
Восприятие, отраженное в музыкально-критическом тексте, может проявить себя только через интерпретацию – интерпретацию слушательскую, реализуемую в словесных образах. Хотя интерпретатор (и исполнитель, и слушатель) воспламеняется чужими идеями, он, пропуская художественное явление через себя, наделяет его новыми смыслами в соответствии со своей системой представлений. Именно интерпретация является и носителем и средством выявления важнейшего свойства восприятия – его субъективно-личностной природы.
Каждый критик трактует музыкальное произведение или трактует исполнительскую интерпретацию этого произведения, стремясь в своем понимании сущности художественного явления приблизиться к адекватному восприятию. При этом проблема адекватности стоит перед каждым интерпретатором. Исполнитель ставит ее перед собой, обращаясь к художественному тексту, принадлежащему определенному этапу развития культуры. Слушатель-критик – обращаясь к исполнительскому прочтению, связанному уже с культурной нормой его времени, а также исследуя взаимодействие интерпретации этого исполнителя с музыкальным текстом.
Так предопределяется вариативность, неокончательность музыкально-критического суждения, о которых многократно шла речь. Более того, смысловая множественность художественного произведения или его исполнительских прочтений, обусловленная их принадлежностью живому историко-культурному процессу, осознается только благодаря множественности слушательских интерпретаций, трактовок, при помощи них, через них.
Если, по Ю. Лотману, «проблема содержания есть всегда проблема перекодировки»38, то восприятие этого содержания исполнителем или критиком есть своего рода перевод в собственную систему представлений. Причем в искусстве это никогда не буквальный перевод, а всегда интерпретация, более или менее приближенная к адекватному восприятию. А зачастую весьма и весьма удаленная от него.
История развития музыкальной культуры знает много примеров изменений отношения к тому или иному музыкальному явлению на протяжении длительного исторического периода, которые подчеркивают открытый, неокончательный характер критических суждений об искусстве. Можно вспомнить, например, ситуацию с Бахом, описанную в книге Альберта Щвейцера, когда даже два «наиболее влиятельных критика того времени» – Маттезон и Шейбе – осуждали Баха как композитора. «Никто, даже из числа его противников, – пишет Швейцер, – не сомневался, что он – князь клавесинистов и король органистов; но никто, даже его друзья, не понимали его величия как композитора»39.
Все сказанное подтверждает важнейший вывод: подлинное художественное явление – музыкальное произведение, исполнение, спектакль – множественно в своих содержательных смыслах. Эта множественность заключена в разнообразии прочтений, пониманий, трактовок, – она живет в интерпретациях воспринимающих.
Отношение к новации
Взаимоотношения художественного произведения со своим временем – проблема особая. Известно, что они могут и «не сложиться». Гений нередко идет впереди современников, предпочитающих узнавание познаванию. Мудрый В. Шкловский в одном из последних своих монологов «о времени и о себе» заметил: «Современники часто не прощают гениальности, особенно – если гений из соседней квартиры. Когда бывшие друзья Чехова поняли, кто перед ними, они освистали своего товарища»40.
Не каждый музыкант, оставивший свой след в истории, был счастлив пониманием при жизни. Как и далеко не каждому профессиональному критику дано столь точно воспринимать масштаб входящей творческой личности, как, например, Шуману, который в своей первой статье приветствовал юного Шопена словами: «Шапки долой, господа, перед вами гений!», а в последней столь же восторженно отметил дебют молодого Брамса. Цезарь Кюи на дебют Чайковского на выпускном экзамене в Петербургской консерватории отозвался иначе: «г. Ч. совсем плох, у него нет ни искры дарования»41.
Художественная критика, отражая мышление, мировоззрение, запросы своего времени, действительно может проглядеть или не принять явление, которому уготована великая судьба в будущем. Рывок в восприятии нового, талант предвидения – свойство особо одаренных личностей, наделенных не просто чутким слухом, но и фантазией, способностью на нетривиальную реакцию. Так, уже в 1915 г. В. Каратыгин написал о молодом Прокофьеве:
Вулканический темперамент, умение вливать в старые мехи совершенно новое, великолепного гармонического букета вино, искусство органически сочетать классическую строгость и стройность формы и фактуры с содержанием, в высшей степени отвечающим современному звукосозерцанию, – вот черты, отличающие Прокофьева…42
Мир музыки Прокофьева открывается здесь читателю через призму его оригинальной интерпретации музыкальным критиком.
Приведенный фрагмент статьи В. Каратыгина среди прочих достоинств интересен еще и тем, как в нем выражена реакция на музыкальную неожиданность. Такая постановка вопроса в отношении критического выступления не только правомочна, но жизненно необходима. Ведь критика предполагает, что происходит оценка нового или переоценка (т. е. взгляд с новых позиций) забытого, временно утраченного.
Отношение к новации – тоже проблема восприятия. Реакция на новизну как лакмусовая бумажка выдает тип критика, позволяя выявить некие обобщающие черты. Воспринимая новое, критик-слушатель опирается на ценностные ориентиры, выработанные в процессе освоения множества различных знаний. Причем в каждом очередном соприкосновении с художественным явлением, требующим оценки, он каждый раз как бы заново «моделирует» свои критерии уже применительно к конкретному случаю. Здесь кроется сложный механизм профессиональной критической деятельности, обязательный и непременный во всех случаях. Однако конечный результат такого «объективного» процесса, как известно, может быть различным вплоть до выводов диаметрально противоположных, поскольку вершит его не машина, а человеческая личность – музыкальный критик как человек воспринимающий.
Данной интереснейшей проблеме даже посвящена специальная статья с характерным названием «Критик как слушатель». В ней автор предлагает некую условную классификацию, выявляющую три типа подхода к новому музыкальному произведению, как три типа слушательского поведения.
Первый из них предполагает «пассивный образ музыкально-логических действий, когда ассортимент знаний в процессе деятельности не меняется или почти не меняется ни в количественном, ни в качественном отношениях»43. Такой тип поведения характеризует слушателя-консерватора.
Второй тип слушателя – активный, его деятельность направлена на «модернизацию аппарата знаний». Такой слушатель «не стремится придать имеющимся знаниям универсальное значение», он «постоянно расширяет „ассортимент“ сведений. При каждом свежем впечатлении он склонен заново решать очередную музыкально-логическую задачу и, таким образом, шаг за шагом наращивать запас знаний»44. Так ведет себя слушатель-эрудит, для которого характерна развитая способность обобщения.
Третий тип слушателя «склонен видеть в музыкальной неожиданности не просто логическую преграду на пути к постижению смысла музыки, но желанный повод для решения творческой задачи – найти основание для далекой скрытой аналогии»45. Такой эвристический подход характерен для слушателя-творца, который в соприкосновении с неожиданным способен увидеть далекие, ранее не видимые связи как внутри музыкальных явлений, так и во взаимоотношениях музыки с иными, внемузыкальными мирами.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что одной из характерных черт творческого подхода является богатый и нетривиальный ассоциативный аппарат. Подобно автору музыки, критик такого рода со своей стороны творит неожиданность, совершает скачок в неизведанное. Вербализуя свое понимание, он строит новую логическую конструкцию, которая отвечает духу первоисточника, вызвавшего ее к жизни. Приведенный ранее фрагмент из статьи Каратыгина демонстрирует именно этот тип критического слушательского отношения к новому музыкальному явлению. В данном случае – не просто новому, но ошеломляюще неожиданному, каким в момент своего выхода в жизнь была «Весна священная» Стравинского, озарившая новые пути музыки XX столетия.
Настроенная на волну времени, музыкальная критика должна находиться в состоянии готовности к восприятию перемен, к интерпретации и оценке нового, к шлифовке и пересмотру ценностных ориентации. Еще в 1915 г. В. Каратыгин, размышляя о проблемах музыкальной критики, подчеркнул эти сложные взаимоотношения критической мысли и непрерывно развивающихся «художественно-звуковых» явлений: «Первая налетевшая музыкальная гроза, – как всегда образно писал он, – перемагничивала только что налаженную магнитную стрелку, и прежняя система художественного мышления и критических воззрений рушилась»46.
Сегодня на пути к постижению смысла новой музыки стоят и многообразные стремительно происходящие перемены. И перемены качественные, обусловленные языковыми, стилевыми, жанровыми исканиями, намеренной ставкой на новации, на индивидуальное решение; подход к такому произведению нередко требует своего особого ключа, построения новой концепции для проникновения в смысл, с последующей оценкой художественного результата. И перемены, образно говоря, количественные, обусловленные параллельным существованием самостоятельных, а в известной степени и полярных музыкальных сфер, составляющих лицо современной музыкальной культуры. Речь идет уже не о соотношении разных явлений внутри музыки академической, но и об иных «музыкально-творческих видах» (В. Конен), которые охватывают джаз, рок, фольклор разных народов, традиционное искусство внеевропейской традиции и т. п.
Восприятие этого потока ставит большие сложности и перед широкой слушательской аудиторией, и перед профессионалами, в том числе и музыкальными критиками. Современникам всегда было тяжело ориентироваться в сути происходящих рядом художественных явлений, их неадекватность в восприятии культурных событий своего времени – частый случай (констатируя это, обычно говорится, что художник «опередил свое время», но говорится, как правило, оглядываясь назад). Однако сегодня расслоение музыкальной культуры приводит к тому, что свидетельством неадекватности восприятия может служить не только непонимание неподготовленной аудиторией художественных закономерностей серьезной музыки, но и неадекватное восприятие многими профессиональными академическими музыкантами явлений закрытой для них сферы музыки не-академической. Музыкальное восприятие – сложный творческий процесс и серьезная, напряженная духовная работа.
4.3. Оценочная деятельность
Оценочное отношение при контактах с искусством «разлито в воздухе». Оно разворачивается в процессе слушания и восприятия, пронизывает индивидуальные подходы к музыке у самих исполнителей, находит выход во множестве исторически сложившихся мероприятий художественно-оценочного характера. Среди таковых, к примеру, – публичные музыкальные состязания древних греков, миннезингеров и мейстерзингеров, соревнования известных органистов в эпоху Баха, современные исполнительские конкурсы, фестивали новой музыки и многое другое. Прокофьев, например, в консерваторские годы записывал названия сочинений, которые слышал в оркестре, и выставлял им отметки. «Провоцируя и организуя оценочные процессы, – в теоретической работе на данную тему пишет Е. Назайкинский, – искусство способствует совершенствованию ориентировочно-оценочных действий, навыков оценочной деятельности, развивает ее формы, механизмы, прививает вкус к ней»47.
Если искусство восприятия есть первое условие успешной музыкально-критической деятельности, то художественная оценка – ее конечный результат. Оценка нового произведения или исполнения, художественного события или человеческой деятельности на музыкальном поприще. Любое явление, принадлежащее музыкальной культуре или соприкасающееся с нею, попадая в поле зрения музыкальной критики, автоматически становится предметом оценочного отношения, цель которого определить значимость данного явления, то есть его ценность. При этом, как писал Б. Асафьев в «Книге о Стравинском», «похвалы и порицания нравящихся мне сегодня по первому впечатлению пьес это одно, а установка принципов и этапов музыкального мышления, понимание истории развития музыки и оценки событий на пути этого развития совсем другое»48. Таким образом, оценочная деятельность – основная сфера приложения сил профессиональной музыкально-критической журналистики. Она помогает упорядочить процесс функционирования искусства и включает в себя целый комплекс разнообразных способов для достижения результата.
Реальное выражение оценочного отношения обладает своим языком – зримо-пластическим, звуковым и словесным. Овации, летящие на сцену цветы, скандирование ставших интернациональными слов одобрения «браво» и «бис» или, напротив, холодный прием, шиканье и свист – все это определенные правила игры, принятые всеми ее участниками. Длительный опыт общения с искусством выработал различные ритуалы оценочных проявлений, причем отнюдь не одних и тех же для разных народов, времен, мест, социально-общественных кругов. Однако, когда возмущенный Глазунов демонстративно вышел из зала за несколько секунд до окончания «Скифской сюиты» Прокофьева или когда на премьере «Весны священной» в Париже крики разгневанной публики заглушили музыку (и бедный Нижинский, выкрикивая счет, тщетно пытался управлять танцем из-за кулис), – это было уже нетрадиционным оценочным поведением, в некотором роде – вне правил, а потому особенно впечатляющим. Эти факты история сохранила.
Для профессиональной музыкальной критики существует лишь одна форма оценочного действия – словесная. Отношение критика вербализуется, слово призвано передать и сам вердикт, и процесс его становления. На пути к оценке, которая, как помним, по своей природе изначально субъективна, перед автором каждый раз стоит одна важнейшая проблема – как достичь убедительности предлагаемых выводов.
Решается или не решается эта проблема – зависит от двух вещей. Во-первых, от степени художественности текста, его способности увлечь, взволновать, эмоционально подчинить себе читателя. Во-вторых, от системы доказательств, то есть от уровня предлагаемой аргументации.
Аргументация
С позиции художественной значимости текста оценочное действие музыкального критика обращено как бы к подсознанию воспринимающего. Словесные образы, легкодоступные для восприятия, начинают сами воздействовать подобно произведению искусства, заражая или возможно раздражая читателя. Убеждение выразительным словом – сильное средство. Роль его в любом критическом высказывании нельзя недооценивать, а для романтической, эссеистской критики она просто главенствующая. Уровень профессионализма здесь прямо пропорционален литературному мастерству.
Оценочное действие посредством аргументации, напротив, обращено к сознанию, к интеллекту. Оно опирается на логический аппарат и результаты объективизации субъективных впечатлений путем подключения разносторонних знаний.
Какого рода знания могут привлекать – готового рецепта на все случаи, естественно, нет. Критик выстраивает логическую концепцию, привлекая такую аргументацию, которая в данном конкретном случае лично ему представляется наиболее сильно воздействующей. Прежде всего – специальные музыкально-исторические и музыкально-теоретические знания (при этом желательно обойтись без терминологии, незнакомой читателю). Именно владение историей развития музыкальных стилей, жанров и форм, понимание языковых закономерностей, характерных для различных исторических периодов, отдельных художников или национальных школ, позволяет музыкальному критику при построении своей оценочной концепции оперировать целыми блоками музыкальных знаний.
Углубление аргументации требует, как правило, перевода оцениваемого художественного явления в иную, более масштабную систему ценностей. Например, его можно рассматривать и в контексте всей музыки своего времени, и в историческом развертывании жанра, и в контексте творчества самого композитора.
Система координат может выходить и за пределы музыки. Для критика очень часто главным подспорьем оказываются иные знания, а именно: искусствоведческие, литературные, исторические, социологические, философские. Последние особенно важны. Если искусство – своего рода модель бытия, то нередко именно знание жизни и понимание человека в ней дает наиболее сильные средства для убедительной аргументации. Здесь нужен творческий подход. «Критика всегда будет плестись в хвосте, если только она не исходит от творчески мыслящих людей»49, – справедливо полагал Роберт Шуман.
Для примера можно обратиться к оригинальной рецензии Альфреда Шнитке на моцартовскую программу пианиста Алексея Любимова – подлинному словесному произведению искусства, основанному на глубочайшей эрудиции. Приводимые несколько фрагментов интересны различными пластами музыкального знания, привлекаемыми в качестве аргументации:
Прежде всего концерт был великолепно сочинен исполнителем, был единой и совершенной музыкальной формой. Два контрастных отделения воплотили два свойства моцартовской музыки – наивную жизнерадостность и трагическую мудрость. Не принимая во внимание хронологию возникновения сочинений, пианист расположил их в порядке, отразившем эволюцию композитора. […]
…совершенная форма всегда возникает в точке пересечения различных логических «измерений» (хотя путь к этой точке может быть и «неодномерный»). Не знаю, думал ли обо всем этом исполнитель, но так оно получилось, и это важнее всего, так как связано не только с присущей Любимову профессиональной культурой, но прежде всего со свойственной ему высокой духовной дисциплиной. Огромное количество впитываемых им музыкальных, литературных, философских познаний, пройдя через индивидуальность этого музыканта (чрезвычайно строгого, лишенного амбициозности и суперменских манер), переплавляются в драгоценный сплав глубины и простоты.[…]
…ассоциации с оркестром возникали на каждом шагу – с моцартовским оркестром! Здесь и туттийные акценты с остающейся «тенью» струнных унисонов (первый такт Фантазии c-moll), и тихие аккордовые «стоны» деревянных духовых (второй такт Фантазии), и бурные тираты струнных басов (восемнадцатый и девятнадцатый такты), и осторожно звучащие репетиции альтов (шестнадцатый такт: Andantino из Фантазии), и упруго-галантное spiccato («на цыпочках») скрипок (пятнадцатый и шестнадцатый такты второй части Сонаты a-moll) и «золотой ход» валторн (тот же такт).[…]
…Стилистическая стерильность («только Моцарт!»), как видно уже из «эволюционной» концепции всего концерта, принципиально невозможна была для Любимова. Моцарт нес в себе «гены» композиторов и более поздних, чем Бетховен, – в медленной части Сонаты C-dur уже готовился Шуберт, а в первой части Сонаты C-dur – Брамс. (Сидевший рядом со мной художник В. Янкилевский нашел даже в Прелюдии и фуге C-dur сходство с «Прелюдиями и фугами» Шостаковича – и был прав). Поэтому Любимов играет Моцарта, не законсервированного в XVIII веке, а живого, и сегодня идущего через историю музыки и оплодотворяющего ее…50
Приведенная рецензия при всем личностно восторженном тоне наполнена знанием. Она охватывает разные стороны музыкального искусства: композиторское творчество нескольких веков, исполнительство, психологию восприятия. Одновременно она втягивает читателя в размышления о путях современного музыкального процесса, в самостоятельное философское осмысление жизни и творчества.
Критика, определяя художественную ценность, всегда активна. Она как бы навязывает читателю собственную позицию, воздействует на него. Разумеется, и сами музыкальные критики по уровню художественных запросов представляют определенную культурную группу, а также имеют личные художественные пристрастия и антипатии. Однако Б. Асафьев, по его словам, тщательно развивая свое критико-оценочное мастерство, пришел к определенному решению: «услышав ценное в любимом, я научился слышать это и в нелюбимом»51.
Иными словами, в своей профессиональной работе критик не должен отталкиваться только от себя. Из арсенала оценочных доводов ему следует использовать прежде всего те, которые актуальны для подразумеваемого адресата. Если критик стремится достичь понимания и необходимого воздействия, то выбор аргументов и характер аргументации должны во многом зависеть от воображаемого конкретного читателя, должны быть направлены на него. Например, приведенная статья А. Шнитке, опубликованная в журнале «Советская музыка», обращена к музыкантам и просвещенным любителям музыки, она дышит сопричастностью.
Иногда профессиональное критическое суждение может оставлять развернутую научно обоснованную аргументацию как бы «за кадром», не теряя, однако, присущей ему диалектической взаимосвязи субъективного и объективного. Это возникает в том случае, когда пишущий априорно обладает высоким авторитетом и его позиция воспринимается как объективная в силу широко известных профессиональных достоинств автора. Субъективные наблюдения данной личности делают их убедительными и объективными в глазах читателя. Например, П. Чайковский, рассуждая о проблемах музыкально-критической деятельности вообще и своей в частности, писал:
Я питаю глубокое убеждение в том, что публика нимало не интересуется моими личными мнениями, что ей до них нет никакого дела. Если она, или по крайней мере известная доля ее, придает вес и значение моим суждениям о музыке и о явлениях московского музыкального мира, то это только потому, что она видит во мне выразителя мнений и взглядов наиболее авторитетной в деле музыки среды52.
«Авторитетность среды» – понятие, которое предполагает, что за ним стоит комплекс знаний, образовательный уровень, опыт художественного общения, то есть все то, что дает возможность ввести восприятие в русло профессионального, а значит, «объективизированного» оценочного суждения.
Метод сравнения
Оценочная работа, направленная на новые явления в музыкальном творчестве, нуждается в опорах, привносящих чувство «объективности». Вопреки субъективной природе оценки именно так действует метод сравнения, когда в качестве понятного мерила ценности «выставляется» ценностно апробированный «объект». Для музыкального восприятия такой подход обычен, развитой слушатель всегда наполнен музыкально-звуковыми параллелями.
Сравнительные пассажи предполагают достаточно высокий музыкально-образовательный уровень читателя. Они обращаются к сформированному музыкальным знанием ценностному багажу, спрятанному в памяти. Идя этим путем, пишущий малыми словесными средствами передает значительную информацию. Одновременно он моделирует сложную картину контакта с разнообразной музыкой, предлагая читателю своего рода комплексное музыкальное восприятие.
Относясь к системе доказательств, метод сравнения выявляет отношение пишущего не только к анализируемому явлению, но, прежде всего, к тому, что обладает для самого автора четким ценностным значением, и поэтому привлекается для сравнения. Оно может быть очень высоким, но может носить и негативный характер, причем степень и того и другого должна домысливаться читателем. Один из важнейших в анализе и оценке музыкальных произведений, этот метод является таковым еще и потому, что активизирует читателя (его музыкальные, исторические знания), вызывая на сотворчество.
Например, Шуман, стремясь дать высокую оценку концертам Шопена, пишет: «… на этом новом пути нас снова приветствует дух Моцарта»53. А в другой момент своих размышлений дает еще одну вариацию той же идеи: «… если в наше время родится гений, подобный Моцарту, он станет писать концерты скорее шопеновские, чем моцартовские»54. Высвечивая весь спектр оценочного отношения Шумана к искусству Моцарта, такие высказывания будят воображение читателя. Они не просто поднимают на наивысший пьедестал шопеновскую музыку, но скрыто, ненавязчиво говорят о ее классических корнях, о ее гармоничности и множестве других достоинств. Но, прежде всего, о том, что это шедевр, равнозначный гениальной музыке Моцарта. А сказано это о современнике.
А вот другой пример, и тоже о современнике. Здесь сравнение вводится как последний, наиболее весомый аргумент в уничтожающей в целом оценке. В статье И. Нестьева с характерным названием «В плену у буржуазного модернизма» речь идет о Второй симфонии («Родина») Г. Попова, точнее о ее трагическом Largo:
…мрачная безысходность настроения, обилие резких, «скребущих душу» (по выражению А. Оголевца) сопряжений, унылая, выматывающая нервы полифоническая ткань – в духе наиболее субъективистских медленных эпизодов музыки Шостаковича – делают эту часть почти невозможной для слушания55.
Опубликованный в конце 1948 г., текст несет на себе черную печать времени. Но важно не только это. Использованное сравнение в контексте приводимых аргументов, клеймящего названия и общей распинающей направленности содержит удар не только по Г. Попову, но и по Шостаковичу. Еще один удар «по лежачему», дополнительный, необязательный – музыку Попова можно было характеризовать любыми словами. А смысл сравнения на поверхности: раз плохо, как у Шостаковича, значит, действительно плохо!
Свободное и богатое ассоциативное мышление в основе своей также опирается на метод сравнения, в том числе и сравнения чисто музыкального порядка. В качестве примера можно привести одно из размышлений Стравинского о Мусоргском, открыто оценочное и острополемическое по характеру. Речь идет о редактировании Римским-Корсаковым сочинений Мусоргского, вспоминая которое позднее, Стравинский сказал:
Даже предубежденным умам становилось ясно, что произведенная Римским мейерберизация «технически несовершенной» музыки Мусоргского не могла быть долее терпимой56.
За словом «мейерберизация» стоит не просто негативное отношение Стравинского к творчеству Мейербера, но целая музыкально-историческая платформа, культурная панорама, предполагающая, что читатель сам развернет ее в своем воображении, опираясь на имеющиеся знания.
Приведенные сравнения учитывают специальные музыкальные знания читателя, они пребывают как бы внутри музыкального мира. Однако, быть может, еще большей силой воздействия (и убеждения!) могут обладать сравнения, основанные на выходах в иные жизненные и художественные сферы. Свободные аналогии особенно будоражат воображение читателя. Для подтверждения данной мысли хочется привести один яркий пример из смежной области – фрагмент анализа фильма Федерико Феллини «Амаркорд». Главным авторским средством здесь становится прием неожиданных литературных и жизненных аналогий:
Первое впечатление – перед вами бурлеск, каскад сочных непристойностей, нечто раблезианское… по общей атмосфере карнавала. Репортаж с праздника.
Антипод праздника – скандал. Он возникает в семье из-за пустяка, сразу вырываясь за допустимые границы, обнажая в человеке неуправляемое. Это уже не Рабле, а Достоевский57.
В данном примере аргументация методом свободных ассоциаций и выходов в жизнь, а также литературные параллели демонстрируют убедительное взаимодействие субъективного и объективного. Здесь сочетаются непосредственность глубоко личностного, эмоционально окрашенного восприятия и ясность позиции, опирающейся на духовный опыт человека в осмыслении мировых культурных ценностей.
Оценочные параметры
Оценочные подходы музыкального критика движутся по нескольким направлениям, исходя из того, какой признак положен в основу оценочной характеристики в качестве доминирующего. Игорь Стравинский, много размышлявший о проблемах музыкально-оценочной деятельности, в одном из своих высказываний затронул эти параметры и даже сопоставил:
Одно музыкальное произведение считают выше другого по разным причинам: оно может быть «богаче по содержанию», более глубоко трогающим, утонченнее по музыкальному языку и т. д. Однако все эти утверждения количественного порядка, иначе говоря, они не касаются сущности или истины. Одно произведение может быть выше другого только по качеству вызываемых ощущений58.
Качество вызываемых ощущений – субъективное состояние. Стравинский прав в том, что мерилом в оценке музыкального явления в конечном счете оказывается не оно само по себе, но именно реакция на него воспринимающего. В идеале не просто положительная, но исполненная удовлетворения, чувственного или интеллектуального наслаждения, духовного обогащения, очищения (одно из проявлений – катарсис), сопровождающаяся чувством радости, покоя или, напротив, волнения, ликования, потрясения. Подобный импровизационный перечень можно продолжать, углубляясь в детали, хотя слова бессильны передать все оттенки положительных ощущений, рождаемых общением с искусством (равно как и отрицательных – от равнодушия и скуки до раздражения и возмущения!).
Все сказанное – исходная посылка оценочного подхода в качественном радиусе «хорошо – плохо». Однако поиск истины в оценке идет именно теми путями, которые великий мэтр назвал сначала. Это, условно именуя, – «языковый» параметр, охватывающий стиль, форму и все прочие средства оформления звуковой материи; «содержательный» параметр, включающий в себя темы, идеи, воплощенный образный мир; и, наконец, параметр «коммуникативный», то есть уровень воздействия, магнетизма художественного явления, его «направленности на слушателя». Оценочная мысль, стремясь обосновать свой вердикт, движется по этим параметрам, опираясь на соответствующие критерии.
В качестве иллюстрации можно привести одно возвышенное по настроению оценочное суждение о «Страстях по Матфею» Баха. В сложной научной статье, размышляя о природе прекрасного, Ю. Холопов ищет образец совершенства. И, найдя его, вводит в свое повествование краткий «оценочный этюд», развивая его именно по трем вышеназванным направлениям:
Это – один из немногих абсолютных шедевров музыки. В нем прекрасно все, насколько вообще возможно, чтобы все было прекрасным. Прекрасен сюжет (выражающий возвышенность этической мысли, всечеловеческое содержание в рамках традиционной религиозной канвы; обобщающий глубинные идеи целой цивилизации, притом наиболее развитой и высокой из всех), прекрасны грандиозность музыкального содержания, богатство музыкальных мыслей, вдохновенность музыкального выражения, совершеннейшее мастерство композитора, исключительная красота его мелодий и гармонии, прекрасна поразительная глубина воздействия музыки на душу слушателя59.
Языковый параметр. Здесь оценочная мысль акцентирует внимание на внутримузыкальных ценностях. При приоритетном значении индивидуального творчества над всем возвышается критерий мастерства (наряду с личной одаренностью), иначе говоря, – профессионализма. Мастерство художника (композитора, исполнителя), заслуживающее высокой оценки, как правило, видится критику в индивидуальной, именно ему присущей способности владеть технической палитрой своего вида творчества. Вот один подобный по смыслу фрагмент из статьи В. Каратыгина:
Новый фортепианный концерт – произведение крайне типичное для Метнера […] Та же компактность и концентрированность музыкальной мысли. Та же сила и четкость музыкального рисунка. Та же мужественная суровость гармонии, никогда не порывающей с классическими основами, но постоянно их обогащающей многими смелыми и интересными новшествами. Та же изобретательность по части сложных, но очень упругих и основательно разработанных ритмических комбинаций. Та же ловкость в построении замысловатых контрапунктических соединений. Перед нами артист, имеющий нам сказать много своих слов, в совершенстве владеющий техникой их сочленения в прекрасно звучащие и крепко построенные фразы и не менее искусно соединяющий свои фразы в цельный и мощный поток звуковой речи60.
Внимание автора сосредоточено на мастерстве организации звуковой материи, которое в данном случае, видимо, и является знаком индивидуальности композитора («крайне типичное для Метнера»), Критик, практически не проходя мимо ни одного из элементов музыки, разворачивает в тексте достаточно детальную панораму технического мастерства.
Оценка с опорой на «языковый» параметр может быть и очень краткой, обобщающей. Например, Стравинский на вопрос Крафта «как Вы оцениваете теперь музыку Берга?» отвечает: «Если бы я мог проникнуть сквозь барьер стиля (органически чуждый мне эмоциональный „климат“ Берга), я подозреваю, что считал бы его самым одаренным конструктором форм среди композиторов нашего столетия»61.
Критерий мастерства в равной степени значим для всех сфер музыкального творчества. Причем художественная оценка всегда предполагает со стороны критика своего рода встречное профессиональное владение материалом, сквозь слово просвечивающее понимание тайн ремесла. Это ясно видно из приведенных высказываний В. Каратыгина и И. Стравинского, обращенных к композиторскому творчеству. Это же можем констатировать, например, и в статье Б. Асафьева 1923 г. о молодом Владимире Горовице, обращенной к исполнительскому творчеству:
Горовиц мастерски владеет инструментом; он позволяет себе быть на грани опасных rubato, чтобы через несколько мгновений овладеть созвучиями и обнажить железный ритм, идущий не от схематически распределенных делений свободно текучей ткани, а от интуитивных предпосылок и от уменья организовать звучащий материал в силу внутренней убежденности и сдержанности.[…] В «Дон-Жуане» радовало все: чутье к звуковой окраске и неистощимость изобретения в оживлении орнаментов; насыщенность и полнота тона в певучих моментах, рядом с причудливо ломкими арабесками и снопами звучащих искр, истаивающих в воздухе; умно распределенные нарастания и буйный пробег на далекое пространство, когда страшно становится за дыхание. И как ни кажется это парадоксальным, но хочется даже в приложении к инструментальной фортепианной интонации говорить о силе дыхания и умении им владеть – настолько поражает качество тона пианиста своей жизненной трепетностью и напряженностью62 (курс, авт. – Т.К.).
Спектр понятий языкового параметра охватывает множество качественных оценочных значений, которые можно встретить в критических текстах, или на основе которых (даже без их обязательного произнесения) вершатся или вершились критические суждения. Среди них такие, например, понятия, как новизна, новаторство, свежесть или традиционность, эклектика, эпигонство, плагиат; модернизм, авангардизм или академизм; стилевое единство или пестрота стиля, многостильность. Каждое из названных определений в контексте рассуждений конкретного критика подводит к определенному оценочному решению. Однако на уровне их понимания как теоретических терминов трактовка каждого далеко не однозначна и со своей стороны отражает подвижность оценочных характеристик в искусстве. Остановимся на некоторых из них подробнее.
Понятия новизны, свежести (музыкальных идей, материала, мелодического, гармонического, полифонического письма, композиционных решений и т. д., и т. п.) – одни из фундаментальных в оценочных подходах нового времени, поскольку отвечают основополагающему критерию уникальности. Когда констатируется соответствие ему, предполагается, что это – непременно положительное свойство, своего рода «абсолютная» оценочная истина. Более того, хотя на известном этапе развития отечественной музыкальной культуры официальная борьба с «инакослышанием» и породила общественный «нигилизм по отношению к новой музыке, к качественно новой интонации»63, все же теоретически понятие новизны не могло уйти из приоритетных художественных ценностей.
Однако с противоположной позицией ситуация не столь однозначна. Вторичность музыкальных идей и приемов, даже откровенная эклектика (но не плагиат, который относится к криминальной сфере!) не всегда в оценочном подходе встречают суровое осуждение. Связано это с тем, что обращение к, казалось бы, отработанным идеям может быть обусловлено определенными художественными задачами или поисками. Пушкин считал даже, что «подражание не есть постыдное похищение – признак умственной скупости», но надежда открыть новые миры, «стремясь по следам гения». То есть речь не всегда может идти о бездарном решении, отсутствии фантазии, мастерства или творческих способностей. К чужим художественным идеям, к «чужому слову» (М. Бахтин) могут тянуть разные силы: жажда познания через личное «освоение проторенных дорог»; замысел, при котором обращение к готовым клише – намеренное средство, а неповторимость может быть заключена в чем-то другом – в образной концепции, в трактовке жанра, во внеязыковых свойствах.
В оценочном процессе, опирающемся на языковый параметр, важную роль играют понятия традиционализма, академизма, с одной стороны, и новаторства – с другой. Именно с их позиций, казалось бы, легче всего поддается конкретизации и, соответственно, аргументации оцениваемая степень уникальности (вплоть до нулевой). Однако, как ценностный критерий в устах разных авторов, они могут иметь разное и даже противоположное оценочное значение.
Разговор о традиционализме или академизме произведения или исполнения возникает тогда, когда явственно воспринимается его языковая опора на апробированный традицией и закрепленный школой свод правил. При этом ценностная ориентация может зависеть как от личной позиции критика, в частности от его реакции на музыкальную неожиданность, о чем ранее уже шла речь, так и от ценностных установок, доминирующих в культуре, которые воздействуют на общественные запросы.
С одной стороны, владение традицией и академизм мышления музыканта сродни понятию мастерства, профессионализма. Это своего рода знак «цеховой» причастности, то есть положительное свойство. Такой подход тянется из глубины времен, а в культуре Востока он абсолютно доминирует и сегодня, не случайно аутентичная музыка Востока так и именуется – «традиционная». Кроме того, хорошее владение традицией предполагает именно индивидуальное, то есть уникальное мастерство в этом владении.
С другой стороны, понятия традиционализма и академизма иногда употребляются как негативные характеристики, близкие по значению, например, банальности. Они становятся своего рода признаком вторичных, отработанных языковых приемов, утративших способность свежо и неожиданно воздействовать на восприятие. Стравинский, например, на вопрос «что такое академизм в музыке?» отвечает: «Академизм возникает вследствие изменения взгляда на правила, но не их самих. Композитор-академист поэтому ориентируется больше на старые правила, чем на новую реальность»64 (курс. авт. – Т.К.). Как следует из приведенного текста, оценочная позиция Стравинского в этом вопросе однозначна – глухота к «новой реальности» по сути своей должна означать непричастность к современным тенденциям музыкально-творческого процесса.
Новаторство, если развивать далее мысль Стравинского, в таком случае оказывается и стремлением (интуитивным или осознанным) формировать «новую реальность», и средством ее воплощения. То есть понятие новаторства более чем важно в художественной оценке. В. Каратыгин, например, для которого критерий новаторства был одним из наиболее значимых и высокочтимых, в качестве «композиторов-новаторов» выдвигает три имени – Скрябина, Стравинского и Прокофьева. «К ним, – считает он, – могут быть приурочены известные течения музыкальной мысли, вокруг них ведутся особенно ожесточенные споры, они являются типичными для современного русского „звукосозерцания“ в его главнейших видах и формах»65. Как видим, оценка их роли и места в русском искусстве начала века – высочайшая.
Напротив, консервативная позиция в отношении к музыкальной неожиданности, как и подчинение художественного творчества унифицированным ценностным ориентациям, изначально настроены к новаторству негативно. В частности, при тоталитарном режиме печально знаменитый доклад Жданова 1948 г. не обходит своим вниманием эту болезненную для идеологического руководства проблему. В нем говорится:
Мне кажется, что последователи формалистического направления употребляют это словечко (новаторство. – Т.К.) главным образом в целях пропаганды плохой музыки. Ведь нельзя же назвать новаторством всякое оригинальничание, всякое кривлянье и вихлянье в музыке.[…] Новаторство отнюдь не всегда совпадает с прогрессом66.
Как видим, сначала автор текста пренебрежительно пинает сам термин («словечко»), затем при помощи уничижительных характеристик стремится как-то дискредитировать идею языковых поисков, свойственную новаторству, а в конце уже в открытую выносит отрицательный вердикт.
Оценочные подходы к музыкальной новации в XX в. часто соприкасаются и с такими понятиями, как авангардизм и модернизм. Характеризуя приверженность наиболее радикальным поискам новых звуковых миров, эти понятия сами по себе не должны нести оценочной нагрузки. И то и другое связано с новаторскими устремлениями композиторов в области организации звуковой материи, значимость которых каждый раз требует отдельного осмысления. Однако при отрицательном подходе к подобным поискам как таковым официозная отечественная критическая мысль часто употребляла названные понятия в качестве негативных оценочных характеристик в резко ругательном контексте…
Содержательный параметр. В оценочных мыслительных процессах содержательный параметр выводит за пределы собственно музыкальных закономерностей. Он охватывает восприятие и оценку философской идеи, художественного замысла, образной концепции и драматургии, включает в себя спектр ассоциативных представлений, художественных и жизненных связей, которыми, по ощущению критика, отмечено оцениваемое явление. Оценочные критерии здесь опираются на подходы в радиусе многих смысловых антиномий типа: прекрасно – безобразно; глубоко, серьезно – поверхностно, плоско; возвышенно – низменно; изысканно, со вкусом – дешево, безвкусно; умно – глупо, нелепо и т. п. Подобный перечень, в разных вариантах и оттенках, по сути неограничен. Каждое явление музыкального искусства от шедевра до бездарного с позиции его содержательного наполнения дает возможность для множества оценочных трактовок, положительных и отрицательных.
Оценочная мысль, двигаясь по условно содержательному параметру, опирается на знание истории, на жизненный опыт, на духовную практику. В поисках содержательной уникальности, неповторимости анализируемого явления важнейшую роль играет метод сравнений, аналогий, способность погрузить анализируемое явление в художественный, философский или жизненный контекст. Определяющими оказываются ценностные ориентиры и приоритеты самого критика, а шире – общечеловеческие духовные ценности, эстетические и нравственные.
Например, в одной из статей, посвященной творчеству Марии Гринберг, Г. Нейгауз так оценивает ее дарование:
Я люблю в ее исполнительском творчестве неизменно присущую ей ясность мысли, настоящее проникновение в смысл музыки, непогрешимый вкус (которого столь многим молодым пианистам не хватает и который, по моему глубокому убеждению, является важнейшим качеством исполнителя)…
Отмечу также в ее игре серьезность, благородную собранность мыслей, предохраняющую ее от всяких «заскоков», оригинальничания, от эмоциональных «протуберанцев» и преувеличений, но также от излишнего выхолащивания интеллектуализма, – сродни той индивидуалистической предвзятости, которой грешат иногда даже очень талантливые пианисты67.
Автор не касается технико-стилистических проблем пианизма, но ищет ключ к индивидуальности художника в иной плоскости – личностных свойствах («ясность» и «благородная собранность мыслей», воздержание от «эмоциональных преувеличений» и др.), которые читатель может экстраполировать на художественное творчество и, таким образом, воспринять оценку критика.
В поисках ключа к музыкальному содержанию мысль может идти сложными ассоциативными путями типа приводимых ниже поэтических размышлений композитора Э. Кшенека о музыке Веберна, цитированных М. Друскиным:
«…веберновская музыка наполнена чистым, прозрачным воздухом и гнетущим молчанием горных вершин…», она часто звучит «как сверхъестественные, жуткие голоса самой природы, как пугающий грохот подземных вулканов или парящие крылья с других планет»68.
Другой предлагаемый пример оценочных рассуждений в содержательной плоскости – фрагмент рецензии И.Соллертинского на балет Асафьева «Бахчисарайский фонтан» с примечательным названием «Вперед к Новерру!»:
Противоречив подход к Пушкину и со стороны композитора Б. Асафьева. В нем явственный разрыв между линией реставрационно-стилизаторской и линией непосредственного эмоционального вживания в творчество поэта: равнодействующая не найдена. С одной стороны – словно затянутая в корсет классической формы, парадная увертюра – искусная стилизация под аллегро Моцарта и Керубини – сентиментальный романс Гурилева, символически обрамляющий балет в начале и конце, атмосфера салонно-дворянского музицирования 20-х и 30-х годов, балетов Дидло и т. д. Это – так сказать – «Пушкин в музыкально-театральных креслах». С другой стороны – чистая лирика, порою глубоко волнующая (в III акте, бесспорно лучшем из всей партитуры). Но и в этой лирике Пушкин воспринят слишком элегически, обезволенно; пушкинского байронизма, по существу, нет; перед нами вновь, как и в «Онегине» Чайковского, «лирические сцены». Поэтому замысел музыкальной пушкинианы в таком виде вряд ли можно признать удавшимся. И характерно, что отправной точкой для Асафьева оказался чувствительный Гурилев, а не единственный современник Пушкина – ослепительный, подлинно вакхический Глинка, чье присутствие ощущается в партитуре «Бахчисарайского фонтана» лишь формально69.
Соллертинский оценивает художественный результат мерой его соотнесенности с пушкинской поэмой. И признает его не удавшимся. Для этого, как видим, критик привлекает широкий музыкально-исторический контекст и методом аналогий постепенно подводит читателя к своему выводу.
При подходе с содержательной стороны велик соблазн и даже риск опираться только на внемузыкальные элементы произведения. Например, на сюжетный прообраз, программу или рассказы композиторов о себе и своей музыке – все то, что, казалось бы, легко воспринимается и понимается читателем. Однако слово, даже выразительное, образное, способно наметить лишь условный контур воспринимаемых звуковых идей. Музыкальный смысл сам по себе не поддается вербализации, только в ассоциациях, в соотнесении с воображаемой идеальной моделью. Более того, музыкальное содержание, например, программной музыки не адекватно объявленной программе, их объединяет лишь фантазия (автора и слушателя). А музыка опирается на те же законы собственно музыкальной красоты, что и музыка «чистая». Композиторские же высказывания о замысле, о музыкальном содержании их детища вообще могут увести в противоположную от истины сторону – музыка и слово, в том числе и слово композитора, имеют разную природу. Не случайно, такой тонкий мастер музыки и слова как Э.Т.А. Гофман сказал в «Крейслериане»:
Когда идет речь о музыке как о самостоятельном искусстве, не следует ли иметь в виду одну только музыку инструментальную, которая, отказавшись от всякого содействия или примеси какого-либо искусства (например, поэзии), выражает в чистом виде своеобразную, лишь из нее познаваемую сущность свою?..70
Подход Гофмана к музыке как к «самостоятельному искусству» направлен именно на утверждение ее имманентных содержательных возможностей, что отвечает ценностной установке романтического художника-индивидуалиста. Это особенно видно в сравнении с утилитарными подходами античности, при которых данная позиция была иной. «Древние, – пишет А. Лосев, – вообще не допускали чистой музыки как таковой. Она была для них слишком иррациональна. Музыку они понимали всегда в соединении со словом, а иной раз даже и с танцем»71 (курс. авт. – Т.К). Прагматический подход не нуждается в смысловой уникальности музыки. Ценность собственно музыкального содержания, неуловимого, «иррационального» – это завоевание Нового времени.
Показательно, что именно сложность и специфичность оценочных трактовок содержательной стороны музыки во многом определила направленность предписаний в период тотального управления культурой. Ярче всего – в сталинские годы, хотя метастазы подобных подходов сохранились надолго.
С одной стороны, в силу той же «иррациональности» собственно музыкального смысла музыка оказалась сферой, где художник мог в значительной мере сохранить творческую свободу, спрятаться в мир, не доступный политическому давлению. Один из самых ярких примеров – уход Шостаковича в «чистый» симфонизм высочайшей художественной пробы и содержательной глубины после погрома его музыкально-театрального творчества в середине 30-х годов. К последовавшим затем симфониям (с Пятой по Десятую) в момент их появления прикладывались разные содержательные трактовки, то резко восхвалявшие (Пятая, Седьмая), то журившие, порицавшие и даже негодовавшие (Шестая, Восьмая, Девятая) вплоть до публичной дискуссии в связи с Десятой по поводу ее глубоко трагедийного содержания, противоречащего официозному оптимизму. Однако все это не могло затронуть сердцевину музыки, ее истинный, невербальный смысл. Только духовный опыт современников Шостаковича, минуя все «типизированные» трактовки, мог дать ключ к восприятию подлинного содержания этих симфоний. Подобно скальпелю хирурга, они обнажили трагические коллизии духовных процессов своей эпохи. И в истории культуры России симфонии Шостаковича останутся одним из самых впечатляющих музыкальных знаков времени…
С другой стороны, поскольку собственно музыкальный смысл оставался своего рода вещью в себе, неподвластной диктату, официальная точка зрения в течение длительного времени поднимала на щит ценность музыки сюжетной – вокальной, музыкально-театральной, программной инструментальной, поскольку в ней был вроде бы доступный для руководства, «лежащий на поверхности» внемузыкальный смысловой канал. Одновременно «чистая» инструментальная музыка попадала в разряд идеологически вредной, приверженность ей становилась предметом резкого осуждения. В качестве главной бичующей оценочной характеристики для этих целей было пущено в оборот понятие «формализм».
В партийном постановлении 1948 г. говорится: «Формалистическое направление в советской музыке породило среди части советских композиторов одностороннее увлечение сложными формами инструментальной симфонической бестекстовой музыки и пренебрежительное отношение к таким музыкальным жанрам, как опера, хоровая музыка, популярная музыка для небольших оркестров, для народных инструментов, вокальных ансамблей и т. д.»72. Постановлению вторит и доклад Жданова: «Забвение программной музыки есть тоже отход от прогрессивных традиций»73. А далее подобная ценностная установка была поставлена на поток и тиражировалась в конкретных разносных рецензиях типа приводимого ниже выступления Г. Бернандта: «Творчество Шебалина – один из ярчайших примеров такого замаскированного „ряженого“ формализма. Сущность его музыки на протяжении многих лет остается почти неизменной, это „чистая“ бескачественная конструкция, „музыка для музыки“, своего рода „целесообразность без цели“»74 (курс. авт. – Т.К).
Хотя понятие формализма по логике вещей должно было бы связываться с языковым параметром (усиленное внимание автора к форме, к новым средствам), введено оно было именно как оценочная характеристика содержательного ряда. Приведенное выше уничтожающее определение творчества В. Шебалина, замечательного, серьезного музыканта, также направлено на «сущность» его музыки, что специально выделено критиком. Формализмом было призвано клеймить ту или иною музыку как клеймом бессодержательности, а нередко и враждебности. «Случается так, что через посредство внешне усвоенного формального приема в творчество молодого композитора проникает чуждое нам, ущербное и нездоровое содержание»75, – читаем в статье Ю. Келдыша (1958).
В качестве положительной альтернативы «формализму» в роли оценочного определения содержательного наклонения выдвигались понятия «народность» и «партийность» музыки, а также «реализм», естественно, «социалистический». Но с позиции оценочного подхода, здесь, как и с формализмом, была налицо полная путаница – по каким признакам определять эти содержательные свойства? По цитированию народных мелодий, опоре на массовый интонационный словарь, выбору определенного жанра, стилистическому подражанию музыкальной классике – то есть по внутримузыкальным средствам? Или по уровню доступности для восприятия, то есть коммуникативному параметру (о котором еще пойдет речь)? Или по факту приложенного словесного ряда – «нужного», «правильного» сюжета, программы, названия? Или по уже совсем далеким от музыки идеологичским требованиям в духе изложенных Ю. Келдышем в специальной научной статье на тему «народности»: «Слияние передовой революционной теории с практикой борьбы трудящихся масс против господства эксплуататоров создает предпосылки новой, высшей формы народности в искусстве… Принцип народности… неотделим от принципа партийности»76.
Оценочные подходы формирует лишь живая художественная практика. Вот почему они подвижны, изменчивы и непрерывно настроены на волну эволюционирующей культуры. Выдуманный критерий может исполнять в оценочном процессе лишь одну роль – догмы. Догма не допускает ни интуитивного, ни логического подхода, она запоминается и механически проводится в жизнь. Именно поэтому содержательные аспекты оценки как самые субъективные, сложно-ассоциативные, вольно вербализуемые оказались для догматических подходов наиболее подходящим плацдармом для давления на общественное сознание.
Коммуникативный параметр ( воздействие). Данный параметр музыкально-критической мысли связан с потребностью оценить самую мистическую, самую таинственную сторону музыки – степень и характер ее воздействия на человека. Собственно то главное, ради чего ценится искусство.
Вдумаемся в то, что, размышляя о Листе, писал Шуман:
И вот демон уже расправил крылья; словно желая испытать публику, он сначала, казалось, играл ею, потом заставил ее прислушаться к чему-то более глубокомысленному, пока не обвил сетями своего искусства каждого в отдельности, и тут уже стал увлекать всю массу куда и как хотел. Такой способности подчинять себе публику, поднимать, нести и низвергать ее ни в одном художнике, кроме Паганини, пожалуй, не встретишь77.
В приведенном отрывке запечатлена оценка творческого момента именно с позиции его направленности на слушателя. В констатации «необычайной способности подчинять публику» – и высшая оценка критика и, одновременно, признание божественного (или «демонического») дара – знака гения.
Силу воздействия на слушателя определяют заложенные в музыкальном звучании свойства, обращенные к эмоциям, к подсознанию, к художественному контакту на уровне интуиции. Однако само содержание испытываемых эмоций в общении с искусством далеко не однородно. И не только в личности воспринимающего заключены различия эмоционального восприятия художественного результата. «Качество вызываемых ощущений», повторяя Стравинского, как бы запрограммировано в художественном тексте, и чуткому слушателю это знакомо. Ведь известно, что одна музыка, к примеру, возвышает душу, другая – будоражит чувственность, третья – просветляет разум, четвертая – усиливает агрессивность…
Фридрих Ницше в работе «Происхождение трагедии из духа музыки» ввел понятия аполлонического и дионисийского начал. Первое олицетворяет светлое, гармоничное, рациональное; второе – темное, экстатическое, оргиастическое, иррациональное. Используя эти понятия, он должен был бы исходить как раз из заложенного в произведении «качества вызываемых ощущений». То есть оценка музыкального явления с позиции его воздействия опирается не только на «количественный» показатель – волнует, захватывает, поражает, потрясает или оставляет равнодушным, но и на «качественный» во всем множестве тончайших оттенков.
Альфред Шнитке обязательным требованием и безусловным достоинством музыки считал естественность, непосредственность78. Эти качества оцениваются именно в параметре воздействия. Фальшь, надуманность, натужность всегда слышны, ложь не может вызвать сопереживание, увлечь. В одной из рецензий В.Каратыгина, страстного приверженца музыкального новаторства, есть примечательные строки о С.И. Танееве:
Почему же искусство этого явного и типичного «реакционера» так неотразимо увлекательно? Не потому ли, что Танеев совершенно искренен в своем творчестве, что его произведения сочинены так, а не иначе не по слепой вражде к современности, не из фанатичной приверженности к букве старых традиций, а просто по живому художественному чувству, которое всей своей силой связано с этими традициями. Танеев живет классицизмом, классическим музыкальным мироощущением… Трудно войти в звуковой мир Танеева… Но раз войдя в этот мир, вы уже не можете противостоять соблазнам его красоты, строгой, возвышенной, величавой79.
Редкие по теплоте и пиетету слова музыкального критика заключают в себе высокую оценку именно с позиции воздействия музыки композитора. Пишущий не просто отдает дань творчеству музыканта, он выдвигает на первый план критерий естественности, «живого художественного чувства», неотразимо увлекающего. В сравнении с данным достоинством все прочее для критика меркнет. Последние слова в приведенной цитате – подлинный гимн художнику.
Другой пример, аналогичный по подходу и прямо противоположный по оценочному выводу, – высказывание Мендельсона о «Фантастической симфонии» Берлиоза:
Его инструментовка такая грязная, что хочется вымыть руки, подержав в них партитуру… Его симфония кажется мне страшно скучной – и это самое худшее. Бесстыдство, дерзость, неумелость могут еще быть забавными, но здесь все плоско и лишено жизни80.
Не касаясь окончательного вердикта, естественно, субъективного, отражающего хорошо известную негативную позицию Мендельсона, вдумаемся в само направление развития оценочной мысли. Мендельсон стремится разбить Берлиоза именно на «плацдарме» воздействия (скучно, плоско, лишено жизни), подчеркивая, что рядом с этим все остальное (тоже не устраивающее!) не имеет принципиального значения.
Оценочная мысль, двигаясь в русле размышлений о воздействии музыкального явления, опирается на разные характеристики в радиусе таких антиномий, как: органично – надуманно; интересно – скучно; живо – мертво; задушевная, теплая – холодная, умозрительная (музыка); волнует, потрясает – оставляет равнодушным, раздражает, возмущает и т. п. Но все эти характеристики предполагают, что художественная информация воспринята. А если нет?
«Невосприятие» нередко является и причиной, и следствием непонимания. Вот почему исследуемый параметр оценочного процесса включает в себя еще один важный аспект – критерий доступности.
Разумеется, музыка во многих своих проявлениях – достаточно элитарное искусство, требующее для наслаждения им определенной культуры, воспитания, подготовки. Она изначально доступна не всем. Разумеется также, что немаловажны и личные пристрастия воспринимающих, их приятия и неприятия. Кроме того, искусство одного музыканта, композитора или исполнителя, может быть открыто миллионам, а у другого есть своя, избранная узкая аудитория. Однако все это не умаляет саму проблему художественного контакта, поскольку вне такового искусство жить не может. «Направленность на слушателя» заслуживает самой высокой оценки, и крылатая фраза «счастье – это когда тебя понимают» без всякой натяжки может быть перенесена на ситуацию музыкант – слушатель.
Доступность, таким образом, – объективно существующее качество, хотя отнюдь не абсолютная ценность: не всем и каждому, с одной стороны, и не непременно моментально – с другой. Ведь подлинное понимание может прийти и после многократного слушания, и даже лишь у других поколений, через годы, десятилетия и, увы, века.
В тоталитарные годы, в условиях насаждавшихся унифицированных оценочных требований к музыкальному искусству критерий доступности оказался самым удобным и страшным оружием властных структур. Путем рекомендаций и выводов, он давал возможность игнорировать профессионализм, талант, индивидуальность художника, открывал зеленую улицу для дилетантов, посредственностей, для политических спекуляций и карьеризма, низводил унифицированного слушателя до уровня необразованной, художественно неразвитой массы. Главным «монстром» в этой оценочной конструкции стало слово «народ»:
Композиторы, у которых получились непонятные для народа произведения, пусть не рассчитывают на то, что народ, не понявший их музыку, будет «дорастать» до них. Музыка, которая не понятна народу, народу не нужна. Композиторы должны пенять не на народ, а на себя, должны критически оценивать свою работу, понять, почему они не угодили своему народу, почему не заслужили у народа одобрения и что нужно сделать, чтобы народ их понял и одобрил их произведения81 (из доклада Жданова).
И на долгие годы над культурой навис обожествленный оценочный постулат: «Искусство должно быть понятно народу», наряду с другим, с ним связанным: «Искусство принадлежит народу». Начертанные практически над каждой сценой, в каждом учреждении культуры, на многих языках народов и народностей огромной страны эти слова как культовое изречение сопровождали советского человека в искусстве повсюду. Фетишизация критерия доступности сделала его одним из основных средств давления на художников. Требование обязательной доступности сломало не одну творческую судьбу…
* * *
Функционируя в обществе, профессиональная музыкально-критическая журналистика предъявляет к себе много требований. Из них оценочное мастерство – важнейшее. Убедительное, литературно-выразительное и аргументированное оценочное высказывание отражает пройденный путь совершенствования от увлеченного музыкой дилетанта или просвещенного любителя музыки до уровня музыкального критика-профессионала.
Примечания
1. Глебов И. Ценность музыки // «De musica». – Пг., 1923. С. 19.
2. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. С. 369.
3. Столович Л.Н. Природа эстетической ценности. – М., 1972. С. 8–9.
4. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. – М., 1966. С. 51.
5. Щукина Т. Эстетическая оценка в профессиональных суждениях об искусстве. Сов. искусствознание, 1976. Вып. 1. С. 309.
6. Шуман Р. О музыке и музыкантах: Собр. статей в 2 т. Т. Н-Б. – М., 1979. С. 182.
7. Южанин Н. Некоторые проблемы социальной природы художественной ценности // Музыка в социалистическом обществе. Вып. 2. – Л., 1975. С. 26.
8. Серов А.Н. Статьи о музыке в семи выпусках. Вып. 2а. С. 81.
9. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. С. 271.
10. Там же. С. 284.
11. Каган М. Художественная критика и научное изучение искусства // Сов. искусствознание. – 1976. Вып. 1. С. 328.
12. Выготский Л. Психология искусства. С. 62.
13. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М.,1958. С. 199.
14. Каратыгин В.Г. Избр. статьи. М.; Л. С. 125.
15. Цит. по: Античная музыкальная эстетика. С. 110.
16. Там же. С. 109.
17. Там же. С. 168.
18. Там же. С. 167.
19. Стравинский И. Диалоги. С. 115.
20. «Сов. музыка», 1935, № 5. С. 33.
21. Глебов И. (Асафьев Б.). Ценность музыки. Цит. изд. С. 33.
22. Каратыгин В.Г. Избр. статьи. С. 109.
23. Стравинский И. Диалоги. С. 281.
24. Там же. С. 276.
25. Рождественский Г., Шнитке А. Семь нот в мажоре и миноре// Лит. газета, 1989, 3 марта. С. 8.
26. Назайкинский Е. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания// Восприятие музыки. – М.,1980. С. 102–103.
27. Гоголь Н.В. О движении журнальной литературы в 1834/35 году// Собр. соч. В 6 т. Т. 6. – М., 1953. С. 106.
28. Каган М. Художественная критика и научное изучение искусства // Сов. искусствознание, 1976. Вып. 1.
29. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Т. II-Б. С. 251.
30. Стравинский И. Диалоги. С. 50.
31. С.С. Прокофьев. Материалы. Документы. Воспоминания. С. 154.
32. «Сов. музыка», 1990, № 11. С. 3.
33. Келдыш Ю. Балет «Агон» и «новый этап» Стравинского// Сов. музыка, 1960, № 8. С. 177.
34. Выготский Л. Психология искусства. С. 342.
35. Там же. С. 361.
36. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М., 1982. С. 43.
37. Медушевский В. О содержании понятия адекватное восприятие // Восприятие музыки. – М.,1980. С. 142–143.
38. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М., 1970. С. 48.
39. Щвейцер А. Иоганн Себастьян Бах. – М., 1964. С. 130.
40. «Лит. газета», 1984, 15 февр. С. 8.
41. «С.-Петербургские ведомости», 1866, 24 марта. См.: П.И. Чайковский. Музыкально-критические статьи. – М., 1953. С. 336.
42. Каратыгин В.Г. Избр. статьи. С. 151.
43. Финкельштейн Э. Критик как слушатель // Критика и музыкознание. Л., 1975. С. 43.
44. Там же. С. 45.
45. Там же. С. 47.
46. Каратыгин В.Г. О музыкальной критике // Критика и музыкознание. – Л., 1975. С. 265.
47. Назайкинский Е. Оценочная деятельность при восприятии музыки // Восприятие музыки. – М., 1980. С. 198.
48. Асафьев Б.В. Книга о Стравинском. – Л., 1977. С.18.
49. Шуман Р. Избранные статьи о музыке. – М., 1956. С. 55.
50. Шнитке А. Субъективные заметки об объективном исполнении. Сов. музыка, 1974, № 2. С. 63–65.
51. Асафьев Б.В. Симфонические этюды. С. 193.
52. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. С. 234.
53. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Т. 1. – М., 1975. С. 262.
54. Там же. С. 254.
55. Нестьев И. В плену у буржуазного модернизма//Сов. музыка, 1948, № 10. С. 21.
56. Стравинский И. Диалоги. С. 51.
57. Гулыга А. Искусство в век науки. – М., 1978. С. 111.
58. Стравинский И. Диалоги. С. 217.
59. Холопов Ю. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления // Проблема традиций и новаторства в современной музыке. – М.,1982, С. 89.
60. Каратыгин В.Г. Избр. статьи. С. 265–266.
61. Стравинский И. Диалоги. С. 104.
62. Асафьев Б.В. Критические статьи и рецензии. – М.; Л., 1967, С. 262–263.
63. Задерацкий В. Культура и цивилизация: искусство и тоталитаризм. Сов. музыка, 1990, № 9. С. 10.
64. Стравинский И. Диалоги. С. 219
65. Каратыгин В.Г. Избр. статьи. С. 142–143.
66. «Сов. музыка», 1948, № 1. С. 20–21.
67. Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избр. статьи. Письма к родителям. С. 216–217.
68. См.: Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. – М., 1973, С. 207.
69. Соллертинский И. Статьи о балете. – Л., 1973. С. 92–93.
70. Гофман Э.Т.А. Избр. произведения: В 3 т. Т. 3. – М., 1962. С. 24.
71. Лосев А.Ф. Античная музыкальная эстетика. Цит. изд. С. 37.
72. «Сов. музыка», 1948, № 1. С. 5.
73. Там же. С. 20.
74. Бернандт Г. К проблеме мастерства и ремесленничества // Сов. музыка, 1948, № 7. С. 26.
75. Келдыш Ю. Пути современного новаторства// Сов. музыка, 1958, № 12. С. 35.
76. Келдыш Ю. О народности русской классической музыки // Сов. музыка, 1948, № 10. С. 9.
77. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Т.И-А. – М., 1978. С. 224–225.
78. См.: Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. – М., 1990. С. 257.
79. Каратыгин В.Г. Избр. статьи. С. 154.
80. См.: Даме В.Ф. Мендельсон-Бартольди. – М., 1930. С. 27.
81. «Сов. музыка», 1948, № 1. С. 23.
5. Творческие объекты музыкального рецензирования
О, сколько музыки у Бога,
Какие звуки на земле!1
А. Блок5.1. Рецензия
Слово рецензия происходит от латинского recensio – суждение, рассмотрение, обследование. Внимание музыкальной рецензии направлено на оценку творческого объекта – музыкального произведения, музыкального исполнения, музыкальной постановки, музыкально-творческого события.
Хотя рецензирование присуще отнюдь не только художественной сфере (оно существует и в науке, и в технике), есть принципиальное отличие научно-технического рецензирования, стремящегося объективно оценить достигнутое, от деятельности рецензента в области художественного творчества. Связано это с тем, что художественная рецензия обращена именно на произведение искусства, и мастерство рецензента заключено в субъективном восприятии другого художественного мира, во взаимодействии с ним. «Рецензия, – как писал известный литературный критик Л. Аннинский, – есть духовная встреча двух разных людей. Встреча двух личностей: того, кто пишет, и того, о ком пишется. Это не рабское растворение в себе, это не он и не я, это что-то третье, что-то совершенно новое, это наша встреча, наше событие. В чем тут сложность? В том, что „событие“ раскрывает одновременно духовный мир двух разных людей»2.
Не будучи ни приговором, ни истиной в последней инстанции, музыкальная рецензия призвана запечатлеть конкретное мгновение, когда творческий художественный объект попадает в поле восприятия определенной личности. По одному поводу может возникнуть много рецензий, разных, даже диаметрально противоположных по выводам. Спектр возможных оценок отражает множественность музыкального восприятия, о которой уже шла речь.
Самым главным в рецензионной работе является оперативность отклика. Рецензия тем ценнее, чем она ближе по времени к тому конкретному мгновению, когда состоялась встреча явления искусства и его восприятия. Ценностное отношение к художественному событию находится в апогее в момент представления. Как бы разлитое в атмосфере, оно тут же начинает таять (сколь быстро – зависит от художественного уровня явления: иногда воспоминание о нем длится годами, иногда исчезает сразу за порогом концертного или театрального зала). Именно поэтому музыкальная рецензия – непременно быстрый отклик. Она скоро устаревает, ее актуальность кратковременна.
Из смысловых компонентов музыкально-журналистского выступления (см. раздел 3.3) в рецензии могут быть представлены все. Однако и информационная, и проблемная составляющие в некотором роде факультативны, то есть они не обязательны, хотя и желательны, – информация помогает «войти» в рецензируемое явление тем, кто с ним непосредственно не соприкасался, а проблемная часть выводит на более высокий уровень обобщения, погружая явление в контекст культуры. Основными же и обязательными являются три других компонента: анализ, интерпретация, оценка. Из них оценка – главная цель написания рецензии, анализ и интерпретация – механизмы ее успешной реализации.
Аналитическая часть рецензии питается музыкальным знанием. Здесь особенно важны навыки профессионального общения с музыкой: восприятие интонационного строя, языка, формы, драматургии нового сочинения, технического совершенства (или дефектов) исполнения, то есть всех собственно музыкальных сторон художественного явления, из которых и во взаимодействии которых складывается художественный результат. Не менее важна и способность обобщать, систематизировать эти разрозненные музыкальные данные («поверить алгеброй гармонию»). В аналитической части работы для рецензента существенны как все формально-технологические детали (их, правда, если и привлекать в конечном тексте, то в основном следует «переводить» на язык общедоступных образно-эстетических эквивалентов), так и весь музыкально-исторический контекст. Главная задача анализа – посредством проникновения в предложенную музыкальную «материю» понять и осмыслить ее «дух».
Интерпретация – самая творческая и самая субъективная часть рецензии. Именно здесь автор рецензии творит свой мир, воспламеняясь чужим. Характер ассоциаций, сравнений отражает жизненный и художественный опыт пишущего, его мироощущение, философские установки, ценностные ориентации. Именно в части интерпретации возникает контакт не только между духовным строем художника и критика, но и критика и читателя. Извлекая из текста моменты толкования, мы либо радуемся встрече с единомыслящей и единочувствующей личностью, либо внутренне протестуем. Личность критика в момент интерпретации обнажается, рецензируемый объект окрашивается субъективным отношением воспринимающего.
Оценка, хотя и является стержнем рецензии, не обязательно образует какой-либо специальный раздел в тексте. Оценочно окрашены могут быть все рассуждения, причем в наибольшей степени именно моменты интерпретации. И, зачастую, не столько в характере привлекаемых аргументов, сколько именно в тональности изложения, создаваемой литературной стилистикой – лексикой, эпитетами и сравнениями, а также «темпоритмом» синтаксиса, – прежде всего кристаллизуется оценочный образ рецензии.
Для иллюстрации работы рецензента с разной направленностью оценочных выводов сравним две рецензии В. Каратыгина, опубликованные с недельным интервалом в январе 1913 г. в газете «Речь». По форме их сближает не только единое авторство, но и единый объект и даже «шапка»: «Шестой концерт Кусевицкого» и «Седьмой концерт Кусевицкого». В обоих концертах слушателю была представлена премьера нового сочинения, и перо маститого критика направлялось прежде всего на оценку музыкальной новинки. При этом, с позиции сегодняшнего знания, оба произведения – Седьмая симфония Малера и «Петрушка» Стравинского – нетленны. Однако тогда это было соприкосновение с неизведанным миром, и в восприятии и оценке критика явственно отражается его эталон прекрасного, его ценностные критерии и характер оценочной деятельности.
В первой из рецензий еще до того, как автор подойдет к новому сочинению, он раскрывает свою установку на творчество Малера, которая во многом определит и все последующее: «Рассматривая же его симфонии с чисто художественной точки зрения, трудно не заметить, что композиторское дарование Малера было совершенно второстепенным, в миллион раз уступавшим его огромному дирижерскому таланту…»3. Ключевыми с оценочной точки зрения словами несомненно являются миллион раз (убийственная гипербола!) и уничижительное определение второстепенным, усиленное словом совершенно.
Далее все сказанное, а также еще несколько отрицательных характеристик типа чувство скуки, досада, постепенно подводит к главному этапу рецензии, в котором и аналитические элементы (характеристики мелодико-интонационных деталей, особенностей формы, стиля, жанра, музыкально-исторический контекст) и интерпретация (прежде всего эпитеты и другие образные параллели) жестко оценочно окрашены:
…сама по себе музыка Седьмой симфонии оставляет все же крайне неопределенное впечатление. Пресловутый «демократизм» Малера большей частью сводится к простой мелодической вульгарности и банальности. Формальные очертания частей рыхлы и сбивчивы. Много длиннот. Много дешевки. Много музыкальных грубостей. И очень мало самостоятельности. Здесь народный мотив, там слышатся отзвуки Брамса, Вагнера, Брукнера или вагнеризованных «Песен об умерших детях» самого Малера. Сравнительно более удачная и гармонически интересная часть – средняя, скерцообразное «Schattenhaft». В целом произведение весьма безотрадное, отдельные красивые страницы которого не могут искупить общей нескладности и бледности симфонии4.
Во второй рецензии, напротив, автор явно изначально увлечен музыкой. Хотя на уровне аналитическом он констатирует формальные дефекты, как бы страхуясь от возражений противников, вся интерпретация несет на себе печать восхищения, постепенно подтверждаемого богатой системой доказательств. Оттого весь приводимый ниже основной блок анализа – интерпретации – оценки сочинения строится автором от противного, создавая сильнейшее нарастание с оценочной кульминацией в завершении:
Со школьной точки зрения, изругать эту вещь последними словами – задача до того легкая, что едва ли способна показаться соблазнительной даже самым ярым врагам подобной музыки. Резкие, визгливые переченья здесь на каждом шагу. Всевозможные параллелизмы чуть что не возведены в принцип. Трезвучия Fis и С звучат одновременно в арпеджированной фигурации.
Не музыка, а какая-то сплошная колючая изгородь из музыкальных дерзостей и беззаконий, которая у многих может отбить охоту проникнуть за ограду, в нутро авторской души. Но если у вас даже найдется охота доказывать, что «Петрушка» – сплошная «безграмотность», то у вас, после сказанного выше, просто нет права доказывать, что музыка плоха, потому что «безграмотна». Точно так же и у меня нет ни охоты, ни права убеждать кого-нибудь, что вещь эта хороша именно тем, что в ней такое изобилие нарушений всех «законов» и основ музыкальной теории. Непосредственное чувство – единственный критерий, когда имеешь дело с произведениями столь радикальными. Если у вас ответным чувством по адресу Стравинского является отвращение – не буду спорить. Его так же нельзя логически и теоретически мотивировать, как то противоположное чувство, которое тот же «Петрушка» возбудил во мне и о котором можно только рассказать, – живейшей художественной радости. Радость эта оттого, что прежде всего в «Петрушке» чувствуется наличность огромного и необычайно яркого таланта, до того покоряющего, что силы его не могут не признать самые ожесточенные из врагов Стравинского. Музыка «Петрушки» все время кипит, сверкает, пенится, играет самыми восхитительными переливами оркестровых красок, в изощренном чутье которых легко угадывается достойный ученик незабвенного Римского-Корсакова. Слушаешь сцену за сценой… и приходишь к неожиданному выводу: совсем она не анархична, эта музыка. Тысячи нитей протягиваются от нее к творчеству Римского-Корсакова, Бородина (в «Петрушке» есть даже фигурация совсем как в сцене гудошников в «Игоре»), в особенности же Мусоргского и новых французов. Конечно, это не Корсаков, и не Мусоргский (может быть, Римский-Корсаков, будь он сейчас жив, даже не одобрил бы многих «крайностей» Стравинского), и не Дебюсси. Но из этих именно истоков плюс богатейшее личное дарование возникло очаровательное, такое свежее, своеобразное и жизненное искусство Стравинского»5 (курс. авт. – Т.К.)
В своей рецензии В. Каратыгин не просто пребывает в восхищении на уровне непосредственного чувства. «Радикализм» музыки требует аналогичных подходов и от критика, тем более что он сильнейшим образом ощущает возможное неприятие консервативного слушателя. С одной стороны, автор мобилизует эрудицию, справедливо стремясь осмыслить новое произведение в контексте исканий Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Дебюсси… С другой – он творит параллельный образный мир воспринятой им «живейшей художественной радости». Здесь логика бессильна и даже не нужна, здесь нужно чародейство, способное заразить и увлечь читателя (музыка «Петрушки» все время кипит, сверкает, пенится, играет самыми восхитительными переливами оркестровых красок…). И с этих двух позиций критик разворачивает свою рецензию как бой с обреченным на поражение противником.
5.2. Музыкальное произведение (сочинение музыки) как объект рецензирования
Для музыкально-критических подходов музыкальное произведение и музыка в сегодняшнем понимании – синонимы: первое является единичным проявлением второго. Оценка отдельного сочинения как бы вбирает в себя весь исторический художественный опыт, мастерство восприятия музыки, философское понимание искусства, его места в культуре и мире. Именно на основе музыкального произведения прежде всего строится и музыкально-теоретическая наука, и теория музыкальной критики. Многочисленные примеры критических рассуждений, уже приведенные в книге, охватывают разные стороны взаимодействия музыкально-критической мысли с живой музыкой. Они позволяют проецировать все ранее изложенное на этот важнейший творческий объект. Остается лишь дополнить сказанное.
В иерархии творческих объектов музыкально-критической журналистики вновь создаваемая музыка занимает, бесспорно, первое место. Именно через оценку результатов сочинения музыки, композиторского творчества в его исторической эволюции и многообразии, шлифовались и шлифуются критерии, направленные на музыкальное искусство в целом. Соприкасаясь с нарождающимися звуковыми мирами, оценочная мысль пульсирует непрерывно.
Однако в постоянной оценке прежде всего нуждается новая музыка. Предполагается, что известная слушателю музыка уже имеет свой «оценочный шлейф», который передается «из поколения в поколение», тиражируется в учебном процессе и выступает некой ценностной константой, особенно если речь идет об общепризнанных шедеврах. Хотя такой подход не точен, практика показывает, что процесс художественной оценки и переоценки ценностей идет непрерывно. Тем не менее, в общественном сознании ранее созданное (например, неожиданно найденные рукописи великих композиторов или их малоизвестных современников) значимо априори. Оценочная работа в таком случае как бы обращена к деталям, она занимается уточнением ценности вновь обретенного. Другое дело – собственно новая музыка.
Новая музыка и современные композиторские техники
Что же есть «новая музыка»? Этот сакраментальный вопрос волновал и продолжает волновать многих исследователей.
Новая по времени создания – только что написанная или написанная недавно: год – пять – пятьдесят лет назад… Сколько?
Новая для меня или даже для всех, потому что не звучала (по разным причинам), ее не слышали, и оценочная ситуация не возникла?
Новая по языку, музыкальному материалу, технике, идеям, подобных которым еще не было?
Первые два вопроса не создают для музыкальной критики больших сложностей. Само по себе время написания (вчера или несколько десятилетий тому назад) не может непременно требовать от критика особых поисков – не оно определяет специфику и уровень «новизны». К примеру, в одни и те же годы были написаны симфоническая поэма «Остров мертвых» С. Рахманинова (1909) и «Вопрос, оставшийся без ответа» Ч. Айвза (1906), или кантаты «Курские песни» Г. Свиридова (1964) и «Солнце инков» Э. Денисова (1964), нуждавшиеся в принципиально разных оценочных подходах. Не говоря о музыке, намеренно опирающейся на традиционные, то есть апробированные принципы в организации музыкальной материи, или эклектичные сочинения. А оценка музыки «новой для меня» может быть связана с поиском индивидуального оценочного решения скорее в процессе обучения, чем публичного выхода в свет. Единственной и главной проблемой оценочной работы над новой музыкой следует считать оценку явлений, новых именно по языку, по временной и пространственной организации музыкальной материи, по внутриму-зыкальным и внемузыкальным идеям, их породившим. То есть концептуально новым.
Именно соприкосновение с неожиданно новым требует особых усилий оценочного порядка. Ведь «новые тексты», как трактует структурная поэтика, – «это тексты „незакономерные“ и, с точки зрения существующих правил, „неправильные“. В общей культурной перспективе, однако, они предстают как полезные и необходимые» (Ю. Лотман) 6. Критик в идеале должен это последнее если не доказать, то хотя бы ощутить, а если нет – это сделают следующие поколения, констатировав, что автор музыки «опередил свое время». И каждый раз должен искать свои подходы, о чем уже шла речь в настоящей книге при разговоре о восприятии музыкальных новаций (см. раздел 4.2).
Как подступиться к новому явлению? Оценочная работа в искусстве базируется на сравнении – с существующим или «смоделированным» идеалом, и главная проблема художественного критика – что в каждом отдельном случае следует предложить в качестве контекста для сравнения? В поисках решения профессиональная оценочная мысль сначала, естественно, ищет опору в музыкальных произведениях настоящего и прошлого, в известных принципах организации музыкального материала, в стилистических, жанровых, композиционных, структурно-технических моделях, освоенных в процессе музыкального образования, включая новейшие направления и тенденции. С этой позиции обе интерпретации – и исполнительская, и слушательская (критик) – могут предложить ключ к пониманию, основываясь именно на сравнении с ценностно апробированным явлением. Однако всегда ли существует в современной новой музыке такая убедительная ценностная модель для сравнения? Отнюдь. Как заметил в интервью прославленный исполнитель Ю. Башмет, «новые произведения играть легче, чем классические… …. взятки гладки! Никто не знает, что должно было бы быть, если это сделать по-другому. То есть нет сравнения…»7 (курс. авт. – Т.К.).
XX век выдвинул на авансцену технические аспекты музыкального сочинительства. Искусство в век науки, повторяя название книги отечественного философа А. Гулыги, пробудило и у создателей новой музыки неистовое «любопытство» ко всем измерениям музыкальной материи. Техника во многом стала и средством и целью, смыслом творчества, определяя новые, порой полярно различные направления. Абсолютная заорганизованность (от додекафонии к сериализму) и абсолютная свобода (алеаторика, «интуитивная музыка» К. Штокхаузена); строгие рамки неоклассицизма и концептуальные стилистические смешения вплоть до кича в полистилистике; сложноорганизованный тематический материал и нарочитая примитивность минимализма; электронная музыка, существующая только в звуковой форме (без нот) и графические партитуры, смысловое наполнение которых слух охватить не в состоянии, поскольку это музыка больше для глаз и ума; грандиозные звуковые массивы сонорных сочинений и «4,33» Кейджа… Подобные оппозиции пронизывают все измерения музыкальной звуковременной материи.
Профессиональная оценочная деятельность, направленная на новую музыку, после всего созданного и пережитого в искусстве XX столетия предполагает не только владение техническими сторонами новейшей музыки, не только знание отдельных музыкальных явлений и направлений, послуживших толчком разнообразных новаций, но и умение охватить все это как целое, осмыслить важнейшие тенденции и только затем формировать свою оригинальную оценочную концепцию.
Среди разнообразных источников обучения можно рекомендовать одну из новых работ – книгу (учебное пособие) А.С. Соколова «Введение в музыкальную композицию XX века», главная цель которой, исходя из авторского предисловия, «подготовка читателя к самостоятельной системной оценке всего многоцветья музыкального наследия XX в. Это не просто сумма сведений, хотя информативная функция пособия, безусловно, важна. Это прежде всего выработка определенных оценочных критериев, позволяющих за частью не терять из виду целого, следствие уметь увязывать с причиной»8. Систематизированный в данном учебном пособии материал дает хорошую основу для музыкально-критических подходов к «неизведанным» музыкальным материкам.
Контекстом для сравнительных оценочных операций в музыкально-критической работе, обращенной к новым произведениям, может быть музыка сходных технико-стилистических направлений (к примеру, оценка минималистского сочинения в контексте исканий музыкального минимализма в целом) или творчество данного автора (с констатацией его эволюции или, напротив, приверженности уже найденным приемам и идеям). Однако в XX в. авторы новой музыки, идя непроторенным путем, нередко сами разрабатывают и обосновывают технические принципы, на которых они намерены базироваться. Авторская «вербальная версия» также может стать опорой последующей оценочной работы критика (сравнение: что задумал и что получилось), хотя следовало бы иметь в виду существенное размышление А. Шнитке: «Для сути техники важно не то, как реализованы намерения композитора, но прежде всего каковы они, что является первоначальной единицей мышления – краска или линия, тембр или нота»9 (курс. авт. – Т.К.).
Авторский комментарий к сочинению, вербализация технического замысла или концепции еще до создания музыкального текста – одна из специфических черт музыки XX в. Стремясь к оригинальной структуре сочинения, разрабатывая и излагая ее до создания собственно звуковой версии «придуманного», композиторы при этом оказываются одновременно и практиками, и теоретиками: и авторами музыки, и авторами ее теоретического обоснования, что удобно для рецензента, но чревато для творчества. Большие мастера ощущают эту опасность – такие несовместимые современники, как И. Стравинский и А. Шёнберг, каждый по-своему, выразили сходную мысль:
И. Стравинский, «…композиторы и художники не мыслят понятиями… Работа композитора – это процесс восприятия, а не осмысления. Он схватывает, отбирает, комбинирует, но до конца не отдает себе отчета в том, когда именно смыслы различного рода и значения возникают в его сочинении»10.
А. Шёнберг: «Я всегда больше композитор, нежели теоретик. Когда я сочиняю, я отбрасываю все теории и продолжаю работу лишь в том случае, если освободился от их влияний»11.
Казалось бы, техническая доминанта в новейших явлениях музыки XX в. должна была в оценке новой музыки вывести на первый план языковый параметр. Но это верно лишь для профессионально заинтересованного слушателя, для которого приоритетна ценность в познании и зачастую эксперимент важнее результата. На деле содержательные – эстетико-философские – аспекты как одна из объективных ценностей музыкального искусства сохраняют свое значение, нередко именно они определяют сами технические поиски автора. К примеру, так выглядит авторский комментарий композитора В. Тарнопольского, обращенный к своему сочинению для камерного ансамбля «Маятник Фуко» (2004 г., премьера в Амстердаме в «Концертгебау»):
Маятник является для меня символом бинарных оппозиций мироздания, и эта идея лежит в основе сочинения. Я пытался построить свою пьесу на основе сопоставления двух различных типов музыки: музыки-дыхания и музыки-механизма и, соответственно, двух типов времени – континуального, волнообразного (I раздел) и равномерно механического (II раздел). Дыхание персонифицирует здесь «человеческое», механистическое же связано с идеей очуждения. Для меня было особенно интересно исследовать звуковые процессы зарождения и становления каждого типа музыки, а также проследить перетекание одного в другое12.
Захватывающая музыкальная стихия этого сочинения подчиняет себе слушателя на уровне чувственно-эмоционального восприятия. И не авторские «декларации о намерениях», как и не ответ на вопрос «как это сделано?», но сама энергия музыкального развертывания способствует такому восприятию. Хотя в данном случае соответствие замысла и результата лучше всего свидетельствует об успехе. То есть определяющим в оценке нового музыкального явления следует все же считать уже упоминавшееся базовое положение И. Стравинского о «качестве вызываемых ощущений» как главном оценочном критерии.
5.3. Музыкальное исполнительство как объект рецензирования
Музицирование – исполнение музыки – наиболее привлекательное, понятное и доступное проявление музыкального искусства. Круг «творцов» в этом виде творчества максимально широк. Он включает в себя инструменталистов и вокалистов, солистов и ансамблистов, оркестрантов, хоровиков, а также дирижеров и музыкальных руководителей всех мастей – то есть тех, кто, музицируя, творит искусство. Исторически с той поры, когда автор музыки и ее исполнитель разделились, и родилось музыкальное исполнительство как самостоятельная творческая деятельность.
Однако художественная ценность исполнительского творчества, несмотря на очевидность, не всегда и не всеми воспринимается именно в таком качестве. Стравинский, к примеру, отрицая интерпретацию, по существу отказывает исполнительству в самостоятельном художественном значении, он требует от музыканта-исполнителя лишь неукоснительного воспроизведения детально разработанного авторского текста. Но музицирующая личность при всем желании и уважении к первоисточнику не может абсолютно раствориться в чужом материале, будучи низведенной до «механического пианино». Она всегда слышна.
Музыкальная культура XX в., словно решая эту конфликтную ситуацию к обоюдному удовлетворению, предложила другое. На одном полюсе, устремленном к однозначной фиксации авторского замысла, на авансцену вышла высококлассная звукозапись, способная тиражировать единичный, эталонный – авторский или авторизованный – вариант, правда, снова достигаемый с помощью «посторонней силы», а именно звукорежиссуры. Процесс довершило компьютерное творчество, где уже все этапы – и сочинение, и исполнение – сосредоточены в руках самого автора музыки, что полностью освобождает его от произвола (или нежелательного сотворчества) музыкантов-исполнителей, а также помощи звукорежиссера и инженера. На другом полюсе остается исполнительское искусство во всем безграничном богатстве художественных возможностей, в том числе и различий в отношении к исходному музыкальному тексту. То есть исполнительское творчество – это и особая творческая деятельность, и самостоятельный объект ценностного отношения.
Исполнительские подходы к музыкальному тексту. Интерпретация
В самом слове «исполнительство» уже заключен парадокс. Казалось бы, оно изначально предполагает вторичность – исполнение чьей-то художественной воли, запечатленной в тексте, а не создание самостоятельной художественной ценности. Тем не менее, музыкальная практика корректирует несовершенство понятия «исполнительство», выводя на первый план другое – «интерпретация».
Interpretatio по латыни означает «истолкование», «разъяснение». Исполнительская интерпретация – это именно личностное прочтение музыкального текста композитора. Интерпретируя, музыкант воплощает авторский замысел в соответствии со своим собственным пониманием этого замысла, со своей собственной художественной концепцией той музыки, которой он дает звуковое воплощение. Музыкальный критик-слушатель прежде всего воспринимает и оценивает интерпретацию как важнейшее проявление исполнительского творчества.
История исполнительского искусства – возникновение, развитие или исчезновение различных исполнительских стилей, направлений, школ, манер – по сути есть история интерпретаций. Она фиксировалась в редакциях издаваемых произведений, в преемственности традиций учениками определенной школы (или нарочитом их нарушении), в возникновении новых направлений. Музыкальный критик, рецензируя конкретное исполнение, должен разбираться в истории и теории данного вопроса, ясно представляя, что в том или ином случае необходимо избрать в качестве контекста для сравнения.
Художник-исполнитель – дитя своего времени. Как любой человек искусства, он нередко острее других ощущает его веяния и пульс, но он же, со своей стороны, формирует облик этого времени. Эволюция исполнительских стилей – это не только плод эволюции культуры, воздействия новых нарождающихся музыкальных миров, но и результат индивидуального исполнительского творчества неповторимых личностей, творческие пути которых могут расходиться очень далеко.
Систематизируя существующие современные тенденции в исполнительском творчестве, можно условно выделить три глобальных самостоятельных направления – актуализация, аутентизм и авангард. Их отличия определяют две составляющие: интерпретируемый музыкальный материал и «инструментарий» в широком смысле слова, под которым подразумевается не только непрерывное качественное и количественное обновление инструментов, но и характер музицирования. В первом случае перед нами старая (вечная) музыка и новый (современный) «инструментарий». Во втором – старая музыка и соответствующий ей старый (аутентичный) «инструментарий». В третьем – новая (авангардная) музыка и новый (авангардный) «инструментарий».
Актуализация. При разговоре об «актуализации» применительно к исполнительскому творчеству речь идет об интерпретациях, опирающихся на современное мироощущение и весь спектр технических возможностей инструментов, которые предлагает наша действительность. В идеале в руках серьезного и глубокого исполнителя, владеющего всеми богатствами современной исполнительской техники, музыкальный текст «осовременивается», благодаря способности художника выявить в исполняемой музыке те ее стороны, которые особенно захватывают и находят отклик у современного слушателя. В этой неисчерпаемости открываемых новых и новых смыслов и кроется бессмертие великой музыки, ее актуальность на все времена. То есть «актуализация» классики – естественная потребность стремительно развивающейся культуры. В исполнительском искусстве она влечет к поиску новых индивидуальных подходов, свежих трактовок, адекватных своему времени. Хотя она же может легко превратиться в штамп, когда естественное обновление сменяется механическим тиражированием ранее найденных приемов и красок.
«Осовременивание» классического материала применительно к новому мироощущению и восприятию может идти разными путями. Во-первых, расширением звуковой, тембровой палитры. Это не только исполнение старинной или ранее написанной музыки на современных инструментах (к примеру, «Хорошо темперированный клавир» – ХТК Баха на современном концертном рояле), с блестящим и сочным вибрато струнных и т. п., но и всевозможные переложения (к примеру, камерные ансамбли классиков в облике камерных симфоний в оркестровом исполнении) и даже аранжировки. Во-вторых, «обострением» временного параметра музыки, как бы отвечающего другой энергетике, другому течению времени, путем более свободного отношения к темпам, углублению темповых контрастов внутри сочинения, усилению роли ритма. Как крайнее и в некотором роде уникальное проявление обеих тенденций можно рассматривать появление на музыкальном небосклоне 70-х годов прошлого века высокопрофессиональной французской группы «Swingle singers», исполнявшей прелюдии и фуги ХТК Баха вокалом с добавлением джазовых ударных. У кого-то все это может вызывать несогласие, даже протест. Но тенденция налицо.
В музыкальном искусстве, по своей природе более консервативном и чувствительном к резкому обращению, «осовременивание» классики, зачастую весьма успешное в театральной и кинематографической практике, встречают с куда меньшим энтузиазмом и пониманием. Здесь, естественно, возникает ряд серьезных вопросов. Где граница свободы творчества музыканта-исполнителя, есть ли она и должна ли быть? Может ли исполнитель в своей интерпретации чужого текста пойти по пути собственного самовыражения «по мотивам»? Что является мерилом успеха – непосредственное художественное впечатление или удовлетворение определенных ожиданий слушателя? Все эти вопросы равно важны и для исполнителя, и для критика, причем позицию и ценностные критерии каждый определяет для себя сам.
Когда В. Горовиц играет сонату Моцарта, как Шопена, романтично, с тонкой нюансировкой звука и подвижностью темпов, или когда Л. Бернстайн в финале Пятой симфонии Шостаковича почти вдвое ускоряет темп, захватывая слушателя мощной атакой, логично завершающей грандиозное музыкальное полотно, такие прочтения дополняют наше понимание прозвучавшей, казалось бы, абсолютно знакомой музыки новыми представлениями. Кто-то, увлеченный, принимает такую интерпретацию как еще одну, новую страницу на пути прочтений великих произведений. Кто-то ощущает в ней нарушение исходного замысла – правде художественной противопоставляется историческая правда. Однако важно понимать, что одно не исключает другое. Поэтому историзм мышления в современной культуре выдвинул на авансцену новое исполнительское направление – аутентичное, требующее иных исполнительских и оценочных подходов.
Аутентичное исполнение (историческая исполнительская традиция). Как особое направление аутентичное исполнение начало развиваться во второй половине ушедшего века. А. Любимов, говоря об аутентичном исполнении барочной музыки, вспоминает: «…в середине 70-х годов, когда мы вместе с Татьяной и Анатолием Гринденко, Олегом Худяковым познакомились с первыми записями на исторических инструментах, […] мы поняли, что неправильно исполняем эту музыку, что это направление – совершенно новый путь, что нужно отказаться от академического воспитания, которое в нас вкладывали наши учителя». А далее он же уточняет:
«В аутентичных исполнениях отсутствует экспрессивность и тот стандартный уровень абсолютной звуковысотной чистоты, к которым привыкли современные музыканты. Меня же как раз привлекают те живость, прозрачность, неровность, которые иные считают „вегетарианством“»13.
Разумеется, речь не идет о каком-то ограничении исполнительской свободы или музыкальном «музее». Напротив, цель аутентичного исполнения – сверхтворческая, требующая не только синтеза знаний и воображения, но, зачастую, определенной революционной смелости в ломке сложившихся стереотипов. Моделируя предполагаемый характер музицирования, адекватный времени и месту создания, назначению сочинения, исполнитель вводит слушателя в как бы реконструируемый им духовный мир. Сверхзадачей аутентичного исполнительства становится освобождение от «наросших» штампов и стереотипов, возвращение к изначальной природе преподносимой музыки. В наш интеллектуальный век многих – и музыкантов-исполнителей, и просвещенных любителей-слушателей – интересуют вопросы художественно-исторической достоверности: на каких инструментах исполнялось то или иное произведение, сколько музыкантов должно было участвовать, как звучало, какие технические приемы были использованы? Без знаний об эпохе, инструментах, музыкальной практике достоверность невозможна. И сегодня все это познаваемо: есть старинные трактаты, старинные инструменты, можно освоить школу исторического звукоизвлечения, исполнительских приемов. В частности, в Московской консерватории открыт специальный факультет исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ), возглавляемый А. Любимовым. Доступно обучение за рубежом.
Реконструкция музыкально-исполнительской традиции начинается не только со старинных инструментов, но и с внимательного чтения нот. Барочный исполнитель, к примеру, должен уметь читать не только ноты, но и то, что записано между ними – уметь импровизировать в заданных рамках (в нотах не выписаны украшения, и клавесинная музыка, например, оставляет огромное поле для фантазии исполнителя), владеть традицией исполнения ансамблевой литературы по basso continue Ему необходимо иметь представление об орнаментике, риторике, аффектах, числовой символике. Кроме того, в поисках органики некоторые исполнители пытаются реконструировать и «игровое пространство» – интерьеры, костюмы, манеру держаться. Аутентичное исполнение музыки, как любое искусство, – тоже игра, но по своим правилам. И в нее должна быть втянута и публика. Чуткий, понимающий слушатель, способный «перестроиться», – непременное условие успеха.
Хотя наибольшее распространение получило аутентичное исполнение музыки барокко, аутентизм как направление связан не только с этим стилем. Подобный подход может распространяться на любую музыкальную эпоху, которую исполнитель хочет представить во всей полноте, в какой-то мере и на новейшую. Музыкальный авангард, как и старинная музыка в «доаутентичное» время, – непознанный материк, требующий постоянных исполнительских открытий. Не случайно многие ведущие «аутентисты» вышли из пропагандистов современной музыки. Они продолжили свои поиски, просто обратившись в далекое прошлое.
Авангардное исполнительство. С точки зрения исполнительских подходов, музыкальный авангард ушедшего века, со своей стороны, вторгся в звуковую и временную субстанции музыки, предложив ряд принципиальных новаций. Авангардная музыка особенно внимательна к самому звуку, и с этой позиции в исполнительстве на первый план выдвинулись как новые способы звукоизвлечения на традиционных инструментах, так и обогащение звуковой палитры ранее незнакомыми экзотическими звучаниями, естественного (например, нетрадиционные, национальные инструменты) и искусственного (конкретная, электронная музыка) происхождения. Сонористика потребовала от исполнителей, а точнее от всех, кто определяет звучание (в том числе от звукорежиссеров), новых навыков художественного и технического порядка. Сказанное в равной мере относится и к авангардному исполнению вокалистов (и сольному, и хоровому), которые помимо собственно пения должны уметь инструментально музицировать голосом во всем спектре тембровых фантазий автора. То есть и в инструментальном, и в вокальном авангардном исполнительстве многократно возросли требования к отдельному звуку, его подаче, чистоте, тембровой окраске.
С позиции временного развертывания отказ от классического формообразования, размытые временные рамки вплоть до почти полной свободы (алеаторика) ставят перед исполнителями сложнейшую задачу координации – и между собой в ансамбле, и между этапами развертывания произведения во времени.
Авангардное исполнительство (как и аутентичное старинное) раскрепостило исполнителя. При публичном исполнении дополнительным выразительным средством стало освоение нового, пространственного измерения. Наиболее открыто и последовательно это проявилось в жанре так называемого инструментального театра, в котором художественное зрелище создается не специальными исполнителями – актерами, танцорами, – но самими музицирующими инструменталистами. С позиции чисто звуковой здесь открываются возможности новых акустических приемов: движение исполнителей влечет за собой движение источников звука, стереофонические, антифонные эффекты. С позиции обстановки исполнения инструментальный театр принадлежит концертной музыке, а понятие «театр» связано с атмосферой видимой игры, происходящей на глазах у слушателя одновременно с исполнением музыки. Когда же к театрализации музицирования добавляется некая внемузыкальная «сюжетная» концепция, рождается исполнительский перформанс.
Выразительные возможности аудиовизуальных представлений связаны с комплексным воздействием на слушателя (слушателя-зрителя). Одна из сторон мышления И. Стравинского, например, связана с огромной ролью зрелищного начала. Комплексное восприятие музыки (слухом-зрением) выражается у него в потребности видеть исполнение. «Я всегда терпеть не мог слушать музыку с закрытыми глазами, без активного участия зрения, – писал Стравинский в „Хронике“. – Зрительное восприятие жеста и всех движений тела, из которых возникает музыка, совершенно необходимо, чтобы охватить эту музыку во всей полноте»14. Чуткому слушателю состояние двойного воздействия, многократно увеличивающего художественное впечатление, прекрасно известно. А если композитор захочет сам обусловить поведение исполнителя на сцене, его жестикуляцию, движения, перемещения, может быть, одежду, а затем и освещение соответственно жанру и стилю музыки? Ввести все это в текст партитуры как «режиссерскую экспликацию» или предложить канву для возможной визуальной импровизации? Так возникает предпосылка инструментального театра и исполнительских перформансов.
Идея эта не нова и в то же время очень современна. Использование визуального эффекта в момент исполнения имеет место в джазе. Известно, что настоящих джазовых исполнителей надо не только слышать, но и видеть. В джазовом музицировании дух импровизации распространяется и на звуковой, и на зрительный ряд, исполнители пластичны, они «показывают музыку», реагируют друг на друга, подбадривают, сценически обыгрывают вступление партнера и т. п. Так реализуется игровая стихия, позволяя сломать атмосферу «тотальной серьезности», характерную для классического исполнительства и слушания. Как при любой импровизации, в музицирование привносится живость и непосредственность вплоть до юмористического, иронического и даже гротескного начала. От исполнителей требуются дополнительные качества: большая независимость, раскованность, артистизм, равно как и более разносторонняя контактность как внутри ансамбля, так и со слушателем.
Оценочные подходы к исполнительскому творчеству
Как видно, рецензирование исполнительского творчества во всем его современном многообразии, возможных смешениях и пересечениях направлений, в новых открытиях или тиражировании найденного требует от музыкального критика серьезной оснащенности и непременного сотворчества. Постижение и оценка исполнительских достижений предполагает комплексную работу, направленную на одновременное восприятие разных художественных миров в их сложных связях и взаимодействии.
1. Мир исполняемой музыки. На этом уровне непременно пульсирует оценочное отношение, давно сложившееся, если звучит известная музыка, или формируемое «на ходу». Оценочное отношение рождается путем погружения звучащей музыки в музыкально-исторический контекст, включающий и творчество данного композитора, и культуру эпохи возникновения сочинения, и историю развития предлагаемых вниманию стиля и жанра. Мир исполняемой музыки, взаимодействуя с личностью слушателя, намечает в его воображении мерцающий эталон ее возможных прочтений, исполнительских интерпретаций, что становится базой для ценностного восприятия другого мира.
2. Мир исполнения данной музыки, исполнительская интерпретация, которая является главной составляющей оцениваемого художественного события. Уровень уникальности предлагаемого исполнения осознается благодаря погружению его в контекст известных прочтений этого произведения, истории исполнительских стилей, направлений, манер, школ, равно как и сравнения с мысленным эталоном идеальной интерпретации данной музыки, моделируемым в воображении слушателя, исходя из собственных ценностных представлений.
Однако в исполнительстве есть особая сфера – прочтение новой музыки, интерпретация «новых смыслов». Музыкант-исполнитель в этом случае является первопроходцем, он не обременен исполнительским каноном, с которым надо взаимодействовать – соблюдать или противостоять. Его творческий процесс наиболее приближен к сочинению, взаимодействие двух художественных личностей (композитора и исполнителя) для слушателя практически неразличимо. Не случайно подобные премьеры очень часто готовятся исполнителем в тесном контакте с автором, а последний нередко корректирует детали в соответствии с индивидуальностью исполнителя, результат же следует считать авторизованным исполнением.
В интервью, посвященном первому прочтению новой музыки, Ю. Башмет очень точно определил это творческое состояние музыканта, дающего жизнь новому произведению:
Вообще принцип вхождения в новое произведение – это попытка представить себе, примитивным языком, как будто я сам его сочинил. Когда я чувствую, что каждая нота и каждая фраза получают свое, оправданное уже мной значение, тогда я понимаю, что я готов15.
3. Мир технического мастерства исполнителя являет собой самостоятельное измерение, которое исторически привлекает к себе повышенное внимание слушателя. Причины этому разные. С одной стороны, композиторский поиск новых звуковых идей «подогревает» постоянное развитие инструментария, процесс расширения его технических возможностей, в который включены не только сами музыканты, но и мастера, создающие инструменты. С другой стороны, прогрессирует и сама исполнительская техника, зачастую уже ученики музыкальных школ выступают как поразительные виртуозы (хотя подобное усложнение образования в сторону наращивания технических достижений чревато опасными последствиями: если техника обгоняет духовное развитие личности, искусство обязательно окажется в проигрыше). В равной мере сказанное относится и к аутентичному исполнению – музицирование на старинных инструментах или, что еще сложнее, на современных с историческим звукоизвлечением сообразно музыке, равно как и пение, требуют от исполнителя особых навыков, школы, получаемой в рамках специального образования, то есть особого технического мастерства, которое также может являться предметом оценки.
Виртуозное владение инструментом (голосом, оркестром и т. п.) как знак совершенства само по себе тоже способно нести художественное наслаждение. Обладая самоценной значимостью, оно, одновременно, в чем-то смыкается с одной из самых развитых сфер мировой массовой культуры XX, а теперь и XXI столетия – с большим спортом. Не случайно в современной музыкальной культуре столь важное место занимают разнообразные исполнительские конкурсы – без технического аспекта осмысление художественного результата уже невозможно. (Как и наоборот: в целом ряде видов большого спорта – художественной гимнастике, фигурном катании, спортивных танцах – оценку технического результата обязательно дополняет оценка уровня художественности.)
Подобные параллели не должны шокировать ревнителей высокого искусства, они имеют под собой исторические корни: у древних греков состязания инструменталистов также воспринимались как музыкальный спорт. Обстановка джазовых jam session, конкурсов импровизации также насыщена наслаждением как художественным, так и техническим мастерством. Оценочная работа музыкального критика требует непременных знаний о технических возможностях используемого инструмента (голоса, ансамбля, оркестра, хора и т. п.). Мысленное погружение оцениваемого исполнения в этот контекст позволяет точнее судить об уровне профессионального мастерства.
4. Атмосфера зала – одна из важнейших составляющих живой концертной практики. Этот «виртуальный» мир очень сильно воздействует на восприятие исполнительского творчества. Умение овладеть залом, магнетически подчинить себе, повести за собой слушателя – бесценный дар. Собственно ради этого чуда единения художника и слушателя в совместном погружении в музыку прежде всего совершается акт публичного исполнительского творчества. Характерно, что в мировой коллекции звукозаписей наряду со студийно выполненными образцами не менее (если не более!) ценятся записи, сделанные на концертах. В них живет это «четвертое» измерение, рожденное непосредственным контактом исполнителя и слушателя, которое непременно вносит свои коррективы в оцениваемый критикой художественный результат.
Как видим, исполнительское рецензирование также нуждается в профессиональном владении объектом, то есть в разносторонних знаниях в этой области музыкального творчества. Конечный же вывод определяется главным критерием, о котором говорил И. Стравинский применительно к сочинению, а именно: качеством вызываемых ощущений. Даже если автор этих слов интерпретацию не признает.
5.4. Музыкальная постановка как объект рецензирования
Музыкальная постановка – синтетический жанр. В ней музыка соединяется по законам художественного синтеза с другими художественными «потоками» (развитие сюжета, сценическое действие, игра артистов, изобразительное решение). С позиции музыки, наряду с реализацией творческой энергии композитора, музыкантов-исполнителей и артистов, в музыкальной постановке действует и еще одна – энергия постановщика (режиссера, хореографа), который в числе других многочисленных творческих действий визуально интерпретирует музыку.
Постановщики являются авторами конечного результата – произведения, которое воспринимает публика. Поэтому на афишах, наряду с автором музыки и сюжета (либретто, сценария), сегодня, как правило, присутствуют обозначения: дирижер-постановщик, режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик, художник-постановщик, что должно показать, кто участвовал в создании, то есть в постановке данного произведения. Из них ведущая роль принадлежит режиссеру (балетмейстеру) – тому, кто создает образ спектакля.
Возникает естественный вопрос: с каких позиций музыкальный критик-журналист должен подходить к синтетическому произведению с музыкой? Что должно стать доминирующим объектом внимания?
Работа музыкального критика в журналистском освещении музыкальной постановки носит комплексный характер. Хотя главным объектом являются именно спектакль, фильм, представление, шоу как художественная целостность, пересечение в таком произведении ряда художественных систем требует оценочного отношения и к целому, и к каждому в отдельности, и к характеру и принципам их взаимодействия. Фундаментом, на который опираются его умозаключения, являются музыковедческие, театроведческие, литературоведческие, искусствоведческие знания. Однако надо помнить, что «профессиональное владение объектом», о котором неоднократно шла речь, для музыкальной критики предполагает определенную музыкальную доминанту, «музыкантский» угол зрения в подходах. Играть легче «на своем поле».
Музыкальная постановка, как и сама музыка, – искусства, развивающиеся во времени, и у музыкально образованного критика есть огромное преимущество – профессиональный аналитический аппарат, помогающий исследовать процессуальные особенности произведения, логику развертывания, драматургию нарастаний и спадов. Именно музыкальный (музыкально-театральный) критик может скорее понять, обосновать и оценить уровень музыкальности музыкальной постановки. То есть главным предметом внимания должны быть не столько сюжетные или изобразительные детали, на описание которых легко скатиться, причем на любительском уровне, сколько значимость музыкальной составляющей и ее влияние на постановку в целом. Для этого сначала важно определить, какова возможная роль музыки в предлагаемом художественном синтезе16. Она может быть различной.
Музыка в синтезе искусств
Для музыки существуют три типа синтеза, вбирающие в себя все синтетические музыкальные жанры в их разнообразии, исторической эволюции и модификациях. Это музыка,
– взаимодействующая со словом,
– взаимодействующая со зрелищем,
– взаимодействующая со словом и зрелищем.
К первой группе относится вся вокальная музыка в ее историческом развитии (кроме вокализов), а также все другие формы взаимодействия звука и слова, например мелодекламация.
Вторая группа включает в себя разнообразные формы музыкальных «действ» без слов – от шествий и танцев под музыку (бытовых, ритуальных, театрально-сценических) до искусства балета, пантомимы, как и любых светоцветовых музыкальных представлений, включая интенсивно развивающиеся лазерные шоу (вспомним знаменитые музыкальные лазерные представления Жана Мишеля Жарра). К синтезу подобного рода в сущности относятся инструментальный театр и исполнительские перформансы, о которых уже шла речь. Сюда же можно отнести синтез музыки с изображением в немом кинематографе, а также звуковые экранные художественные произведения, в которых отсутствует словесный ряд. В их числе видовые фильмы, нередко на основе популярной классической музыки. Яркий пример: известный музыкальный документально-видовой фильм на основе «Времен года» Вивальди (Национальный оркестр Франции во главе с Лорином Маазелем, 1983 г.), где звучание каждой части проецируется на облик одного из великих городов мира: весна – Париж, лето – Нью-Йорк, осень – Венеция, зима – Москва.
В третьей группе с позиции музыки господствующее положение занимает опера. Подобный синтез охватывает также всевозможные сценические и экранные музыкальные представления: мюзиклы, оперетты, музыкально-драматические спектакли и фильмы, равно как и разнообразные словесно-музыкальные действа (например, фольклорные обряды, религиозные мистерии) или театрализованные вокально-симфонические формы (к примеру – сценические постановки «Кармины бурана» Орфа, «Жанны д'Арк» Онеггера, «Свадебки» Стравинского и т. п.). На этих же принципах сегодня базируется вся разношерстная музыкальная эстрада, в которой форма концерта полностью вытеснена музыкальным зрелищем – желанным для публики пестрым вокально-танцевальным шоу.
Старинное русское слово «зрелище», нередко воспринимаемое с отрицательным привкусом, на деле не несет в себе негатива и очень точно отражает суть визуальных художественных форм. В толковом словаре В. Даля понятие зрелища в его втором художественном значении трактуется как «театральное представление, театр», а сегодня под него безусловно попадают все аудиовизуальные художественные произведения, которые можно отнести к музыкальным постановкам. Именно в таком значении и употребляется словосочетание музыкальное зрелище в настоящей книге.
Синтез разного нуждается в организации целого. В первой группе интонируемое слово становится тоже звуковым искусством, здесь господствуют законы музыки, синтетическая форма организуется по ее законам и организующая функция целиком осуществляется композитором.
Напротив, соединение музыки с художественным зрелищем (искусством изобразительным), хотя и опирается на общую временную основу, приобретает дополнительное пространственное измерение и для организации целого требует приложения особой творческой энергии – режиссерской. В создании художественных произведений, относимых ко второй и третьей группам, обязательно присутствует постановочное творчество. (Даже если это такое сугубо музыкальное стилистическое явление, как инструментальный театр. В нем, как и в исполнительских перформансах, музицированию сопутствует зрелище, а значит, непременно присутствует постановочная идея. Хотя осуществляется она, как правило, не профессиональной режиссурой, а самими музицирующими – «лицедействующими» музыкантами.) В контексте «зрелищецентризма» искусства XX в., с одной стороны, и огромной роли музыки в мире глобальной звукозаписи, доступной каждому, – с другой, различные аудиовизуальные художественные формы стали лидирующими в культуре как массовой, так и элитарной.
Сочетание разных художественных языков позволяет отражать и воспринимать образное содержание произведения более многогранно, как бы с разных сторон, под разным углом зрения. Но значимость каждого из них в синтетическом целом может быть различной – от относительного равноправия до строгого подчинения одних другим, главенствующим. Это последнее и определяет основную, несмотря на синтез, принадлежность произведения к тому или иному виду искусства. Например, из сходных по типу синтеза оперы и театрального спектакля с музыкой первая прежде всего представляет музыкальное искусство, второй – театральное (причем с приматом либо литературно-драматического, либо зрелищно-игрового начала). Взаимоотношения художественных составляющих в синтезе подвижны и переменчивы в зависимости от стиля и жанра произведения, актуальных тенденций и индивидуальных устремлений постановщиков.
Функции музыки в синтетическом произведении условно можно разделить на равноправную, главенствующую и прикладную.
Самый яркий пример главенствующей роли музыки – классический музыкальный театр, оперный и балетный. Главенство музыки определено и приоритетом композиторского творчества (вспомним, как выглядит традиционная афиша оперно-балетного спектакля: П.И. Чайковский «Пиковая дама» или «Лебединое озеро», и только затем все остальные: автор либретто, постановщики, исполнители), и самим уровнем музыкального текста: опера – «высший пилотаж» композиторского искусства, история сохранила многие музыкальные шедевры в этом жанре, неудачные не ставятся и уж точно не остаются жить. Важнейший признак главенства музыки – подчиненность ей всех других компонентов: стиля визуального прочтения, направленности дирижерских и исполнительских поисков. Другой признак – возможность автономной внесценической жизни в концертной практике и звукозаписи. Не случайно, до сих пор существует принятое в кругу «посвященных» выражение: «был в театре, слушал оперу», что сегодня по большому счету не совсем точно.
Равноправная роль предполагает некий паритет всех составляющих. С одной стороны, расцвет постановочного искусства, режиссуры, о чем еще пойдет речь, способен углубить зрелищный компонент в музыкальном театре вплоть до «конгениального» уровня (можно вспомнить знаменитые постановки М. Фокина или современных балетмейстеров-режиссеров Р. Пети, М. Бежара, Д. Ноймайера, чьи работы тиражируются полностью – весь аудиовизуальный текст; также переносились со сцены на экран или на другие сценические площадки оперные постановки выдающихся режиссеров XX столетия – Ф. Дзефирелли, Л. Висконти, И. Бергмана, А. Тарковского, Б. Покровского). С другой стороны, как бы навстречу движется «омузыкаленный» драматический театр или кинематограф, когда произведение невозможно представить без созданной для него оригинальной музыки.
Прикладная функция музыки в синтезе предполагает, что музыка участвует в качестве подчиненного компонента, приложенного к чему-то господствующему – сюжету, драматургии, зрелищу (о чем уже шла речь в контексте разговора о прикладном музыковедении – см. раздел 1.2). У нее свои художественные задачи и возможности. Ее ценность заключена в органичном участии в художественном синтезе, обусловленном постановочным замыслом. Анализ и оценка художественного результата «прикладного» музыкального решения возможна только с позиции синтетического целого. Для музыкально-критической журналистики близким и интересным объектом для осмысления являются, естественно, произведения с более значимой (главенствующей или равноправной) ролью музыки в синтезе.
Вопрос главенства или равноправия составляющих в художественном синтезе касается как бы количественной стороны их отношений. Но есть и сторона качественная. Взаимодействие искусств не только в масштабах культуры в целом, но и внутри синтетических произведений обусловлено противоборством двух тенденций – притяжения и отталкивания. Тенденция «притяжения» чаще всего влечет к параллельному действию компонентов синтеза, при котором, условно говоря, средствами разных художественных языков развертываются одни и те же образные идеи, а при единовременности – в одной и той же драматургической последовательности. Выразительный диапазон параллельного действия может быть очень широк: от скромного музыкального сопровождения в немом кино до сложных симфонизированных хореографических концепций, где видимое-слышимое гармонично слито.
Напротив, тенденция «отталкивания» способствует усилению выразительной значимости каждого компонента. Этим, например, можно объяснить самостоятельную ценность (не непременную и даже не обязательную!) музыки к кинофильму, театральной постановке или изобразительного решения спектакля. Они воспринимаются как полнокровное художественное явление и в обособленном виде (музыка звучит с концертной эстрады или тиражируется в звукозаписи, декорации и костюмы выставляются на художественных выставках, экспонируются в альбомах и книгах). Данное свойство – знак художественной самоценности компонента. Оно способно усиливать и углублять художественный эффект, но в синтезе иногда это может оказаться и минусом, когда один из компонентов, ярко выделяясь, «тянет одеяло на себя», разрушая целостность замысла.
Благодаря тенденции «отталкивания» становятся возможными и иные качественные взаимоотношения компонентов синтеза – их комплементарное (дополняющее) действие вплоть до значительного контраста. При подобном «полифоническом» подходе художественное целое предстает сложным и многозначным. Средствами разных языков способны материализоваться сложные, философские антитезы типа: объективное – субъективное, текст – подтекст, сознание – подсознание, действительное – желаемое, реальное событие – воображение. Изначальная «стереофоничность», «многоканальность» синтетических форм усиливается: различие языков углубляется образной самостоятельностью компонентов синтеза.
Поскольку выразительные возможности разных искусств имеют свои границы, дополняющее действие для каждого из них чаще всего связано с опорой на более близкую образную сферу. Так, при соотношении видимого-слышимого традиционным будет музыкальное воплощение эмоциональной стороны происходящего (к примеру, при сдержанности, статичности внешнего рисунка, мимики – накал страстей в звучании). Но тем более остро могут воздействовать нетрадиционные приемы, например противоположный вариант, когда звучание передает объективное течение жизни (чаще всего через бытовые жанры музыки), а визуальный ряд при этом наполняется сложным психологическим содержанием (данным приемом блестяще пользуется кинематограф). Через неисчерпаемость возможностей синтетических художественных форм и синтетического мышления реализует себя искусство режиссуры.
Искусство режиссуры
Французское слово regisseur, принятое и в немецком и в русском языках при обозначении профессии постановщика спектакля, кинофильма, переводится как «управляющий». В английском языке данный род творческой деятельности обозначается словом director. Этимология названных слов подчеркивает руководящую роль как доминанту, определяющую специфику этой творческой профессии17.
Искусство режиссера рождено особой творческой энергией, способной из разрозненных художественных элементов (сюжетная драматургия, актерская игра, сценография, музыка, а шире – все, что подскажет его творческая фантазия) выстроить целостную концепцию. В отличие от других видов индивидуального творчества, режиссерское вершится на «чужой» материальной базе, причем не одной, а многих, каждая из которых существует в художественном мире и сама по себе. Главная функция режиссерского творчества, условно, – организационная: пользуясь «готовым» материалом, режиссер организует во времени и пространстве избранные им для синтеза художественные элементы, связывая воедино все грани возникающей сложной системы18. И в том, что он изберет и как соединит, и будет его индивидуальное творческое решение в построении главного – неповторимого образа спектакля, фильма, художественного зрелища.
Режиссерское творчество в современном понимании – явление XX столетия. Исследователи различают длительную историю «искусства режиссуры» и краткий период «профессии режиссера», «личности режиссера» в театре, расчленяют понятия «режиссуры» как творчества нового типа и древнего «постановочного искусства» и т. п. За всеми размышлениями по существу стоит единый вывод: всегда были силы, объединяющие элементы театрального действия в единое целое (эту функцию исполняли ведущие актеры, антрепренеры, в известной мере и сам драматургический литературный материал), но искусство режиссуры как специфический тип художественного мышления и творчества – явление, в полном своем блеске развернувшееся именно в ушедшем столетии.
XX век в искусстве не без основания назвали веком «великого синтеза». В тотальном взаимодействии различных художественных каналов, их смешении и взаимовлиянии можно, с одной стороны, усмотреть «отсвет» художественного синкретизма древности. Но с другой – куда сильнее ощутимы новые веяния: современный человек привык жить, в том числе и в искусстве, в плотном информационном потоке – как бы «стереофонически»: слушать, смотреть, думать одновременно. Режиссерское творчество, главная интеллектуальная цель которого – реализация определенной концепции (от праздничной игры до воплощения сложных, миросозерцательных идей), сделало профессию режиссера центральной для современной культуры. При таком понимании режиссерского искусства постановщик оказывается автором «в последней инстанции», а результатом его художественного творчества становится так называемый «режиссерский» театр (или кинематограф).
Режиссерский театр – тоже явление XX в. Он отмечен подъемом игрового начала, активным привлечением средств смежных искусств. В спектакле режиссерского театра все составляющие – материал в руках режиссера для воплощения замысла (в том числе и игра актеров: важно не индивидуальное мастерство, а ансамблевое, способность стать «винтиком» в машине, управляемой единой волей). Великие мастера режиссерского театра разрабатывают не только пространственно-пластическую и интонационно-звуковую стороны действия, но и собственно временную – темпоритм спектакля, по определению В. Мейерхольда. Выдающиеся режиссеры, подобно композитору, «сочиняют» свои произведения, разворачивающиеся во времени и пространстве.
В еще большей степени сказанное относится к кинематографу. Режиссерский приоритет здесь незыблем и безоговорочно признан, даже если интерпретируется классика. Но наиболее ярко всевластие режиссера проявилось в абсолютном режиссерском кино, где постановщик является автором всего замысла – концепции произведения, сюжета, задуманного и реализованного в специфической системе образов (не всегда поддающихся вербализации). Именно таковы многие работы, составляющие «золотой фонд» киноискусства XX в. – произведения С. Эйзенштейна, А. Довженко, М. Ромма, Ф. Феллини, М. Антониони, И. Бергмана, А. Тарковского и многих других.
Современное режиссерское искусство, с одной стороны, оказывает огромное влияние на разные области художественного творчества, в частности на сочинение музыки, с другой – влечет к себе разных мастеров. В режиссуру уходят или пробуют себя в ней артисты, кинооператоры, балетмейстеры, художники, дирижеры. Режиссеры драматического театра и кино стали ставить оперы, они могут участвовать в балетных постановках, хореографы – инсценировать оперные спектакли. Глобальность искусства режиссуры ломает узкую специализацию, здесь происходит непрерывная миграция идей. Этот процесс уже затронул и более консервативный музыкальный театр – один из важнейших объектов музыкально-критической журналистики.
Музыкальный театр: опера, балет, мюзикл
Вид театрального искусства, в котором музыке принадлежит главенствующая (или, как минимум, равноправная) роль, называется музыкальным театром. Сюда прежде всего относятся опера и балет, а также мюзиклы, оперетты и любые театральные постановки, в которых музыкальная составляющая доминирует. «Консервативность» музыкального театра кроется именно в его априорной музыкальной доминанте. Это театр, но ограниченный рамками музыки, ее образностью и темпоритмом, которые изначально заданы композитором.
Уже в словосочетании музыкальный театр мерцает «двойное подчинение» – музыкальным законам и законам театра. И в самом историческом развитии музыкально-театральных жанров ощущается скрытая борьба за первенство – кто важнее: театр или музыка? Надо помнить, что равно важны оба. Профессиональное музыкальное образование уделяет очень большое внимание опере и балету как жанрам музыки, музыканты досконально исследовали и продолжают изучать музыкальные тексты, в этих жанрах регулярно пишется новая музыка. Однако серьезная оценочная работа в области музыкального театра требует определенных театральных знаний и осведомленности «в текущих делах» сценических искусств.
Современный театральный процесс включает музыкальный театр в орбиту своих актуальных творческих направлений. Это видно, например, по структуре номинаций ежегодной главной театральной премии России «Золотая маска», отметившей в 2004 г. десятилетний юбилей. В ней на равных, наряду с драматическим театром, представлен театр музыкальный, причем к двум основным направлениям (опера и балет) в 1999 г. добавилась новая позиция – мюзикл/оперетта, а в 2001-м – современный танец, охватывающий новаторские направления балетного искусства. Совершенно очевидно, что вне исканий музыкального театра общая картина в театральном искусстве сегодня не будет полной.
В оперном театре на рубеже XX–XXI вв. наблюдается подлинный бум. Именно в театре, а не музыкальном жанре как таковом, поскольку на первое место выдвигается постановка. Лицо современного оперного театра представляют не столько вновь созданные сочинения, сколько поиск новых прочтений уже написанного и ставившегося. Появляются новые труппы и новые звезды, расширяются формы бытования: театральные постановки на традиционных и нетрадиционных сценических площадках, включая пленер; многочисленные видеозаписи спектаклей, фильмы-оперы. Идет постоянная популяризация оперного искусства по массовым телеканалам (и в России, и на Западе). Уже несколько десятилетий, как в оперную режиссуру потянулись корифеи режиссерского театра и кино, идет постоянный приток свежих творческих сил. Оперный театр сегодня исключительно интересен не только меломанам, но и театралам.
Балетный театр, переживший триумфальный взлет в культуре ушедшего столетия, до настоящего времени занимает положение очень высокого уровня значимости. А обращение к балету крупнейших композиторов XX в. сделало этот музыкальный жанр одним из важнейших наряду с симфонией и оперой. При этом балетный музыкальный театр имеет специфические черты, одна из которых – кажущаяся по сравнению с оперой большая роль собственно зрелищного начала. Корни такого ощущения кроются в укоренившейся традиции оперу «слушать», а балет «смотреть», поскольку в театре главный объект внимания – артисты, а в балетном театре артисты на сцене сами не музицируют. Приоритет зрелища, внимание к хореографической лексике, к различной балетной стилистике, к новым направлениям балетного театра и его «творцам» как бы изначально принижает роль музыки (подобное отношение – одна из главных болезней традиционной балетной критики, рассуждающей в основном о движении, о танце).
Однако именно балет имеет наиболее глубокую внутреннюю связь с музыкой19. Балетный спектакль более, чем любой другой, способен восприниматься как художественное зрелище, подчиненное законам музыкальной драматургии (у М. Бежара читаем: «балет как зримая музыка»). В нем заложены наибольшие возможности для комплексного воздействия самой музыки на зрителя-слушателя. Это родство дало возможность начать «вторую жизнь» в балетном театре многим сложнейшим музыкальным произведениям нетеатрального происхождения от барокко до современности. Отсюда же огромный жанровый диапазон современных балетных спектаклей: от хореосимфонии до хореодрамы. Причем современная хореодрама не знает никаких ограничений ни по привлечению «абсолютной» музыки любого уровня сложности, ни по охвату тем и сюжетов любого происхождения (литературного, исторического)20.
Панорама современного музыкального театра не будет полной вне жанра мюзикла («музыкальный» в переводе с английского). С одной стороны, он представляет развлекательную ветвь музыкального театра (наряду с «дряхлеющей» опереттой), опираясь на музыкальную и пластическую стилистику популярных массовых жанров, держа «руку на пульсе» и эволюционируя вместе с ними. С другой – это новый вид музыкального театра (включая экранные версии), занявший в XX в. прочные позиции. У мюзикла свои принципы организации звукового и сценического пространства: это динамичное, пластически организованное зрелище «как в балете», в котором действующие лица (и герои, и массовка) поют «как в опере». И, одновременно, это театр, способный воплотить любой драматический сюжет, включая серьезную литературу, классическую и современную (к примеру: «Пигмалион» Б. Шоу, «Оливер Твист» Ч. Диккенса, «Собор парижской богоматери» В. Гюго, «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Два капитана» В. Каверина и т. д., и т. п.). Артисты мюзикла – особые представители современного музыкально-театрального искусства, от которых требуется вокальное, танцевальное и драматическое мастерство одновременно. Эпоха современного мюзикла началась в прошлом веке, ответив «запросам времени». Это зрелищный и демократичный вид музыкального театра, открытый любым переменам и тесными узами связанный с массовой музыкальной культурой, о которой речь впереди (см. раздел 7).
Теоретики театра в XX в. сформулировали существование двух театральных типов. Один из них – театр переживания (перевоплощения, реалистический, натуралистический, прямых жизненных соответствий) – в наибольшей степени связан с литературной ветвью (реалистической прозой) культуры XIX–XX вв. Другой – театр представления (показа, условный, игровой) – идет из глубокой древности и существует в самых разнообразных формах, национальных и исторических (ритуальное действо, античная трагедия, народный балаган, комедия dell'arte, театры Востока, эпический театр Б. Брехта и т. п.). Расцвет режиссерского театра, которым отмечено прошлое столетие, связан с усилением роли зрелищно-игрового, условного театра в современном театральном процессе.
Музыкальный театр как театр – условен по определению, и правила игры в нем заложены изначально. В опере поют, что, в частности, отторгало от нее Льва Толстого, не желавшего принимать эти правила. В балете, напротив, нет слов, но есть особенное, надбытовое движение. «Танец есть сама Игра, более того, представляет собой одну из самых чистых и совершенных форм игры», – напишет И. Хейзинга в своей знаменитой книге «Ното ludens»21. В мюзикле поют и танцуют одновременно. А главное, в музыкальном театре есть четкая музыкальная «канва», которая предлагает сочинять спектакль по готовому образному и временному «рисунку».
То есть изобретательность и объединяющая сила режиссуры, от которой зависит образ спектакля, при абсолютном господстве музыки как бы рассредоточиваются. Один ее пласт живет на уровне партитуры – в музыкальной режиссуре композитора. Создавая музыкально-театральное произведение, автор уже в музыкальном тексте программирует будущий спектакль, его стиль, нерв, характеры персонажей, уровень напряженности развития, контрасты, кульминации и спады. Кроме того, все это может дополняться и многочисленными авторскими словесными ремарками, которые нельзя не учитывать.
Другой пласт образуется на уровне музыкально-исполнительском. Он находится в руках дирижера, объединяющего всех музицирующих. В опере исполнение певцов-актеров, хора – не просто музицирование, а жизнь в образе: интонация, мимика и пластика здесь неразрывны, они питаются из одного источника – из воплощенного в музыке характера персонажей. Именно дирижер как объединяющая сила каждый раз на глазах у публики проводит в жизнь замыслы композитора и постановщика. Музицируя, он со всеми участниками, в соответствии уже со своей концепцией, тоже творит свой образ спектакля.
Собственно режиссер-постановщик на музыкальной сцене формально владеет лишь зрительным рядом. Его прерогатива – мизансцены, работа с артистами над характерами действующих лиц, с художником над изобразительным решением (условным или приближенным к реалиям времени и места действия), костюмами, светом и т. п.
Положительный художественный результат в идеале достижим лишь при взаимодействии, взаимоувязанности всех трех «концепций» (композитора, дирижера, режиссера), когда музыкальный спектакль оказывается триединством (а не борьбой!) творческих энергий.
Однако в театре публика, даже внимательно слушая, прежде всего смотрит. С. Прокофьев, размышляя об опере, считал, что пришедший в театр «хочет не только слушать, но и смотреть происходящее на сцене… Оттого чрезвычайно опасны статические моменты на сцене, во время которых музыка может быть самой хорошей, а посетителю театра все же скучно, потому что глазам его не дается пищи»22. Для зрителя-слушателя это делает режиссерское решение особо важным. В результате, в свете «зрелещецентризма» культуры XX в. и интенсивного развития режиссерских идей на экране и сценических площадках, глобальная режиссура постепенно развернулась и к музыкальному театру, сначала балетному, затем и оперному.
Режиссерский музыкальный театр – понятие в некотором роде революционное, но соответствующее одной из тенденций в развитии современного театра. Режиссерская концепция постановщиков становится в нем главенствующей.
Когда лидер в театре музыкант, дирижер, он может взяться за режиссуру сам (это делали Г. Караян, Ю. Темирканов, С. Озава) или приглашать близких по духу режиссеров на конкретную постановку, способных осуществить его замысел – свежее сценическое проникновение в глубины музыкального первоисточника. Яркий пример – выдающиеся дирижерские оперные работы В. Гергиева в Мариинском театре Санкт-Петербурга, приглашающего на постановки оригинальных режиссеров со всего света и меняющего постановщика и постановку музыкально готового произведения, если они его не устроили (так были вновь поставлены две первые оперы вагнеровской тетралогии «Кольцо нибелунга»).
Когда лидер – режиссер, он, как правило, идет от своей концепции, которая может даже войти в противоречие с первоисточником, и нередко прибегает к кардинальным способам, чтобы этот замысел осуществить. Один из заметных примеров – Московский театр «Геликон-опера», созданный в начале 90-х годов молодым, тогда еще мало известным режиссером Д. Бертманом.
Показательно, что оба театра (несовместимые в своей «весовой категории») в течение нескольких лет, словно соревнуясь, лидировали по количеству наград «Золотой маски». 1997 г. – награжден «Игрок» С. Прокофьева в Мариинке и его дирижер В. Гергиев. 1998 г. и 1999 г. – награждены дирижер В. Гергиев за постановку «Парсифаля» и «Летучего голландца» Вагнера в Мариинке и режиссер Д. Бертман за «Кармен» Визе и «Сказки Гофмана» Оффенбаха в «Геликоне». Если в 2000 г. лучшими названы: спектакль «Семен Котко» С. Прокофьева в Мариинском театре и его постановщики В. Гергиев (дирижер) и Ю. Александров (режиссер), то в 2001 г. аналогичные три награды получает спектакль «Геликон-оперы» «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича, его дирижер (В. Понькин) и режиссер (Д. Бертман).
2002 г. снова принадлежит Мариинскому театру, но если В. Гергиев награжден за еще один вагнеровский шедевр в его интерпретации («Валькирия»), то в качестве лучшего спектакля и режиссуры выделены «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. Римского-Корсакова и его постановщик Д. Черняков. Вывод очевиден: режиссерская составляющая стала играть в современном оперном театре очень важную, самостоятельную роль.
Балетный музыкальный театр, в котором режиссура балетмейстера-постановщика привычно имеет авторитарный характер, давно легко вторгается в музыкальный замысел: сокращения (купюры), перестановки, введение другого материала – все это в порядке вещей. На этом поприще есть и потери, и большие музыкально-театральные удачи. Классический пример – выдающиеся постановки Ю. Григоровича 50-х годов «Каменный цветок» С. Прокофьева и «Спартак» А. Хачатуряна в Большом театре, которые, благодаря значительным изменениям в сценарии и перетасовке оригинальной музыки названных балетов, превратились в эталонные музыкально-театральные спектакли23. Позднее Ю. Григорович еще более радикально поступит с балетом «Золотой век» Д. Шостаковича, куда введет много другой – и сценической, и нетеатральной – музыки композитора.
В современном балетном театре хореографы-режиссеры не только сами разрабатывают сценарии постановок, но часто сами подбирают и компилируют музыку, целиком выстраивая свою оригинальную зрелищно-звуковую концепцию. Например, знаменитый Д. Ноймайер, создавая в Гамбурге балет «Чайка» (2002) по Чехову, обратился не к партитуре Р. Щедрина, а «сочинил» свой спектакль, используя музыку Чайковского, Скрябина, Шостаковича. Другой не менее знаменитый балетмейстер-режиссер Б. Эйфман недавно создал балетный спектакль «Анна Каренина» (2005) также не на основе одноименного балета Р. Щедрина, а на музыкальном материале ряда нетеатральных симфонических произведений Чайковского.
Господствующая роль оригинальной режиссерской концепции уже и в оперном театре позволяет некоторым авторам постановок не только традиционно разрабатывать «мобильную» часть спектакля (зрелищное решение в любом диапазоне условности), но и посягать на «стабильную» – сюжетно-музыкальный текст. Вторжение в музыкальную ткань производится тем же способом: купюры, перестановки. В сюжетно-смысловую – изменением времени и места действия, переосмыслением характера персонажей и т. п., причем при сохранении интонируемого словесного текста, что порой создает глубокий конфликт между сценической ситуацией и сочинением. Оперные постановщики раньше не посягали на «стабильную» часть первоисточника (максимум купюры). Для современной режиссуры нет табу, как и нет предела режиссерскому произволу.
«Осовременивание» оперных событий – радикальный режиссерский ход, весьма распространившийся в мировой практике. Возможно, это делает спектакль более актуальным, отвечающим веяниям времени, «злобе дня», выводит его из «музейно-нафталинового» состояния (как представляется многим), привлекает к элитарному жанру более широкую публику, причем не всегда художественными достоинствами, но и откровенным эпатажем. Любителям и знатокам музыки многое из таких исканий трудно принять, но не следует забывать, что театральные эксперименты не уничтожают музыку – партитуры живы, звучание шедевров бессмертно, а жизнь спектакля коротка. Придут другие, сделают иначе. Оперный театр продолжает развиваться (не умер, как периодически предрекают!), а значит, в нем идет брожение идей. При этом изменившийся сюжетный ряд может соединяться с полным и тщательным преподнесением музыкального ряда – того главного, что отличает оперный театр от всех других.
Интересным примером такого сложного соединения стал спектакль Новосибирского театра оперы и балета «Аида» Верди, получивший почти все награды российской «Золотой маски» в 2005 г. (лучший оперный спектакль, режиссер Д. Черняков, певица И. Макарова в роли Амнерис и специальный приз критики). В этой «революционной» постановке нет красот Древнего Египта и волнующей экзотики либретто А. Гисланцони. Конфликт между личностью и раздавившим ее государством перенесен в современность и реализован в пугающе знакомом облике тоталитарного строя. Музыка гениальной оперы Верди дает, видимо, основания для таких ассоциаций (ранее «Аида» в «Геликоне» тоже апеллировала к идеям тоталитаризма), а блестящая работа молодого дирижера Т. Курентзиса, хотя ему лично награду не принесла, стала музыкальным событием и имела большой резонанс.
Сюжетное «осовременивание» классических произведений – своего рода «экстрим» с огромным спектром художественных последствий. Оно приводит и к театральным открытиям, и к серьезным потерям, и к протестам любителей апробированных музыкальных ценностей, и к интенсивному обмену идеями. Оригинальное прочтение, убедительная режиссерская концепция, динамичный спектакль, «новый взгляд» в переносном и прямом смысле слова, успех у публики – критерии, которыми музыкально-театральный критик не может пренебречь. Но при всех прочих условиях музыке в музыкальном спектакле должно быть комфортно. Она должна восприниматься зрителем-слушателем во всей полноте, играть всеми красками. Должна царить. Музыкальный рецензент должен уметь это определить и оценить.
Музыкально-театральная рецензия
Как и сам объект оценки, музыкально-театральная рецензия имеет сложносоставную структуру. В зависимости от взгляда рецензента на новое сценическое произведение в самостоятельном осмыслении с большей или меньшей степенью углубления могут нуждаться следующие компоненты синтеза.
1. Сюжетная фабула (либретто, сценарий). С этим материалом на самом первом этапе рождения произведения – этапе сочинения музыки – работает композитор. Для понимания композиторского замысла важно знать, что лежит в основе: литературное произведение, подлинное историческое событие, специально придуманный сюжет. Идеи, заложенные в первоисточнике, время и место действия; сюжетные коллизии, характеры персонажей, конфликтные ситуации – все имеет значение для оценки последующих композиторских подходов. Важно также знать, какова историческая судьба этой фабулы в искусстве (литературе, музыке, изобразительном искусстве), есть ли в истории музыки и другие ее музыкальные прочтения. Это особенно существенно, когда в основе – литературный первоисточник высокой художественной значимости. Сценарий, либретто (либретто – литературно оформленный вид сценария) – прикладные компоненты синтеза в музыкальной постановке. Их достоинства важны не сами по себе, но как части музыкально-театрального целого. Оттолкнувшись от них можно оценить последующую работу композитора.
Для оперного произведения важны и литературные качества либретто, лежащего в основе интонируемого слова. Именно отсюда проистекает широко распространившаяся практика ставить спектакль на языке оригинала, чтобы не нарушать интонационную природу музыкального подлинника. Или, напротив, намеренно использовать перевод либретто на родной язык слушательской аудитории, если для постановщика важнее понимание публикой динамики развития сюжета.
В балетном произведении слово отсутствует, но есть сценарий, который может опираться как на детально разработанную сюжетную последовательность, так и быть афористичным, предельно обобщенным, бессюжетным. Очень часто балетный сценарий создает сам балетмейстер-постановщик, и он же «сочиняет» музыкальный ряд, позволяя воспринимать и оценивать смысл зримослышимого произведения в неразрывном единстве всех составляющих.
2. Музыка. Оценочный взгляд критика обращен на все стороны музыкального решения – стиль, жанровые особенности, композицию и драматургию, уровень и характер театральности музыки. Важным направлением в критических подходах является внимание к музыкальной интерпретации сюжета. Индивидуальный «ключ», при помощи которого композитор стремиться его открыть, музыкальное прочтение основных коллизий литературной первоосновы, трактовка заложенных в ней характеров и конфликтов – все это позволяет оценить первый этап «пересоздания»: принципы перевода композитором образов словесно изложенного сюжета на язык музыки.
Если речь идет о премьере нового музыкально-театрального сочинения, оценка музыки – важнейшая составная часть рецензии. Если ставится уже известное произведение, оценочное отношение к музыке «мерцает» в контексте оценочных подходов к ее интерпретации, сценической и музыкальной.
Когда же рецензируется балетный спектакль с привлеченной нетеатральной музыкой (быть может, разных авторов, разных жанров и стилей), очень важно оценить «композиторские» достоинства автора музыкального ряда: источник; музыкальную логику в построении сюжета (если таковой имеется) и образной идеи, передачу характеров, ситуаций; музыкальную композицию и драматургию целого.
3. Музыкальное исполнение. Внимание рецензента обращено ко всем сторонам музыкального исполнительства и прежде всего к исполнительской интерпретации музыки дирижером, его владению всем ансамблем музицирующих, ведению спектакля. В оперной постановке на первом месте, естественно, стоит оценка вокального мастерства солистов – благодаря доступности и широкой известности записей мировых оперных звезд у современного слушателя на слуху эталонное пение и достаточно высокие требования.
В балете, идущем под фонограмму (что бывает довольно часто, когда привлекается «большая» музыка нетеатрального происхождения), желательно знать источник. Кроме того, следует оценить и само качество записи, которое может и поддержать и «угробить» постановку.
4. Актерское мастерство. Музыкальный театр – всегда театр, в нем музицирование и актерская игра неразрывно слиты (в опере на сцене – «поющий артист», в балете – «артист балета»). Важно понимать, как в предлагаемых рамках актерской условности соединяются в художественный образ: вокальное мастерство (в опере), трактовка персонажа, пластическое решение роли (и в балете, и в опере), ее драматургия. Аргументированная и развернутая оценка артистической работы исполнителей – важнейшая составляющая музыкально-театральной рецензии. Ее прежде всего ждут и читатель, и сами артисты.
5. Сценография. Зрелищная сторона музыкальной постановки во многом определяется общим декоративным решением, включая свет и цвет, но в не меньшей степени костюмами, которыми нередко занимается отдельный художник. Для музыкального критика здесь более важна не столько техническая, сколько образно-эмоциональная сторона изобразительного решения, помогающая (или мешающая) восприятию музыки и режиссерского замысла спектакля.
6. Режиссура. Как уже говорилось, современное искусство режиссуры концептуально, и в музыкальном театре режиссер уже не может ограничиваться разработкой мизансцен и освоением сценического пространства для участников. Именно он в ансамбле с остальными постановщиками лепит зрелищно-музыкальный образ спектакля, который воспринимает и оценивает зритель-слушатель, в том числе и музыкально-театральный критик.
Режиссерская работа в музыкальном театре это, прежде всего – второй этап «пересоздания», перевод музыкального произведения на язык сценического искусства. При оценке результата музыкально-театральной постановки такая позиция критика важна: режиссер ставит не сюжет (как, например, в драматическом театре), но музыкальное произведение по этому сюжету, что не одно и то же. Выдающийся русский оперный режиссер Б.А. Покровский в своей книге «Размышление об опере» специально подчеркивает, что «оперный режиссер – это музыкант, музицирующий действием. […] … он сочиняет театральное представление по партитуре, предназначенной для сцены»24.
Оценка хореографического мастерства балетмейстера-постановщика требует специальных балетоведческих знаний. Однако музыкальный критик может воспринять и оценить образ спектакля, его драматургию и уровень музыкальности, характер зримо-музыкального синтеза, режиссерскую концепцию и миросозерцательные (философские) идеи.
В интервью с выдающимся режиссером М. Захаровым (о работе над постановкой в московском театре «Ленком» рок-оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось») на мой вопрос – чем его, изначально драматического режиссера, обогатил жанр музыкального театра, – он ответил: «Другое отношение к режиссуре, к эстетике. Интересная задача – искать материализацию в музыке, даже не столько в музыке, тут можно соскользнуть на какую-то иллюстративность, а вот именно созидать спектакль, сочинять спектакль по законам музыкальной драматургии. Музыка очень подталкивает фантазию режиссера, актера, ну, и, конечно, в случае удачи она дарит зрителям такой эмоциональный заряд, создает такую атаку, не в смысле громкости, а в смысле качества энергии, что это трудно сравнить с каким-то другим видом искусства…»25 (курс. авт. – Т.К.)
Оценка музыкального спектакля как феномена театральной культуры предполагает сложный контекст. Он охватывает и эстетику основных театральных направлений, и традиции данного музыкально-театрального жанра, и историю сценической жизни произведения, и направленность современных исканий – режиссерских, исполнительских – в музыкальном театре. Спектр вопросов здесь исключительно велик, практически необозрим.
Каждая театральная рецензия – своего рода третий этап «пересоздания», текст, не только оценивающий художественный результат в целом, но и, со своей стороны, интерпретирующий, трактующий предложенное постановочное решение. Поскольку в одной рецензии сказать все обо всем невозможно, музыкально-театральный критик каждый раз выстраивает рецензию по своему оригинальному плану, исходя из собственной концепции критического сюжета и тех приоритетов в понимании спектакля, которые он выстраивает для себя сам. Авторский угол зрения, ценностные подходы – все является плодом творческой личности критика, его пристрастий и знаний. Бывает, что хорошая театральная рецензия становится еще одним произведением искусства, еще одним витком художественной интерпретации на ту же тему.
5.5. Творческое событие как объект рецензирования. Концерт
К музыкально-художественным событиям могут относиться как единичные – концерт, спектакль, музыкальное представление, шоу; так и цепь художественных актов. Они могут быть объединены в некую целостность более высокого порядка – фестиваль, конкурс, гастроли музыкального коллектива (оркестра, театра и т. п.), очерченный во времени период (декада, месяц, год) репрезентации искусства какой-либо страны (региона, национального образования, этноса), тематические абонементы, юбилейные программы композитора, исполнителя, коллектива и т. д., и т. п.
Публичное музыкально-художественное событие, в отличие от всех других, уже рассмотренных объектов рецензирования, имеет особый характер. В нем, наряду с художественной значимостью (т. е. наряду с музыкальным творчеством – главным объектом художественно-оценочного отношения), заключена и значимость общественная, которая в ряде случаев может оказаться очень и очень высокой.
Соответственно при оценке музыкально-художественного события внимание непременно обращено сразу на три составляющие.
1. Художественная. Она охватывает звучащую музыку, ее исполнение (постановку), а также творческие личности, принявшие участие в создании художественного явления. По сути, это классическая рецензионная часть, обращенная к творчеству.
2. Общественная. Она включает в себя всех, на кого творческое событие направлено – слушателей, публику (общественность), их реакцию на событие, равно как и последующее отражение этой реакции в общественном мнении (в частности, в СМИ). Здесь в поле внимания критика попадает социокультурная значимость происшедшего события.
3. Организационная. В нее входят как общие вопросы – работа импресарио (организатор, представляющий интересы исполнителя) и продюсеров, уровень и профессионализм менеджмента; так и многочисленные частности – реклама, подготовленность зала, сопроводительные материалы (программки, буклеты), ценовая политика и многое другое. То есть все то, что в совокупности делает потенциальное художественное явление реальным фактом общественно-художественной жизни. При этом чем сложнее организация оцениваемого художественного события, чем более составной, многоступенчатый характер оно имеет (к примеру, исполнительский Международный конкурс им. П.И. Чайковского или ежегодный фестиваль современной музыки «Московская осень»), тем более детальной может оказаться оценка и организационной составляющей. Успех или накладки в проведении такого «многоэлементного» художественного события могут зависеть в том числе от избранных концертных площадок, от времени и количества поставленных концертов, от того, насколько грамотно и привлекательно составлены программы, и особенно от того, какие интересы – художественные или коммерческие – преобладали.
Таким образом, внимание журналиста при освещении музыкального события обращено не только (а иногда и не столько) на художественный результат, сколько на всю коммуникативную ситуацию музыкального события, обусловленную его художественными достоинствами, отношением к нему публики, общественным резонансом, местом события в культурной жизни. В качестве возможного примера позволю себе привести собственный отклик (в слегка усеченном виде) на гастроли Мариинского театра в Баден-Бадене с четырьмя спектаклями «Кольца нибелунга» Вагнера – событие большого художественного и общественно-культурного значения. Заголовок «Вагнер – нетипичная Россия» был дан самой газетой:
Под занавес ушедшего 2003 года на сцене баден-баденского «Фестшпиль-хаус» – одного из крупнейших театрально-концертных залов западной Европы – состоялось знаменательное художественное событие. В период рождественских праздников в течение четырех протяженных вечеров оперная труппа Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым представляла взыскательной публике свою последнюю грандиозную работу – тетралогию «Кольцо нибелунга» Рихарда Вагнера. Четыре оперы цикла, премьера которого, спустя столетие, вновь состоялась в Санкт-Петербурге во время летних торжеств к 300-летию северной столицы, в этот раз звучали в Германии – в исполнении русских певцов на языке оригинала. […]
«Представление Мариинского „Кольца“ в Германии станет своеобразным экзаменом для театра», – сказал перед гастролями на встрече с журналистами художественный руководитель-директор театра В. Гергиев. И подчеркнул: «У меня есть надежда на то, что будет энергия взаимного притяжения: огромное любопытство европейской публики и наше огромное желание показать, что вагнеровское „Кольцо“ сегодня может быть и в России». Эта надежда оправдалась с лихвой. Зал на 2500 мест был полон. И это, естественно, была отнюдь не только публика знаменитого курорта. Слушатели-зрители гастрольных спектаклей российской труппы, являли собой достаточно пестрое собрание: заинтересованная публика съезжалась из ближних и дальних городов Германии, из Франции и Швейцарии, от которых до Баден-Бадена рукой подать, и даже слеталась издалека, в частности были гости из Канады.
Выступление на сцене «Фестшпильхаус» по значимости и ответственности трудно переоценить. А что же говорить, если в программе – тетралогия Вагнера «Кольцо нибелунга», сочинение сугубо национальное для немцев и культовое для вагнерианцев всего мира! А в зале наверняка те и другие преобладали. Как заметил В. Гергиев на встрече с журналистами и слушателями, которая состоялась в середине гастролей, «у каждого немца свое представление о том, какими должны быть Вотан, Брунгильда, Зигфрид…». И как, можно добавить, должна выглядеть постановка вагнеровского «Кольца», тем более что и до Байройта сравнительно недалеко. Насколько сложно было преодолеть стереотипы восприятия, предложив свое оригинальное решение, и удалось ли – видно уже из первых откликов немецкой прессы.
О концепции Мариинского «Кольца» уже сказано и написано много (напомним, ее авторы – музыкальный руководитель постановки В. Гергиев и сценограф Г. Цыпин; режиссеры – Ю. Певзнер и В. Мирзоев). Сложные коллизии древнегерманских мифов, переплетенных в тетралогии Вагнера, авторы постановки погружают в архаичный и, одновременно, современный фантастический мир, произвольно переплавляя исторические и национальные стили, Восток и Запад, закодированную театральную условность и примитив. На вопрос немецкого журналиста «Это объявление войны Байройту?», В. Гергиев ответил: «Нет, нет. Мы вообще не равнялись на Байройт. Нас интересовал иной, интернациональный аспект… Мы бы хотели, чтобы американская, китайская, русская, французская, японская и, конечно, немецкая театральная публика говорила: „Это не типичная Россия, или Голливуд, или Штутгарт, или Кабуки“… Такое „Кольцо“ могло бы открыться вам в Перу, в Тибете, в Средней Европе, на Кавказе. Это не конкретная, а вневременная художественная эстетика».
Если сценическое решение вызвало неоднозначную реакцию немецкой аудитории, то музыкальное прочтение захватило всех своей потрясающей мощью. Думается, что гений Вагнера-драматурга нашел в лице Валерия Гергиева идеального интерпретатора. Тектонические движения и тончайшие нюансы человеческих страстей, воплощенные в великой музыке, дирижер передал с огромным эмоциональным накалом. Оркестр был главным носителем сверхидеи вагнеровской саги, взмывающие кульминации третьих актов «Валькирии», «Зигфрида», «Гибели богов», финалы опер заставляли благодарную аудиторию буквально трепетать. Показательны заголовки двух рецензий одного автора (Т. Вайс, «Pforzheimer Zeitung») – «Могуче вспенивающиеся волны оркестра» и «Триумф солистов».
Вагнеровские певцы – это особая когорта вокалистов высшего пилотажа. Мариинский театр выпестовал и сегодня располагает прекрасным ансамблем солистов, включая молодежь, с сильными голосами, с хорошей сценической подготовкой и, что немаловажно, внешностью. Хотя, конечно, не все удалось в равной мере, масштабный «Фестшпильхаус» покорился не всем. […]
Особый участник пережитого музыкального действа – публика. Огромный чуткий зал внимал многочасовому звукозрелищу практически не шевелясь, в гробовой тишине, словно боясь дышать. Только по все возраставшим приветственным аплодисментам В. Гергиеву перед каждым актом и по овациям в конце можно было определить уровень волнения аудитории. Никто не вздохнул даже во время сценической накладки, когда в «Зигфриде» у Вотана раньше времени разломалось копье, и певец был вынужден сойти с подеста, поднять, соединить развалившиеся части и вернуться на место, все время продолжая петь. Понимающий зал не шелохнулся. Он слушал музыку. А потому особенно трогательным был выкрик в тишине «Спасибо!» на ломаном русском языке, прервавший долгую паузу по окончании последнего спектакля. И лишь затем последовал шквал оваций, крики «Браво!», восторженный прием дирижера и солистов, 10-минутные аплодисменты стоя. Это был несомненный триумф, событие, которое, возможно, будут помнить и оценивать историки.
Ушедший 2003 год был объявлен годом России в Германии. В рамках культурного марафона состоялось много важных художественных событий. И все же даже на этом богатом фоне привезенное из России в Германию «Кольцо нибелунга» представляется грандиозным заключительным аккордом всей программы, по силе воздействия достойным драматургии самого Вагнера. Его отзвук будет долгим. Ведь в конце января тетралогия «Кольцо нибелунга» в интерпретации Мариинского театра прозвучит в Баден-Бадене еще раз26.
Центральное место среди музыкальных художественных событий, разумеется, занимает концерт – и как отдельное явление, и как часть в цепи событий. Именно концерт исторически стал главным объектом музыкального рецензирования от начала профессиональной музыкально-критической деятельности. Его доминирующее для музыки значение обусловлено возможностью публично представлять слушателю музыкальное искусство – плоды композиторского и исполнительского творчества. Особенности концерта в многовековой человеческой практике, его эволюция исследованы в масштабном историко-культурологическом труде Е.В. Дукова «Концерт в истории западноевропейской культуры»27.
Современность тоже предлагает разные подходы, среди которых прежде всего будем иметь в виду традиционный концерт академической музыки: для репрезентации музыкального искусства он и сегодня – важнейшее публичное художественное событие.
Участники концерта составляют три группы, у каждой из которых есть своя определенная функция: музыканты-исполнители представляют музыку, слушатели (публика), в числе которых и музыкальная критика, воспринимают и оценивают ее, организаторы (продюсерская часть, техническая часть) – в случае если концерт носит организованный (не спонтанный) характер – создают условия для осуществления всей художественной коммуникации. Причем роль последних не следует ни игнорировать, ни преуменьшать. Читая названное исследование, можно встретить и такое наблюдение: «С середины XIX в. в концертной жизни Европы произойдут глубокие качественные изменения, которые вознесут на Олимп рядом с теми, кто выступает на концертах, тех, кто их проектирует. Успех или неудача концерта во все большей степени станут делом профессионалов-организаторов, которые подчас будут открыто называть себя „дрессировщиками публики“28».
Из специфических именно для концерта сторон, на которые должен обратить внимание критик, сегодня на первое место следует поставить его форму – выстроенность во времени. Как любая «составная», «номерная» форма, современный академический музыкальный концерт тяготеет к поиску средств единства – музыкальных (жанровых, стилистических) или внемузыкальных (тематические, монографические программы и т. п.). «Прежде всего концерт был великолепно сочинен исполнителем, был единой и совершенной музыкальной формой», – говорит А. Шнитке о моцартовской программе А. Любимова в качестве высшей похвалы в уже упоминавшейся рецензии (см. с. 188). Апогеем единства можно считать исполнение в концерте всего одного большого произведения, в результате чего вечер просто меняет свой жанровый облик.
Другой путь, более близкий природе концерта как составной формы, связан с расположением звучащей музыки, исходя из возможностей слушательского восприятия. «Уже с начала XIX в. в партитурах можно встретить рекомендации о месте данного произведения в концерте», – констатирует автор все того же исследования. И приводит затем весьма примечательное предисловие Бетховена к изданию его Третьей симфонии:
Ввиду того, что в соответствии с намерением автора эта симфония длится долее, нежели другие сочинения данного рода, ее надо исполнять не в конце, а в начале академии, причем после нее играть лишь такие композиции, как увертюра, ария, концерт. Особый эффект, на который симфония рассчитана, может потеряться, если исполнять ее позднее, перед аудиторией, уже утомившейся слушанием предшествовавших произведений28.
Умелая выстроенность концерта с учетом слушательских возможностей, чередование зон напряжения и разрядки, местоположение главного произведения, «гвоздя программы» (самого яркого или, напротив, самого трудного, нового, премьерного) в зоне, наиболее благоприятной для восприятия, – важная творчески-организационная задача, которую следует решать профессионально.
В моем телеинтервью 1986 г. с композитором Кареном Хачатуряном мимоходом возникла эта тема, и ответ композитора важен:
– Недавно я был в Грозном, там играли Третью симфонию, Виолончельный концерт, а во втором отделении «Чиполлино».
– И автор предстает в двух совершенно разных качествах: серьезная, сложная, трагическая музыка в первом отделении и такая радость во втором…
– Слушателю, мне кажется, это как раз интересно, потому что нельзя все время держать его в напряжении, где-то должен быть и какой-то отдых29.
В случае составной программы, преподносимой одним коллективом, в «драматургию» концерта попадают и заранее подготовленные, продуманные «бисы». Их функция – не только наградить благодарных слушателей, но завершить программу эффектной кодой и тем самым усилить эйфорию разрядки после серьезного напряжения, которую слушатель (и критик!) «унесет» с собой как приятное, положительное впечатление.
Наряду с «наполнением» концертной программы, не менее важной является и его другая, временная сторона – продолжительность концерта. Знатокам музыкантского дела известно, каковы примерные слушательские возможности полноценного восприятия симфонической или камерной музыки, классической или современной. «Затянутый» концерт способен уничтожить уже полученный положительный эффект. Это – профессиональный «прокол» организаторов. Еще хуже, когда публика начинает уходить, не имея сил (а затем и желания) дослушать программу до конца. Антракт, который, как правило, делит концерт на две части, существует не только для отдыха музыкантов, но в не меньшей степени и для слушателя.
Источником слушательской усталости в какой-то мере является и жесткая регламентированность поведенческих норм академического концерта. Это абсолютно тихое, без движения и внешних реакций на музыку сидение в течение всей программы, с аплодисментами строго в конце произведения. Когда в зале подготовленная аудитория, а исполнение захватывает, такое поведение не составляет труда, оно органично для всей художественной ситуации. Когда же зал начинает ерзать, ронять номерки, шуршать и перешептываться, становится очевидным, что либо данная публика не готова к восприятию предложенной программы (в зале «не та» публика или она уже просто устала), либо исполнители не на высоте, либо и то и другое одновременно.
В коммуникативном художественном акте, каким является концерт, обе стороны (исполнители и слушатели) имеют свои права и обязанности. Наиболее успешным становится тот концерт, в котором всем участникам коммуникации было максимально комфортно и творческие возможности обеих сторон – музицирование и восприятие музыки – реализовались во всей полноте.
Суммируя все изложенное, можно прийти к выводу, что для рецензента могут быть равно важны разные аспекты в оценке концерта:
– творческие – собственно рецензирование музыки и ее исполнения;
– творчески-организационные – репертуар, тематическая направленность, компоновка программы, бисы, драматургия события с целью усиления его художественной целостности или, напротив, контрастов (возможно неординарных), помогающих удерживать внимание слушателя;
– коммуникативные – атмосфера зала, тип публики, уровень ее понимания и восприятия, поведенческие нормы слушателей (их нарушение или обновление), дополнительные средства, направленные на восприятие: поясняющее вступительное слово, буклеты и аннотации, возможное свето-цветовое оформление зала и др.;
– собственно организационные – наполнение зала, стоимость билетов, предварительная реклама и другие возможные аспекты продюсерской деятельности, обеспечивающие результативность художественного события.
В какой мере и пропорциях названные стороны найдут свое отражение в рецензионном материале – авторская воля музыкального критика-журналиста. При желании можно всех (кроме первой) не касаться. Но полноценное освещение художественного события предполагает, что автор видит и оценивает как художественную, так и общественно-культурную значимость происшедшего.
Примечания
1. Блок А. Собр. соч. В 6 т. Т. 1. – М., 1971. С. 233.
2. «Лит. газета», 1966, 17 июня.
3. Каратыгин В.Г. Избр. статьи. С. 60.
4. Там же.
5. Там же. С. 65–66.
6. Лотман Ю.М. Феномен культуры // Труды по знаковым системам. 1978. С. 3.
7. Курышева Т.А. Диалоги о музыке перед телекамерой. – М., 2005. С. 245
8. Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию XX века. – М., 2004. С. 4.
9. См.: Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию XX века. С. 73.
10. Стравинский И. Диалоги. С. 216.
11. См.: Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976. С. 158.
12. Программка авторского концерта В.Тарнопольского в Рахманиновском зале Московской консерватории 10 ноября 2005 г.
13. Любимов А. Новая музыка уже устала// Культура, 2004. № 39.
14. Стравинский И. Хроника моей жизни. – Л., 1971. С. 122.
15. Курышева Т.А. Диалоги о музыке перед телекамерой. С. 249.
16. Курышева Т.А. Музыка во взаимодействии и синтезе искусств. Гл. 1: Театральность и музыка. – М., 1984.
17. Курышева Т.А. Театральность и музыка. С. 167–170.
18. Каган М. Морфология искусства. – Л., 1972. С. 374.
19. Курышева Т.А. Театральность и музыка. С. 28–37, 54–55, 71–81.
20. Курышева Т.А. Музыкальная хореодрама в творчестве Родиона Щедрина и Альфреда Шнитке // Антология музыкального театра второй половины XX века. – М., 2006. С.109.
21. Хейзинга И. «Ното ludens». – М., 1992. С. 186.
22. С.С. Прокофьев. Материалы. Документы. Воспоминания. С. 236.
23. Курышева Т.А. Балет // История современной отечественной музыки. Вып. 2. – М., 1999. С. 412–419, 421–428.
24. Покровский Б. Размышления об опере. – М., 1979. С. 71.
25. Курышева Т.А. Диалоги о музыке перед телекамерой. С. 263.
26. Курышева Т.А. Вагнер – нетипичная Россия // Ведомости, 2004, № 2.
27. Дуков Е.В. Концерт в истории западноевропейской культуры. – М., 2003.
28. Там же. С. 233.
29. Там же. С. 205–206.
30. Курышева Т.А. Диалоги о музыке перед телекамерой. С. 174.
6. Творческая личность как объект оценки. Творческий портрет
Мы рождены для вдохновенья
А.С. ПушкинКаждая личность – загадка, творческая – особенно. Человечество волнует все выходящее за рамки нормы, и творческая личность в этом ряду занимает одно из главных мест. Она всегда притягивает к себе повышенное внимание. Кому-то хочется к ней прикоснуться, получить автограф, что-то оставить на память. Кто-то коллекционирует предметы, исторически с ней связанные, оставляя на аукционах огромные деньги. Художественные личности, уходя в бессмертие, продолжают жить среди нас и в своих произведениях, и в памятных местах – мемориальных квартирах, домах, музеях… И как правило, всем, кого данная личность волнует, хочется о ней читать.
Источники повышенного интереса к людям искусства могут иметь разное происхождение. В одних случаях именно сильное впечатление от встречи с художественным явлением – музыкальным произведением, исполнением, постановкой – рождает естественное желание побольше узнать о его создателе. В других, напротив, соприкосновение по жизни с художественной личностью пробуждает интерес к ее творчеству. Но в целом такой интерес – явная константа в общественно-художественном сознании и огромный стимул для приобщения к искусству широких общественных слоев: через призму конкретной человеческой судьбы в искусстве легче понять и осмыслить многие сложные художественные и культурные процессы времени. Если значимость художественной личности для того или иного времени высока, а интерес к ней, к ее творчеству актуален или потенциально возможен, почва для такой портретной работы благоприятна.
Диапазон возможностей для исследования творческой личности очень широк – разные виды искусства «соревнуются» на этом популярном поприще. Можно вспомнить и многие знаменитые живописные портреты; и портреты словесные разных жанров и весомости от научной монографии до романа, с одной стороны, от аргументированного журналистского очерка до краткой заметки («эскиз портрета», «штрихи к портрету») или насыщенных вымыслом «баек» – с другой. Например, новый «глянцевый» журнал «Караван историй» специально задуман как издание, посвященное историям жизни выдающихся людей. Театр и кино со своей стороны участвуют в этом процессе. К примеру, театральные балетные постановки Б. Эйфмана «Чайковский», «Красная Жизель» (о трагической судьбе талантливой русской балерины Ольги Спесивцевой), или знаменитый фильм «Амадей» режиссера Милоша Формана, по новому, современными глазами взглянувшего на личность Моцарта, – все это авторские «портретные» работы.
Портрет, по свидетельству энциклопедий, есть «изображение, описание человека». Творческий портрет делает объектом своего внимания творческую личность. Уникальность личности художника, прежде всего, заключена в скрытой в ней загадке, и творческий портрет, по сути, является не только и не столько изображением, описанием человека, сколько поиском ключа к этой загадке, попыткой разгадки. При этом творческий портрет амбивалентен: в нем наряду с представляемой персоной всегда мерцает автор со своим, субъективным, отношением к объекту внимания. Даже если это автопортрет.
В ряду монографических работ, привлекательных и для художественной литературы, и для науки, и для публицистики, творческий портрет как музыкально-критический жанр имеет свои особенности. Во-первых, как любой журналистский материал, он преследует информационные цели, предоставляя обществу сведения о новых личностях на художественном небосклоне, о новых творческих достижениях или новых поворотах в судьбе людей, находящихся в поле зрения общественности, как и о «новых открытиях» старых, забытых и вновь обретающих свою актуальность имен.
Во-вторых, для музыкально-критической журналистики творческая личность – равнозначный объект художественной оценки. И главным здесь также является критерий уникальности (оценочные градации по условной нисходящей: гений – талант – выдающийся – одаренный – способный… и т. д.). При этом, естественно, журналистов прежде всего интересует современник – личность, активно участвующая в музыкальном процессе в данный момент, чей творческий облик изменчив или вообще пребывает в стадии становления, чье художественное значение окончательно не определено и нуждается в оценке или переоценках.
В-третьих, в отличие от науки и художественной литературы, если они обращаются к творческой личности как к предмету внимания, критик-журналист, как правило, работает в условиях оперативности, с одной стороны, и недостаточной полноты сведений – с другой. Чаще всего в его распоряжении еще нет ни эпистолярного наследия, ни мемуаров, ни воспоминаний современников и близких – всего того, что составляет фундамент капитальных исследований. Но зато у него есть другое – огромное! – преимущество: с современником можно встречаться, беседовать, задавать вопросы, брать интервью. То есть лично общаться и формировать свое отношение, опираясь на собственный опыт.
Имея своей целью представление и оценку художественной личности, творческий портрет для большей полноты картины легко включает в себя другие жанровые виды. Особенно ценны собственные высказывания художников, поэтому в портретных журналистских замыслах важнейшее место занимают разные типы бесед, особенно в устных жанрах. Прямая речь даже в виде отдельных вкраплений усиливает достоверность, документальность представления. Работа над творческим портретом современника, с точки зрения журналистской практики, вообще должна начинаться с предварительного разговора с художником: пишущему автору важно ощутить индивидуальность объекта внимания, чтобы затем попытаться воссоздать ее в тексте.
Журналистский творческий портрет может создаваться в разной жанровой форме: очерка или статьи, если материал обстоятелен и развернут; эссе или этюда, когда это лишь «набросок», «эскиз портрета»; интервью, когда облик портретируемого рождается в подаче его собственных высказываний; наконец, фельетона, если это дружеский шарж или карикатура. Портрет не исключает и проблемных отступлений, на которые может наводить личность портретируемого.
Творческий портрет музыканта, кроме того, в большей или меньшей степени может включать рецензионную составляющую. Мини-рецензии, обращенные к конкретным сочинениям композиторов или конкретным исполнениям пианистов, дирижеров и т. п., включенные в портретный по замыслу текст, усиливают «присутствие музыки» в качестве важнейшего аргумента в системе доказательств и оценки художника. Они конкретизируют оценочную мысль, направленную на творческую личность, выходами к художественным образцам, к результатам деятельности.
Создание музыкально-критического творческого портрета, как правило, связано с каким-то поводом и заказано каким-то определенным каналом СМИ. Выбор жанровых деталей, объем, настроение текста обусловлены и тем и другим.
Поводом может быть появление неизвестного мастера на художественном небосклоне, а точнее – нового произведения, принадлежащего никому не известному автору. Творческий портрет в этом случае знакомит с новым именем, в некотором роде давая ему путевку в жизнь (еще раз вспомним знаменитое шумановское представление Шопена – «Шапки долой, господа, перед вами гений!»). Для такого повода, предположительно, уместны рубрики типа «Дебют», «Новое имя», «Знакомьтесь» и т. п.
Поводом может стать и заметное событие: получение награды или особое творческое достижение, появление новой выдающейся работы (сочинения, концертной программы, записи, постановки), когда сильное художественное впечатление словно заставляет общество вновь вспомнить о художнике, а музыкальный журналист удовлетворяет этот вспыхнувший интерес. Создание творческого портрета по такому поводу олицетворяет новую веху общественного признания, здесь уместен серьезный разговор оценочно-аналитического характера.
Классический повод – юбилейные даты, и прижизненные, и посмертные. Прижизненные – это дни рожденья, а значит всегда праздничные тексты, полные пиетета и пожеланий счастья и успехов («Happy birthday to You!», как поют сегодня одну мелодию на всех континентах). Другое дело посмертные портреты, когда оставшийся в истории художник и его искусство переживают переосмысление, проверяемое временем «на прочность».
Печальный повод – некрологи. Среди них есть и официальные, скорее информативные, тексты и подлинно художественные портреты, пронизанные не только острым чувством утраты, но новыми ощущениями перед открывающимся бессмертием художника.
Цель написания творческого портрета или создания устной портретной передачи должна быть для автора абсолютно ясна. В ней может отражаться «общественный запрос», в ней должна чувствоваться актуальность подобного освещения, пусть даже осознаваемая пока только автором, опережающим общественный интерес. К сожалению, из многих направлений музыкальной журналистики жанр творческого портрета современника легче всего подвержен ангажированности, когда кому-то требуется «раскрутка», и журналист выполняет не столько «общественный», сколько чей-то «личный» заказ. Читателя на время можно обмануть, повлиять же на музыкальный процесс – вряд ли.
Жизненный и творческий путь художника можно представить как сочетание разных потоков, которые движутся как бы в разных измерениях, с разной скоростью и насыщенностью. Один из них – реальное течение жизни в последовательности личных событий от рождения до смерти. Второй – собственно творчество, создаваемый художественный мир, со своей динамикой развития, ускорениями и замедлениями, вершинами и падениями. И наконец, третий поток – пребывание в своей историко-культурной атмосфере, взаимодействие с окружающей жизнью, отраженной и в общественных событиях, и в смежных художественных процессах, и в умонастроениях современников.
Все эти стороны существования творческой личности неразрывны и равно важны для исследователя. Однако в работе над музыкально-критическим творческим портретом в качестве главенствующего стержня чаще избирается какая-либо одна сторона, а остальные могут оказаться в роли дополняющих. Более того, для журналистского творческого портрета совершенно не обязательно и даже не нужно полное и всестороннее освещение творческой личности. Значительно чаще стимулом к созданию портрета служит какой-либо один аспект, актуальный в данный момент. Куда важнее для автора умение схватить и выделить неповторимое, ценное, отталкиваясь от повода к написанию портрета, будь то художественное событие (премьера нового сочинения, премия и т. п.), биографическое событие или явления социокультурного порядка, с которыми данная художественная личность связана или играет в них важную роль.
Личностно-биографический подход
Выбор подхода воздействует на жанрово-стилистическую направленность выступления. Биографический подход, с одной стороны, наиболее удобен для информационных целей. Человеческий путь – это цепь фактов. Их последовательность, насыщенная деталями жизни художника, бытовыми и творческими событиями, родными и близкими, друзьями и врагами, – уже готовый «сюжет», не требующий большой авторской работы. Важнейшие вехи бытия творческой личности – место рождения, происхождение, родители, детство, среда обитания, учителя, друзья, черты характера, пристрастия, слабости, увлечения, встречи, премьеры, гастроли, передвижения по миру и т. д., и т. п. – сами по себе захватывающе интересны для читателя. Что на свете увлекательней чужих судеб?!
Самое яркое подтверждение сказанному – современный Интернет. Как чуткий локатор общественного интереса, Интернет с огромной скоростью наполняется биографическими материалами о художниках «разных времен и народов». Он может оперативно, а нередко и с исчерпывающей полнотой предоставить сведения о том или ином музыканте. Многие мастера уже имеют личный веб-сайт, остальным следовало бы незамедлительно последовать их примеру. Не обсуждая достоверность предлагаемой в Интернете информации, на данном этапе рассуждений важен сам факт ее масштабов.
С другой стороны, личностно-биграфический подход влечет к эссеистике и даже беллетризации. Повествование в виде жизнеописания легко воспринимается, оно наиболее удобно при просветительской направленности. Не случайно выстраивать портретные работы на биографической основе так любят авторы журналистских выступлений, обращенных к массовой аудитории или читателям «гламурных» журналов, авторы популярной литературы, романисты, киносценаристы.
Собственно и «желтая пресса» вместе с фотографами-«папарацци» в намерении «поднять» или «уронить» в глазах общественности какую-то творческую личность, а точнее – побольше заработать на таких действиях, тоже опирается на лично-стно-биографический подход, вольно тасуя, «подтасовывая» или придумывая «факты». Этот негативный пример, со своей стороны, подтверждает общественную значимость и силу воздействия исследуемого портретного жанра.
Опираясь на биографический подход, могут писать, а еще проще – проводить встречи в радио– и телеэфире все, кто умеет это делать, независимо от профессионализма в области музыки. Просто обычные журналисты. Другое дело – специальная музыкально-критическая журналистика. Творческий портрет музыканта, подготовленный специалистом, предполагает свободное владение предметом разговора – музыкальным творчеством, которому посвящена жизнь портретируемого. И в этом случае авторы в качестве доминанты чаще всего избирают художественный подход.
Художественный подход
Подход с позиции художественного мира, созданного творческой личностью, то есть с позиции самого искусства, усиливает собственно познавательный и даже научный аспект. Здесь особенно велика роль аналитического начала, профессиональных историко-теоретических знаний, понимания психологии творчества. Подобный ракурс господствует в науке, в диссертационных исследованиях, но он очень ценен и в специальной музыкальной журналистике, позволяя заинтересованному непрофессиональному читателю глубоко проникаться миром музыки, познавать его.
При художественном подходе в развертывании творческого портрета биографические детали могут присутствовать, а могут и отсутствовать вовсе. Они могут появляться в вольной последовательности, независимо от временной привязки к жизни художника. В размышлениях о творческих процессах главными оказываются совсем другие ориентиры. Авторская мысль музыкального журналиста может двигаться и по стилистическим вехам, и по жанровым направлениям, и по четко прочерченным творческим периодам (ранний – зрелый – поздний или, к примеру, как у Арнольда Шёнберга: тональный – атональный – додекафонный…), и «кругами», возвращаясь, как в рондо, к одной идее, оттолкнувшись от которой можно двигаться в разные стороны в поисках доказательств. Тем более что и линия творческой жизни у каждого вычерчена абсолютно индивидуально.
Для примера можно остановиться на небольшой портретной статье Б. Асафьева «Прокофьев-пианист» (1927). Формально избирая один ракурс в облике великого художника – исполнительский, автор-критик в эмоциональной манере образным, насыщенным сильными эпитетами литературным языком буквально живописует яркий портрет музыканта. Обилие выразительных деталей, касающихся и музыки композитора, и исполнительских средств, приемов, и даже внешнего облика – все «работает» на конечное обобщение, долженствующее передать масштаб поразительной, выдающейся творческой личности. Для ощущения внутренней драматургии статьи приведем три ключевых фрагмента в ее развитии: первый абзац – зачин, задающий тон всей публикации; один из серединных моментов, где излагаются главные идеи статьи, ради которых она прежде всего написана; и заключительный абзац – кульминационный вывод:
Прокофьев – творческое явление колоссального размаха. Вот искусство, которого так жаждет наша действительность, – искусство дерзкое, волевое, сильное и вместе с тем заразительно-радостное, простое и здоровое. В нем поет стихия света и тепла, в нем растворилась солнечная энергия и звучит неискоренимая тяга к жизни и к борьбе за нее. Таков Прокофьев-композитор и таков же Прокофьев-исполнитель. В сущности это два направления одного источника. И разделять их нелегко. Авторское исполнение Прокофьева соединяет в себе совершенство пианистической техники с полным преодолением ее в творчески ярком и выразительном раскрытии композиторских концепций. И обратно: сила и характерность его творческих замыслов и достижений развертываются сполна и до конца убедительно благодаря его же блестящему исполнительскому дарованию. В содружестве и соединении композитора и пианиста – сила искусства Прокофьева. В гармонии импровизационной стихии с организующей мыслью – его властное очарование. Интенсивный порыв к музыке находит выход в мастерстве и в умении выразить все, что подсказывает творческое воображение…
Облик Прокофьева-пианиста – характерно мужественный. Сдержанность и спокойствие, колоссальное самообладание и непреодолимая сила воли сказываются во всем: и в поступи, и в манере сидеть за инструментом, и в игре. Неудивительно поэтому, что в исполнении Прокофьева поражает прежде всего убедительность выражения и исключительно пластичный ритм. Каждая линия глубоко рельефна, каждая фраза выкована, а вся пьеса – будет ли то большая соната или хрупкая миниатюра – предстает пред слушателем как стройная закономерно развернутая композиция. Богатство оттенков светотени соперничает с четкостью и тонкостью звукоплетений и с отделкой орнаментов. Прокофьевские характерные росчерки и зигзаги запечатлеваются в памяти как линии рисунка великих мастеров…
Юноша композитор и пианист, смело и дерзко утверждавший свое право на творчество, свой язык и свое звукосозерцание, превратился в зрелого композитора и исполнителя-мастера, в художника, критически проверяющего каждый свой шаг и достигшего полной свободы в обращении с материалом. Все, что Прокофьев захочет выразить, он сможет выразить. Развитие его дарования должно пойти теперь в сторону все большего углубления знаний и концентрации сил на искусстве монументальном. Эмоциональное богатство, широта охвата, мощное дыхание, свежесть материала, новизна изобретения, властная воля и мужественная энергия – предпосылки, говорящие сами за себя: они все налицо в творческом и исполнительском опыте Прокофьева1.
Портретная статья Асафьева – очень точный образец избранного жанра. Стержнем здесь является творческий облик, мир прокофьевского искусства. Автор сразу, уже в зачине, берет высокую планку ценностного отсчета – и количественно (множество оттенков достоинств), и качественно (сначала речь идет о многогранной художественной личности композитора и исполнителя). Статья развивается как бы из вершины-источника, от обобщенного образа к частностям, углубляющим этот образ. Ее центральная часть, естественно, наиболее аналитична, а в заключении добавляется оттенок историзма, движения во времени («…юноша… превратился в зрелого… мастера»), внося ощущение открытой, устремленной в будущее творческой судьбы.
Культурологический подход
Подход к портретной работе с позиции взаимодействия художника и окружающей действительности – своего рода творческая личность в «интерьере» своей эпохи – уместен, когда художник не замкнут в «башне из слоновой кости» и его творческая жизнь интенсивно взаимодействует с событиями своего времени. Либо когда музыканту довелось жить в сложные, насыщенные крутыми поворотами времена, и он, как чуткий локатор, отразил их в своей музыке.
В портретной работе Генриха Нейгауза, обращенной к облику Дмитрия Шостаковича, есть очень точное и, как всегда у Нейгауза, образное размышление на эту тему:
В чем сила музыки Шостаковича, почему она вызывает такой жгучий интерес? Мне кажется, что наряду с неподражаемым мастерством, новизной, яркостью и выразительностью его творчества главная причина – в его глубокой современности, современности, понимаемой в расширенном смысле, то есть резюмирующей прошлое и далеко заглядывающей в будущее. Один собеседник на мой вопрос – «Что скажешь о Квинтете?» ответил: «Не могу об этом говорить; Квинтет – это я сам». Нечто подобное чувствует каждый из нас2.
В беседе об Альфреде Шнитке близкая идея, усиленная прямым сравнением с Шостаковичем, излагается Геннадием Рождественским, когда он на вопрос: «А в чем вы видите общие черты Альфреда и Шостаковича?» – отвечает: «В летописи времени, в летописи интонаций времени и в манере использования материала, в том числе бытового. Мне кажется, что Альфред – такой же, как Шостакович, летописец времени, перевернувший следующую страницу летописи России в музыкальном искусстве»3.
От музыкального журналиста, писателя, обращающегося к личности художника в контексте времени, в контексте реальных событий окружающей жизни, требуются не только профессиональные музыкальные знания, но и понимание социокультурных и, может быть, политических особенностей происходящего вокруг. Но главное – определенный общественно-гражданский темперамент. Только тогда его слово насыщается силой убеждения. Именно к текстам такого рода можно, например, отнести небольшую литературную зарисовку В.В. Стасова «Портрет Мусоргского», вдохновленную появлением знаменитого портрета кисти Репина. Или другую работу Стасова «Памяти Мусоргского», толчком для которой послужило открытие памятника композитору на его могиле в Александро-Невской лавре. Взгляд на художника в контексте общекультурных проблем и масштаб подхода четко обозначены в этой публикации с первых строк:
Мусоргский принадлежит к числу тех людей, которым потомство ставит монументы. Но признание великости таланта и исторического значения нередко происходит у нас спустя долгое-долгое время после смерти значительного деятеля. О памятниках, поставленных на публичной площади тем, кто их заслуживает, – особливо художникам – лишь очень поздно приходит в голову большинству русских людей. Примеров тому слишком много налицо. Давно ли воздвигнуты памятники Пушкину и Глинке? Да и то с какими остановками, как медленно, как вяло, как поздно! Другие крупные наши таланты, наверное, долго еще прождут своей очереди. Конечно, Мусоргскому предстоит та же участь4.
Ранее, в разговоре о жанрах музыкальной журналистики, уже был упомянут интереснейший творческий портрет «Клод Дебюсси» В. Каратыгина (см. с. 138). Написанный как немедленный отклик на смерть великого французского композитора (март, 1918), этот портретный очерк разворачивает перед читателем грандиозное полотно, в котором собственно творческие стороны личности раскрываются на фоне катаклизмов эпохи.
Однако бывают ситуации, когда уже все три направления авторского подхода (художественный, культурологический и биографический) могут оказаться необходимыми в одном тексте. Приведу конкретный пример.
1991 год ЮНЕСКО объявило годом Сергея Прокофьева, всемирно празднуя 100-летие со дня рождения великого русского музыканта. Газета «Советская культура» опубликовала творческий портрет композитора в первом номере «года Прокофьева» – 5 января (позже он был переведен на английский язык и напечатан в буклете фестиваля, посвященного юбилею Прокофьева в Шотландии). Это был редкий для газетной практики случай, когда такой большой материал вышел в свет без единой правки. Остановимся на этой публикации подробнее.
Когда поводом для большого юбилейного портрета оказывается годовщина смерти, мы изначально вправе отрешиться от «мирских» деталей прожитого, целиком погрузившись в «бессмертное» творчество, исходя из точки отсчета юбилейной даты. Когда повод – годовщина рождения, мысль невольно скользит по пройденному жизненному пути, по событиям и датам, начиная с того самого истока, который празднуется.
В юбилейной статье о Прокофьеве для массовой печати хотелось сказать если не все (что в принципе невозможно), то очень многое, важное и разное, показать и музыку, и жизнь – друзей, радостные и трагические события. Захотелось помочь увидеть его одновременно и глазами его современников, и нашими глазами наступавшего «революционного» 1991 г., как бы охватить столетие Прокофьева и в последовательности и сразу целиком, причем с разных сторон.
Единственное, что изменила редакция – название: вместо предложенного заголовка «Явление», появилась «Солнечная симфония». Хотя сейчас, по прошествии времени, видно, что они не противоречат друг другу, – ив том и в другом прячется взгляд на художника, а для читателя газеты второй заголовок, наверное, был более завлекателен. Полный текст юбилейного портрета Прокофьева демонстрирует один из бесконечного множества вариантов совмещения разных подходов в рамках одного текста.
Солнечная симфония (Явление)5
«Как-то в солнечный день я шел по Арбату и увидел необычного человека. Он нес в себе вызывающую силу и прошел мимо меня, как явление. В ярких желтых ботинках, клетчатый, с ярко-оранжевым галстуком. Я не мог не обернуться ему вслед – это был Прокофьев…». Мимолетное впечатление конца 30-х годов, отраженное в воспоминаниях Святослава Рихтера, удивительный по точности буквы и духа портрет.
Сергей Прокофьев – человек исключительной судьбы. Высшие силы бытия, щедро одарив, чутко вели его сквозь бури сложного XX века, многократно оберегая и сохраняя для главного предназначения – творчества. Таких знаков благоволения – множество.
И детство в солнечной южнороссийской провинции, где здоровый уклад жизни, благодатная природа, внимание и забота родителей, пестовавших одаренного мальчика, – все способствовало стремительному и многогранному развитию личности.
И профессиональное становление в ту интереснейшую, беспокойную, бесценную для культуры пору Санкт-Петербурга начала века, куда в 1904 году его тринадцатилетнего привезли для поступления в Консерваторию.
И ранний выход на мировые орбиты: блистательное завершение сыном музыкального образования мать наградила поездкой в Лондон, где молодой композитор получил от Дягилева первый заказ, ставший началом долгого сотрудничества. «В Лондоне все было так интересно, – напишет позднее Прокофьев, – что я едва не прозевал надвигающуюся европейскую войну и лишь совершенно нечаянно вернулся в Петербург за несколько дней до начала ее». А через год уже концерты в Риме, снова, несмотря на военные действия в Европе, поездка – жизнь и рядом с опасностью и, одновременно, совершенно независимо от нее, в другом измерении, предельно насыщенном творчеством и только им. В 1918 году это повторится на куда большем витке напряжения: решив направиться в Америку, Прокофьев буквально чудом проедет всю Сибирь, уже сотрясаемую конфликтами нарождающейся гражданской войны.
С этого времени начинается шествие Прокофьевской музыки по эстрадам и театральным подмосткам крупнейших городов Америки и Европы. Казалось бы, ему, как и многим выдающимся россиянам, уготована роль гражданина мира. Но и здесь у Прокофьева свой путь. Все чаще наезжая, к середине 30-х годов он окончательно возвращается на родину. Чтобы дома пережить военное лихолетье. Чтобы достигнув глубин мастерства, здесь же пройти и через огромный успех, и через тяжелейшие потрясения. И даже смерть Прокофьева отмечена особым поворотом колеса истории – он ушел из жизни 3 марта 1953 года, в день, когда умер Сталин.
Прокофьев рано получил звание «свободного художника» – так именовались окончившие класс форм Петербургской консерватории. Но звание это не только в прямом, но и в более широком, даже философском смысле очень точно выражает суть его художественной натуры. Письма, воспоминания, высказывания композитора, с блеском написанная «Автобиография» выдают острый независимый ум, тяготеющий к нетривиальности суждений, к юмору, шутке, иронии, объектом которой нередко становится он сам. Корни этой внутренней независимости заложены уже в детстве: «в десять лет я имел собственную точку зрения на музыкальные сочинения и мог ее защищать». В еще большей степени олицетворением свободы художника явилось новаторское, дерзкое, бунтарское композиторское творчество Прокофьева.
«Кардинальным достоинством (или пороком, если хотите) моей жизни всегда были поиски оригинального, своего музыкального языка. Я ненавижу подражание, я ненавижу избитые приемы» – этому кредо композитор не изменял на всем протяжении творческого пути. Сначала многим казалась разрушительной стихия его непривычного звукового мира, с которым он ворвался в музыкальную культуру. Вся эта «прыгающая, бегающая, кипящая, долбящая, гримасничающая», по словам замечательного критика В. Каратыгина, музыка, столь созвучная умонастроениям многих других бунтарей и собратьев по искусству – художников группы «Бубновый валет», с их устремленностью к идеям кубизма и фовизма, поэтов-футуристов. Любопытна в этом смысле одна максималистская дарственная надпись Маяковского Прокофьеву: «Председателю Земного шара от секции музыки – председатель Земного шара от секции поэзии».
Однако чуткое ухо прогрессивных современников очень скоро восприняло и созидательную силу сильного и цельного искусства Прокофьева. За поражавшей воображение звуковой стихией, эпатирующей одних и восхищавшей других, вставал образ бурной и сложной эпохи, воссозданной музыкантом. Наступательная моторика, новые жесткие «варварские» ритмы и вневременная стройность неоклассицистских образов, кипящая лава «Сарказмов», «Наваждения» и хрупкая, разбросанная робкими островками лирика – все эти знаки образного мира раннего Прокофьева сохранят свое значение на всем протяжении творчества композитора. Сменятся лишь акценты, и позднее на первый план выйдет именно лирика. «В лирике мне в течение долгого времени отказывали вовсе и, непоощренная, она развивалась медленно, – напишет композитор. – Зато в дальнейшем я обращал на нее все больше и больше внимания».
Прокофьеву удалось создать свой неповторимый музыкальный язык. Он узнаваем с первых звуков. Прокофьевская гармония, мелодика, ритмика, оркестровое письмо как особый феномен стали предметом специальных научных исследований. А магия его индивидуального стиля столь сильна, что породила и эпигонов. Многие поколения музыкантов вольно или невольно испытывали на себе его сильнейшее влияние, есть и такие, которые до сих пор идут в его фарватере. Уже под флагом традиционализма, ведь сегодня Прокофьев – классик.
Творческое наследие Прокофьева поражает обилием и разнообразием жанров. Кажется, что ему хотелось испробовать все. И для этого были все возможности, ведь он был музыкант-универсал: композитор, пианист, дирижер. Блистательный и специфичный пианизм Прокофьева оставил после себя не только многочисленные размышления специалистов и темпераментные рецензии ведущих критиков разных континентов, но и ценнейший пласт фортепианной музыки XX века. Его сонаты, концерты, многочисленные пьесы – одни из самых репертуарных во всем мире, интерес к ним не ослабевает. Напротив. Ни юный ученик, ни маститый художник сегодня не могут пройти мимо Прокофьева, не боясь остаться односторонними. Думается, для полноты художественного развития пианиста запечатленный в звуках мир Прокофьева сегодня также необходим, как, например, мир Баха, мир Моцарта и Бетховена, Шопена и Шумана. Но среди всего этого богатства созданной музыки, рядом с симфониями и концертами (фортепианными, скрипичными, виолончельными), рядом с разнообразной камерной и вокальной музыкой главным для Прокофьева на его жизненном и творческом пути всегда был театр.
Чувством театра Прокофьев был наделен в избытке. Тяга к лицедейству, к розыгрышам, детские представления, которые сам придумывал и организовывал, давая волю распиравшей фантазии, явились той благодатной почвой, на которой смогло развиться новаторское и самобытное явление в культуре XX века – музыкальный театр Прокофьева. Оно охватывает огромный багаж – семь балетов, восемь опер (не считая, естественно, еще доконсерваторских проб пера, которые, как явствует из колоритных воспоминаний о вступительном экзамене, включали и «четыре оперы»). Однако по существу театральных работ больше. Свой путь на музыкально-театрально-балетную сцену в той или иной форме нашли и многие другие сочинения композитора – театральность его мышления, вещность и броскость звукообразов неоднократно будили воображение хореографов и режиссеров. Так вторую жизнь в музыкальном театре пережили музыка к киношедеврам Эйзенштейна «Иван Грозный» и «Александр Невский», к спектаклю «Борис Годунов», к фильму «Поручик Киже».
Бесспорно, наряду со многими талантами, которыми природа наградила Прокофьева, здесь особенно существенным был талант драматурга. Сочиняя музыку, композитор сразу мыслил синтетически, режиссерски, он как бы схватывал будущий спектакль в совокупности сюжета, звучания и зрелища, а затем в звуках лепил его образ. Вот почему так неповторимы, так жанрово различны все театральные работы Прокофьева. И оперные и балетные.
В опере для Прокофьева чрезвычайно важна комплексная словесно-музыкальная интонация, не случайно и сценарный план своих театральных произведений, и сам текст либретто, как правило, тоже разрабатывал он сам. Это было и в «Игроке» по Достоевскому, и в «Любви к трем апельсинам» по Карло Гоцци, и в «Огненном ангеле» по Брюсову, и в «Семене Кот-ко» по В. Катаеву. И лишь в поздних операх, начиная со стихотворных текстов «Дуэньи» по Шеридану, а главное, с самой сложной работы – оперы «Война и мир» – в разработке текста у Прокофьева появляется помощник – М.А. Мендельсон-Прокофьева.
Театральные произведения Прокофьева, особенно балеты «Ромео и Джульетта», «Блудный сын», «Золушка», исключительно популярны. Можно с большой долей вероятности сказать, что нет ни одной театральной сцены мира, где бы ни шли спектакли Прокофьева. Как нет, наверное, и хореографов и режиссеров, которые не стремились бы интерпретировать его музыку.
Одно такое стремление осталось грустной, даже трагической страницей истории. Связана она с Мейерхольдом. Познакомились они до революции, великий режиссер-новатор ощутил в молодом Прокофьеве родственную художественную душу. Он загорелся ставить первое значительное оперное зрелище Прокофьева – «Игрока» (1916) на сцене Мариинского театра. Помешало время. Затем Мейерхольд подсказал Прокофьеву сюжет «Любви к трем апельсинам». Позднее в 1936 году для него писал Прокофьев музыку к пушкинскому «Борису Годунову», но и этот спектакль не пошел. Наконец, Мейерхольд уже начал репетировать оперу «Семен Котко», когда его арестовали. Какие страшные повороты судьбы!
Не только в восприятии окружающих, но и сам в себе Прокофьев всегда ощущал призвание новатора, идущего своим непроторенным путем. Он развивал это ощущение, был требователен к себе, что порой принималось за высокомерие, но он и знал себе цену. Именно таким – уверенным, независимым, раскованным – и увидел его Рихтер на Арбате в 1937 году. И трудно даже представить каким мучительным попранием достоинства должно было явиться для Прокофьева печально знаменитое постановление ЦК ВКП(б) 1948 года, разносом музыкантов завершавшее послевоенный погром в культуре.
Удар был направлен по самым талантливым и неординарным – прежде всего по Шостаковичу и Прокофьеву. Партийное постановление, совещание деятелей советской музыки в ЦК, последующее многодневное собрание в Союзе композиторов с поношениями и покаяниями (Прокофьев на этом собрании не был, но прислал письмо, написанное строго и с достоинством, с «признаниями ошибок», но без самобичевания) – все это надо было пережить. Пережить и лексику самого постановления, в котором произведения корифеев отечественного искусства нарекались «формалистическими извращениями», «сумбурными, невропатическими сочетаниями, превращающими музыку в какофонию». Пережить и дикий тон барской выволочки в докладе Жданова: «…мы не считали, что ваши произведения свободны от недостатков, но мы терпели, ожидая, что наши композиторы сами найдут в себе силы для того, чтобы избрать правильную дорогу. Но теперь всякий видит, что необходимо было вмешательство партии». И она вмешалась!
В тот же год были изъяты из репертуара «Дуэнья» и «Война и мир», не вышла к слушателям и готовившаяся премьера новой оперы «Повесть о настоящем человеке», перестали звучать симфонии. Все было объявлено «формалистическим». И даже более благополучный с позиции ревнителей народности новый балет «Каменный цветок», начатый летом того же 1948 года, написанный удивительно быстро и практически завершенный к 1950 году, так и не увидел свет рампы при жизни композитора.
Конечно, болезнь, которая спустя пятилетие унесла жизнь Прокофьева, имела свой сугубо медицинский диагноз. Но не надо быть врачом, чтобы представить сколь щедрую лепту в душевное и физическое состояние композитора, в его недуги последних лет должны были внести тягостные события 48 года.
И не эти ли события, сейчас осужденные и почти забытые, возымели такие далекие последствия, что по прошествии многих лет в Москве нет ни мемориальной квартиры, ни музея Прокофьева (мини-экспозиция в детской музыкальной школе им. Прокофьева, естественно, не в счет)? А могла бы и должна была бы им стать прокофьевская дача на Николиной горе – место, к которому он был очень привязан и где прошли последние годы напряженного творческого труда. Петру Ильичу Чайковскому в этом плане повезло больше, после его внезапной кончины брат Модест Ильич и преданный слуга Алексей Иванович Софронов сумели откупить клинский дом и сохранить его для потомков. Но пришли другие времена, и дом Прокофьева на Николиной горе – практически готовый музей – так и не стал им. Наш долг сегодня перед памятью великого музыканта еще не оплачен.
1991 год по решению ЮНЕСКО объявлен годом Сергея Прокофьева. Вместе со всеми готовясь праздновать столетие со дня рождения замечательного русского композитора, мысленно проходя шаг за шагом его путь в этом мире, слушая его музыку, понимаешь – это была уникальная судьба. Его портреты писали выдающиеся художники – 3. Серебрякова, А. Бенуа, А. Матисс, Н. Гончарова, П. Кончаловский, Б.Ф. Шаляпин. Его сочинения начинали свою публичную жизнь в Петербурге и Москве, Лондоне и Париже, Брюсселе и Чикаго, Нью-Йорке и Берлине. Его товарищами и соратниками по искусству были крупнейшие деятели мировой культуры XX века – режиссеры, балетмейстеры, композиторы, дирижеры, литераторы, художники, артисты. Он познал, быть может, высшее человеческое благо – преданную дружбу, пронесенную через всю жизнь. Таким другом был Николай Яковлевич Мясковский, это ему принадлежат сегодня уже хрестоматийные слова, написанные в письме Прокофьеву после получения нот «Огненного ангела»: «…еще стоит жить на свете, пока сочиняется такая музыка!». А на закате дней как посланник нового поколения больших музыкантов в жизнь Прокофьева вошел молодой М. Ростропович. Ему посвящено последнее законченное сочинение композитора – Симфония-концерт для виолончели с оркестром.
Среди многих бумаг, оставшихся после Прокофьева, есть небольшая книжечка в светлом деревянном переплете. Это – альбом автографов 1916–1921 годов, в котором многие знаменитости, друзья и знакомые отвечали на вопрос: «Что вы думаете о Солнце?». Всего 48 записей. Одна из них принадлежит Николаю Николаевичу Черепнину – любимому профессору, дирижеру и композитору, лучше многих других понявшему и оценившему божий дар своего великого ученика. Запись, сделанная после генеральной репетиции «Классической симфонии», гласила: «Когда Вы вышли сегодня дирижировать Вашей солнечной симфонией, луч солнца заиграл на Вашем милом лице. Была ли это улыбка сочувствия родственной Вам стихии, я не знаю, но я уверен, что это могло бы быть так».
Примечания
1. Асафьев Б.В. Критические статьи, очерки и рецензии. – М.; Л., 1967. С. 259–262.
2. Нейгауз Г. Дмитрий Шостакович // Сов. искусство, 1941, 2 окт. Цит. по: Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники: Избр. статьи. Письма к родителям. С. 186–187.
3. Беседы с Альфредом Шнитке. – М., 2003. С. 235.
4. Стасов В.В. Статьи о музыке в пяти выпусках. Вып. 3. – М., 1977, С. 267.
5. Курышева Т.А. Солнечная симфония //Сов. культура, 1991, 5 янв. С. 3.
7. Массовая музыкальная культура как объект рецензирования
Культуру
высокую
в массы
двигай!
В. МаяковскийПолноценный и объективный музыкально-критический взгляд на современный музыкальный процесс не может обойти своим вниманием массовую музыкальную культуру. Как пишет один из ведущих отечественных специалистов в этой области A.M. Цукер, «необходимо изначально признать, что музыка, обладающая огромной общественной распространенностью, обращенная к большой массе людей, апеллирующая к ее духовному опыту, удовлетворяющая многие ее жизненные, социальные, эстетические потребности, отражающая наиболее общезначимый для нее круг тем, образов и эмоций, является не „приложением“ к культуре, а ее важнейшей составной частью»1.
По сложившимся подходам массовую музыкальную культуру принято рассматривать как некую оппозицию академическому музыкальному искусству. Основная платформа для подобной оппозиции базируется на том, что академическая музыка направлена на посвященных, музыкально образованных, а массовая – предназначается для всех. Однако, с точки зрения предназначения, известно, что в исторической перспективе встречаются многочисленные примеры миграции музыки из сферы массовой культуры в область академической музыки, и наоборот. В первом случае отдельные музыкальные образцы (к примеру, бытовой, обиходной музыки), становясь достоянием истории, возвращаются к нам в новом качестве – как явления музыкальной культуры прошлого, на которые направлен интерес знатоков и любителей музыки. Во втором – растущее общественное внимание и, как следствие, широкая популярность могут ввести отдельные образцы «академической» по происхождению музыки в широкий музыкальный обиход, то есть как бы сделать достоянием музыкальной культуры «массовой». Причем сказанное можно отнести не только к музыкальным сочинениям, но и к исполнительству. К примеру, всемирно знаменитая троица теноров (Лючано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас) с их многомиллионной, благодаря телевидению, аудиторией активно участвует в современном музыкальном процессе на позициях массовой музыкальной культуры, делая массовыми «хитами» классические оперные арии. Другой – отечественный академический тенор Николай Басков – уже впрямую приобщился к сфере массовой музыкальной культуры, сменив репертуар, манеру исполнения (микрофон) и сценический имидж.
Все, что происходит в музыкальном искусстве, связано как сообщающиеся сосуды. Эти процессы «перетеканий», а точнее – взаимодействия и взаимовлияния, в последние десятилетия активно изучаются соответствующими направлениями музыкальной науки. В частности, два докторских исследования, возникшие на близком временном отрезке, почти один за другим, в своих подходах идут как бы с разных сторон навстречу друг другу. В первом в центре внимания воздействие музыкально-стилистических элементов массовых жанров на академическое творчество2, во втором, напротив, рассматриваются процессы, происходящие в массовой и неакадемической музыке под влиянием академической музыкальной культуры3.
Апогеем идеи взаимопроникновения можно считать понятие «третье направление» («третье течение», «третий путь», «третья музыка»), сформулированное в 80-е годы Р. Щедриным прежде всего в связи с появлением рок-оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось»: «Это направление стремится объединить в себе приемы, технологию и эстетику музыки серьезной, классической и современной, с одной стороны, с доступностью, простотой, незатейливостью музыки развлекательной, легкой, еще точнее – коммерческой – с другой»4. В Союзе композиторов в последнее советское десятилетие даже была создана «Лаборатория третьего направления», которая объединяла сходных по творческим устремлениям композиторов. Хотя есть музыканты, которые это понятие не приняли, в частности Э. Денисов. «Нет никакого „третьего направления“! – заявил он в одном интервью. – Это ложное направление, которое собрало вокруг себя людей, которые не умеют писать ни хорошую серьезную музыку, ни хорошую эстрадную, джаз или рок-музыку. А поскольку они не умеют писать ни то ни другое, они выбрали серединку»5.
Совершенно очевидно, что с собственно музыкальных позиций никакой жесткой границы между «первой» и «второй» музыкой нет и быть не может. Единое музыкальное пространство, как и сами результаты музыкального творчества, могут оцениваться, опираясь на общие принципы оценочных подходов, о которых уже многократно шла речь. В частности, представляется поучительным привести высказывание Р. Щедрина в ответ на вопрос о различиях в типе мышления в той и другой сферах:
Мне кажется, что импульс творческого вдохновения, влечения – он один и тот же. Вообще я могу лишь повторить слова Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, который когда-то сказал очень здорово. Он сказал, что и легкая музыка, и серьезная музыка, они зиждутся на совершенно одном и том же: есть верхний голос (мелодия), есть бас и есть средний голос (гармония). Так что вот эти три кита, на которых стоит музыка, они те же самые и для музыки легкой, развлекательной, и для рок-музыки, и для джазовой музыки, и для музыки серьезной. Это действительно так. Не думаю, что сегодня кто-то со мной стал бы спорить. Варианты возможны, скажем, для среднего голоса, разница во всяких мелочах. Но суть остается та же самая6.
Однако музыкальный «общий знаменатель» не дает ответа на основной вопрос: в чем все же особенности явления современной массовой музыкальной культуры, каковы основополагающие признаки, позволяющие и практикам, и научной мысли выделять ее как самостоятельное направление в музыкальном процессе. В поисках ответа следует признать главное: современная массовая музыкальная культура – также творческий объект, но объект специфический. Уже в самом понятии заключены две стороны: художественная (музыкальная культура) и общественная (массовая культура).
Хотя их соотношение не всегда адекватно друг другу, тем не менее при формировании ценностных критериев и оценочных подходов должно исходить из обеих составляющих, их равной социокультурной значимости. Учитывая подобную дуалистичность (сочетание художественного и социального аспектов), речь должна идти как о внутримузыкальных свойствах, так и об особенностях, обусловленных механизмом функционирования в обществе. И только в комплексе можно определить ценность того или иного конкретного явления, наметить возможные критико-журналистские подходы к нему.
Краеугольным камнем в определении принадлежности художественного явления к массовой культуре следует считать критерий доступности, один из существенных с позиции коммуникативного оценочного параметра (см. раздел 4.3). Контакт, необходимый в ситуации художественной коммуникации, при массовом «потреблении» оказывается важнейшим требованием: предлагаемое музыкальное явление (песня или программа; исполнение – солист, группа, ансамбль, или постановка – спектакль, шоу) должно восприниматься многими. Банально известное – публика хочет узнавать, а не познавать – к массовой музыкальной культуре относится в полной мере, поскольку «узнавание», как ни что другое, способствует доступности. У психологов музыкального восприятия якобы даже существует расчет – какой процент незнакомого, «с ходу» невоспринимаемого нельзя превысить, чтобы не возникло полное отторжение. Кстати, сознательное позиционирование себя как композитора «третьего направления» неизменно включало утверждение потребности сочинять «большую», «серьезную» музыку для широкой аудитории, а не для ограниченного, избранного круга.
Фактор доступности как гарантия восприятия проявляется во всех направлениях функционирования массовой музыкальной культуры – и творческих, и организационных. Музыкальный материал, характер его подачи, формы распространения, отражение в общественном сознании посредством СМИ – все это в комплексе «работает» на доступность многим, «массе» (хотя нередко и «зомбирует», «подсаживая на иглу» доступной художественной пищи, не требующей никаких усилий для ее поглощения). В поисках специфических черт явления современной массовой музыкальной культуры, исходя из которых может вырабатывать свои подходы музыкальный журналист-критик, попытаемся уточнить и систематизировать основные направления оценочной мысли.
Внутримузыкальные особенности
В этом случае следует иметь в виду разные специфически музыкальные свойства, позволяющие журналисту-критику, во-первых, уже «на слух» отнести предлагаемое вниманию явление к области массовой музыкальной культуры, во-вторых, определить контекст, в который следует погрузить данное конкретное музыкальное явление с целью последующих сравнительно-оценочных операций. Речь идет:
– о принадлежности к доминирующим жанрово-стилистическим направлениям (ВИА, рок-музыка во множестве разновидностей, джаз, песенно-шлягерная поп-музыка, бардовская песня, диско или любая другая современная танцевальная музыка, рэп и т. п.);
– о «языковых» отличительных свойствах —
интонационных (ясно выраженное мелодическое начало, сравнительно простая ладогармоническая основа, доминирующая роль ритма, опора на известные танцевальные ритмические модели и т. п.);
темброво-инструментальных (манера пения, соответствующий для каждого музыкального направления инструментарий, особая роль электрогитар и перкуссии – многоплановых ударных установок);
композиционных (куплетная форма, доминирующая вариационность в инструментальной музыке и т. п.);
– об исполнительских аспектах преподнесения музыки (микрофонное пение, электронные инструменты и аппаратура усиления звука, звукорежиссерское управление звуком, возможность выступления под фонограмму, непременные акустические гитары в «бардовской песне»).
Хотя в соотношениях основных оценочных параметров приоритетное значение имеет коммуникативный (доступность), но и языковые, и содержательные аспекты оценок могут оказаться важными для последующих выводов. Причем кажущаяся простота музыкального материала (с позиций академических требований) на художественный результат никак не влияет: главное – степень удовлетворения художественных запросов аудитории. В одной из своих работ A.M. Цукер это специально выделяет:
Нередко в оценке отдельных жанров массовой музыки критики, отмечая простоту используемых в них средств, иногда предельную до элементарного, механически переносят это качество и на область их содержания, что совершенно неправомерно. Массово-бытовые жанры обладают способностью заключать в компактных, не отягощенных какими-либо изысками лексических формулах обширную содержательную информацию. Подчас самая простая музыка может стать знаком далеко не простых, многозначных образов, носителем разнообразных жизненных аллюзий, психологических подтекстов. Будучи теснейшим образом связанной со временем, миром повседневной жизни, общечеловеческими эмоциями, она воздействует на слушателей не только своими внутренними качествами, собственной системой средств, но и всем социокультурным контекстом, становящимся частью ее содержания7.
Комплексное художественное воздействие
Опора на комплексное (синтетическое) художественное воздействие – важное средство усиления доступности. Причем для массовой музыки в равной мере важны все формы художественного синтеза (см. раздел 5.4.) – и со словом, и со зрелищем.
Синтез музыки и слова – одна из органичных черт современной массовой музыки. Начиная с группы «Битлз», все ВИА, рок-группы многих направлений, не говоря о поп-музыке в ее эстрадной или экранной версиях, – все это вокально-инструментальная музыка, музыка со словом. Качество текстов занимает всю ценностную нишу от нередко абсолютной нелепицы в «попсе» (типа «муси-пуси») до распетой высокой поэзии. Столь же различным может быть и значение слова: например, нонконформистская отечественная рок-музыка в лице своих лидеров, как правило самих писавших и музыку и тексты (Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Игорь Тальков, Андрей Макаревич и др.), была не только музыкальной, но и словесной «фрондой». Не менее ярким проявлением роли слова стало «бардовское» музицирование, авторская песня, где в синтезе музыки и текста последнему явно принадлежит центральное место, а музыка нередко выступает в роли интонационно-ритмической поддержки. Песни Владимира Высоцкого, Александра Галича, Булата Окуджавы уходили в народ как распетая поэзия.
Оценка художественного результата обойти текстовую составляющую массовой музыки не может никак. Хотя важно понимание уровня их взаимодействия: взамодополнение, усиливающее художественный эффект, либо главенство чего-либо одного, к примеру констатация огромной популярности музыкального шлягера с посредственным текстом, из которого в лучшем случае все помнят лишь «ключевой слоган». Через слово доступнее и ярче всего выражается социальная направленность той или иной музыки.
Синтез музыки и зрелища – не менее важная черта массовой музыкальной культуры, причем эта тенденция непрерывно усиливается. По сути все виды современной массовой неакадемической музыки принадлежат к аудиовизуальным формам с разной степенью театрализации – от сценически обыгранного концерта до сложносоставного свето-цвето-игрового музыкального шоу. Сегодня им непременно сопутствует работа постановщиков – режиссера, художника, которая включает множественные изобразительные задачи. И не только.
Танцевально-ритмическая основа массовой музыки взывает к ее «пластическому прочтению». «Танцуют все»! И солисты-певцы, и подпевающая вокальная группа, и инструменталисты с электрогитарами в руках. А поскольку задачи все усложняются, то на авансцену эстрадной вокальной поп-музыки вышла группа балетной поддержки, ставшая практически обязательной. Ее количественный состав и качественный уровень напрямую зависят от финансовой оснащенности постановки. В отечественной шоу-индустрии уже существует даже специальная балетная труппа «Тодес», обслуживающая подобные творческие задачи.
«Зрелищецентризм» культуры XX–XXI вв., о котором ранее шла речь, в эстетике современной массовой музыкальной продукции явно превалирует. И творческий результат в этой сфере чаще всего должен анализироваться и оцениваться именно с позиций синтетического искусства – зримо преподносимой музыки.
Высшим проявлением названных тенденций можно считать жанры мюзикла и рок-оперы. По музыкальной стилистике они преимущественно пребывают в системе массовой музыки – популярной эстрады, джаза, рок-музыки. По форме – опираются на законы музыкального театра. И явно не случайно, что соединение крупной классической музыкальной формы и доступной, привлекательной для многих музыкальной стилистики – то, к чему стремились композиторы «третьего направления», – последовательнее всего реализовалось не в рок-симфониях, а именно в рок-операх. Синтетический жанр, где музыка сочетается со словом и зрелищем, стал самым ярким проявлением «третьего пути», а точнее наиболее последовательным сближением двух основных «путей».
Приоритет исполнительского творчества
Слушательский спрос отдает абсолютное предпочтение исполнительским аспектам бытия массовой музыки. Ранее уже говорилось, что исполнение музыки – наиболее привлекательное и доступное проявление музыкального искусства (см. раздел 5.3). В массовой музыкальной культуре эта тенденция доведена до своего апогея. В историческом обзоре происходившего в отечественной массовой музыке последней трети ушедшего века так оценивается этот процесс: «…фигура создателя музыки – композитора-профессионала – в целом становилась все менее значимой, а зачастую и вообще сводилась на нет. На эстраде личность автора перестала акцентироваться, оказалась „подмятой“ всевластной фигурой исполнителя – так называемой эстрадной звезды»8. Зритель-слушатель отождествляет «звезду» с музыкой, исполнитель получает все лавры (и порицания).
Сказанное прежде всего относится к поп-музыке. В рок-музыке по большому счету такой проблемы нет, поскольку музыканты, как правило, играют свои композиции, где музыкальный материал, стиль исполнения и все сопутствующие приемы неразрывно слиты. Хотя солисты – рок-звезды – тоже есть, и в ряде случаев очень яркие. Главное же то, что для публики абсолютно безразлично, кто сочинил тему и все остальное, для нее важен только окончательный творческий результат, который исходит от исполнителя.
Приоритет исполнительского творчества влечет к разным последствиям. С одной стороны, исполнители-звезды, понимая свое абсолютное самовластие, в случаях когда привлекается композиторское сочинение, сами (с помощью своих аранжировщиков) адаптируют его соответственно собственной манере музицирования, выступая в роли «автора» новой версии (яркий пример – проект «старые песни о главном»). Отсюда и следующий шаг – сочинение музыки, а нередко и текстов, самими исполнителями (в основном для себя) и их самоидентификация как композиторов. С другой стороны, и некоторые композиторы, стремясь к личному контакту с публикой, при возможности сами выходят на эстраду (а уж на авторских концертах, сидя за роялем, «композиторским голосом» поют многие!). В авторской, «бардовской» песне все это просто не разделимо.
Слово звезда – одно из средств возвышения исполнителя, некий «знак качества» (уже появились в обороте и усиливающие значимость приставки: суперзвезда, мегазвезда!). В его основе – рейтинг популярности, известности, способность держать очень высокий уровень влияния при художественном контакте с публикой, быть объектом поклонения. Идеология звездности – важная составная часть современной массовой культуры, но, одновременно, и ее «болезнь», своего рода новое идолопоклонство. Фанатизм публики, направленный на «обожествление» отдельных звезд массовой культуры, породил особую породу слушателей – «фанов».
В реальном мире звезда может гореть очень ярко, но может тускнеть и погаснуть. И в мире искусства звездность не абсолютное свойство любого исполнителя, но знак личности (каждая звезда в небе сама по себе). Тем нелепее выглядит название телепроекта «фабрика звезд». Одна из оценочных задач музыкально-критического журналиста определить и обосновать – кто перед нами: личность или штампованная на «фабрике» блестящая деталька.
Приоритет развлекательной ценности
Из условно выделенных ценностных составляющих музыкального искусства (см. раздел 4.1) в массовой музыкальной культуре доминирующая роль принадлежит, несомненно, развлечению. Потребность в этой ценности в обществе очень велика, и массовая музыкальная культура направлена на ее удовлетворение. Художественное удовольствие – одна из важных, очень ценных составных частей досуга, а способность музыки «сделать настроение» вообще не знает соперников. Массовая музыка обращена прежде всего к эмоциям, ее танцевально-ритмическая доминанта, будь то поп-музыка, джаз или рок, уже на «генетическом» уровне несет в себе огромный положительный эмоциональный заряд.
В отдельных проявлениях массовой музыки можно наблюдать ценность в служении. В частности, в период ленинградского «андеграунда» рок-концерты групп «Аквариум», «Кино» и других в восприятии публики зачастую напоминали религиозное отправление (не говоря о выступлениях по миру «Битлз» и некоторых последующих «культовых» групп). Известно, что рок-музыка в своих истоках – не просто творческое явление, но некий конгломерат искусства (музыки и поэзии), образа жизни и мировоззрения. Во введении специального исследования можно прочесть такие размышления: «Рок-лихорадка, впервые охватившая Запад в 60-е годы, была не только симптомом обострившихся социальных противоречий. Музыка, родившаяся тогда, наряду с поэзией, философией и другими мировоззренческими формами молодежного движения, стала частью некоего духовного процесса…»9.
Роль публики
Одна из важнейших отличительных черт массовой музыкальной культуры – сотворческая роль публики. Сидящий в зале – не просто слушатель, «потребитель» художественной «продукции», он равнозначный участник коммуникации. В отличие от академического слушателя он свободен в своих реакциях – может шумно приветствовать выход исполнителей и удачные музыкальные находки, может петь, танцевать, скандировать, свистеть и т. п., участвуя «на равных» в повышении эмоционального градуса события. «Открытость» публики помогает точнее определять степень ее понимания и характер восприятия предлагаемого творческого явления.
Поскольку мир меняется стремительно, непрерывно меняется и публика, ориентированная на массовую музыку. Это можно наблюдать по эволюции поведенческих моделей, особенно наглядной в рамках молодежной субкультуры, где происходит частая смена «слушательских поколений», а все реакции заострены и, порой, нарочито агрессивны.
Публичное поведение аудитории массового музыкального события, степень ее участия в нем – интересный объект наблюдения не только для исследователей-музыкантов, но и психологов, социологов, философов. Исключительно важен он и для музыкально-критического журналиста, формирующего и излагающего свою оценочную позицию о свершившемся художественном событии.
Ориентация на актуальное, модное
Массовая музыка, как лакмусовая бумажка, отражает то, что актуально, что наиболее востребовано, модно в данный момент. Законы моды (см. раздел 4.1) действуют здесь неукоснительно: опора на доступное, на узнаваемое влечет к немедленному тиражированию успешных находок. Именно поэтому в массовой музыкальной культуре таким пышным цветом цветет вторичность (повторы и самоповторы), эклектика, а порой и просто плагиат (особый пример криминального «исполнительского» плагиата – появление дублеров-самозванцев модных артистов, колесящих с фонограммой в руках по нашей необъятной стране; так «клонировали» поп-группу «Ласковый май», затем шоу «Верки-сердючки»…). И отсюда же быстротечность, краткость бытия сделанного и самих «деятелей» на эстраде. О подлинных звездах речь не идет – они не уходят, но также активно меняют свой стиль, имидж, репертуар, опираясь на веления момента. Спрос определяет предложение.
Потребность быть на пике спроса влечет за собой одно свойство, важное для функционирования в массовой культуре: нельзя допускать, чтобы о тебе забыли (из-за названной быстротечности все и всё забывается стремительно). Первое средство – СМИ: пусть ругают, пусть идет публичный скандал в печати, только не забвение! Другой, весьма распространившийся способ – пародии. Пародисты нарочито демонстрируют – что, а точнее, кто находится на пике интереса массовой публики. Тем более что пародировать можно только ярко выраженную индивидуальность, причем хорошо известную – узнаваемую и популярную.
Формы бытования
Массовая музыкальная культура контактирует со слушателем в разных формах. Это могут быть:
– публичные музыкальные события – концерты, шоу, представления, дискотеки и т. п.;
– аудио– и видеопродукция;
– представление через систему масс-медиа.
Публичные события, принадлежащие массовой музыкальной культуре, не нуждаются в принципиально ином освещении, базовыми могут оставаться основные подходы к художественному событию (см. раздел 5.5). Хотя, естественно, при отклике на событие важны детали, которыми оно наполнено. В преподнесении массовой музыки их много и они принципиально отличны.
Одно из важнейших публичных событий масскультуры – эстрадный концерт, явление не только событийного, но и музыкально-жанрово-стилистического порядка («эстрада»). Современный эстрадный концерт все чаще реализуется как эстрадное шоу (английское show переводится как показ, зрелище, спектакль, киносеанс, выставка, витрина, внешний вид, показная пышность) с усиленной ролью эффектного зрелища и выстроенной целостной драматургией всей программы.
Аудио– и видеопродукция – форма тиражирования любой музыки, как академической, классической, так и не-академической. Жизнь музыки в записи предполагает кроме автора музыки и исполнителя присутствие еще одного участника – звукорежиссера, от мастерства которого во многом зависит художественный результат. Его работа также может находиться в объективе оценки.
Аудиозапись – самый массовый вид распространения музыки. С этих позиций – не стиль или время создания, но покупательские рейтинги определяют уровень «массовости». Золотые и платиновые диски, ежегодная премия Гремми и многие другие известные награды выявляют победителей, которых больше всего слушают, любят, покупают. Масштабы распространения – объективный показатель популярности исполнителей и уровня художественного развития социума.
Среди аудиовизуальной продукции, принадлежащей сугубо массовой культуре, особое место занимает очень молодой жанр – музыкальный видеоклип. По своему происхождению видеоклип – это рекламный ролик, где музыкальное произведение, обычно песня, преподносится как экранное звукозрелище. Стремительное развитие жанра видеоклипа создало свою эстетику: самостоятельный «спрессованный» сюжет, иногда достаточно далеко отстоящий от темы песни, очень высокий темп монтажа, парадоксальные повороты в развитии зрелищной «фабулы». Главная цель – поразить, заинтересовать, заставить запомнить. Работа режиссеров-клипмейкеров быстро привлекла внимание музыкальной критики, а «клиповое» мышление уже оказывает свое влияние и на большое искусство.
При разговоре о системе масс-медиа с позиции музыкальной культуры речь идет о двух подлинно «массовых» звуковых каналах: радио и телевидении. И одно и другое прочно внедрены в повседневный быт. Музыка радио сопровождает множество людей непрерывно, нередко насильственно: в транспорте, на кухне, в лабораториях и офисах и т. п. Телевидение, которое есть практически в каждом доме, также неотъемлемый, а зачастую очень любимый компонент быта, причем для многих он желанен как живое существо, как верный друг, порой громкий и надоедливый, но совершенно необходимый, спасающий и от одиночества, и от житейского напряжения.
Среди массовых каналов телевидение – постоянный источник художественных впечатлений, а также для многих главное средство отдыха и развлечения. Оно абсолютный лидер в массовой репрезентации музыки, хотя людей, выходящих на контакт с ним, называют телезрителями (зрителями, а не слушателями!) даже в тех случаях, когда вниманию предлагается трансляция концерта или оперного спектакля. Именно поэтому для многих людей, особенно профессионалов, телеэкран как источник серьезных музыкальных впечатлений практически не существует, а трансляция концерта или спектакля воспринимается скорее как наглядная информация о художественном явлении, чем как само явление. И все-таки искусство прочно обосновалось на телевидении, позволяя говорить о рождении новой музы.
Современное телевидение идеально отвечает потребностям массовой музыкальной культуры. В нем, с одной стороны, есть и звук и изображение, которые непрерывно совершенствуются и обладают всеми возможностями для художественного звукозрелища. С другой – оно по определению канал «массовый». Уже сложилась традиция все мало-мальски значимые события в сфере массовой музыкальной культуры не просто транслировать, но создавать специальную телеверсию, привлекая соответствующие художественные возможности. Такие программы, как правило, ставятся в прайм-тайм, их смотрят миллионы, и они непременно должны находиться в поле «критического» зрения музыкальной журналистики.
Коммерческий аспект
На одной из встреч в Московской консерватории Р. Щедрин говорил об умении композитора писать коммерческую музыку, такую, которая, если нужно, может «прокормить тебя и твою семью». Однако уметь писать музыку, которая продается, и уметь продавать – не одно и то же. Более того, для многих музыкантов это трудно совместимо. Здесь нужна другая профессиональная «специализация».
В массовой музыкальной культуре сегодня господствует так называемый шоу-бизнес. А там, где музыка становится товаром, вступают в силу законы рынка (уровень его цивилизованности – отдельная тема): нацеленность на прибыль, лучше – сверхдоходы, жесткая конкуренция вплоть до нейтрализации конкурентов, борьба за покупателя (зрителя-слушателя), реклама.
На первые роли в шоу-бизнесе вышла фигура продюсера – «главного идеолога и организатора как создания самой музыки, так и ее исполнения (фабрикующего эстрадных звезд), а главное – ее коммерческого проката»10. И специалисты, и критика прекрасно знают, кто за кем стоит, и кто в том или ином случае управляет процессом, диктует правила игры. Но вот вопрос – должен ли об этом знать массовый слушатель, на которого направлена профессиональная критическая мысль? Наверное, нет. Объектом внимания музыкально-критической журналистики должно быть творчество. И только творческий результат – мерило и успеха и провала. В том числе и продюсера.
* * *
Современная отечественная музыкально-критическая журналистика по-разному реализует себя в сфере масскультуры. Критический взгляд показывает, что в ней преобладают информационно-пропагандистские задачи (а с ними и частые ангажированные выступления в печати в целях «раскрутки», при чтении которых первой мыслью становится – «кто заказал?», «кто проплатил?»), или портретные зарисовки с приоритетным вниманием к бытовым ситуациям, а не к искусству. Задачи аналитические и просветительские сведены к минимуму, что объясняется низким уровнем профессионализма многих авторов, не достаточно владеющих объектом музыкальной масскультуры как художественным явлением.
Также очевидно, что обилие направлений для мыслительных операций требует от музыкально-критической журналистики в сфере массовой культуры большой профессиональной оснащенности не только в музыкальных, но и в социокультурных вопросах. В противном случае легко скатиться в лоно «желтой прессы», когда объектом освещения оказывается не творческая и общественная, а в основном личная жизнь звезд, причем поданная с пристрастием, «с душком», опираясь на нехудожественную или даже вымышленную информацию. Видимо, следует быть достаточно погруженным в мир шоу-бизнеса, его творческие, человеческие, организационные, коммерческие проблемы, чтобы иметь возможность убедительно, аргументированно и ярко (в соответствии с характером объекта) изложить свои выводы, быть услышанным и понятым и читательской аудиторией, и самими участниками художественного процесса.
Кажущаяся легкость и большой спрос естественно приводят в музыкально-критическую журналистику на темы массовой культуры множество людей с немузыкальным образованием (хотя бывают и исключения, только подчеркивающие правило – встречаются «самообразованные» критики, поскольку при желании и определенных музыкальных познаниях такая возможность есть: слушай, читай, думай). Такая практика плодит огромное количество низкопробных журналистских материалов, посвященных массовой музыкальной культуре. Видимо, только комплексная подготовка может дать результат, отвечающий многократно упоминаемому требованию профессионального владения объектом.
Одна из насущных проблем ближайшего будущего – приход в сферу массовой музыкальной культуры нового поколения профессиональной музыкально-критической журналистики, оснащенной необходимыми широкими знаниями, с одной стороны, и толерантностью, открытостью художественным потребностям бурлящего и изменчивого окружающего мира – с другой. И пусть дорогу осилит идущий.
Примечания
1. Цукер A.M. Проблемы массовых музыкальных жанров. Программа-конспект для музыкальных вузов и вузов культуры и искусств. – Ростов-н/Д., 2003. С. 8.
2. Цукер А.М. И рок, и симфония. – М., 1993.
3. Сыров В. Стилевые метаморфозы рока, или Путь к «третьей» музыке. – Н. Новгород, 1997.
4. Щедрин Р. Опера в драматическом театре // Юность, 1982, № 2. С. 87.
5. Денисов Э. Переступив порог кабинета// Огонек, 1990, № 31.
6. Курышева Т.А. Диалоги о музыке перед телекамерой. С. 234.
7. Цукер A.M. Массовая музыка и академическое музыкознание. Единый мир музыки. – Ростов-н/Д. – 2003. С. 233.
8. Цукер A.M. Массовые музыкальные жанры в контексте культуры // История современной отечественной музыки. Вып. 3. – М., 2001. С. 456.
9. Сыров В. Стилевые метаморфозы рока, или Путь к «третьей» музыке. С. 3.
10. Цукер A.M. Массовые музыкальные жанры в контексте культуры // История современной отечественной музыки. Вып. 3. С. 457.
Примечания
1
Не случайно специальные факультеты организационно-экономического направления есть и в ГИТИСе и во ВГИКе – вузах, готовящих специалистов театра и кино. Специальность музыкального менеджмента появилась и в РАМ им. Гнесиных.
(обратно)2
Проблема сдвинулась с мертвой точки. В Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки создано отделение прикладного музыковедения. В 2005 г. там состоялся первый выпуск специалистов прикладного музыковедения – музыкальных журналистов и лекторов.
(обратно)3
Справка о рекомендуемых для музыкальной критики (!) личностях (помимо М. Горького и А. Луначарского) дана по «Советскому энциклопедическому словарю» (М., 1982):
B. Боровский (1871–1923) – «сов. гос., парт, деятель, публицист. Один из первых лит. критиков-марксистов»;
М. Ольминский (1863–1933) – «деятель росс. рев. движения, публицист, критик, историк лит-ры»;
C. Шаумян (1878–1918) – «сов. гос., парт, деятель. Участник трех росс, рев-ций, один из рук. борьбы за сов. власть в Закавказье. С 1917 г. чрезвычайный комиссар СНК РСФСР по делам Кавказа.
Тр[уды] по вопросам марксистско-ленинской теории»;
Н. Крыленко (1885–1938) – «сов. парт., гос. деятель. В 1917–1918 гг. нарком – чл. К-та по воен. – мор. делам, Верх, главнокоманд. С 1918 г. председатель Верх, трибунала, прокурор РСФСР, с 1931 г. нарком юстиции»;
Чудовищная деятельность Н. Крыленко подробно описана А. Солженицыным в исследовании «Архипелаг ГУЛАГ»25.
С. Спандарян (1882–1916) – «деятель росс. рев. движения, лит. критик».
(обратно)4
На материале моей авторской телепередачи «Музыка наших современников» (1984–1988, ЦТ) издана книга «Диалоги о музыке перед телекамерой». Она также может быть использована в качестве дополнительного учебного пособия и послужить убедительной иллюстрацией журналистской работы в этом жанре. В этой книге нашли свое отражение беседы в телеэфире с многими известными композиторами, дирижерами, режиссерами, в числе которых Р. Щедрин, Е. Светланов, А. Петров, Г. Канчели, А. Чайковский, Ю. Темирканов, Ю. Башмет, М. Захаров, О. Виноградов, О. Янченко и многие другие.
(обратно)5
В смешанном жанре устного репортажа и аннотации или интервью, предваряющих телевизионную трансляцию концертов фестиваля «Московская осень», в сезонах 1983–1986 гг. автор настоящих строк вела телерепортажи прямо из ложи Большого зала Московской консерватории и фойе зала им. П.И.Чайковского. В этих репортажах довелось представить широкой публике целый ряд выдающихся премьер, в их числе – кантата «История доктора Иоганна Фауста» А. Шнитке, «Музыкальное приношение» Р. Щедрина, сюита «Колен и Хлоя» из оперы «Пена дней» Э. Денисова, оратория «К солнцу» А. Чайковского и многое, многое другое. Благодаря трансляции с предваряющей развернутой информацией о музыке и авторах, премьеры новых сочинений отечественных композиторов становились событием общесоюзного значения. Такое отношение к серьезной музыке трудно переоценить.
(обратно)

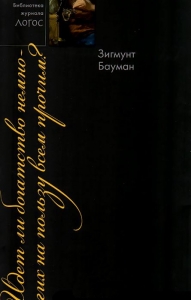



Комментарии к книге «Музыкальная журналистика и музыкальная критика: учебное пособие», Татьяна Александровна Курышева
Всего 0 комментариев