Мартин Эсслин Театр абсурда
ГАЛИНА КОВАЛЕНКО. ИТОГИ ВЕКОВ
В Предисловии к этой книге Мартин Эсслин с иронией констатирует, что название «Театр абсурда» превратилось в расхожее клише настолько, что его употребляют не только не читавшие его книгу, но даже не подозревающие о её существовании. С этим нельзя не согласиться. Другая сторона популярности этого словосочетания в том, что оно как нельзя лучше характеризует эпоху второй половины XX века, исполненную трагизма не только в общественно-политической сфере, но и в личном бытии человека. Сложность этого явления не позволяет считать «театр абсурда» термином. М. М. Бахтин говорил о «предельной однотонности термина», поскольку «происходит стабилизация значений, ослабление метафорической силы, утрачивается многосмысленность и игра значениями».[1]
Внимательный читатель без труда обнаружит в книге близость методологии Эсслина к методологии Бахтина. Эсслин исследует понятие «театр абсурда» в совокупности с другими гуманитарными науками — философией, лингвистикой, филологией, эстетикой. Такой философско-филологический синтез — специфика исследований Бахтина.
Книга Эсслина впервые вышла в Нью-Йорке в 1961 году, тем не менее, его анализ временами совпадает с идеями постструктуралистской и деконструктивистской критики, расцвет которых падает на середину 1960-х — начало 1970-х, периода кризиса структурализма. Наследник европейский культуры, остро ощущающий новые веяния, учёный и практик театра Мартин Эсслин использовал весь современный научный инструментарий, чем во многом определяется непреходящая ценность его исследования одного из магистральных театральных течений современности.
Мартин Эсслин (1918–2002) родился в Вене, учился на английском отделении филологического факультета Венского университета, занимался в театральном семинаре Макса Рейнхардта. Аншлюс заставил его покинуть Австрию и перебраться в Англию. С 1940 года по 1977 год он работал на Би-би-си, занимая разные должности. Его духовной родиной оставалась вся Европа, но дом он обрёл в Англии. Находясь в гуще театральной жизни, знакомя слушателей с новейшими пьесами через Европейское вещание Би-би-си, он писал рецензии, критические обозрения, сценарии, при этом серьёзно занимаясь наукой. М. Эсслин был членом художественного совета многих репертуарных и экспериментальных театров, входил в жюри ряда театральных фестивалей. Многие премьеры европейских пьес, состоявшиеся на Би-би-си, потом в тех же переводах шли по всей стране. Он перевёл на английский язык пьесы Франка Ведекинда, Эдена фон Хорвата, Вольфганга Бауэра.
Однажды сказав «нет» нацизму, он оказывал поддержку европейским интеллектуалам, которых фашизм, как и Эсслина, вынудил покинуть родину, предоставлял им возможность работать на радио, помогал издавать их книги.
С 1965 по 1988 годы он написал и издал книги: «Пинтер — драматург», «Анатомия драмы», «Арто», «Медитации» (куда вошли эссе о Брехте, Беккете, СМИ); «Век телевидения», «Сфера драмы», «Гений немецкого театра», «Европейский театр в период Второй мировой войны». Эти книги широко известны, но самой известной и востребованной остаётся исследование «Театр абсурда», переведённое на многие языки и приравненное в европейских и американских университетах к учебнику. С 1969 по 1976 г. Мартин Эсслин занимал должность профессора в университете штата Флорида, а с 1977 по 1988 г. — в Стэнфордском университете, проводя по полгода в США и в Англии, продолжая активно участвовать в театральной жизни.
Прямая причастность к театральному процессу ощущается во всех его научных трудах, написанных поистине человеком театра.
В «Театре абсурда» дан не только тщательный анализ этого явления в целом и творчества его создателей, но запечатлён облик С. Беккета, А. Адамова, Ж. Жене, драматургов, с которыми Эсслин контактировал лично.
Книга открывается введением «Абсурд абсурда». Понятие «абсурд» рассматривается с лингвистической, философской, филологической точек зрения. Эсслин акцентирует внимание на том, что создатели этой драматургии никоим образом не являются участниками направления или школы. Их объединяет в той или иной степени восприятие бытия и истории. Если следовать за Бахтиным, они исследуют «распад эпической целостности образа человека. Субъективность, несовпадение с самим собою. Раздвоение».[2] Это составная часть универсума театра абсурда, критикующего абсурдность современной жизни, тем самым совершая прорыв через абсурд. В основе структуры этих пьес — поэтический образ, который может состоять из нескольких менее масштабных поэтических образов. Так «В ожидании Годо» Беккета при абсолютном отсутствии сюжета акт ожидания, обрамлённый клоунадой, мюзик-холльными трюками, гэгами — мощный поэтический образ. Слияние поэзии и гротеска рождает иррациональную образность театра абсурда, которую Эсслин уподобляет живописи Ван Гога, «более правдивой, чем научная иллюстрация, даже если у его подсолнуха неправильное количество лепестков». В этом самая большая трудность сценического воплощения этих пьес.
Для пьес абсурда характерны эксперименты с языком. Один из самых впечатляющих — «Лысая певица» Ионеско.
Эсслин показывает, что театр абсурда возник не на пустом месте. Он вобрал и преломил многовековые традиции от античного театра, античных мимов, средневекового площадного театра, commedia dell’arte, Шекспира, Мольера, английских бессмыслиц Э. Лира и Л. Кэрролла до традиций театра А. Жарри, сюрреализма, экспрессионизма, театра жестокости Арто, сновидческих драм Стриндберга и Кокто, пьес Чехова, немого кинематографа с Чарли Чаплиным и Бастером Китоном, раннего Брехта. Эпический театр Мартин Эсслин считает слишком идеологизированным, в то время как ранние пьесы Брехта более сложны, раскрывая способность человека к мимикрии, что присуще и драме абсурда. Новации Джойса, Пруста и особенно Кафки также входят в её арсенал. Эсслин полагает, что сценическая адаптация «Процесса» Андре Жида и Жана-Луи Барро (1947) — первая пьеса абсурда.
Особое место в эстетике театра абсурда Эсслин отводит комическому, переплетающемуся с трагическим, и смеху, ведущему к освобождению от комплексов тревоги и страха. В анализе Эсслин использует разные приёмы и методы. Рассматривая драмы Адамова, ещё не пришедшего к реализму, он применяет метод, близкий постструктурализму. Драматург неоднократно признавался, что многие его пьесы родились из его снов. Анализ Эсслина пьес Адамова совпадает с тезисом Жака Лакана: «сон есть текст».[3]
Анализ «Конца игры» Беккета ориентирован на бихевиоризм.[4] На поведенческих моментах строится диалог Хамма и полностью подчинённого ему Клова. Их отношения определяются взаимозависимостью до такой степени, что персонажей можно воспринимать, как одну личность.
Менее убедителен анализ пьес (таких немного), основанный на психоанализе Фрейда и архетипах Юнга. В этом случае Эсслин идёт за последовательницей Юнга, психологом Евой Метман, чьё исследование о Беккете неоднократно цитирует.
Первые пять глав посвящены творчеству Беккета, Адамова, Ионеско, Жене и Пинтера. Затем рассматриваются европейские и американские драматурги-прозелиты. Отдельно представлены драматурги стран восточной Европы. Такая композиция книги убедительна, поскольку все главы объединены общей идеей: театр абсурда — явление интернациональное, и вклад в него внесли все культуры. Эта мысль прослеживается с первых глав. Анализируя французский вариант абсурда, Эсслин обращает внимание на происхождение драматургов — ирландец Беккет, румын Ионеско, армянин из России Адамов, француз Жене. Это положение исследователь развивает и далее, показывая, как каждая культура делает свой вклад, и театр абсурда разных стран обладает национальным своеобразием. Французскому театру абсурда свойствен универсализм — человек почти всегда абстрагирован от конкретных условий жизни, заключён в рамки общих для всех условий существования. Английский театр абсурда помещает человека в конкретные социальные условия, свойственные английскому укладу. Англия и англичане мгновенно распознаются в пьесах Гарольда Пинтера и Нормана Ф. Симпсона. Они могут выражаться внешне. К примеру, наличием непременных английских газонов или традиционным five o’clock. Национальный характер проявляется в типичном английском юморе, в специфических идиомах. Театр абсурда Польши, Чехии, Словакии отличается политизированностью, большей глубиной подтекста, как это наблюдается в пьесах С. Мрожека, Т. Ружевича, В. Гавела.
Техника театра абсурда, складываясь под влиянием выше указанных традиций, вобрала в себя также особенности стиля С. Виткевича, В. Гомбровича, Р. Валье-Инклана, эксперименты в области драматургии Г. Стайн и Э. Каммингса. Указывая на то, что большинство пьес театра абсурда предназначены не для массового зрителя, М. Эсслин, тем не менее, показывает, что, отражая личный мир автора, они отражают многое свойственное каждому человеку. Один из приведённых им примеров — спектакль «В ожидании Годо», показанный в тюрьме Сан-Квентин и горячо принятый заключёнными. Впечатляет анализ языка театра абсурда. Считая театр самым социальным видом искусства, Эсслин рассматривает язык, как средство социальной коммуникации, инструмент идеологии, манипулирующий сознанием не только отдельного человека, но и общества, что приводит к обессмысливанию и девальвации слова. Он возлагает большую долю ответственности на СМИ, сближаясь в этом с постструктурализмом, который современная философия относит к общему направлению «критики языка». В частности он цитирует фундаментальный труд Л. Витгенштейна «Философские исследования» (1953), в котором проблема «лингвистических игр», воспринятая его последователями, характерна и для театра абсурда. Однако в главном Эсслин не совпадает с постструктуралистами, для которых «вопросы познания и смысла приобретают чисто языковой характер… (они) воспринимают критику языка, как критику культуры и цивилизации».[5] Эсслин, критикуя деградацию языка, считает, что театр абсурда использует этот язык для создания нового сценического языка. Низводя язык до бессмыслицы, театр абсурда формируют новую театральную лексику, в которой дискурс возникает по контрасту с действием. Для того чтобы возник новый театральный язык, недостаточно только пьесы. Необходимо новое режиссёрское мышление. Эсслин справедливо отмечает, что только в Париже, единственном городе в мире, нашлись режиссёры и продюсеры, которые пошли на риск, взявшись за постановку первых пьес абсурда. И в этом Эсслин видит продолжение традиции, заложенной Люнье-По, Копо, Дюлленом. Режиссёрская генерация Ж.-Л. Барро, Ж. Вилара, Р. Блена (первый постановщик «Конца игры» Беккета), Н. Батая (первый постановщик «Лысой певицы» Ионеско), Ж. Макло, С. Домма (первый постановщик «Стульев» Ионеско), Ж.-М. Серро (первый постановщик «Амедея» Ионеско) создавала новый сценический язык, воплощая пьесы абсурда. Л. Жуве, принадлежащий к старшему поколению, был первым интерпретатором «Служанок» Жене. Несколько позже внесли свой вклад английские режиссёры Д. Девин, Т. Ричардсон, П. Брук и американцы А. Шнайдер и X. Бло. Не приходится спорить, что девальвация и дезинтеграция языка — признак времени. Некогда сюрреалисты создали свой язык и пытались использовать его в театральных экспериментах, но потерпели неудачу. Эсслин объясняет её тем, что публика не нуждалась в таком театре. Думается, что и сегодня вряд ли нашлась бы публика, готовая из любви к искусству воспринимать подобные опыты. Театр абсурда в отличие от сюрреалистов использует деградацию языка в художественных целях. Отказ от языка служит для выражения глубинных уровней смысла. Ионеско считает: «чтобы вступить в контакт с культурой, надо разрушить язык», что и демонстрирует театр абсурда. Он не занимается чистыми опытами, хотя использует элементы «чистого, абстрактного театра», отражая современные условия существования. Вобрав лучшие традиции, продолжая их на других уровнях, он доказал безграничность возможностей театра. По мнению Эсслина, ни одно авангардное течение не может восприниматься, как полностью новаторское, авангард он сравнивает с многоликим Протеем. Один из ликов — театр абсурда. Ведущее театральное течение второй половины XX столетия, которое на определённом этапе подвело итоги веков и дало мощный толчок для дальнейшего развития театра. Мартин Эсслин исследовал весь комплекс составляющих этого театрального явления на стыке и пересечении ведущих гуманитарных наук, и театр абсурда перестал быть сфинксом, привлекая театр и публику.
ПРЕДИСЛОВИЕ ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ
МАДАМ МАРТИН. А что такое мораль?
БРАНДМАЙОР. Это решать вам самим.
Э. Ионеско. Лысая певицаЭта книга появилась почти сорок лет назад, весной 1961 года, в эпоху, которая, если оглянуться назад, кажется почти столь же далёкой и не похожей на нашу, как, скажем, 1860-е или 1760-е годы. И если книга востребована для переиздания в 2001 году, то время неизбежно изменило её суть и функции.
В конце 50-х написать книгу меня побудило раздражение, даже ярость театральных критиков, не понявших значения и красоты пьес, меня глубоко задевших; я почти случайно натолкнулся на них в маленьких парижских театрах на Левом берегу, когда Би-би-си вела репортажи со скучных конференций НАТО или ОЭСР.[6]
Книга, вызвавшая тогда полемику, к началу 80-х откорректирована, расширена, став историей и путеводителем по важным этапам драмы XX века. Словосочетание «театр абсурда» вошло в разговорный язык. Во время парламентских дебатов от Вашингтона до Люксембурга я каждый раз с некоторым замешательством читал газетные заголовки вроде «Театр абсурда в Сенате».
Что и говорить, название книги, которое становится газетным клише, — вещь опасная. Вскоре я заметил, что многие из тех, кто говорил или критиковал книгу, её не читали и знали только по названию. Они считали, что название суммирует содержание так, как они себе представляют, и были готовы и жаждали критиковать меня за то, что навоображали о книге. Не читая её, они представляли движение или школу с жёсткими границами, обвиняя меня в том, что я неправильно причислял того или иного драматурга к этому движению.
Бравшие интервью у некоторых авторов задавали чудовищный вопрос: считают ли авторы себя членами клуба или школы абсурда и, получив отрицательные ответы, с триумфом «изобличали» меня в обмане. К тому же, и не однажды, кое-кто из драматургов, к примеру, Ионеско, интересовались, позвонив мне: «Esslin, dans la nouvelle edition, tu as donne dix de plus a Beckett pourquoi seulement six a moi?»[7]
Тем, кто действительно прочёл книгу, понятно, что я старался избегать жёстких дефиниций и интерпретаций. Когда я послал Беккету наброски главы о нём, он любезно ответил: «…Мне нравится, как вы выслеживаете зайцев и затем призываете их не преследовать…», — тем самым соглашаясь с моим стремлением избегать жёстких интерпретаций, что «реально означают» их творения.
Название книги продиктовано стремлением привлечь внимание к разнообразным и несходным особенностям драматургии, повсеместно вызывающей полемику; определённый способ создания экспозиции, абрис характеров, сновидения и галлюцинации и прочее: эти особенности в большей степени вызваны духом времени, его атмосферой, чем теоретическими соображениями. Художники, следующие своей интуиции, обычно не подозревают, что в целом их произведения впитали особенности и атмосферу периода, в который они их создавали.
С таким же успехом можно вопрошать черепок эры палеолита, ощущает ли он себя частью Магдаланианского стиля.[8]
Переиздание книги в 1980 году совпало с достигшей зенита дискуссией о закате этой драматургии. Появилась возможность представить это явление с современных позиций — полемика со ссылкой на книгу достигла исторического рекорда.
Спустя двадцать лет, с наступлением нового века, нового миллениума, книга сталкивается с другим миром: Беккет умер в 1989 году, Ионеско в 1994, Адамов ушёл преждевременно — в 1970, Жене в 1986, Макс Фриш в 1991, Дюрренматт в 1990; Гарольд Пинтер отметил своё семидесятилетие в 2000; Вацлав Гавел стал президентом Чешской Республики и обитал в Пражском граде. Появилось такое количество трудов об этих и других драматургах, что библиография превысила бы основной текст.
Надеюсь, книга обретёт истинный статус и перестанет быть предлогом для полемики или источником ссылок, воспринимаясь как исследование об эпохе, как попытка представить неожиданно возникшую новую спорную тенденцию внутри традиции, объяснить её публике, в большинстве своём её непонимающей. Тенденция эта — веха на длинном пути, по которому искусство драмы путешествует по истории, широкий магистральный путь с множеством различных дорог, где происходили скандалы, рождались новые концепции, правила и техники, прежде чем влиться в основное направление.
Библиографический отдел не изменился. Современную информацию об основных персонажах книги можно почерпнуть в таких доступных изданиях, как монументальная биография Сэмюэля Беккета Damned to Fame by James Knowlson (London: Bloomsbury, 1996); в блестящем издании Эммануэля Жакарта «Theatre Complete Ionesco» (Paris: Gallimard, Ed. De la Pleiade, 1990); Edmund White’s Genet (London: ChattoWindus, 1993); Michael Billington’s «The Life and Work of Harold Pinter» (London: FaberFaber,1996); в моей книге «Pinter the Playwright» (6-th. ed., London: Methuen, 2000).
Habent sua fata libelli:[9] эта книга, как всякий живой организм, переживает на своём пути взлёты, падения и различные трансформации, в том числе переводы, по меньшей мере, на двадцать языков. Её направленность со времени первого издания сорокалетней давности не изменилась, а значит автор вознаграждён за те опасения, которые он временами ощущал на своём опасном, вызывающем бурную полемику пути.
Лондон, март, 2001
Мартин Эсслин
ВВЕДЕНИЕ
Книга посвящена развитию современного театра драмы, ассоциирующейся с именами Сэмюэля Беккета, Эжена Ионеско, Артюра Адамова, Жана Жене, именами ряда авангардистских писателей Франции, Англии, Германии, Соединённых Штатов и других стран.
Книги о театре обладают свойством быть однодневками; в книжных магазинах автобиографии звёзд и последние хиты сезона быстро устаревают и не пользуются спросом. Я никогда не писал таких книг и не уверен, что подобными темами исчерпываются границы литературы о театре. Роль книг о театре возрастает вопреки тому, что их количество затмевается обилием чтива. Возрастает и значение кинематографа и телевидения. Средства массовой информации слишком тяжеловесны и дорогостоящи для экспериментов и новаций. Тем не менее, экспериментальный театр со своей публикой может существовать; живой театр, воспитывающий и расширяющий опыт медийных актёров и драматургов, апробирует этот материал. Сегодня авангардный театр скорее есть, чем нет, и он, главным образом, влияет на масс-медиа. В свою очередь СМИ формируют многие мысли и чувства людей в западном мире.
Поэтому модель театра, которая обсуждается в этой книге, обращена не только к узкому кругу интеллектуалов. Театр может создать новый язык, новые идеи и подходы, вдохнуть новую жизнь в философию и влиять на мысли и чувства публики и не в столь отдалённом будущем.
Более того, понимание такого театра, пока ещё не доступное некоторым критикам, прольёт свет на современную мысль в других областях или, по крайней мере, выявит, как новая ситуация отражается в науке, психологии и философии второй половины XX века. Театр — искусство более широкого назначения, чем поэзия или абстрактная живопись, в которых отсутствует живой человек; как и масс-медиа, театр — общий результат коллектива, точка пересечения, в которой сложные тенденции меняющейся мысли впервые доходят до широкой публики.
Налицо доказательства, что театр абсурда продолжает тенденции, возникшие в более эзотерических жанрах литературы 20-х годов (Джойс, сюрреализм, Кафка) и в живописи первого десятилетия XX века (кубизм, абстрактная живопись). Это очевидно. Но театр не мог принять эти новации, пока широкая публика не отфильтровала их в своём сознании. Задача книги — показать, что театр в состоянии внести оригинальный вклад в новое искусство.
В книге предпринята попытка очертить явление, названное театром абсурда, проанализировать творчество его главных представителей, разъяснить смысл и достоинства наиболее значительных пьес, познакомить с менее известными писателями, пишущими в этой манере или близкой к ней, показать, что это явление, иногда порицаемое за использование новаций любой ценой, соединяет в себе очень древние и чтимые литературные и театральные традиции; и в итоге объясняет подлинную ситуацию человека Запада.
Если критик хочет понять явление, он должен его полюбить хотя бы на краткий миг. Книга написана критиком, который, читая драматургию абсурда, убедился, что театр абсурда важен, значителен как подлинное завоевание нашего времени в сфере драмы. Но если сосредоточенность на одном роде театра создаст представление, что автор — приверженец исключительно данного направления, это ограничит смысл книги. Рост нового, оригинального, ценного в драматическом искусстве не зачёркивает предшествующих достижений; книга лишилась бы объёма, если бы драматургам прошлого и настоящего не было бы отдано должного.
Пока трудно сказать, станет ли театр абсурда особым видом, или же некоторые его формальные и лингвистические открытия в итоге сольются с широкой традицией, обогатив словарь и способы театрального выражения. В любом случае театр абсурда заслуживает самого серьёзного внимания.
Когда я работал над книгой, мне помогали драматурги, обсуждая со мной новации. Эти встречи были не только интересным опытом, но существенно обогатили мой труд. Я глубоко признателен и искренне благодарен им, особенно мистеру Сэмюэлю Беккету, месье Адамову, месье и мадам Ионеско, синьору Фернандо Аррабалю, синьору Мануэлю де Педроло; мистеру Н. Ф. Симпсону и мистеру Гарольду Пинтеру. Я также многим обязан мистеру Эрику Бентли, сочетающему большую эрудицию с вдохновенным отношением к театру, без его воодушевления и помощи эта книга не могла бы быть написана.
Я благодарю доктора Херберта Бло, актёров Actors’ Workshop Сан-Франциско; мистера Эдварда Голдбергера, мистера Кристофера Холма, синьора Ф. М. Лорда, мистера Дэвида Татаев за привлечение моего внимания к писателям и пьесам, попавшим в эту книгу. Я благодарю также синьору Конни Мортеллини, мистера Чарлза Риконо, мисс Марджери Уизерс, мистера Дэвида Гендлера, миссис Сесилию Джилли и мистера Робина Скотта за помощь при получении ценного материала, информации, мисс Нэнси Твист и господ Гранта и Катлера за библиографическую помощь.
Благодарю жену за критику и воодушевление.
Мартин Эсслин, Лондон, март 1961
ПРОЛОГ АБСУРД АБСУРДА
19 ноября 1957 года группа артистов Actors’ Workshop Сан-Франциско готовилась к встрече с публикой. Публика — тысяча четыреста заключённых тюрьмы Сан-Квентин, и артисты сильно волновались. Со времен Сары Бернар, игравшей там в 1913 году, стены этой тюрьмы не видели спектаклей с живыми артистами. Теперь, спустя сорок четыре года, артисты должны были играть «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета. Эта пьеса была выбрана потому, что в ней играли исключительно мужчины. Неудивительно, что актёры и режиссёр Херберт Бло волновались. Им предстояло играть перед самой трудной в мире аудиторией интеллектуальную пьесу, вызывающую протест у изощрённой публики Западной Европы. Херберт Бло решил подготовить зрителей Сан-Квентин к тому, что они увидят. Он вышел на сцену и обратился к заполненному до отказа тёмному залу. Его встретило море зажжённых спичек, которые заключённые, прикурив сигарету, бросали через плечо. Бло сравнил пьесу с джазовым произведением, в котором каждый слышит своё. Именно таким образом, надеется он, каждый зритель поймёт по-своему «В ожидании Годо».
Поднялся занавес. Спектакль начался. И то, что не поняли эстеты и снобы Парижа, Лондона и Нью-Йорка, было с ходу схвачено заключёнными. Колумнист тюремной газеты San Quentin News в «Заметках о премьере» писал: «Трое здоровенных парней с выпирающими бицепсами и мускулами, полностью заняли проход, ожидая девочек и чего-нибудь смешного. Когда этого не произошло, они шумно задымили сигаретами, дожидаясь, когда будет приглушен свет, чтобы незаметно улизнуть. Но они совершили ошибку, задержавшись на пару минут, и то, что они увидели и услышали, заставило их остаться до конца. Все были потрясены…»1 Автор передовицы назвал свою статью «Актёры Сан-Франциско оставили публику Сан-Квентин в ожидании Годо». Он писал: «С момента, когда осветилась сцена, напоминающая преддверие ада (замечательная сценография Робина Вагнера), и до последнего рукопожатия, которым нерешительно обменялись двое бродяг, зрители оставались в плену у актёров… Впервые попав в театр, они были напряжены. Но через пять минут после начала спектакля втянулись в действие»2.
Репортёр The San Francisko Chronicle, присутствовавший на спектакле, писал, что заключённые поняли пьесу. Один из них сказал: «Годо — это общество». Другой добавил: «Годо — аутсайдер»3. Был процитирован и тюремный учитель: «Они знают, что такое ждать… и они поняли, что если Годо, в конце концов, явится, он принесёт только разочарование»4. Автор передовицы тюремной газеты точно понял смысл пьесы: «Драматург обратился к символам, чтобы повествовать не о собственных ошибках, но чтобы каждый зритель сделал свои выводы по поводу собственных ошибок. Пьеса ни к чему не призывала, не давила морально, не сулила надежд… Ведь мы всё ещё ждём Годо и будем его ждать. Когда жизнь слишком однообразна, активность уменьшается, мы призываем друг друга и клянёмся никогда не расставаться, но дальше идти всё равно некуда!»5 С таким же успехом это мог сказать сам Годо или кто-то из персонажей пьесы. Эта фраза вошла в обиход, став мифологией тюрьмы Сан-Квентин.
Почему пьеса эзотерического авангарда произвела такое сильное впечатление на заключённых? Потому что она воспроизводила их ситуацию аналогичным образом? Возможно. Возможно, они не слишком разбирались в театре, были непредвзяты, готовы ждать и потому избежали капкана, в который попались известные, признанные критики, порицавшие пьесу за отсутствие сюжета, действия, характеров и не понятого ими смысла. Заключённые не грешили интеллектуальным снобизмом, присущим значительной части публики; делая вид, что пьеса понравилась, они даже не приблизились к её пониманию.
Публика «В ожидании Годо» в тюрьме Сан-Квентин и публика, аплодирующая пьесам Ионеско, Адамова, Пинтера и других, свидетельствует, что эти пьесы, столь часто высокомерно объявляемые вздором или мистификацией, имеют, что сказать и могут быть поняты.
Непонимание и замешательство, с которыми критики и театральные обозреватели встречают эти пьесы, происходит потому, что они — часть нового, развивающегося театрального явления, не только не осмысленного, но едва очерченного. Пьесы, написанные в новом ключе, неизменно оценивают по установившимся стандартам и критериям, как вызов и грубый обман. Хорошая пьеса обладает искусно сконструированным сюжетом, в пьесах абсурда сюжет и фабула отсутствуют; хорошая пьеса ценится за характеры и мотивации, в пьесах абсурда характеры не распознать, персонажи воспринимаются почти как марионетки; в хорошей пьесе оправдана интрига, которая виртуозно ведётся и в итоге разрешается, в пьесах абсурда часто нет ни начала, ни конца; хорошая пьеса — зеркало природы и представляет свою эпоху в тонких зарисовках, пьесы абсурда отражают сны и кошмары; хорошие пьесы отличаются точными диалогами и остроумными репликами, пьесы абсурда зачастую представляют бессвязный лепет.
Однако пьесы абсурда волнуют и тревожат нас финалами, отличающимися от финалов традиционных пьес, потому что они создаются другим методом. О них нужно судить по законам театра абсурда, и цель книги — определить эти законы.
Стоит подчеркнуть, что драматурги, чьи пьесы рассматриваются под общим названием «театр абсурда», не представляют никакой самозванной или самодостаточной школы. Напротив, каждый из этих писателей — личность, считающая себя одинокой, посторонним, отрезанным и изолированным от мира, существующим в собственной сфере. У каждого из них своё представление о форме и содержании; свои корни, истоки, опыт. Если они к тому же понятны и вопреки всему имеют общее с другими, это объясняется тем, что их творчество — правдивое зеркало, отражающее тревоги, чувства и мысли важной ипостаси жизни современного Запада. Надо отметить, что их творчество отнюдь не выражает позиции масс. Было бы сверхупрощением утверждать, что наша эпоха представляет однородную модель. Она, более чем предыдущие, переходная и рисует картину, сбивающую с толку. Настроения нашей эпохи заводят в тупик: средневековые убеждения ещё держатся в нашем сознании, обременённые рационализмом XVIII века и марксизмом середины XIX века, сотрясаясь вулканическими извержениями доисторического фанатизма и примитивными племенными культами. Каждый из этих компонентов культурной модели находит характерное художественное выражение. И всё же театр абсурда может восприниматься как отражение репрезентативной позиции нашей эпохи.
Отличительная черта этого направления в том, что отринутое прошлыми веками, сочтённое ненужным и дискредитированное, наш век отмёл как дешёвые и детские иллюзии. Упадок религии маскировался до конца Второй мировой войны суррогатом веры в прогресс, национализмом и прочими тоталитарными заблуждениями. Всё это война разбила вдребезги. В 1942 году Альбер Камю хладнокровно поставил вопрос, почему, если жизнь потеряла смысл, человек более не видит выхода в самоубийстве. В одном из самых великих, оригинальных и глубоких творений нашего времени, в «Мифе о Сизифе», Камю пытался поставить диагноз ситуации, когда вера разбита вдребезги: «Мир, который поддаётся объяснению, пусть не самому совершенному, — мир привычный. Но во вселенной, которая внезапно лишается иллюзии и света, человек ощущает себя посторонним. Он — вечный изгнанник, ибо он лишён памяти о потерянной родине и надежды на обретение земли обетованной. И всё же он желает её достичь. Этот разрыв между человеком и его жизнью, актёром и сценой порождает чувство абсурда»6.
Первоначальное значение понятия «абсурд» — дисгармония в музыкальном контексте. В толковом словаре «абсурд» определяется, как несоответствие, порождённое причинами или правилами; как несовместимое, необоснованное, алогичное. В англоязычном толковом словаре «абсурд» означает ещё и «смехотворный». Но не в том смысле, в каком понятие «абсурд» применяет Камю и в каком оно используется в словосочетании «театр абсурда». Ионеско в эссе о Кафке определяет его так: «Абсурд — это нечто, лишённое цели… Оторванный от своих религиозных, метафизических и трансцендентальных корней человек погиб; все его действия бессмысленны, абсурдны, бесполезны»7.
Чувство метафизического страдания и абсурдности человеческого удела в общих чертах — тема пьес Беккета, Адамова, Ионеско, Жене и других, о ком говорится в этой книге. Но это не единственная тема театра абсурда. Подобное восприятие бессмысленности жизни, неприятие девальвации идеалов, чистоты, целеустремленности — тема пьес Жироду, Ануя, Салакру, Сартра и, разумеется, Камю. Но эти драматурги существенно отличаются от драматургов абсурда ощущением иррационализма человеческого удела в очень ясной и логически аргументированной форме. Театр абсурда стремится выразить бессмысленность жизни и невозможность рационального подхода к этому открытым отказом от рациональных схем дискурсивных идей. В то время как Сартр или Камю вкладывают новое содержание в старые формы, театр абсурда делает шаг вперёд в стремлении достичь единства основных идей и формы выражения. В некотором смысле в театре Сартра и Камю художественное выражение не адекватно их философии, отличаясь от способа, к которому прибегает театр абсурда.
Камю убеждает, что в лишённом иллюзий веке мир покончил с разумом; в хорошо сконструированных и отшлифованных пьесах он проводит эту мысль в элегантном рациональном дискурсивном стиле моралистов XVIII века. Сартр убеждает, что жизнь идёт впереди субстанции, и человеческая личность может быть сокращена до своих потенциальных возможностей, чтобы снова в какой-то момент выбрать свободу. Он воплощает свои идеи в блестящих, всегда неизменных, одномерных характерах, прибегая к старым условностям, иными словами, каждая человеческая жизнь обладает неизмененной сущностью, то есть фактически человек обладает бессмертной душой. Блеск мысли и формулировки Сартра и Камю в их неустанных расследованиях, подобных судебным разбирательствам, заставляет согласиться с тем, что дискурсивная логика не способна предложить точные ответы, а анализ языка не приводит к раскрытию основных понятий — идей Платона.
Это внутреннее противоречие драматурги абсурда пытаются преодолеть скорее инстинктивно и интуитивно, чем сознательно. Театр абсурда не доказывает абсурдность человеческого удела; он просто показывает его как непреложность в конкретных условиях и языком конкретных сценических образов. В этом различие подходов философа и поэта, между теорией и опытом, примером чего служит разное представление об идее Бога в трудах Фомы Аквинского или Спинозы и интуитивным познанием Бога у Иоанна Крестителя или Майстера Экхарта.
Стремление к интеграции содержания и формы отличает театр абсурда от экзистенциалистской драмы.
Театр абсурда важно отделить и от другого значительного параллельно существующего направления в современном французском театре, в котором также проявляется абсурд и неопределенность человеческого удела, — поэтический театральный авангард Мишеля де Гельдерода, Жака Одиберти, Жоржа Невё и его молодых представителей Жоржа Шехаде, Анри Пише, Жана Вотье. Это наиболее интересные художники театрального поэтического авангарда. Направления эти во многом совпадают, и провести между ними границу довольно сложно. Поэтический авангард, как и театр абсурда, опирается на реальность, в которой есть место фантазиям и сновидениям; он также избегает таких традиционных аксиом, как единство времени, места и действия, логика характера или необходимость сюжета. Но в основе своей поэтический авангард передает различные настроения; он более лиричен и не столь полон отчаяния и гротеска. Ещё больше различий в языке: поэтический авангард обладает более широким диапазоном речи; пьесы написаны эффектными стихами, образы создаются сложным сплетением вербальных ассоциаций.
Театр абсурда стремится к радикальной девальвации языка: поэзия должна рождаться из конкретных вещественных образов самой сцены. В этой концепции элемент языка играет важную, но подчинённую роль, однако происходящее на сцене и за её пределами часто противоречит словам, которые произносят персонажи. В такой высоко поэтичной пьесе, как «Стулья» Ионеско, поэзия рождается не из банальных слов, которые произносят персонажи, но благодаря тому, что они обращены к непрестанно возрастающему количеству стульев.
Театр абсурда — часть «антилитературного» движения нашего времени, выраженного в абстрактной живописи, отказавшейся от «литературных» элементов в картинах; в «новом французском романе», опирающемуся на предметное изображение и отказавшемуся от эмпатии и антропоморфизма. Отнюдь не случайно совпадение, что, как и многие движения, устремлённые к созданию новых форм, театр абсурда должен был сконцентрироваться в Париже.
Это не означает, что театр абсурда по своей сути является французским явлением. Он широко использует старые западные традиции, и драматургия абсурда есть в Англии, Испании, Германии, Италии, Швейцарии, Соединённых Штатах. Более того, ведущие представители театра абсурда, живущие в Париже и пишущие на французском языке, не французы.
Париж — средоточие современных направлений в искусстве, он интернационален; он больше, чем столица Франции, притягивая как магнит художников всех национальностей, всех нонконформистов, в поисках свободы находящих пристанище в Париже, где нет необходимости выглядывать из-за плеча, не шокированы ли соседи. В этом секрет Парижа, столицы мирового индивидуализма; здесь в кафе и маленьких отелях можно жить легко и безопасно. Космополиты сомнительного происхождения: Аполлинер, испанцы Пикассо и Хуан Грис; русские Кандинский и Шагал, американцы Гертруда Стайн, Хемингуэй и Э. Э. Каммингс, румыны Тцара и Бранкузи, ирландец Джойс и многие другие со всего земного шара смогли собраться в Париже и создать современную литературу и искусство. Театр абсурда вырос из этой традиции и питался от тех же корней: ирландец Сэмюэль Беккет, румын Эжен Ионеско, армянин из России Артюр Адамов попали в Париже в атмосферу, позволившую им не только свободно экспериментировать, но и осуществить постановки своих пьес в театре.
Эти спектакли в маленьких театрах Парижа часто критиковали за небрежность и поверхностность; возможно, такие случаи имели место. Однако ни в одном другом городе мира, где много театральных людей первого ряда, не нашлось никого, кто бы рискнул, поняв, что необходимо бороться за постановку экспериментальных пьес новых драматургов, помочь им овладеть искусством сценической техники, как это делали Люнье-По, Копо и Дюллен и далее Жан-Луи Барро, Жан Вилар, Роже Блен, Николя Батай, Жак Макло, Сильван Домм, Жан-Мари Серро и другие, неразрывно связанные с продвижением лучшего в современном театре.
Не менее важен факт, что в Париже есть интеллектуальная публика, мыслящая и готовая принять новые идеи. Всё это не означает, что премьеры некоторых самых ошеломляющих феноменов театра абсурда не вызывали враждебного приёма или же не было пустых залов на первых спектаклях. Скандалы только подтверждали неравнодушие и интерес; даже в пустых залах встречались энтузиасты, которые могли оценить достоинства оригинальных экспериментов.
Однако, несмотря на благоприятный культурный климат Парижа и успех театра абсурда, пришедший к нему за короткое время, он продолжает оставаться одним из самых неизученных феноменов нашего века. Пьесы, странные и сбивающие с толку, абсолютно свободные от традиционных соблазнов хорошо сделанных пьес, менее чем за десятилетие достигли всех стран — от Финляндии до Японии, от Норвегии до Аргентины — и стимулировали основное направление в развитии театра, став мощным эмпирическим критерием значения театра абсурда.
Изучение его как явления литературной и театральной мысли нашего века должно продолжиться исследованием этих пьес. Их следует рассматривать в русле старой традиции, в которую необходимо погрузиться, чтобы проследить её с древних времен; анализ этого направления позволит традиции вписаться в исторический контекст. И тогда будет возможно оценить её значение и роль в структуре современной мысли.
Публика привыкла к общепринятым нормам, пропуская своё мнение о художественных экспериментах через фильтр критических статей, предвзятых ожиданий и референтных оценок. Таков естественный результат школьного образования, сформировавшего её вкус и восприятие. Что и говорить: прелестная схема ценностей! Она заводит в тупик сразу же, когда публика сталкивается с абсолютно новым и революционным явлением. Происходит битва с переменным успехом — между полученным впечатлением и мнением критиков, которое само по себе исключает возможность каких-то новых впечатлений. Новые явления всегда вызывают бурю досады и негодования.
Цель книги — дать точку опоры, которая поможет увидеть театр абсурда, его поэтику в таком ракурсе, чтобы он стал для читателя столь же актуален, как «В ожидании Годо» — для заключённых тюрьмы Сан-Квентин.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. СЭМЮЭЛЬ БЕККЕТ. В ПОИСКАХ СЕБЯ
Мерфи, герой раннего одноименного романа Сэмюэля Беккета, в завещании высказывает пожелание, чтобы наследники и душеприказчики «положили его прах в бумажный мешок и отправили в Abbey Theatre, Нижняя Эбби стрит, Дублин… место, называемое благороднейшим лордом Честерфилдом пристанищем для отравления нужды, где протекли счастливейшие часы их жизни, и поставить мешок с его прахом справа от оркестровой ямы… и дёрнуть цепочку и спустить воду, по возможности, во время спектакля»1. Этот символический акт поистине в непочтительном духе антитеатра, но это и упоминание о месте, где автор «В ожидании Годо» получил первые впечатления о драматургии, которую он отверг, назвав «гротескным заблуждением реализма — скверным изложением, однолинейным и примитивным, низкопробной пошлостью, свойственной нравоучительной литературе»2.
Сэмюэль Беккет родился в Дублине в семье землемера в 1906 году. Как и Шоу, Уайльд и Йейтс, он учился в протестантской ирландской средней школе и, хотя позже он стал атеистом, тем не менее, получил почти квакерское воспитание,3 как однажды он сам высказался. Можно предположить, что интерес Беккета к проблемам бытия и самоидентификации начался с неизбежных и вечных, свойственных англо-ирландцу поисков ответа на вопрос: «Кто я?». Возможно, в этом и есть доля истины, но это далеко от абсолютного объяснения глубокого экзистенциального страдания, лейтмотива творчества Беккета, порождённого скорее чертами его личности, чем обусловленного социально.
Четырнадцати лет Беккета отправили в одну из традиционных закрытых англо-ирландских школ, Portora Royal School в Эннискилене в графстве Фермана. Школа была основана королём Яковом Первым, в ней учился и Оскар Уайльд. Творчество Беккета отражает его постоянные терзания и ранимость. О нём рассказывали, что «с самого рождения он хранил кошмарное воспоминание о материнской утробе»4. Тем не менее, он был популярен в школе, блестяще учился и превосходно играл в крикет, был полузащитником в регби.
В 1923 году он оканчивает школу и поступает в Trinity College в Дублине, где изучает французский и итальянский языки. В 1927 году Беккет получает степень бакалавра искусств. Академические успехи Беккета позволили университету выставить его кандидатом для традиционного обмена лекторами со знаменитой парижской Ecole Normale. После недолгой преподавательской деятельности в Белфасте осенью 1928 года он отправился на два года в Париж лектором английского языка в Ecole Normale Superieure. Так началось его срастание с Парижем, длившееся всю жизнь. Здесь состоялась его встреча с Джеймсом Джойсом, и он вскоре вошёл в его круг. В двадцать три года написал блистательное вступительное эссе к странной книге под названием «Our Ехаgmination round his Factification for Incamination of Work in Progress»,[10] представляющей сборник статей, написанных двенадцатью апостолами, — апология и комментарий к magnum opus мастера, ещё не имеющего названия.
Статья Беккета «Данте… Бруно… Вико… Джойс» завершалась пылким утверждением: художник обязан выражать всю совокупность и сложность своего опыта. Художнику нет дела до лености публики, не желающей обременять свой разум: «Эта книга так именно и написана — страница за страницей. И если вы не понимаете этого, леди и джентльмены, то потому, что вы деградировали. Вас не устраивает, если форма явно оторвана от того содержания, которое вы в состоянии постигнуть, не давая себе труда читать иное. Это быстрое снимание и поглощение скудных сливок смысла возможно благодаря тому, что я могу назвать беспрерывным процессом интеллектуального рабства. Форма, непостоянный и независимый феномен, может обладать более высокой функцией, нежели стимул для трети или четверти условного рефлекса, распускающего слюни понимания»5.
Это кредо, которого Беккет неукоснительно и бескомпромиссно, почти с пугающей чистотой придерживался в творчестве.
В письме к Харриет Шоу-Уивер от 28 мая 1929 года6 Джойс пишет о намерении опубликовать эссе Беккета в «Итальянском ревю». В этом же письме он упоминает о пикнике, задуманном Адриеной Монье в честь двадцать пятой годовщины Блумова дня. Завтрак «Улисс» состоялся 27 июня 1929 года в отеле «Леопольд», недалеко от Версаля. Из биографии Джойса, написанной Ричардом Эллманном, известно, что Беккет был приглашен на этот завтрак, на котором присутствовали Поль Валери, Жюль Ромен, Леон-Поль Фарг, Филипп Супо и множество известных людей. На обратном пути Беккет привел в ярость Поля Валери и Адриену Монье, то и дело прося Джойса остановить автобус, чтобы выпить ещё в придорожных кафе.
В своё первое пребывание в Париже Беккет обратил на себя внимание как поэт, получив литературную премию, — десять фунтов за лучшее стихотворение на тему времени в конкурсе, организованном Нэнси Кунар под председательством её и Ричарда Олдингтона. В стихотворении Беккета с пикантным названием «Блудоскоп» философ Декарт размышляет о времени, куриных яйцах, эфемерности. Маленькая книжка, опубликованная парижским издательством Hours Press первым тиражом в сто экземпляров с автографом автора, продавалась по пять шиллингов за книгу; двести экземпляров без авторского автографа стоили по шиллингу. В обоих тиражах сообщалось, что книге присуждена премия и это первая опубликованная книга мистера Сэмюэля Беккета. Книги с автографом Беккета стали достоянием коллекционеров.
Для своего нового друга Джеймса Джойса Беккет предпринял авантюрную попытку перевести на французский язык «Анну Ливию Плюрабель», фрагмент из «Work in Progress». Но от этого предприятия, в котором ему помогал Альфред Перо, Беккету пришлось отказаться. Оно было доведено до конца Джойсом, Супо и другими в 1930 году, когда Джойс вернулся в Дублин и занял должность ассистента профессора романских языков в Trinity College.
Беккету исполнилось двадцать четыре года, и, казалось, он начал основательную блестящую академическую и литературную карьеру. Он получил степень магистра искусств. Его исследование о Прусте, заказанное лондонским издательством и написанное ещё в Париже, вышло в 1931 году. Это проникновенная интерпретация эпопеи Пруста, исследование о времени и предвестие многих тем его будущих произведений — невозможности полного обладания в любви, иллюзии дружбы: «…если любовь …порождение печали, то дружба — порождение малодушия; и если недостижимо ни то, ни другое из-за недоступности (изоляции) всего, что не исходит от ума, то банкротство в обладании, по крайней мере, благородно, ибо оно трагично; попытка коммуникации в дружбе невозможна; она вызывает в памяти вульгарность обезьяны и отвратительно комична подобно сумасшедшему, разговаривающему с мебелью»7. Поэтому для художника «возможно только духовное развитие в глубину до известной степени. Художественная цель не экспансия, но ограничение. Искусство — апофеоз одиночества. Коммуникация невозможна, потому что не существует способов для её воплощения»8. Излагая идеи Пруста, Беккет подчеркивает, что эта небольшая книга написана им по заказу и отнюдь не потому, что он чувствует родство с Прустом. Тем не менее, Беккет вложил в книгу многие свои мысли и чувства.
Привычка и рутина подобны раковой опухоли эпохи, социальные связи — чистая иллюзия, поэтому жизнь художника требует одиночества. Ежедневные лекции в университете стали непереносимы. Четырёх семестров в Trinity College ему оказалось достаточно. Он отказался от дальнейшей карьеры и освободился от рутины и общественных обязанностей. Подобно Белакве, герою его рассказа из сборника «Больше замахов, чем ударов», он, несмотря на лень, свойственную его натуре, «воплощал последнюю фазу солипсизма… постоянно отодвигая лучшее, что он должен сделать»9. У Беккета начались годы странствий. Он писал стихи и рассказы, перебивался случайными заработками, перебрался из Дублина через Лондон в Париж, путешествовал по Франции и Германии. Отнюдь не случайное совпадение, что многие его персонажи — одинокие бродяги и си. Действие рассказа «Больше замахов, чем ударов» происходит в Дублине. В следующей его небольшой книге «Эхо скелетов и другие стихотворения» упоминаются места от Дублина (баржи Гиннесса у моста О’Коннелл) до Парижа (Американский бар на улице Моффетар) и Лондона (громадный старый Британский музей, Кен Вуд и Тауэр Бридж). Дальнейшее его пребывание в Лондоне отразится в первом романе «Мерфи» (1938) — Уорлд Энд на окраине Челси, район рынка в Каледонии и Пентонвилль, Гауэр стрит.
Всякий раз, бывая в Париже, Беккет навещал Джойса. По словам Ричарда Эллманна, «Беккет, как и Джойс, любил тишину: часто во время бесед они замолкали, объясняясь знаками, погрузившись в печаль, — Беккет, главным образом, о судьбах мира, Джойс — о самом себе. Джойс сидел в своей обычной позе, скрестив ноги, положив носок ноги на подъём другой; Беккет, столь же высокий и худощавый, сидел в такой же позе. Внезапно Джойс спросил: «Как мог такой идеалист, как Юм, писать историю?» — Беккет ответил: «Он писал репрезентативную историю»10. Беккет читал Джойсу фрагменты книги Фрица Мотнера «Критика языка», одну из первых работ, показавшую неточность языка, как способа раскрытия и сообщения метафизических истин. Однажды он откровенно признался: «Я никого не люблю, кроме своей семьи», — произнеся это таким тоном, как будто говорил: «Я никого не люблю, в том числе и свою семью»11. Раз или два Джойс, у которого было плохо со зрением, диктовал Беккету куски из «Финнеганы воскресают». Это породило легенду, будто бы Беккет был какое-то время секретарем Джойса. Но это не так. Если Джойс и держал секретаря, то это был Поль Леон.
Ричард Эллманн рассказывает о любви несчастной дочери Джойса Лючии к Беккету. Беккет иногда приглашал легко возбудимую и невротичную Лючию в рестораны и театры. «Она потеряла самоконтроль, у неё недоставало сил скрывать свою любовь к Беккету, и, наконец, её чувство достигло такого накала, что Беккет сказал, что он приходит в их дом к её отцу. Он понимал, что жесток, и позже рассказывал Пегги Гуггенхайм, что он был мертвец, у него не было никаких человеческих чувств, и он не мог ответить на любовь Лючии»12.
Пегги Гуггенхайм, покровительница искусств и известный коллекционер современной живописи, пишет в мемуарах, что была «без памяти влюблена» в Беккета несколькими годами позже. Она пишет, что он был очаровательный молодой человек, временами подверженный апатии, заставляющей его до полудня не покидать постель; с ним было трудно общаться, потому что «он никогда не был особенно жизнерадостным, и у него уходило много времени на выпивки, чтобы ожить»13. Как и Белаква иногда хотел «вернуться навсегда в темноту утробы матери»14. И как пишет Пегги Гуггенхайм, «он — сохранил ужасное воспоминание о пребывании в материнской утробе. Он постоянно мучился этим, переживал тяжёлые кризисы, чувствуя, что задыхается от этих воспоминаний. Он часто говорил, что мы могли бы хорошо прожить один день, но если бы даже я настояла на этом фатальном решении, он взял бы свои слова обратно»15.
В «Мерфи», опубликованном в 1938 году при помощи и поддержке Херберта Рида, аналогичная ситуация складывалась между героем и его девушкой Селией, тщетно пытавшейся устроить его на работу, чтобы они могли пожениться, но он ускользал снова и снова.
Первая пьеса Беккета «Елевтерия» (свобода — греч.), написанная во Франции вскоре после окончания войны, долго не публиковалась и не ставилась. Пьеса в трёх актах повествовала о стремлении молодого человека не иметь семейных и общественных обязательств. Сцена разделена на две половины. Справа пассивный герой лежит в постели. Слева семья и друзья обсуждают его ситуацию, не обращаясь к нему. Постепенно действие перемещается слева направо, и в итоге герой находит в себе силы сбросить все оковы и освободиться от общества.
«Моллой» и «Элевтерия» — зеркало поисков Беккета свободы и права жить своей жизнью. Он обрёл себя в Париже. В 1937 году купил квартиру на последнем этаже доходного дома в районе Монпарнас, ставшую его пристанищем во время войны и в послевоенные годы.
Примерно тогда с ним произошёл случай, который мог бы встретиться в его романах или пьесах: на улице его пырнул ножом апаш, вымогавший у него деньги. Удар задел лёгкое, и Беккета отправили в больницу. Выйдя из клиники, он отправился в тюрьму к обидчику. Спросив апаша, зачем он это сделал, услышал в ответ: «Je ne sais pas, Monsieur».[11] Возможно, этот голос мы слышим «В ожидании Годо» и в «Моллое».
В сентябре 1939 года разразилась война. Беккет находился в Ирландии, навещая овдовевшую мать. Он немедленно возвратился в Париж и резко осудил фашистский режим Германии, ужасаясь зверствам и антисемитизму. Как и Джойс, он считал войну бессмысленной и бесполезной. Беккет твёрдо стоял на антифашистской позиции. Он был гражданином нейтральной Ирландии, но остался в оккупированном немцами Париже, принял участие в движении Сопротивления, вёл опасную, полную риска жизнь подпольщика.
Однажды в августе 1942 года, вернувшись домой, он нашёл записку, в которой сообщалось, что несколько членов группы арестовано. Он покинул дом и обосновался в неоккупированной зоне, нанявшись работником в крестьянскую семью в Воклюзе, неподалёку от Авиньона. Воклюз упоминается во французской версии «В ожидании Годо», когда Владимир спорит, уверяя, что Эстрагон знает деревню Воклюз. Они были в ней. Эстрагон же с пылом отрицает: он вообще нигде не был, кроме места, где он находится сейчас, в Мёрдклюзе (Дерьмоклюзе). В английской версии Воклюз переименован в Макон кантри, а Мёрдеклюз — в Кака кантри.
Беккет не переставал писать, работая на ферме в Воклюзе. Он начал роман «Уотт». Герой — одинокий, эксцентричный человек, в качестве слуги нашедший пристанище в деревенском доме, который принадлежит странному и невидимому владельцу мистеру Нотту, обладающему чертами таинственного Годо.
После освобождения Парижа в 1945 году Беккет возвращается туда на короткое время перед поездкой в Ирландию, где он вступает добровольцем в Красный Крест. Во Францию он вернулся осенью 1945 года; некоторое время работал переводчиком и кладовщиком в госпитале Сен-Лo. Зимой он окончательно возвращается в Париж в свою прежнюю квартиру, оставшуюся целой и невредимой.
Возвращение домой ознаменовалось началом самого продуктивного периода в жизни Беккета. Мощный творческий порыв настолько овладел им, что за пять лет он написал следовавшие одно за другим важнейшие произведения: «Элевтерию», «В ожидании Годо», «Конец игры»; романы «Моллой», «Мэлон умирает», «Безымянный» и «Мерсье и Камье», а также рассказы и фрагменты прозы «Никчемные тексты». Все эти произведения написаны во Франции; некоторые из них создали Беккету репутацию писателя, оказывающего влияние на эпоху.
И ещё один любопытный факт. Многие писатели обрели славу благодаря книгам, написанным не на родном языке; но, как правило, к этому их вынуждали обстоятельства. Изгнание, желание оборвать связи со своей страной по политическим или идеологическим причинам или же стремление добиться, чтобы их читал весь мир, и он, гражданин маленькой страны, Румынии или Голландии, языками которых пользовалось малое количество людей, мог бы влиять на мир. Эти причины вынуждали писать на чужом языке. Но Беккет не был изгнанником в полном смысле этого слова, и его родной язык стал универсальным языком XX века. Для создания своих шедевров Беккет избрал французский, потому что ему была необходима дисциплина, которую требовало использование чужого языка. Аспирант, писавший диссертацию о творчестве Беккета, спросил его, почему он пишет на французском. Беккет ответил: «Раrсе qu’en frangais c’est plus facile d’ecrire sans style».[12]16
Иными словами, родной язык искушает писателя прибегать к виртуозному стилю ради самого стиля; чужой язык позволяет достичь отточенного стиля, предельной ясности и экономности, используя характерные для этого языка обороты.
Когда американский режиссёр Херберт Бло предположил, что, прибегая к французскому, Беккет может что-то потерять в себе, «он согласился. Некоторые черты в себе ему не нравятся, и французский язык дал право “ослабленного” эффекта. Этот недостаток он счёл для себя необходимым, подобно тому, как Бартлеби у Мелвилла предпочёл “не жить…”»17. Возможно также, что Беккет стремился избежать аллюзий и воспоминаний, которые могли возникать, если бы он писал по-английски. Тот факт, что в своих переводах на английский он в совершенстве передавал дух, смысл и цель произведения, говорит о том, что его предпочтение французского не просто отличительная черта, но проба сил и соблюдение дисциплины, придающей экспрессию.
Произведения, подобные беккетовским, рождённые на глубинных уровнях мышления и исследующие самые тёмные источники страха, могут быть разрушены незначительными намёками на изобилие слов или гладкость; подобные творения, — результат нелёгкой борьбы со способом их выражения. Клод Мориак подчёркивает в эссе о Беккете, что каждый «высказывающийся находится во власти логики языка и своей артикуляции. Поэтому писатель, вступивший в борьбу с невозможностью выразить словами, должен использовать всё свое искусство, чтобы вопреки его воле не высказать то, что должно быть скрыто: неопредёленное, противоречивое, непостижимое»18. Несомненно, в большей степени опасность увлечься логикой языка таится в родном языке с его бессознательным допуском неизбежных смыслов и ассоциаций. Обращаясь к иностранному языку, Беккет тем самым страхует себя; в его произведениях ощущается постоянная борьба, мощная схватка с духом языка. Поэтому радиопьесы и несколько пьес для театра, которые он время от времени писал на английском, были для него передышкой, отдыхом от тяжёлой борьбы со смыслом и языком. Написанному на английском он придавал меньшее значение, чем созданному по-французски. Ему слишком легко писалось на английском.
Французский перевод «Мерфи», появившийся в 1947 году, не привлёк большого внимания. Но «Моллой», опубликованный в 1951 году, возбудил интерес. Подлинным триумфом стала пьеса «В ожидании Годо», изданная в 1952 году; 5 января 1953 года состоялась её премьера в небольшом Theatre de Babylone на бульваре Распай. Теперь этого театра нет. Роже Блен, всегда находящийся на передовой линии авангарда, осуществил постановку и сыграл Поццо. Вопреки ожиданиям этот необычный трагифарс, в котором ничего не происходит и которым из-за его несценичности пренебрегли многие театры, стал величайшим достижением послевоенного театра. Спектакль прошёл четыреста раз и позднее был поставлен в другом парижском театре. Пьеса переведена более чем на двадцать языков и поставлена в Швеции, Швейцарии, Финляндии, Италии, Мексике, Западной Германии, Англии, США и даже в Дублине. В течение пяти лет спектакль в Париже посмотрело более миллиона зрителей, что удивительно для столь загадочной, раздражающей, сложной и бескомпромиссной пьесы, не соответствующей привычной драматургической конструкции.
Нет необходимости рассматривать в деталях необычную сценическую историю «В ожидании Годо». Достаточно сказать, что пьеса вызвала одобрение у самых признанных драматургов, в частности, у Жана Ануя. Он писал, что спектакль Theatre de Babylone равен по своему значению спектаклю «Шесть персонажей в поисках автора» Пиранделло, поставленному Питоевым в Париже в 1923 году. Пьесу приняли Торнтон Уайлдер, Теннесси Уильямс. Уильям Сароян признавался: «Эта пьеса поможет мне и не только мне свободно писать для театра». В августе 1955 года пьеса была поставлена в Лондоне, и хотя Беккет остался спектаклем не доволен, он имел такой успех, что переместился из Arts Theatre Club в West End и шёл продолжительное время. 3 января 1956 года состоялась премьера в США в Miami Playhouse. Бродяг играли Берт Лар и Том Юуэл. Спектакль был анонсирован как «самый смешной хит двух континентов», но горько разочаровал зрительские ожидания. В конце концов, пьеса пошла на Бродвее с Бертом Ларом и была одобрена критикой.
Вторая пьеса Беккета «Конец игры» была написана в двух актах, но затем сокращена до одного. Её мировая премьера на французском в постановке Роже Блена должна была состояться в Париже. Но дирекция проявила колебание, и премьера состоялась 3 апреля 1957 года в Лондоне в Royal Court Theatre, гостеприимно предоставившем свою сцену, и Лондон стал свидетелем редкого случая — мировая премьера игралась на французском. Потом пьеса пошла в Париже и продержалась значительное время. Спектакли шли на английском в Лондоне снова в Royal Court Theatre, в офф-бродвейском Cherry Lane Theatre в Нью-Йорке и в Actors’ Workshop в Сан-Франциско и также имели успех.
Во французском варианте «Конец игры» шёл в один вечер с пантомимой «Без слов» в исполнении Дерика Менделя на музыку двоюродного брата Беккета Джона Беккета. В английском варианте «Конец игры» давали в один вечер с «Последней лентой Крэппа», написанной по-английски. Премьера состоялась 28 октября 1958 года. Затем в переводе Беккета шла в Париже и в Нью-Йорке.
«Последнюю ленту Крэппа» ставил Доналд Макуини, известный радиопродюсер, подвигнувший Беккета написать две пьесы для третьей программы Би-би-си. Радиопремьера «Про всех падающих» состоялась 13 января 1957 года, «Золы» — 28 октября 1959 года. Трудно отделить пьесы Беккета от его поздних романов, написанных в форме драматических монологов, фрагменты которых передавались по третьей программе Би-би-си: «Моллой» — 19 декабря 1957 года, фрагменты «Из неопубликованного» — 14 декабря 1957 года. «Мэлон умирает» — 18 июня 1958 года; «Безымянный» — 19 января 1959 года.
Восхождение Сэмюэля Беккета к славе сопровождалось поразительным проявлением скромности, целеустремленности, преданности строжайшим принципам, вознаграждёнными овациями и успехом. Высокий, стройный, моложавый в свои пятьдесят лет, Беккет был застенчив, мягок, скромен, прост и абсолютно лишён манерности. Он не осознавал своей славы. Эта черта особенно удивляет в писателе, чьи книги полны страданий, мук, сумасшедших фантазий о человеческой сути и стремления положить конец страданиям. Сам он был в высшей степени уравновешенным и спокойным. Был женат, жил в небольшом доме в деревне либо в Париже. Чуждался литературной братии, предпочитая проводить время дома в обществе художников. В творчестве он продолжает исследование удела человеческого, поиски ответа на фундаментальные вопросы «Кто я?», «Что значит, когда я произношу “я”?» Теперь всё происходило медленнее и с большим напряжением, чем во времена его колоссального творческого подъёма.
В романе «Как есть», который вышел в январе 1961 года, Беккет достиг нового уровня аскетизма. Мифический мир населён одинокими существами, ползающими на животе по грязи; случайно, на короткое время, они встречаются с подобными им в гротескном стремлении к общению. И вновь расходятся, чтобы ползти в одиночестве дальше, и так до бесконечности.
Премьера пьесы «Счастливые дни» состоялась 17 сентября 1961 года в Нью-Йорке в Cherry Lane Theatre с Рут Уайт в главной роли в постановке Алана Шнайдера. 1 ноября 1962 года состоялась премьера в Лондоне в Royal Court Theatre в постановке Джорджа Девина. В октябре 1963 года труппа театра Odeon сыграла пьесу на Венецианском фестивале с Мадлен Рено в роли Винни. До этого спектакль долгое время с огромным успехом шёл в театре Odeon, создавая такой же мрачный мир, что и в романе «Как есть».
В немецком переводе премьера «Игры» состоялась 14 июня в Ульме. 4 января 1964 года пьесу играли на языке оригинала в Нью-Йорке, 7 апреля 1964 года — в Национальном театре в Лондоне. Премьера миниатюры «Приходят и уходят» состоялась в немецком переводе 14 января 1966 года в Студии Шиллер-театра в Западном Берлине, став следующим шагом проникновения Беккета в сознание, находящееся в зачаточном состоянии.
У Беккета всегда вызывал глубокий интерес технический прогресс в области масс-медиа, и он продолжал писать для радио, обращая особое внимание на слияние текста и музыки. 13 ноября 1962 года по третьей программе Би-би-си состоялся первый радиоспектакль «Слова и музыка». Композитором выступил Джон Беккет. 13 октября 1963 года по французскому радио прозвучал спектакль «Cascando» с музыкой румынского композитора Марселя Михаловича. 16 октября «Cascando» в немецком переводе прозвучало на радио Штутгарта и 28 октября 1964 года в английском переводе по третьей программе Би-би-си.
Первая встреча Беккета с кинематографом произошла по инициативе Grove Press of New York, задумавшего проект из трёх коротких фильмов Беккета, Ионеско и Пинтера. В 1965 году был осуществлен лишь фильм по трём сюжетам Беккета в постановке Алана Шнайдера и в августе был показан на Венецианском биеннале. Это была последняя роль великого комика немого кино Бастера Китона, которым восхищался Беккет.
Он испробовал максимально возможности телевидения в телепьесе 1965 года «А, Джо?», показанной на немецком телевидении и на Би-би-си. В главной роли снялся один из любимых актёров Беккета Макгаун.
Когда Беккет перешагнул за седьмой десяток, стремление проникнуть в сознание, сконцентрироваться на единственном, но многогранном образе с особой силой проявилось в его пьесах для сцены и телевидения. Поскольку он занял активную позицию в современном театральном процессе, иногда фигурируя в афише как режиссёр, он мог непосредственно контролировать визуальную сторону своих пьес и как создатель спектакля оценивать подвижные, объёмные образы точнее, чем, если бы выступал лишь как драматический поэт.
Премьера одноактной пьесы «Не я», состоялась в Нью-Йорке в Lincoln Centre в сентябре 1972 года. Образ пьесы — окружённый абсолютной темнотой рот, находящийся посреди сцены; это рот старой женщины, из которого стремительно вылетают беспорядочные слова. Рядом находится таинственный Слушатель в арабском одеянии, изредка безмолвно делающий умоляющий жест. В «Шагах» (премьера пьесы состоялась в лондонском Royal Court Theatre в мае 1976 года) внимание публики приковано к полосе света на полу. Видны только ноги пожилой женщины, которая нервно ходит и разговаривает с покойной матерью. В пьесе «На этот раз», премьера которой также состоялась в Royal Court в мае 1976 года, публика видит выступающую из полной темноты голову седобородого, седовласого старика; он слушает себя, его голос раздается с трёх сторон — слева, справа и из центра, витая над сценой, повествуя о трёх эпизодах его прошлого.
Поэту, живописцу движущихся образов, телевидение даёт дополнительные возможности — визуальный образ может быть зафиксирован раз и навсегда на видео. На телевидении в большей степени, чем на сцене, (слова «просто средство, как говорят фармацевты» (Беккет), менее важное, чем действенный элемент, то есть образ. В пьесах «Трио призрака», «…только облака…», премьера которых состоялась в один вечер 17 апреля 1977 года на телевидении Би-би-си, даны мощные образы потерь, вины и сожаления о безвозвратно ушедшей жизни.
Когда Алан Шнайдер ставил впервые в Америке спектакль «В ожидании Годо», он спросил Беккета, кто такой Годо или что означает Годо, драматург ответил: «Если бы я знал, я бы сказал об этом в пьесе»19.
Это полезное предупреждение каждому, кто подходит к пьесам Беккета с намерением найти ключ к их пониманию и точно выявить, что они означают. Возможно, такой подход может оправдаться по отношению к автору, исходящему из определённой философской или моральной концепции, чтобы затем перевести её в конкретный сюжет и характеры. Но даже в таком случае есть шанс, что конечный результат, если он стимулировал воображение, вышел бы за пределы авторского замысла, стал бы богаче, сложнее и привёл к множеству интерпретаций. Как писал Беккет в эссе о Джойсе «Work in Progress», форма, структура, настрой художественного изложения не отделимы от смысла и концептуального содержания; потому лишь, что художественное произведение как целое и есть смысл, оно неоспоримо связано с использованным методом и не может быть написано по-другому. В библиотеках хранится множество трудов, в которых предпринималась попытка ослабить смысл «Гамлета», свести пьесу к нескольким коротким простым линиям, чтобы она обрела большую ясность и чёткое изложение смысла и идеи, хотя пьеса предельно ясна и выразительна; неопределённость и неподдающаяся упрощению неоднозначность — причина её тотального воздействия.
Эти соображения в разной степени применимы к подлинной литературе, особенно к тем произведениям, в которых автор раскрывает своё ощущение тайны, замешательства и страха, сталкиваясь с человеческим уделом, впадая в отчаяние, оттого что не может обрести смысл жизни. «В ожидании Годо» рождает ощущение неопределённости, её приливы и отливы — от надежды найти идентичность Годо до бесконечных разочарований, и в этом суть пьесы. Любая попытка установить личность Годо умозрительно — такая же глупость, как попытка найти контур светотени в живописи Рембрандта, соскабливая краски.
Однако вполне естественно, что пьесы, написанные в столь необычной и загадочной манере, воспринимаются, как будто есть особая необходимость в раскрытии их тайного смысла, в переводе на бытовой язык. Источник этих заблуждений кроется в стремлении подогнать эти пьесы под каноны и формы «нормального театра» с повествовательным сюжетом. Кажется, что возможно подобрать к этим пьесам ключ, но это насильно лишило бы их тайны, и обнаружился бы традиционный сюжет, скрытый внутри них. Подобные попытки обречены на неудачу. Пьесам Беккета недостает сюжета в большей степени, чем пьесам других абсурдистов. В них нет линейного развития, они представляют плод интуитивного познания автором удела человеческого полифоническим методом. В его пьесах публика сталкивается с организованной структурой изложения и образами, раскрывающими друг друга, как в симфонии, где разные темы образуют смысл благодаря симультанному взаимодействию.
Пьесы Беккета требуют осторожного подхода, чтобы избежать ловушек, упрощающих их смысл. Это не значит, что мы не можем предпринять тщательное исследование, обособляя ряды образов и тем, стремясь понять их структурную основу. Результатов будет легче добиться, следуя авторской идее, зная, что можно получить если не ответы на его вопросы, то, по крайней мере, понять вопросы, которые он задаёт.
«В ожидании Годо» нет сюжета; исследуется статичная ситуация. «Ничего не происходит, никто не приходит, никто не уходит, это страшно»20
На просёлочной дороге, около дерева, двое старых бродяг Владимир и Эстрагон ждут. В начале первого акта — открытая ситуация. В конце первого акта им сообщают, что мсье Годо, с которым, как они полагают, они должны встретиться, прийти не может, но завтра он обязательно придёт. Второй акт повторяет эту ситуацию. Приходит тот же мальчик и сообщает то же самое. Финал первого акта:
ЭСТРАГОН. Ну, так идём.
ВЛАДИМИР. Да, идём.
(Они не двигаются с места.)
Во втором акте диалог повторяется, только персонажи меняются репликами.
Последовательность событий и диалогов в каждом акте различна. Всякий раз, когда бродяги встречаются с другой парой персонажей, Поццо и Лаки, господином и рабом, они спорят. В обоих актах Владимир и Эстрагон пытаются покончить самоубийством, и оба раза терпят неудачу. Эта вариация подчеркивает их сходство — plus çа change, plus c’est la ткте chose.[13]
Владимир и Эстрагон называют друг друга Диди и Гого. Но когда мальчик, посланник Годо, спрашивает их, как к ним обращаться, Владимир говорит, что его зовут Альбер, а Эстрагон, не задумываясь, говорит, что его зовут Катулл. Такой быстрый обмен репликами свойствен мюзик-холльным комикам, повторяющиеся реплики в диалоге — профессиональный приём комиков:
ЭСТРАГОН. Знать бы, что тебя ждёт.
ВЛАДИМИР. Тогда можно было бы какое-то время продержаться.
ЭСТРАГОН. Знать бы, что будет.
ВЛАДИМИР. Тогда нечего было бы и волноваться21.
Параллель с мюзик-холлом и цирком заявлена открыто.
ВЛАДИМИР. Очаровательный вечер.
ЭСТРАГОН. Незабываемый.
ВЛАДИМИР. И он продолжается.
ЭСТРАГОН. Это очевидно.
ВЛАДИМИР. Он только начинается.
ЭСТРАГОН. Ужасно.
ВЛАДИМИР. Хуже, чем в театре.
ЭСТРАГОН. Чем в цирке.
ВЛАДИМИР. Чем в мюзик-холле.
ЭСТРАГОН. Чем в цирке22.
В пьесе встречается элемент грубого, низового юмора, характерный для мюзик-холльной или цирковой традиции: Эстрагон теряет брюки; растянутый на целый эпизод гэг с тремя шляпами, которые бродяги то надевают, то снимают, то передают друг другу, создавая нескончаемую неразбериху, и изобилие этой неразберихи вызывает смех. Автор талантливой диссертации о Беккете Никлаус Гесснер перечисляет около сорока пяти ремарок, указывающих, что кто-то из персонажей утрачивает вертикальное положение, символизирующее достоинство человека23.
В постоянных словесных перепалках у Владимира и Эстрагона проявляются индивидуальные черты. Владимир более практичен, Эстрагон же претендует на роль поэта. Эстрагон говорит, что чем больше он ест моркови, тем меньше она ему по вкусу. Реакция Владимира противоположна: ему нравится всё привычное. Эстрагон ветреник, Владимир постоянен. Эстрагон — мечтатель, Владимир не может слышать о мечтах. У Владимира зловонное дыхание, у Эстрагона воняют ноги. Владимир помнит прошлое, Эстрагон мгновенно всё забывает. Эстрагон любит рассказывать весёлые истории, Владимира они выводят из себя. Владимир надеется, что Годо придёт, и их жизнь изменится. Эстрагон к этому относится скептически и иногда забывает имя Годо. С мальчиком, посланцем Годо, разговор ведёт Владимир, и мальчик адресуется к нему. Эстрагон душевно неустойчив; каждую ночь какие-то неизвестные люди его бьют. Иногда Владимир его защищает, поёт ему колыбельную, накрывает своим пальто. Несходство темпераментов приводит к бесконечным перебранкам, и они то и дело решают разойтись. Они дополняют друг друга и потому зависят друг от друга и обречены никогда не расставаться.
Поццо и Лаки также дополняют друг друга, но их отношения более примитивны: Поццо — садист-господин, Лаки — послушный раб. В первом акте Поццо богат, могуществен и самоуверен: это практичный поверхностный человек с близоруким оптимизмом, иллюзорным ощущением силы и прочности положения. Лаки не только тащит тяжёлый багаж и хлыст, которым его бьёт Поццо, он ещё танцует и думает за него, во всяком случае, вначале. Фактически Лаки учил Поццо высшим ценностям жизни: «красоте, изяществу, истине»24. Поццо и Лаки олицетворяют отношения между телом и разумом, материальным и духовным в человеке, подчинение интеллекта потребностям тела. Когда силы Лаки иссякают, Поццо жалуется, что тот причиняет ему невыразимые страдания. Он хочет избавиться от Лаки, продав его на ярмарке. Но во втором акте они столь же связаны друг с другом. Поццо ослеп, Лаки потерял дар речи. Поцци заставляет Лаки бесцельно вести его дальше, Владимир же одерживает над Эстрагоном победу, добившись, что они будут ждать Годо.
Немало предпринято остроумных попыток, чтобы установить этимологию имени Годо, выяснить сознательным или бессознательным было намерение Беккета сделать его объектом поисков Владимира и Эстрагона. Можно предположить, что Годо — ослабленная форма от God, уменьшительное имя по аналогии Пьер — Пьеро, Шарль — Шарло плюс ассоциация с образом Чарли Чаплина, его маленьким человеком, которого во Франции называют Шарло; его котелок носят все четверо персонажей пьесы. Высказывалось предположение, что название пьесы «В ожидании Годо» вызывает аллюзию с книгой Симоны Вайль «В ожидании Бога», рождающей ещё одну ассоциацию: Годо — это Бог. Имя Годо породило ещё более неясную литературную ассоциацию. Как замечает Эрик Бентли, это имя персонажа пьесы Бальзака «Делец», более известной под названием «Меркаде». О нём постоянно говорят, но Годо у Бальзака — внесценический персонаж25.
Меркаде — биржевой спекулянт, приписывающий все свои финансовые неудачи бывшему партнёру Годо, который много лет назад присвоил себе их общий капитал: «Я несу бремя преступления Годо».
С другой стороны, Меркаде постоянно заявляет бесчисленным кредиторам, что Годо вернётся. «У каждого есть свой Годо, свой лже-Колумб! И что греха таить… Годо, что ни говори, принес мне барыша больше, чем украл». Сюжет «Меркаде» построен на последней спекуляции отчаявшегося Меркаде — появлении лже-Годо. Но обман раскрывается. Кажется, что Меркаде погиб окончательно. В этот момент из Индии с огромным капиталом возвращается настоящий Годо. Пьеса заканчивается восклицанием Меркаде: «Я столько раз показывал всем Годо, что имею право сам на него посмотреть! Едем к Годо»26.
Параллели наталкивают на мысль, что это вряд ли простое совпадение: и в пьесе Беккета, и в пьесе Бальзака прибытие Годо — страстно ожидаемое событие, которое должно чудесным образом спасти положение. Беккет, как и Джойс, любил тонкие, скрытые литературные аллюзии.
Означает ли Годо вмешательство сверхъестественных сил, или же он символизирует мифическую основу бытия, и его прибытия ждут, чтобы изменилась ситуация, или же он соединяет то и другое, — в любом случае его роль второстепенна. Тема пьесы не Годо, но акт ожидания как характерный аспект человеческого удела. В течение всей жизни мы чего-то ждём, и Годо — объект нашего ожидания, будь то событие или вещь, или человек, или смерть. Более того, в акте ожидания ощущается течение времени в его чистейшей, самой наглядной форме. Если мы активны, то стремимся забыть о ходе времени, не обращая на него внимания, но если мы пассивны, то сталкиваемся с действием времени. Как пишет Беккет в исследовании о Прусте: «Это не бегство от часов и дней. Ни от завтра, ни от вчера, ибо вчера нас деформировало или деформировано нами. …Вчера — не веха, которую мы миновали, а знак на проторенной дороге лет, наша безысходная участь, тяжёлое и опасное, оно сидит внутри нас… Мы не только больше устаём от каждого вчера, мы становимся другими и отнюдь не более отчаявшимися, чем были»27. Бег времени сталкивает нас с основной проблемой бытия: природой нашего «я», постоянно меняющегося во времени субъекта, пребывающего в вечном движении, и потому всегда нам неподвластного. «Человек может воспринимать реальность только как ретроспективную гипотезу. В нём постоянно происходит медлительный, тусклый, монохромный процесс переливания в сосуд, содержащий флюид прошедшего времени, многоцветный, движимый феноменом этого времени»28.
Как субъект процесса времени, протекающего через нас и потому меняющего нас, мы самоидентичны, но не в каждый момент нашей жизни. Поэтому «мы разочарованы ничтожностью того, что нам доставляло радость считать успехом. А что такое успех? Идентификация субъекта с объектом его желания. На этом пути субъект теряет интерес и, по всей вероятности, не единожды»29. Если Годо объект желания Владимира и Эстрагона, естественно, что им он всегда кажется вне досягаемости. Знаменательно, что мальчик, посланец Годо, каждый раз не узнаёт их. Во французской версии подчёркнуто, что мальчик во втором акте тот же самый, что и в первом акте, но он говорит, что никогда прежде их не видел и впервые передаёт им послание Годо. Когда мальчик собирается уходить, Владимир пытается внушить ему, что мальчик их видел: «Ты понял, что видел меня, а? и завтра не будешь говорить, что ты никогда меня не видел?» Мальчик не отвечает, и мы понимаем, что завтра он снова их не узнает. Можем ли мы быть уверены в том, что люди, которых мы встретили вчера, сегодня остались такими же? Когда Поццо и Лаки впервые появляются, кажется, что Владимир и Эстрагон их не знают; Эстрагон даже принимает Поццо за Годо. Но после их ухода Владимир говорит, что они изменились с тех пор, как они видели их последний раз. Эстрагон уверяет, что он никогда их не видел.
ВЛАДИМИР. Да знаешь ты их.
ЭСТРАГОН. Не знаю.
ВЛАДИМИР. Говорю тебе, мы их знаем. Ты всё забыл. (Пауза. Про себя) Если это не те…
ЭСТРАГОН. Почему они тогда нас не узнали?
ВЛАДИМИР. Это ничего не значит. Я тоже предпочитаю их не узнавать. Да и нас никто не узнает30.
Во втором акте Поццо и Лаки появляются снова, но их беспощадно изменило время, и Владимир и Эстрагон вновь сомневаются, их ли они видели раньше. Но и Поццо их не помнит: «Я не помню, встречал ли я кого-нибудь вчера. Но завтра я не вспомню, видел ли я кого-нибудь сегодня»31.
Ожидание — это узнавание опытным путём действия времени, постоянно изменяющегося. К тому же, поскольку реально ничего не происходит, то ход времени всего лишь иллюзия. Непрекращающаяся энергия времени говорит против себя, она бесцельна и потому недейственна и лишена смысла. Чем более изменяются вещи, тем более они остаются прежними. И в этом ужасающая неизменность мира. «Слёзы мира — величина постоянная. Если кто-то начинает плакать, значит, где-то кто-то перестал плакать»32. Один день похож на другой, и мы умираем, как будто никогда и не рождались. Поццо об этом говорит в последнем монологе-взрыве: «Сколько можно издеваться, задавая вопросы о проклятом времени?.. Вам мало, что… каждый день похож на другой, в один прекрасный день он онемел, а я в другой прекрасный день ослеп, и придёт такой прекрасный день, когда все мы оглохнем, а в какой-то прекрасный день мы родились, и настанет день, и мы умрём, и будет ещё один день, точно такой же, а за ним другой, такой же… Рожают прямо на могилах: только день забрезжит, и вот уже опять ночь»33.
Вскоре Владимир с этим соглашается: «Рожают в муках прямо на могилах. А внизу, в яме, могильщик уже готовит свою лопату»34.
И всё же Владимир и Эстрагон продолжают надеяться и ждут Годо, чей приход может остановить бег времени. «Может, сегодня мы будем спать в его дворце, в тепле, на сухой соломе, на сытый желудок. Вот что значит ждать, согласен?»35. Эта реплика, пропущенная в английской версии, без обиняков говорит о жажде отдыха от ожидания, ощущения, что ты попал на небеса; и это всё предоставит бродягам Годо. Они надеются спастись от бренности мира и непрочности иллюзии времени и обрести спокойствие и неизменность внешнего мира. Они перестанут быть бродягами, бездомными странниками и обретут дом.
Владимир и Эстрагон ждут Годо, несмотря на то, что неизвестно, возможна ли эта встреча. Эстрагон о ней не помнит, Владимир не вполне уверен, о чём они у него просили: «ни о чем конкретном… что-то вроде молитвы… вообще просьба». Что же обещал им Годо? «Он посмотрит… подумает…»36
Когда Беккета спрашивали, какова тема «В ожидании Годо», он иногда цитировал Блаженного Августина: «У Августина есть замечательное высказывание. Я хотел бы процитировать его на латыни. На латыни звучит лучше, чем по-английски: «Не теряйте надежды. Один из разбойников был спасён. Не принимайте в расчёт, что другой был осуждён на вечные муки». Иногда Беккет добавлял: «Меня интересуют некоторые идеи, даже если я не верю в них… В этом изречении заключён потрясающий образ. Он воздействует»37
Через всю пьесу проходит тема двух разбойников, распятых на кресте, — тема зыбкости надежды на спасение и случайности милости Господней. Владимир говорит об этом в начале: «Один из разбойников был спасён… Разумный процент»38. Позже он эту тему развернёт шире: «Двое разбойников…. Говорят, один был спасен… другой… осуждён на вечные муки… И почему из четырёх евангелистов только один упоминает о спасённом разбойнике? Все четверо были там или поблизости. Двое и словом не обмолвились об этом, а третий говорит, что оба разбойника поносили его»39. Шанс пятьдесят на пятьдесят, но поскольку лишь один из четверых свидетельствует об этом, шансы значительно уменьшаются. Но Владимир обращает внимание на любопытный факт: каждый из четверых евангелистов считал себя единственным свидетелем: «Для каждого эта версия — единственная». Позиция Эстрагона проникнута скепсисом, и он просто комментирует: «Люди — проклятые, неразумные обезьяны»40.
Беккета приводила в восхищение форма идеи: из всех преступников, из миллионов и миллионов преступников на протяжении всей истории, двое, только двое, поразительным образом получили шанс на прощение в смертный час. Один обрекался на вечные муки, другой был спасён. Вполне вероятно, что они могли поменяться участью. Суда как такового не было, лишь случайные выкрики в миг наивысших страданий и мук. Как говорит Поццо о Лаки: «Заметьте, я вполне мог быть в его ботинках, а он — в моих. Каждому своё»41. В таком случае один день наша обувь может быть нам впору, а на следующий день уже не подходить: в первом акте Эстрагон мучается из-за своей обуви, а во втором ботинки чудесным образом оказываются ему впору.
Годо непредсказуем в милостях и наказаниях. Посланный им мальчик пасёт коз, и Годо обходится с ним хорошо. Но его брата, который пасёт овец, Годо бьёт. «А почему он не бьёт тебя?» — спрашивает Владимир. «Я не знаю, мсье» — «Je ne sais pas, Monsieur» — отвечает мальчик, повторяя слова апаша, пырнувшего Беккета ножом. Параллель с Каином и Авелем очевидна: не существует рационального объяснения, почему на одного нисходит Божья милость, а на другого нет. Во всяком случае, Годо бьёт пастуха овец и ласков с пастухом коз, поступая иначе, чем сын Божий в день Страшного суда: «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую».[14] Но если милость Годо случайна, то его приход может означать и спасение, и осуждение на вечные муки. Во втором акте Эстрагон считает, что Годо уже близко, и его первая мысль: «Я проклят». Владимир же, ликуя, восклицает: «Это Годо! Наконец-то! Пойдём и встретим его»; Эстрагон убегает с криком: «Я в аду!»42.
Случайность дарованной милости не поддаётся объяснению; человечество делится на тех, кто будет спасён, и тех, кого ждут вечные муки. Во втором акте Поццо и Лаки возвращаются, Эстрагон встречает их криком: «Авель! Авель!», — и Поццо незамедлительно откликается. Но когда Эстрагон кричит: «Каин! Каин!», — Поццо тоже откликается. «Он — всё человечество»43, - заключает Эстрагон.
Даже если предположить, что активность Поццо вызвана его откровенным стремлением выиграть шанс на спасение. В первом акте Поццо идёт продавать Лаки «на ярмарку». Во французской версии, однако, указывается, что он направляется на «marche de Saint-Sauveur» — рынок Христа Спасителя, — где он и приобрёл Лаки. Пытается ли он продать Лаки ради собственного спасения? Или же он пытается отвести шанс на спасение пятьдесят на пятьдесят от Лаки на себя, так как, надев его ботинки, он с лёгкостью может превратиться в него. Он, конечно, жалуется, что Лаки причиняет ему великие страдания, что он убивает его фактом своего существования, — тот напоминает ему, что шанс на спасение может выпасть Лаки. С первых же слов знаменитого монолога Лаки об его умении думать, этого неистового, шизофренического «словесного винегрета» ощущается тонкая связь с этой мыслью. Кажется, что вновь речь идёт о случайности спасения: «Принимая во внимание… личного Бога… вне времени, вне пространства, который с высоты божественной апатии божественной афазии божественной агнозии и возлюбит нас горячо за некоторым исключением по неизвестным причинам… страдает… с теми, кто по неизвестным же причинам ввергнуты в муки»44. Здесь мы вновь встречаемся с личным Богом, с его божественной апатией, с его неспособностью к речевому общению (афазия), с отсутствием у него страха или удивления (афамбия): с Богом, который может нас горячо возлюбить, кроме тех, кого ввергнет в муки ада. Иными словами, Бог не вступает с нами в общение, он ни в состоянии нас понять, и наказывает по неизвестным причинам.
Когда на следующий день Поццо и Лаки возвращаются, Поццо ослеп, Лаки онемел, и о ярмарке нет и речи. Поццо не смог продать Лаки; духовная слепота лишила его милости Господней, превратившись в слепоту физическую.
Высказывания Беккета и текст говорят о том, что в пьесе речь идёт о надежде на спасение через милость Господнюю. Означает ли это, что пьеса христианская или даже религиозная? Есть несколько наивных интерпретаций в этом роде. Ожидание Владимира и Эстрагона объясняется твёрдостью их веры и надежды, а доброта Владимира к товарищу — их взаимозависимостью, символизирующей христианское милосердие. Но эти религиозные толкования игнорируют существенные особенности пьесы — постоянный акцент на неопределённость встречи с Годо, его нереальность, иррациональность и постоянная демонстрация тщетности надежды на его приход. Акт ожидания Годо, в сущности, явлен как абсурд. Конечно, это может быть доказательством «Credere quia absurdum est», но может быть воспринято и как более сильное утверждение: «Absurdum est credere».[15]
Характерная черта пьесы — предположение, что наилучший выход из ситуации бродяг, — и они это высказывают, — предпочесть самоубийство ожиданию Годо. «Мы думали об этом, когда мир был молод, в девяностые. …Взяться за руки и сигануть с Эйфелевой башни среди первых. Тогда мы ещё были вполне респектабельны. Но теперь уже поздно, нас туда даже и не пустят»45. Покончить с собой — их излюбленное решение, невыполнимое из-за их некомпетентности и отсутствия орудий самоубийства. То, что самоубийство всякий раз не удаётся, Владимир и Эстрагон объясняют ожиданием или симулируют это ожидание. «Хотел бы я знать, что он предложит. Тогда бы мы знали, совершать это или нет»46. У Эстрагона меньше, чем у Владимира надежд на Годо, и он подбадривает себя тем, что они ничем ему не обязаны.
ЭСТРАГОН. Хочу у тебя спросить, обязаны ли мы Годо?
ВЛАДИМИР. Обязаны?
ЭСТРАГОН. Обязаны.
ВЛАДИМИР. Как прикажешь понимать?
ЭСТРАГОН. Ну, связаны по рукам и ногам.
ВЛАДИМИР. Кем?
ЭСТРАГОН. Ну. Этим самым типом.
ВЛАДИМИР. Годо? Связаны по рукам и ногам? Чушь какая! Об этом не может быть и речи. (Пауза.) Пока не связаны47.
Позже Владимир не без самодовольства говорит об их ожидании: «Мы ждём встречи… мы не святые, — но мы ждём. Сколько человек могут так сказать?» Эстрагон мгновенно подпускает шпильку: «Миллиарды». И Владимир готов допустить, что это вошло у них в привычку. «Конечно, время тянется бесконечно… и мы вынуждены коротать часы… на первый взгляд, это может показаться приемлемым, пока не войдёт в привычку. Можно считать, это не даёт нам выпасть в осадок. Несомненно. Но ведь так недолго и заблудиться в кромешной тьме бездны?»48
В пользу христианского толкования может служить аргумент, что Владимир и Эстрагон отличаются от Поццо и Лаки в лучшую сторону; Поццо и Лаки не ждут Годо, у них нет цели, они эгоцентричны и погрязли в садомазохизме. Разве вера бродяг не возвышает их?
Очевидно, что Поццо наивно самонадеян и эгоцентричен. «Похож я на человека, который может страдать?»49 — хвастается он. Даже когда он произносит задушевный, печальный монолог о закате и неожиданно спустившейся ночи, мы понимаем, он не верит, что ночь настанет, — он просто разыгрывает спектакль; его заботит не смысл декламации, но производимый на слушателей эффект. Поэтому он и не подозревает, что на него надвинется ночь, и он ослепнет. Лаки считает Поццо своим хозяином, вкладывает в него свои мысли; он наивно убеждён в силе разума, красоты, правды. Несомненно, Эстрагон и Владимир выше Поццо и Лаки не потому, что они верят в Годо, но потому, что они не столь наивны. Они не верят в пользу действий, в ценности, в разум. Они знают: всё, что мы делаем, — ничто перед бессмысленной поступью времени, которое само по себе иллюзия. Им известно, что самоубийство — лучший выход. Они выше Поццо и Лаки, потому что они не такие эгоцентрики, и у них меньше иллюзий. В действительности, как замечает последовательница Юнга, психолог Ева Метман в исследовании драматургии Беккета: «Функция Годо — подсознательная зависимость от него»50. Принимая во внимание такую точку зрения, надежда, привычка надеяться на то, что всё же Годо может прийти, — последняя иллюзия Владимира и Эстрагона, удерживающая их от того, чтобы увидеть жизнь и себя в пронзительном свете осознанного знания. Как замечает Ева Метман, незадолго до финала Владимир близок к воплощению своей мечты: проснувшись, он окажется в мире, в котором придёт посланец Годо, воскресит его надежды и вновь погрузит в инертность иллюзии.
На миг Владимир осознает весь ужас удела человеческого: «Воздух наполнен нашим плачем… но ко всему привыкаешь». Он смотрит на спящего Эстрагона и размышляет: «И на меня кто-то смотрит, и обо мне кто-то говорит, он ничего не знает, пусть спит… Я больше не могу так!»51 Рутинное ожидание Годо превращается в привычку, защищающую нас от мучительного, но полезного осознания реальности бытия.
В эссе о Прусте мы вновь встречаемся с комментарием Беккета этого аспекта «В ожидании Годо»: «Привычка — балласт, подобный возвращению пса к своей блевотине. Дышать — привычка. Жить — привычка. Или даже скорее — наследование привычек, потому что человек — продолжение других. …И привычка — общее условие для бесчисленных договоренностей между бесчисленными субъектами и столь же бесчисленными объектами, соотносимыми с ними. Переходные периоды, разделяющие последующие адаптации …опасные зоны в жизни человека, рискованные, сомнительные, мучительные, непостижимые и плодоносящие. В этот период скука жизни заменяется страданием существования»51. «Страдание существования — свободная игра каждого человека. Ибо пагубная преданность привычке парализует наше внимание, подмешивает наркотик в этих служанок восприятия, взаимодействие которых абсолютно не существенно»53.
Владимир и Эстрагон неоднократно признаются, что их времяпровождение помогает им уйти от мыслей. «Нам больше не угрожает опасность думать… Думать — это не самое худшее… Ужасно, что думать нужно»54.
Владимир и Эстрагон непрерывно разговаривают. Почему? Они объясняют это, и, возможно, это самый лиричный и совершенный диалог пьесы:
ВЛАДИМИР. Ты прав, мы неистощимы.
ЭСТРАГОН. Чтобы нам не думать.
ВЛАДИМИР. Это наше оправдание.
ЭСТРАГОН. Чтобы не слышать.
ВЛАДИМИР. На то у нас есть причины.
ЭСТРАГОН. Все эти мёртвые голоса.
ВЛАДИМИР. Они похожи на шорох крыльев.
ЭСТРАГОН. Листьев.
ВЛАДИМИР. Песка.
ЭСТРАГОН. Листьев.
(Пауза)
ВЛАДИМИР. Они говорят все разом.
ЭСТРАГОН. Каждый говорит себе.
(Пауза)
ВЛАДИМИР. Они как будто шепчут.
ЭСТРАГОН. Скорее шуршат.
ВЛАДИМИР. Нет, шепчут.
ЭСТРАГОН. Шуршат.
(Пауза)
ВЛАДИМИР. О чём они говорят?
ЭСТРАГОН. Рассказывают о своей жизни.
ВЛАДИМИР. Им мало, что они жили.
ЭСТРАГОН. Они об этом и говорят.
ВЛАДИМИР. Им мало и того, что они умерли.
ЭСТРАГОН. Мало.
(Пауза)
ВЛАДИМИР. Их разговор похож на шорох перьев.
ЭСТРАГОН. Листьев.
ВЛАДИМИР. Пепла.
ЭСТРАГОН. Листьев.
(Долгая пауза)55
Словесная перепалка ирландских мюзик-холльных комиков чудесным образом превращается в поэзию. Поэзия — ключ ко многим произведениям Беккета. Конечно же, эти шуршащие, шепчущие голоса прошлого мы слышим в его трилогии. Эти голоса исследуют тайны бытия и своей личности с максимальной степенью мук и страданий. Владимир и Эстрагон стараются их не слышать. Длительное молчание, следующее за этим диалогом, прерывает Владимир страдальческим криком: «Скажи же что-нибудь!», — после чего они снова начинают ждать Годо.
Надежда на спасение может быть просто способом избежать страданий и боли, порождаемых созерцанием человеческого удела. В этом удивительная параллель между экзистенциалистской философией Жана-Поля Сартра и творческой интуицией Беккета, никогда осознанно не выражавшего экзистенциалистских взглядов. Если для Беккета, как и для Сартра, моральное обязательство человека в том, чтобы смотреть в лицо жизни, сознавая, что суть бытия — ничто, а свобода и необходимость в постоянном созидании себя делают один за другим выбор, в таком случае Годо, по терминологии Сартра, вполне может олицетворять «плохую веру»: «Первый акт плохой веры состоит в уклонении от того, от чего уклониться невозможно, в уклонении уклонения»56.[16]
Несмотря на возможные параллели, мы не должны далеко заходить, пытаясь отнести Беккета к какой-либо философской школе. Необычность и великолепие «В ожидании Годо» в том, что пьеса предполагает множество интерпретаций с позиций философских, религиозных, психологических. Помимо того, это поэма о времени, недолговечности и таинственности жизни, парадокс изменчивости и стабильности, необходимости и абсурдности. Такое же впечатление на Уатта производит дом мистера Нотта: «…в доме мистера Нотта ничто не изменялось, потому что ничего не прибавлялось и не убавлялось, потому что всё появлялось и исчезало»57. Вчитываясь в пьесу «В ожидании Годо», мы испытываем то же чувство, что и Уотт, созерцавший устройство мира мистера Нотта: «С одной стороны, он едва ли ощущал абсурдность этих вещей, с другой стороны, чувствовал необходимость в чём-то ином (редко чувство необходимости не сопутствует абсурду)»58.
Владимир и Эстрагон бесцельно проводят время в нескончаемых играх, следующая пьеса Беккета — о «конце игры», о последней игре в смертный час.
Действие «В ожидании Годо» разворачивается на пустынной, вселяющей ужас дороге. Действие «Конца игры» — в клаустрофическом интерьере. «В ожидании Годо» состоит из двух симметричных актов, уравновешивающих друг друга; «Конец игры» — одноактная пьеса, в которой показан изношенный механизм человеческого существования вплоть до полной остановки. Как и «В ожидании Годо», в этой пьесе персонажи разделяются на симметричные пары.
В пустой комнате с двумя маленькими окнами, в инвалидном кресле, проводит дни слепой старик Хамм. Он парализован и не может сдвинуться с места. Его слуга Клов не в состоянии сесть. В мусорных баках, стоящих у стены, обитают безногие родители Хамма, Нагг и Нелл. Вселенная погибла. Некая страшная катастрофа уничтожила весь мир. Остались в живых лишь четверо. Хотя возможно, только они так считают.
Хамм и Клов (ham actor — актёр, бьющий на дешёвый эффект и клоун? Hammer and Nail — молоток и гвоздь; clou — гвоздь по-французски) в некоторой степени соответствуют Поццо и Лаки. Хамм — господин, Клов — слуга. Хамм эгоистичен, плотояден, деспотичен. Клов ненавидит Хамма, хочет от него уйти, но вынужден ему подчиняться. «Поди сделай это, сделай то, и я делаю. Не отказываюсь. Почему?»59 Найдёт ли Клов в себе силы, чтобы уйти? В этом источник драматического напряжения пьесы. Если Клов уйдёт, Хамм должен умереть, поскольку никого не осталось в живых, да и запасы еды почти иссякли. Если Клов найдёт в себе силы уйти, он не только убьёт Хамма, но совершит самоубийство, достигнув цели в отличие от Эстрагона и Владимира, много раз терпевших в этом неудачу.
Хамм воображает себя писателем, но скорее, он рассказчик небылиц. Каждый день он сочиняет небольшими порциями историю катастрофы, в результате которой погибло множество людей. В день, свидетелями которого мы становимся, история доходит до эпизода, в котором отец голодного ребёнка просит для него у Хамма хлеба. Отец умоляет Хамма оставить ребёнка у себя, чтобы он выжил и смог вернуться домой. Предположительно, Клов и есть тот самый ребёнок, для которого у Хамма просили хлеб. Но когда его принесли к Хамму, он был стишком мал, чтобы это помнить. Хамм был для него отцом, или, как формулирует Клов: «но для меня… нет отца. Но для Хамма… нет дома»60. Ситуация «Конца игры» обратна «Улиссу» Джойса, в котором отец находит замену умершему сыну. Здесь сын стремится оставить вырастившего его отца.
Клов пытается оставить Хамма, как он говорит: «С тех пор, как меня произвели на свет»61. Хамм отягощён огромной ношей вины. Он мог спасти множество людей, просивших у него помощи. «Их было полным полно!»62 Соседка, старая матушка Пегг, которая когда-то «была красоткой, просто полевой цветок» и, вероятно, любовницей Хамма, погибла из-за его жестокости: «Когда старая матушка Пегг попросила у тебя масла для лампы, ты сказал, чтобы она убиралась ко всем чертям …ты знаешь, она умерла, матушка Пегг? В кромешной тьме»63. Запасы в доме Хамма уже иссякают: сласти, мука для кашки, которой питаются родители, даже болеутоляющие таблетки Хамма. Мир разлаживается. «Всё идёт своим чередом»64.
Хамм ребячлив; он играет с трёхногой игрушечной собакой, очень себя жалеет. Клов — его глаза. Регулярно он просит Клова смотреть из двух маленьких, высоко расположенных окон, что происходит снаружи. Окно справа выходит на сушу; окно слева — на море. Но на море нет даже волн.
Хамм неряшлив, Клов — фанатик порядка.
Родители Хамма, живущие в мусорных баках, — гротескные, сентиментальные идиоты. Они лишились ног, попав в аварию по дороге к Седану, когда ехали на тандеме через Арденны. Они вспоминают день своего обручения, когда апрельским полднем катались на лодке по озеру Комо. (Сравните с любовной сценой в лодке в «Последней ленте Крэппа».) Нагг в духе рассказчика эдвардианской эпохи вспоминает, как тогда смеялась его невеста, и повторяет это столько раз, что вызывает омерзение.
Хамм ненавидит своих родителей. Нелл тайно подговаривает Клова бросить Хамма. Нагг, разбуженный, чтобы слушать повесть Хамма, ругает его: «Кого ты звал, когда был маленьким и боялся темноты? Маму? Нет. Ты звал меня». Но тут же становится ясно, насколько он был эгоистичен, не обращая внимания на зов мальчика. «Мы позволяли тебе кричать. Мы уносили тебя в дальнюю комнату, чтобы спокойно спать… Надеюсь, что придёт день, когда тебе понадобится, чтобы я тебя услышал… Да, я надеюсь дожить до этого дня и услышать, как ты меня зовёшь, как тогда, когда ты был маленьким и боялся темноты, и я был твоим единственным спасением»65.
Перед финалом Хамм воображает, что случится, когда Клов уйдёт. Он повторяет предсказание Нагга: «Я останусь в своём старом пристанище, один на один с молчанием и… неподвижностью… Я позову отца и позову своего… сына»66. По всей вероятности, он считает Клова сыном.
В очередной раз Клов смотрит из окна в телескоп. Неожиданно он замечает нечто необычное — маленького мальчика. Не вполне ясно, действительно ли он видит странный знак непрерывности жизни, «потенциального воссоздателя человеческого рода». В какой-то степени это поворотный момент. Хамм говорит: «Это конец, Клов, всё кончено. Ты мне больше не нужен»68. Возможно, он не верит, что Клов его покинет. Однако Клов решил, что уйдёт: «Я открою дверь темницы и уйду. Меня так скрутило, что когда открываю глаза, вижу только свои ноги, а под ногами — чёрную пыль. Я говорю себе, это земля угасла, хотя никогда не видел, чтобы она горела. Идти легко. …Когда упаду, от счастья заплачу»69. Когда слепой Хамм изливается в финальном монологе, полном реминисценций и жалоб на судьбу, появляется Клов в дорожном костюме: панама, твидовый пиджак, дождевик на руке, и, застыв, молча слушает его. Занавес опускается, он не трогается с места. Неизвестно, уйдёт ли он на самом деле.
Финальная драматическая ситуация «Конца игры» позволяет говорить о любопытном сходстве с финалом мало известной замечательной пьесы блистательного русского драматурга, истинного человека театра Николая Евреинова, появившейся в английском переводе в 1915 году. Одноактная пьеса «В кулисах души»70 — монодрама, происходящая внутри человека, раскрывая составные части его ego, эмоциональное и рациональное, вступившие в конфликт. Некий Иванов сидит в кафе, раздумывая, уйти ли ему от жены к певичке из ночного клуба. Эмоциональное начало побуждает уйти, рациональное — убеждает в моральных и материальных преимуществах возвращения к жене. Оба начала вступают в борьбу: пуля пробивает сердце, бьющееся на заднем плане: Иванов застрелился. Рациональное и эмоциональное умерли. Третий персонаж, спавший всё это время в глубине сцены, поднимается. Он в дорожном костюме с чемоданом. Это бессмертная часть Иванова, продолжающая жизнь.
Хотя маловероятно, что Беккет знал эту старую, давно забытую русскую пьесу, возникает мысль о параллелях. Монодрама Евреинова — рациональная конструкция чистейшей воды, написанная для кабаретной публики, что тогда было новейшим психологическим направлением. Пьеса Беккета открывает бездны. Многое говорит, что «Конец игры» можно считать монодрамой. Замкнутое пространство с двумя крошечными окнами, через которые Клов обозревает внешний мир; родители в мусорных баках, которых угнетают и ни в грош не ставят, а за плохое поведение Клов закрывает их баки крышками. Слепой нервный Хамм. Клов, исполняющий функцию его чувств. Все эти персонажи могут представлять разные аспекты одной личности, вытесненные эмоциональными и интеллектуальными воспоминаниями в подсознание. Не олицетворяет ли в таком случае Клов интеллект, обслуживающий эмоции, инстинкты и потребности и стремящийся освободиться от этих анархических и тиранствующих хозяев, к тому же обречённых на смерть, когда закончится их связь с физиологической стороной личности? Или это гибель мира, постепенно теряющего связи с реальностью в процессе старения и умирания? Можно ли считать «Конец игры» монодрамой, рисующей распад личности в смертный час?
Вряд ли на эти вопросы можно получить точные ответы. Определённо, «Конец игры» не задумывался, как затянувшаяся аллегория такого рода. Хамм вспоминает случай из своей жизни, странную реминисценцию ситуации «Конца игры»: «Я знавал сумасшедшего, уверенного, что настал конец света. Он был художник, гравёр… Я навещал его в сумасшедшем доме. Я брал его за руку и тащил из его угла к окну. Смотри! Туда смотри! Хлеба колосятся! А там! Смотри! Рыбаки подняли паруса! Красота-то какая! …А он руку выдёргивает и забивается в свой угол. Сам не свой от страха. Везде ему чудился только пепел… Только он один и остался… Про него забыли… Случай этот… не такой уж… не такой уж необычный!»71 Мир Хамма похож на галлюцинации сумасшедшего художника. Какой смысл заключён в ремарке: «Рядом с дверью висит картина изображением к стене»72? Означает ли эта картина воспоминание? Или историю прояснения сознания художника, чьи предсмертные часы мы наблюдаем из-за кулис его памяти?
Пьесы Беккета могут интерпретироваться на множестве уровней. С одной стороны, «Конец игры» — монодрама, с другой — моралите о смерти богача. На специфическую психологическую подлинность персонажей Беккета часто обращают внимание. Поццо и Лаки рассматриваются, как тело и разум; Владимир и Эстрагон — как взаимодополняющие, сознательное и бессознательное, начала одной личности. Каждая из этих трёх пар, Поццо — Лаки, Владимир — Эстрагон, Хамм — Клов, хотят освободиться друг от друга, находятся в состоянии войны и всё же взаимозависимы. Nec tecum, nес sine te.[17] Пример обычной ситуации между супругами, но и образ взаимосвязи элементов внутри личности, особенно если личность в конфликте с собой.
Основная ситуация в первой пьесе Беккета «Элевтерия» в общих чертах напоминает отношения Клова и Хамма. Молодой герой хочет уйти из семьи, и в финале ему это удаётся. В «Конце игры» эта ситуация обретает универсальность; лишённая фабулы и натуралистического и социального фона, она более сконцентрирована и обогащена. Процесс ограничения, о котором в эссе о Прусте Беккет писал как о сути художественной тенденции, триумфально завершён. «Конец игры», стрелой пронзая сердцевину бытия, больше, чем просто исследование внешнего мира. В пьесе множество новых, подробно разработанных уровней. То, что сначала непонятно, требует разъяснения, затем воспринимается как знак плотности структуры, колоссальной концентрации работы истинно творческого воображения, отличающегося от имитации.
Сила этих качеств проявляется с особой ясностью при столкновении с интерпретацией этой пьесы как сознательной или бессознательной автобиографии. В оригинальном эссе73 Лайонеля Эйбелла разрабатывается тезис о том, что в образах Хамма и Поццо Беккет портретирует своего литературного учителя Джеймса Джойса, а Лаки и Клов представляют самого Беккета. В этом случае «Конец игры» превращается в аллегорию отношений между деспотичным, почти слепым Джойсом и преклоняющимся перед ним учеником, находящимся под влиянием учителя. Эти параллели поверхностны: Хамм сочиняет бесконечный роман; по мнению Эйбела, размышление Лаки — пародия на стиль Джойса. При ближайшем рассмотрении эта теория несостоятельна и не потому, что в ней нет ни крупицы истины (каждый писатель вкладывает в творчество свой жизненный опыт), но потому, что лишает «Конец игры» объёма. Эта интерпретация делает пьесу тривиальной. Если «Конец игры» действительно всего лишь тонко замаскированное сведение литературных или личных счётов, то пьеса не воздействовала бы так на публику, которая в большинстве своём не в курсе личных отношений. Кроме того, несомненно, «Конец игры» затрагивает душевные струны многих людей. Проблема взаимоотношений между учителем и учеником вряд ли могла породить такой отклик. Разумеется, пьеса, в основе которой был бы открытый или замаскированный конфликт между Джойсом и Беккетом, пробудила бы любопытство публики, всегда жаждущей автобиографических откровений. Но это не имеет отношения к «Концу игры». Она пробуждает глубокие эмоции универсальностью конфликта. Несмотря на притягательность автобиографических соответствий, такой подход не приводит к пониманию пьесы и её многоуровневых смыслов.
Фактически параллели не столь явны. Речь Лаки в «Ожидании Годо», по мнению Эйбелла, — пародия на стиль Джойса. Если это и пародия, то на философский жаргон и научное пустозвонство, что не свойственно ни Джойсу, ни Беккету. Поццо, который, как считает Эйбел, олицетворяет Джойса, слишком неартистичен в своей первой ипостаси, лишь после того, как ослеп, способен на меланхолические размышления. Но если Поццо — Джойс, что должна означать немота Лаки, поразившая его одновременно со слепотой Поццо? Роман, который сочиняет Хамм в «Конце игры», отличается научной точностью, и можно предположить, что это вовсе не художественное произведение, но тонко замаскированное выражение чувства вины Хамма за поведение во время таинственной катастрофы, когда он отказался спасать соседей. С другой стороны, Клов не проявляет ни малейшего интереса к «Work in Progress» Хамма, и Хамм вынужден подкупать дряхлого отца, чтобы тот слушал — ситуация, которую невозможно представить в отношениях Джойса и Беккета.
Опыт Беккета, отражённый в его пьесах, намного глубже и фундаментальнее, чем просто автобиография. Пьесы демонстрируют опыт постижения времени и его эфемерности; трагическое познание своего «Я» в беспощадном процессе обновления и разрушения, протекающего во времени; трудность коммуникации; нескончаемые поиски реальности в мире, в котором всё неопределённо и граница между мечтой и действительностью постоянно меняется; трагическую природу любви и самообман в дружбе, о чём Беккет размышляет в эссе о Прусте и в других произведениях. В «Конце игры» мы также сталкиваемся с сильным ощущением смерти, свинцовой тяжести и безнадёжности, порождённых глубокой депрессией: внешний мир бесчувствен к жертве, но в её сознании происходит непрерывный спор между автономно существующими гранями личности.
Это не означает, что Беккет даёт клиническое описание психопатологических состояний. Его творческая интуиция исследует жизненный опыт и показывает масштаб депрессии и разрушения, семена которых люди таят в глубине души. Заключённые в тюрьме Сан-Квентин реагировали на «В ожидании Годо» потому, что столкнулись со своим собственным опытом познания времени, ожидания, надежды и отчаяния; они узнали свои взаимоотношения в садомазохистской зависимости Поццо и Лаки, ненависть-любовь в перебранках Владимира и Эстрагона. Пьесы Беккета повсюду имеют успех, и ключ в том, что Беккет сталкивает нас с конкретными проявлениями глубинных страхов, смутно осознаваемых на полусознательном уровне, позволяет ощутить катарсис и освобождение от страхов, аналогичное терапевтическому эффекту в психоанализе, когда в подсознании сталкиваются голоса «за» и «против». Владимир «В ожидании Годо» почти достигает подобного освобождения, смело встречая страдания реальной жизни. Возможно, такое освобождение мог испытать Клов, когда нашёл в себе мужество разорвать оковы рабства и рискнуть уйти в мир, который мог и не погибнуть, как это представлялось в клаустрофическом царстве Хамма. Намёк на то, что мир не погиб, есть в чудесном эпизоде с маленьким мальчиком, которого видит Клов в последней сцене. Является ли мальчик символом жизни, от которой отказались, отгородившись в замкнутом пространстве?
Знаменательно, что в оригинальной французской версии этот эпизод выписан более детально, чем в английском варианте. Кажется, что опять Беккет высказался до конца. С художественной точки зрения он абсолютно прав; в его типе театра неясный намёк воздействует сильнее, чем явный символ. Сравнение двух версий это показывает. В английской версии удивлённый Клов говорит:
КЛОВ (испуганно). Вроде как мальчонка маленький!
ХАММ (саркастически). Мальчонка!
КЛОВ. Пойду взгляну. (Слезает со стремянки, кладёт телескоп, идёт к двери, останавливается.) Захвачу багор. (Ищет багор, находит, торопясь уйти.)
ХАММ. Не ходи!
(Клов останавливается.)
КЛОВ. Не ходить? А как же воссоздатель рода человеческого?
ХАММ. Если он действительно там, он погибнет или явится сюда. А если он не… (Пауза.)74
Во французской версии Хамм выказывает больший интерес к мальчику, сменяющийся открытой враждебностью.
КЛОВ. Там кто-то есть! Кто-то есть!
ХАММ. Ну так иди и пристукни его! (Клов слезает со стремянки.) Кто-то! (Со страхом.) Иди и исполняй свой долг! (Клов направляется к двери.) Не трудись! (Клов останавливается.) Далеко он? (Клов снова влезает на стремянку и смотрит в телескоп.)
КЛОВ. Метрах в семидесяти… четырёх отсюда.
ХАММ. Идёт сюда? Или уходит?
КЛОВ. (смотрит в телескоп.) Стоит на месте.
ХАММ. Какого пола?
КЛОВ. Какое это имеет значение? (Открывает окно, свешивается вниз. Пауза. Выпрямляется, отставляет телескоп, в испуге поворачивается к Хаму.) Вроде как маленький мальчуган.
ХАММ. Чем занимается?
КЛОВ. Что?
ХАММ (зло). Ну что он делает?
КЛОВ (в том же тоне). Понятия не имею. Что делают маленькие мальчишки? (Смотрит в телескоп. Пауза. Отставляет телескоп, поворачивается к Хамму.) Вроде как сидит на земле, к чему-то прислонившись спиной.
ХАММ. К большому камню. (Пауза.) У тебя зрение стало лучше. (Пауза.) И он, конечно, смотрит на дом, как умирающий Моисей.
КЛОВ. Нет.
ХАММ. А на что он смотрит?
КЛОВ (зло). Не знаю, на что он смотрит. (Смотрит в телескоп. Пауза. Опускает телескоп. Поворачивается к Хамму.) Уставился на свой пуп. Или на что-то в этом роде. (Пауза.) К чему этот перекрёстный допрос?
ХАММ. Наверное, он умер75.
Далее французская и английская версия совпадают. Клов собирается пойти к пришельцу с багром. Хамм останавливает его и, немного посомневавшись, правду ли сказал Клов, осознаёт, что наступил критический момент: «Это конец, Клов, всё кончено, ты мне больше не нужен»76.
Более тщательно разработанный эпизод французской версии содержит религиозную или квазирелигиозную символику образа маленького мальчика; упоминания о Моисее и большом камне — намёк на первого человека. Мальчик — первый знак жизни в мире после страшной катастрофы, принесшей смерть всей планете. Прислонившийся к большому камню ребёнок олицетворяет не умирающего Моисея, приближающегося к земле обетованной, но Христа, воскресшего для новой жизни. Более того, подобно Будде, мальчик созерцает свой пуп. Его появление убеждает Хамма, что настал час прощания, финальный этап игры.
Вполне возможно, что появление мальчика — без сомнения, кульминация пьесы — символизирует освобождение от иллюзии и эфемерность времени через осознание и принятие высшей реальности: мальчик созерцает свой пуп; его внимание сконцентрировано на абсолютной пустоте нирваны, которая есть ничто. Одна из любимых цитат Беккета — Демокрита из Абдер: «Нет ничего более реального, чем ничто»77.
Момент прозрения в преддверии смерти переживает Мерфи, когда, разыгрывая партию в шахматы, он испытывает странное чувство: «…и Мерфи начал созерцать эту бесцветность, дававшую ему редкое наслаждение, которое он испытал после рождения, чувство отсутствия … не percipere, но percipi.[18] Другие чувства находились в согласии друг с другом, доставляя неожиданное блаженство. Не оцепенелый покой приостановки, но истинное спокойствие, которое приходит, когда проложена, а может быть, просто отчетливо видна дорога в никуда, которую Демокрит из Абдер с грубым хохотом провозгласил самой реальной. Время, о чём молил Мерфи, не остановилось, колесики совершали кругооборот, а Мерфи с головой погрузился в армии из шахматных фигур, продолжая вдыхать воздух всеми порами своей высохшей души, продвигаясь к неслучайно Единственному, удобно именуемому Ничто»78.
Умрёт ли Хамм, отгородившийся от мира, уничтоживший человечество, завладевший всеми материальными благами; слепой, сладострастный, эгоцентричный Хамм, когда Клов, его рациональная часть, осознает истинную природу иллюзорности материального мира, избавление и возрождение, свободу от поступи времени, состоящем в союзе с «неслучайно Единственным, удобно именуемым Ничто»? Или же маленький мальчик всего лишь символ приближающейся смерти, соединение с ничто в другом, более конкретном смысле? Или же возрождение жизни говорит о том, что период потери контакта с миром закончился, кризис миновал, и распавшаяся личность скоро обретёт путь к целостности, «произойдёт серьёзное изменение к безжалостной действительности в Хамме, и Клов признает жестокую свободу», как полагает последовательница Юнга, психоаналитик доктор Метман?79
Нет необходимости дальнейших поисков альтернатив; и все же однозначное решение лишь уменьшит количество других возможных смыслов. Комментарий по поводу взаимосвязи между материальными потребностями, тревогой и осознанием тщетности всего мы находим в короткой пантомиме Беккета «Пьеса без слов», которая шла после «Конца игры» на премьерных показах.
На сцену, представляющую пустыню, вылетал «вверх тормашками» человек. Его внимание привлекал таинственный свист, раздающийся со всех сторон. Перед ним раскачивались предметы, в той или иной степени ему необходимые. Он пытался дотянуться до графина с водой, но тот висел слишком высоко. С колосников спускались кубы, очевидно, предназначенные для того, чтобы он мог дотянуться до воды. И хотя он изобретательно их ставил один на другой, графин с водой в последний миг ускользал от него. В финале человек впадал в полную неподвижность. Раздавался свист, но он не обращал на него внимание. Графин свисал прямо над ним, но он на него не реагировал, хотя пальма, в тени которой он сидел, улетала на колосники. Он застывал в неподвижности, уставившись на руки.80
Снова перед нами человек, выброшенный на сцену жизни, вначале следующий за импульсами, заставляющими его гоняться за иллюзорными предметами по сигналу из-за кулис. После преподанного ему урока он обрёл покой и отказался от материальных благ, соблазнявших его прежде. Стремление к цели пропадает навсегда, едва мы её достигаем. Это неизбежность, к которой приводит ход времени, изменяющий нас в погоне за страстно желаемым; освобождение возможно только в познании: ничто — единственное, существующее реально. Свист из-за кулис корреспондируется со свистом, которым Хамм призывает Клова. Финальная неподвижность героя «Пьесы без слов» рифмуется с позой мальчика во французской версии «Конца игры».
Активность Поццо и Лаки, ведущего и ведомого, кружащих по одной и той же дороге; ожидание Владимира и Эстрагона, внимание которых сосредоточено лишь на ожидании Годо; позиция Хамма, захватившего мир в свои руки и укрывшегося в убежище, — аспекты бессмысленной поглощённости материальным и иллюзорным. Всякое движение есть беспорядок. Как говорит Клов: «Я люблю порядок. Это моя мечта. Мир, где будут царить тишина и безмолвие, и каждая вещь будет на своём месте под слоем пыли»81.
«В ожидании Годо» и «Конец игры», написанные по-французски, — драматические повествования об уделе человеческом. В них отсутствуют характеры и сюжет в традиционном понимании, потому что разрешение проблемы происходит в точке, в которой не существует ни характеров, ни сюжета. Предполагается, что персонажи воплощают человеческую природу во всём её своеобразии. Можно говорить и о сюжете, если допустить, что события, протекающие во времени, значительны. Определённо, что обе пьесы задают вопрос. Хамм и Клов, Поццо и Лаки, Владимир и Эстрагон, Нагг и Нелл не характеры, но воплощение основных человеческих отношений, подобных персонифицированным добродетелям и порокам в средневековых мистериях или в испанских autos sacramentales. В этих пьесах нет событий с конкретным началом и финалом, только типы повторяющихся ситуаций. Поэтому схема первого акта «В ожидании Годо» повторяется с вариациями во втором акте; поэтому Клов в финале «Конца игры» не уходит от Хамма, и мы видим две застывшие фигуры, загнанные в тупик. Обе пьесы повторяют модель старой немецкой студенческой песни, которую Владимир поёт в начале второго акта: «У попа была собака, он её любил…» так далее и так далее, ad infinitum?.[19] В «Конце игры» и «В ожидании Годо» Беккет вторгается в глубины, где нет ни личности, ни конкретных событий, только основные модели.
В пьесах для театра и радио, написанных по-английски, его исследования не столь глубоки, хотя оригинальные характеры и сюжеты отражают те же модели, но в жизни отдельных людей. В «Последней ленте Крэппа» исследуется течение времени и нестабильность личности. В пьесах «Про всех падающих» и «Зола» анализируются ожидание, вина, тщетность всякой надежды на обстоятельства или на людей.
Название «Про всех падающих» взято из 145-го псалма «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных» (77с 144: 14). Толстая, больная, с трудом передвигающая ноги старуха-ирландка Мэдди Руни идёт на вокзал Богхилла, чтобы встретить слепого мужа Дэна Руни, прибывающего поездом 12.30. Она продвигается медленно, как в кошмаре. По дороге встречает людей, с которыми ей хочется пообщаться, однако тщетно: «Во мне есть что-то отталкивающее»82. Более сорока лет назад миссис Руни потеряла дочь Минни. Когда она добирается до вокзала, выясняется, что поезд запаздывает по неизвестной причине. Когда он, наконец, прибывает, сообщают, что он долго стоял на путях. Дэн и Мэдди идут домой. Над ними смеются дети, и Дэн спрашивает Мэдди: «Тебе когда-нибудь хотелось убить ребёнка? …Пресечь зло на корню»83. И он признаётся, что зимой ему часто хотелось наброситься на мальчика, который провожал его с вокзала домой. Когда старики уже почти подошли к дому, их догоняет мальчик и отдаёт мистеру Руни детский мяч, решив, что старик забыл его в купе поезда. Мальчик знает причину остановки поезда в пути: из вагона выпал ребёнок и разбился насмерть. Сбросил ли Дэн Руни ребёнка? Поборол ли он желание убивать детей? Его ли ненависть к детям отняла у Мэдди дочь? Мэдди Руни обеими руками держится за жизнь и за её продолжение в детях. Подсознательное желание смерти заставляет Дэна видеть в ребёнке возможность «пресечь зло на корню». Разделяет ли Дэн смысл 145-го псалма «Господь поддерживает всех падающих…»? Спасён ли погибший ребёнок от треволнений жизни и старости, так поддержанный Богом? Когда текст этого псалма стал темой воскресной церковной проповеди, на которой присутствовали Мэдди и Дэн, они разражаются «диким хохотом»84. «Про всех падающих» задевает многие струны, звучавшие в пьесах «В ожидании Годо» и «Конец игры», но не столь глубоко и пронзительно.
В одноактной пьесе «Последняя лента Крэппа», шедшей с огромным успехом в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, Беккет использует магнитофонные записи, как свидетельство неуловимости человеческой натуры. Крэпп — дряхлый, потерпевший крах старик. На протяжении всей жизни он ежегодно записывал на магнитофон впечатления и события. Он — писатель, но только семнадцать его книг было раскуплено, «одиннадцать по оптовой цене отправлены в библиотеки за границу». Слушая свой голос, записанный тридцать лет назад и ставший для него чужим, он вынужден заглядывать в словарь в поисках объяснения непонятных слов, прежде входивших в его лексикон. В давней записи он говорит о великом мгновении прозрения, тогда показавшемся ему чудом, которое надо хранить как сокровище до тех пор, «когда мой труд будет завершён». Не в силах слушать это, он перематывает ленту. Его трогает только воспоминание о любви в лодке на озере. Слушая себя, тридцатидевятилетнего, Крэпп, которому теперь шестьдесят девять лет, выносит приговор себе, сегодняшнему: «И сказать нечего, и слова из себя не выдавить». Единственно, что ему приносит удовлетворение, — произнесение слова «бобина»: «Какое наслаждение в слове “бобина”. (Блаженно.) Бобина! Счастливейший миг из полумиллиона прошедших мигов»85. Следуют воспоминания о любовном акте со старой шлюхой. Затем Крэпп возвращается к старым записям. Снова звучит рассказ о любви в лодке. Запись заканчивается подведением итогов: «Вероятно, мои лучшие годы позади, когда возможно было счастье. Но я не хотел бы их вернуть. Нет, когда во мне сейчас бушует такой пламень. Нет, я не хотел бы их вернуть»86. Занавес опускается: старый Крэпп застыл в неподвижности. Беззвучно крутится лента.
Эпизод с разосланными в заграничные библиотеки книгами для Беккета автобиографичен. Он нашёл блестящий приём выражения постоянно изменяющейся самоидентификации, о которой он уже писал в эссе о Прусте. В «Последней ленте Крэппа» в какой-то момент личность сталкивается со своей более ранней инкарнацией только для того, чтобы увидеть, насколько эта инкарнация ей чужда. В таком случае существует ли идентификация между Крэппом сейчас и Крэппом тогда? В какой степени это одна и та же личность? Если эта проблема с интервалом в тридцать лет, то, определённо, разница лишь в том, что интервал сокращается до года, месяца, часа. Одно время Беккет собирался писать длинную пьесу о Крэппе: Крэпп и жена; Крэпп, жена и ребёнок; Крэпп один — дальнейшие вариации на тему самоидентификации. Но отказался от этого замысла.
Радиопьеса «Зола» созвучна «Последней ленте Крэппа»: её герой — старик, созерцающий прошлое. На фоне шума моря Генри вспоминает молодость, отца, утонувшего здесь. Отец был спортсменом и презирал сына, считая его неудачником. Создаётся впечатление, что Генри пытается общаться с умершим отцом, но «он больше не отвечает»87. Жена Генри Ада, вероятно, также умерла, но она ему отвечает. Они вспоминают о своей любви на берегу моря; дочь, которая занимается верховой ездой или музыкой, но Ада потом исчезает. Генри остается в одиночестве, поглощённый своими мыслями, которые вертятся вокруг воспоминания о том, как ребенком он стал свидетелем ночной сцены между Болтоном и Хэллуэем. Хэллуэй был их семейным доктором, и Болтон (отец Генри?) просил его о медицинской помощи, суть которой неясна. Зимней ночью, с угасающим камином — тлеют лишь угольки — Генри остается один на один с мыслями об одиночестве: «Суббота… ничего. Воскресенье… целый день ничего…. Ни звука»88.
Генри напоминает героев поздних романов Беккета с воспоминаниями в форме «историй» и маниакальным желанием их рассказать. Его жена, или жена в его воспоминаниях, говорит: «Тебе надо обратиться к доктору, ты всё время говоришь, и всё больше и больше, это плохо отразится на малышке Аде… Знаешь, когда она была совсем маленькой, она как-то сказала: “Мамочка, а почему папа всё время говорит?” Она услышала, как ты разговаривал в туалете. Я не знала, что ей ответить». На это Генри отвечает: «Я уже говорил тебе, скажи, что я молюсь. Воздаю молитвы Господу и всем святым»89.
Мания говорить, рассказывать себе истории, пронизывающая три романа великой трилогии Беккета, — тема радиопьесы «Cascando». В пьесе два голоса: Первенствующий и собственно Голос; время от времени каждый что-то произносит. Первенствующий сообщает: «Говорят, это его голос, голос в его голове». Голос, который мы слышим, исходит из головы Первенствующего. Сбивчивый, задыхающийся, постоянно в поисках своего ускользающего «Я»; в английской версии он именуется Вуберн. Можно предположить, что однажды он достиг конца страданий: «…кончились истории… спать…» Однако сделать какой-либо вывод невозможно. Как в «Конце игры» и «В ожидании Годо», нам неведом финал, пришло ли спасение, кончились ли страдания через осознание былого, или, быть может, спасение всё же придёт. В «Cascando» монотонный голос (вербальное сознание) заставляет себя заполнять пустоту словами — рассказывать самому себе истории под музыку (невербальное сознание), которая даёт нарастающий эмоциональный фон. Как и в радиопьесе «Слова и Музыка», в которой тиран-хозяин Кроук приказывает двум слугам — Словам и Музыке — заполнять время импровизациями на темы Праздности, Старости и Любви. Кроуку невозможно угодить, он варварски избивает слуг, требуя продолжения. Параллель между Кроуком и Первенствующим в «Cascando» очевидна. Тоска по покою, который не даёт сознание, выливается в финальную импровизацию Слова:
И будет тропинка
Сквозь грязь
В кромешную тьму
Где не нужно слов
Не нужно чувств
Маленькая тропинка
К источнику где бьёт
Ключ.
(Перевод подстрочный.)
В короткой ленте с лаконичным названием «Фильм», созданной Беккетом для Grove Press, то же бегство от самосознания выражено визуально. Сценарий фильма начинается заявлением: «esse est percipi».[20] Всё чуждое осознанию — животное, человеческое, божественное — подавлено; собственное представление о себе сохраняется. Поиски своего несуществующего образа выражаются в бегстве от чуждого представления о себе, рушащего несвойственный образ». Как всегда, Беккет не претендует на то, чтобы его считали философом, разрушающим общепринятые истины, и спешит добавить: «Вышесказанное необходимо для структурного и драматического удобства». Несмотря на такое утверждение, бегство от собственного образа в попытке достигнуть позитивного небытия — важная тема в творчестве Беккета. В «Фильме» она конкретизирована в бегстве героя от преследователя, который, в конце концов, предпочел быть никем, чем собой.
Однако освободиться от сознания, от необходимости рассказывать себе истории из собственной жизни невозможно. Ибо истинная свобода — в осознании личности, что она ничего не осознает. Со смертью сознание прекращается, и нам не дано осознать, что мы более не существуем. Поэтому последний миг сознания умирающего может быть представлен как вечное незнание своей смерти. Эта ситуация разрабатывается Беккетом в «Игре». Из серых похоронных урн торчат головы двух женщин и мужчины. Луч света выхватывает поочередно рассказчика (подобно тому, как Главенствующий в «Cascando» включает Голос). Они декламируют несвязные фрагменты пошлого французского адюльтерного фарса с неожиданно трагическим финалом — тремя самоубийствами. Три покойника — муж, жена и любовница — не осознающие присутствия друг друга, смутно догадываются, что они мертвы, бесконечно повторяя последний миг, отпечатавшийся в сознании. Можно ли запечатлеть Вечность на сцене в пределах получасового текста? Беккет пытался достичь невозможного двойным повтором текста, но слова повторяются быстрее и мягче. На третьем повторе пьеса куда-то исчезает, но мы знаем, что она будет продолжаться, только быстрее, мягче, всегда и всегда. Историю, несвязно рассказанную тремя персонажами, нелегко понять с первого раза; повтор полного текста пьесы даёт публике шанс соединить фрагменты маленькой новеллы воедино, что блестяще разрешает две проблемы, с которыми сталкивается автор столь сложной драматической структуры.
В «Счастливых днях», написанных до «Игры», Беккет запечатлел условия человеческого существования в образе неунывающей решительной женщины Винни. Он пленился возможностями драмы, позволяющей создать персонаж, который не в состоянии двигаться и вынужден выражать себя только словами. Винни медленно погружается в землю, которая станет её могилой. В первом акте Винни погружена по грудь, руки свободны; во втором акте видна только голова. Её муж Вилли может передвигаться, но он настолько поглощён газетой, что едва замечает Винни. Она перебирает свои вещи, её бодрость и жизнерадостность рождают горькую иронию. Трагично и в то же время смешно, что Винни столь оптимистична в безнадежном положении; с точки зрения здравого смысла это глупо, и кажется, что автор воспринимает жизнь пессимистически; но так или иначе, оптимизм Винни перед лицом смерти, небытия говорит о мужестве и благородстве человека, что рождает катарсис. Вся жизнь Винни — счастливые дни, ибо она не ведает страха.
Тема миниатюры «Приходят и уходят» — также нежелание смотреть в лицо трудностям: нас интересуют только сплетни о друзьях. Три женщины, Фло, Ви и Ру, поочередно уходят, две оставшиеся говорят о надвигающемся несчастье (смерти?) той, что ушла. В финале три женщины молча стоят перед публикой.
Такая же экономия средств характерна для первой телевизионной пьесы Беккета «А, Джо?». Одинокий старик сидит на кровати в пустой комнате. Он молчит, слушая с возрастающим ужасом женский голос, укоряющий его в жестокости, которая привела её к самоубийству. Камера наезжает на лицо Джо до тех пор, пока не возникают крупным планом одни глаза. Наступает полная темнота. Тема сожаления о несостоявшейся любви, отвергнутой в прошлом, частая в творчестве Беккета. Поражает мастерство, с каким он находит всякий раз новые изобразительные средства. Эта пьеса возможна только в телевизионном варианте.
Крупный план, увеличенный до предела, невозможен на большом киноэкране; на телеэкране сохраняется человеческие пропорции. Комбинация зримого молчания старика и женского голоса за кадром создаёт образ внешнего мира, используя дуалистическую природу телевидения; уникальные возможности радио позволяют создать внутренний универсум, психологический пейзаж.
Герой слышит женский голос, но это голос его подсознания, заставляющий рассказывать свою историю.
Чтобы ощущать себя живым, необходимо это осознавать, а значит слышать свои мысли. Как человек, страдающий от бесконечного, непрерывного потока слов, Беккет отвергает язык; как поэт, постоянно имеющий дело с языком, он влюблён в него. В этом причина двойственного отношения к языку: иногда он превращает его в божественный инструмент, иногда язык для него не более чем вибрация голосовых связок. В сущности, маниакальная потребность говорить характерна для всех персонажей Беккета. Форма внутреннего монолога свойственна всем хромым, безногим, парализованным героям его романов.
В радиопьесах «Зола» и «Про всех падающих» бесконечные «говорения» сливаются с естественными звуками — рокотом моря в «Золе», разноголосицей и шумом дороги «Про всех падающих». Артикулированный звук, речь, так или иначе, уподобляется неартикулированным звукам природы. В мире, утратившем смысл, язык превращается в бессмысленное жужжание. Как говорит Моллой: «…слова я слышал, и слышал отчетливо, у меня хороший слух, они воспринимались в первый раз, затем во второй и часто даже в третий, как просто звуки, не имеющие никакого смысла, и это, наверное, одна из причин, почему разговор был невыносимо мучителен для меня. И те слова, которые произносил я, и они не были глупостью, я всегда думал, прежде чем сказать, для меня часто звучали, как жужжание насекомого; и в этом, по всей видимости, одна из причин моей неразговорчивости, я имею в виду страх, порождаемый тем, что я не только не понимал того, что говорили мне другие, но и то, что говорил им я. Правда, в конце концов, проявив терпение, мы приходили к пониманию, но понимали ли мы то, о чём нам говорили и зачем? И на шум в природе или производимый человеком я реагировал по-своему, не испытывая желания понять»90.
Когда мы слушаем персонажей Беккета, следовательно, его самого, мы часто ощущаем то же, что и Селия, разговаривая с Мэрфи: «…вместе со слюной из него вылетали слова; едва прозвучав, они умирали: каждое слово, прежде чем обретало смысл, стиралось следующим; в результате она не понимала, что было сказано. Это было похоже на восприятие сложной музыки, впервые услышанной»91. Фактически диалог в пьесах Беккета часто строится на этом же принципе: каждая реплика сводит на нет предыдующую. Никлаус Гесснер в диссертации Die Unzulanglichkeit der Sprache («Неадекватность языка») даёт перечень всех фрагментов «В ожидании Годо», в которых утверждения какого-либо из персонажей постепенно смягчаются, ослабевают и сглаживаются, пока не исчезнут окончательно. В мире, лишённом смысла, позитивное утверждение рискованно. «Не хотеть ни говорить, ни знать, что хочешь сказать, не будучи в состоянии высказать то, что думаешь, и никогда не прекращать говорить или всегда с трудом выражать свои мысли даже в высший момент творчества»92, - формулирует Моллой, суммируя позицию всех персонажей Беккета.
Пьесы Беккета доказывают, насколько трудно выразить поиски обретения смысла в постоянно меняющемся мире; язык у Беккета демонстрирует его ограниченность и как способа коммуникации, и для точного выражения мысли — инструмента мышления. Когда Гесснер спросил Беккета, почему такое расхождение между тем, что он пишет и его подчеркнуто демонстративными высказываниями о бессилии языка передать смысл, Беккет ответил: «Que voulez-vous, Monsier? C’est les mots; on n’a rien d’autre».[21] Его обращение к драматическому жанру говорит о стремлении найти средства выражения за пределами языка. Его обе пантомимы доказывают, что на сцене можно обходиться без слов, или, по меньшей мере, можно обнаружить реальность, скрытую за словами, когда поступки персонажей противоречат их вербальному выражению. «Пошли», — говорят бродяги в конце обоих актов «В ожидании Годо», хотя в ремарке указано, «они не трогаются с места». В театре язык может служить контрапунктом действию: поступки выявляются после произнесённых слов. Поэтому в пьесах столь принципиальны пантомима, грубая фарсовая комедийность, молчание: Крэпп, поедающий бананы; клоунские проделки Владимира и Эстрагона, их трюки со шляпой Лаки; неподвижно застывший Клов в финале «Конца игры» — вербально высказанное отчаяние остаётся безответным. Обращение Беккета к театру — попытка уменьшить пропасть между ограниченностью языка и интуитивным знанием жизни; он доискивается до смысла ситуации, в которой находится человек, чтобы выразить её вопреки своему убеждению, что слова бессильны. Конкретная трёхмерная природа сцены используется для раскрытия новых возможностей языка как способа мышления и исследования жизни.
Все творчество Беккета пронизывает стремление назвать то, чему нет названия: «Я должен говорить, что бы это ни означало, я должен сказать. Мне нечего сказать, у меня нет слов, но есть слова, которые говорят другие. Я должен сказать… У меня есть океан, из которого можно пить. Именно океан»93.
Язык в пьесах Беккета служит для выражения его расчленения, дезинтеграции. Без определённости нет конкретного смысла; невозможность добиться определённости — одна из главных тем Беккета. Обещания Годо смутны и неопределённы. В «Конце игры» так же возникает неопределенность. Хамм тревожно спрашивает: «А не идём ли мы к тому, чтобы что-то… что-то значить?» Клов в ответ только усмехается: «Значить? Мы с тобой можем что-то значить?»94
Никлаус Гесснер составил таблицу десяти моделей дезинтеграции языка «В ожидании Годо». Они систематизированы по следующим принципам: простое непонимание, двойной смысл монологов (как невозможность коммуникабельности); клише, повторение синонимов, неспособность найти точные слова, «телеграфный стиль» (отсутствие грамматической структуры; общение через выкрики команд) монолога Лаки, смесь хаотической бессмыслицы без знаков препинания; в частности, отсутствие вопросительных знаков, указывающее на то, что язык потерял функцию как средство общения, и вопросы превращаются в утверждения, не требующие ответа.
Ещё более важна, чем формальные проявления дезинтеграции языка и смысла в пьесах Беккета, природа диалога, который постоянно разрушается: происходит не диалектического изменения мысли, но потеря смысла отдельных слов или неспособность персонажа помнить только что сказанное. На вопрос, почему Годо его бьёт, мальчик отвечает: «Я не знаю, мсье». Эстрагон говорит: «Я или тут же забываю или не забываю никогда»95. В мире, лишённом смысла и цели, диалог, как и любое действие, превращается в игру ради времяпрепровождения. Хамм замечает: «…болтать, болтать слова, как ребёнок, оставшись один, превращает себя в двоих, троих, чтобы не быть одному в темноте и с кем-нибудь пошептаться… миг за мигом, лепетать, лепетать»96. Время высасывает из языка смысл. В «Последней ленте Крэппа» отточенные идеалистические заявления о вере, которые Крэпп произносил в свои лучшие годы, в старости превращаются в пустой звук. Миссис Руни в «Про всех падающих» не может завести друзей и пытается общаться с людьми, которых она встречает по дороге. В «Золе» размышления старика подобны волнам, бьющимся о берег.
Если поначалу Беккет разрабатывал язык, чтобы девальвировать его как способ концептуального мышления или как инструмент общения готовыми ответами на вопросы бытия, то дальнейшее использование им языка должно парадоксальным образом рассматриваться как попытка коммуницировать с некоммуникабельностью. Как это ни парадоксально, так он критикует дешёвое, пошлое самодовольство полагающих, что поставить проблему — значит её разрешить, и миром можно овладеть с помощью чёткой классификации и формулировок. Подобное самодовольство — основа непрекращающегося отчаяния. Осознание иллюзорности и абсурдности шаблонных решений и задач, не избавляющих от отчаяния, — отправная точка нового сознания, опьянённого открывшейся свободой, смело встречающего тайны и ужас жизни: «Знать, что ничто есть ничто и не желать ничего знать, быть по ту сторону знания, и тогда мир воцарится в душе безразличного искателя»97.
С концептуальной точки зрения творчество Беккета есть поиски реальности, лежащей за пределами логики. Он может девальвировать язык ради высших истин, он — великий мастер языка как художественного средства. «Que voulez-vous, Monsieur? C’es les mots; on n’a rien d’autre». Он отливает слова в форму, превращая их в великолепный инструмент для достижения своей цели. Театр дал ему возможность придать новый объём языку, использовать его как контрапункт конкретному, многогранному действию, не отделываясь поверхностными объяснениями, оказывая прямое воздействие на публику. В театре, во всяком случае, театре Беккета, можно обойтись без совместной стадии концептуального размышления — так абстрактная живопись обходится без реальных предметов. «В ожидании Годо» и «Конец игры» с их ослабленным сюжетом, характерами, бессмысленным диалогом доказали, что Беккет сумел довести до конца кажущийся невыполнимым tour de force.[22]
Он следует за Шопенгауэром, одним из самых любимых философов Беккета: визуальные образы действительности, сновидений и воспоминаний, как и осознание чистой эмоции, наиболее совершенно выражаются в музыке, невербальной форме искусства. Эти образы столь же жизненно важные составляющие нашего знания о себе, как и слова, несущиеся в бесконечном потоке наших мыслей. Они могут восприниматься, как бесконечная история, которую мы рассказываем себе о себе же. Хамм, сочиняющий свою историю в «Конце игры», Крэпп, слушающий магнитофонные записи своей истории, рассказанной им в прошлом, как и протагонисты великой трилогии, подтверждают, что это истории о себе. В последних драматических сочинениях Беккет всё более сосредоточен на проблеме поисков себя. Но выражают ли эти истории, эти слова, транслирующие наши мысли или исторгнутые в словесном поносе (Генри в «Золе» удаляется в уборную, и жена вынуждена говорить дочери, что папа молится), наше подлинное «Я»? В «Не я» Беккет бьётся над этой проблемой. Слова вырываются изо рта, кажущегося в темноте сцены маленькой двигающейся точкой. Откуда берутся эти слова, эти мысли? Они не материальны, хотя исходят из материального органа — рта. Рот — точка пересечения нематериального и телесного. В один апрельский день, в поле, у семидесятилетней женщины, молчавшей всю жизнь, прорывается голос. Из её рта взахлёб вылетают слова. Пять раз на протяжении короткой пьесы голос искушаем желанием произнести «Я», но каждый раз не решается и произносит: «НЕТ, ОНА!»… Голос не идентифицируется со своим «Я». Подобным образом в короткой пьесе «Шаги» старуха бродит, переходя с места на место до бесконечности, внушая себе, что шаги, которые она слышит, более убедительное доказательство её материального существования, чем нематериальные слова. Она рассказывает историю о девушке, которая на вопрос, что произошло во время церковной службы, ответила, что не знает, потому что она не была там. Здесь снова «Я» материально присутствует, и в этом нет сомнения, но не реально, потому что «Я» — вечно ускользающая тайна: оно присутствует и в то же время отсутствует. В пьесах «То время» и «Последняя лента Крэппа» неуловимость «Я» — непостоянство личности во времени; в каждой точке времени наше «Я» не похоже на предыдущее; три голоса звучат в памяти старика — на его смертном ложе? — представляя внутренне разделённые сегменты памяти очень разных «Я», одновременно присутствующих в его сознании. В двух последних телевизионных пьесах в памяти смешаны вина и раскаяние. Старик в «Трио призраков» (в оригинале «Свидание») слушает запись Пятого фортепианного трио Бетховена в исполнении трио призраков, как значится в названии. В то же время он ожидает чьего-то прихода, но никто не приходит. Наконец, является маленький мальчик (возможно, реминисценция с «Концом игры»). Какой-то миг он смотрит на старика и удаляется по коридору. Ребёнок ли это, который не родился, но мог бы быть плодом внебрачной любви? Или это он сам в детстве, погружённый в себя и жалеющий себя, старика? Похожий персонаж предстаёт в пьесе «…одни облака…».[23] В спектакле Би-би-си, постановкой которого руководил Беккет, старика играл Роналд Пикап. Актёр находился в световом круге и постоянно передвигался (образ повседневной рутины утреннего вставания и вновь возвращения в постель по вечерам, образ света и тьмы, дня и ночи). Старика преследует видение женского лица и фраза «…одни облака в небе…», строка из стихотворения У. Б. Йейтса «Башня»:
Смерть друзей, угасанье Пары бездонных зрачков, Стеснявшей моё дыханье, — Не станут бледней облачков, День уносящих с собою, Или слабей, чем зов Птицы, застигнутой тьмою. (Перевод А. Сергеева.)В этих коротких телевизионных пьесах — попытка запечатлеть во всей совокупности эмоцию в самой концентрированной форме. Если «Я» всегда ускользает, расщепляясь на чувствующее и воспринимающее начала, на рассказчика истории и её слушателя, изменяясь во времени от момента к моменту, тогда можно запечатлеть со всей эмоциональной силой, экзистенциальной целостностью только аутентичный опыт одного мгновения.
Именно к этому стремится искусство. В этом цель и смысл творчества Сэмюэля Беккета.
ГЛАВА ВТОРАЯ. АРТЮР АДАМОВ. ИСЦЕЛИМОЕ И НЕИСЦЕЛИМОЕ
Артюр Адамов — автор нескольких мощных пьес абсурда, от которых он впоследствии отрёкся. Пути, приведшие его к театру абсурда и затем к отречению от него, — тема, представляющая интерес. Адамов не только замечательный драматург, но и мыслитель. Он создал первоклассно документированную историю поглощённости навязчивыми идеями, запечатлев в пьесах бессмысленный, брутальный мир кошмаров. Сформулировав эстетику абсурда, он обратился к театру реальности и конкретных социальных идей. Как могло произойти, что драматург, в конце сороковых годов отвергавший натуралистический театр настолько, что использование названия городка, обозначенного на географической карте, казалось ему «невыносимо вульгарным», в 1960 году написал объёмную историческую драму о Парижской коммуне 1871 года?
Артюр Адамов родился в 1908 году в Кисловодске в богатой армянской семье нефтепромышленника. В четыре года он был увезён из России. Его родители путешествовали, и он, как отпрыски многих русских состоятельных семей, получил образование во Франции. Это объясняет его мастерское владение французским литературным стилем. В семь лет он прочёл первую книгу — «Евгению Гранде» Бальзака. Мировая война застала семейство Адамовых во Фрайденштадте, в курортном местечке Шварцвальд. И лишь благодаря вмешательству короля Вюртемберга, знавшего главу семьи, Адамовы избежали интернирования, как граждане страны, с которой воевала Германия. Они получил разрешение на переезд в Швейцарию и обосновались в Женеве.
Начальное образование будущий драматург получил в Швейцарии, затем в Германии, в Майнце. В 1924 году, шестнадцати лет, он перебрался в Париж, где сблизился с сюрреалистами. Он писал сюрреалистические стихи, редактировал авангардистский журнал Discontinuity, дружил с Полем Элюаром и вёл жизнь парижского нонконформиста.
Постепенно он бросил писать, во всяком случае, публиковаться. Впоследствии он описал с мельчайшими подробностями свой жестокий духовный кризис. Небольшая по объёму книга «Признание» (L'Aveu) может быть причислена к самым безжалостным документам самообичевания в мировой литературе. Первая часть этого шедевра в духе Достоевского, вышедшая в Париже в 1938 году, открывается блестящим изложением метафизического страдания, лежащего в основе экзистенциалистской литературы и театра абсурда: «Что это? Всё, что я о себе знаю, то, что я существую. Но кто я? Я знаю только то, что страдаю. Я страдаю, и первопричина этому — моя обособленность, моя изолированность. Я изолирован. Но от чего я изолирован — я не знаю. Но я изолирован». В примечании Адамов добавляет: «Раньше это называлось Бог. Сегодня этому нет названия»1.
Глубокое чувство отчуждения, ощущение, что время давит на него «огромной летучей массой всей своей тёмной силы»2, абсолютная пассивность — таковы некоторые симптомы его духовной болезни.
«Жизнь шла, хотя я был одинок в огромном, непостижимом и давящем мире… Временами жизнь проявлялась во мне с огромной силой, доводя до экстаза. Но чаще она казалась чудовищным зверем, ворвавшимся в меня и изводящим изнутри и снаружи… Ужас овладевал мной, окутывая всё сильнее и сильнее… Выход был единственный — писать, чтобы другие тоже осознали это, чтобы не чувствовать это одному, освободиться хотя бы от малой толики этого кошмара»3.
Писатель, преследуемый осознанием своей вины, стремится избавиться от неё — в снах, представляющих «великое, безмолвное движение души сквозь ночь»4, в молитве, которая «отчаянно необходима человеку, поглощаемому временем, чтобы найти убежище в единственном существе, которое могло бы спасти его от самого себя, избавиться от гнездившейся в нём памяти о вечности»5. Кому возносить молитву? «Имя Бога более не может быть произнесено человеком. Это слово так долго упоминалось всуе, что утратило смысл… Обращение к Богу — леность души, отказ от мысли, лёгкий путь, стенография, подменяющая слова…»6 Поэтому кризис веры — это и кризис языка. «Наш одряхлевший словарный запас подобен больным. Одни выживут, другие неизлечимы.7
В следующей части «Признания» (Париж, 1939), опубликованной на английском языке под названием «Бесконечное унижение»8, Адамов даёт безжалостное, откровенное описание своей болезни: жажды быть униженным последней из проституток «из-за неспособности завершить должным образом плотские утехи»9. Ему была известна природа его невроза; он был знаком с современной психологией и перевёл на французский язык одну из книг Юнга10. Адамов понимал значение неврозов, «дававших своим жертвам ясность сознания, недоступную так называемым нормальным людям»11. Невроз давал ему образ, который «позволял, благодаря специфике болезни, следовать всеобщим законам, отражающих высшее постижение мира. Частность всегда символически выражает универсальное, из чего следует, что универсальное более эффективный символ крайней степени частного, и потому невроз расширяет восприятие человека, подчеркивая его универсальное значение»12.
Давая жестокое, детализированное описание своего невроза с симптомами мазохизма, навязчивыми идеями, ритуалами, автоматизмом, Адамов возвращается к диагнозу нашей эпохи в главе «Время унижений». Он определяет унижение как нечто, не имеющее названия, безымянное, и задача поэта не только назвать каждое явление его именем, но «разоблачить вырождающиеся концепции, сухие абстракции, узурпировавшие… мёртвые пережитки старых сакральных определений»13. Деградация языка в наше время — выражение глубочайшей болезни. Утеряно ощущение сакрального, «бездонная мудрость мифов и обрядов канувшего в вечность старого мира»14.
Несомненно, потеря смысла в мире связана с деградацией языка, приведшей к потере веры, исчезновению священных обрядов и мифов. По всей вероятности, деградация и отчаяние — необходимые шаги на пути к возрождению: «возможно, унылость и бессодержательность языка современного дряблого человечества приведёт его в ужас. Ввергнет в нескончаемый абсурд, отзовётся эхом в сердце одинокого человека, который проснётся, и тогда, может быть, вдруг осознав, что он не понимает, начнёт понимать»15. Поэтому единственная задача человека — сдирать мёртвую кожу до тех пор, пока «он не окажется совершенно голым»16.
В этом документе жестокого самообличения Адамов кратко изложил всю философию театра абсурда задолго до того, как он написал свою первую пьесу.
Из «Признания» мы узнаём его жизнь во время войны. Май, июнь 1940 года он ещё в Париже; в июле перебирается в Кассис; в августе — в Марсель. В декабре 1940 он интернирован в лагерь Ажеле, где находился до ноября 1941 года. Месяцы проходили в оцепенении. В конце 1941 года он снова в Марселе, в декабре 1942-го возвращается в Париж. Последняя часть «Признания» и предисловие датированы 1943 годом.
В этой поразительной книге на основе самоанализа прокладываются пути к спасению и полному осознанию тупика. В статьях в литературном обозрении L'Heure Nouvelle, которое недолго просуществовало и редактором которого он был после окончания войны в Европе, Адамов вернулся к своим прежним темам, но уже с позиций мыслителя, ощущающего в поворотный момент истории необходимость заново разработать программу действия.
В его программе нет иллюзий и лёгких решений: «Нас обвиняют в пессимизме, как будто у нас есть варианты и можно выбирать между оптимизмом и пессимизмом»17. Подобная программа предполагает полный отказ от прежнего мировоззрения, чтобы покончить с догматизмом. Она вменяет в обязанность художника не ограничиваться одним, избранным аспектом — «религиозным, психологическим, научным, социальным, но видеть целое, в которое они должны соединиться»18. И снова поиск целостности, реальности, подчёркивающей поразительную сложность явлений, воспринимаемый как поиск сакрального: «По существу, кризис нашего времени — религиозный. Это вопрос жизни или смерти»19. Однако концепт Бога мёртв. Мы в преддверии эры обезличенного абсолюта, поэтому возрождаются идеи даоизма и буддизма. Это трагический тупик, из которого современный человек ищет выход: «С чего бы ни начал, по какому бы пути ни последовал, современный человек приходит к выводу: жизнь скрывает смысл, и найти его невозможно. Перед ним стоит дилемма: осознать бессмысленность его поисков, не имея сил отказаться от них»20. Адамов подчёркивает, что, строго говоря, эта философия не абсурдна, если допустить, что жизнь имеет смысл, пусть и за пределами человеческого сознания. Осознавать, что мир может иметь смысл, но никогда не будет найден, трагично. Признание абсурдности жизни может смягчить этот трагический аспект.
В социальной и политической сферах решение проблем Адамов видит в коммунизме. Однако это очень субъективно. Адамов не видит в коммунизме ничего сверхъестественного, сакрального. Эта идеология сводится целиком к человеческим отношениям, и для него остаётся открытым вопрос: «возможно ли, ограничиваясь лишь сферой человеческих отношений, достичь чего-то, кроме недостойного для человека»21. В таком случае, зачем поддерживать коммунизм?
«Тем не менее, если мы повернёмся к коммунизму, то однажды, когда достижение великой цели покажется близким, и будет покончено со всем, что препятствует смене ценностей, он неизбежно будет встречен грандиозным “нет” обстоятельств, которые, казалось, можно проигнорировать в борьбе. Когда с материальными препятствиями будет покончено, и человек перестанет обманываться относительно природы своего несчастья, возникнет более мощное и плодотворное желание устранить все препятствия на пути к достижению этой цели. Разумеется, пассивное ожидание не превратит нас в сторонников завершения процесса»22.
Такова была позиция Адамова в 1946 году. Затем, в значительной степени под воздействием прихода в политику генерала де Голля после майских событий 1958 года, он занял ещё более активную позицию в поддержке крайних левых. В 1960 году на вопрос, изменил ли он свою позицию 1946 года, Адамов подтвердил, что исповедует те же идеи, о которых писал четырнадцать лет назад.
В конце Второй мировой войны Адамов начал писать для театра. Тогда он читал Стриндберга, под влиянием его пьес, особенно «Игры снов», он повсюду находил материал для драмы: «в самых обычных повседневных ситуациях, в частности в уличных сценах. Больше всего меня поражали типы прохожих, их одиночество в толпе, пугающее разнообразие выражения этого одиночества; мне хотелось слушать обрывки разговоров, соединять их, преобразуя абсолютную фрагментарность в сложный организм, гарантирующий эту символическую правду»23. Однажды он наблюдал сцену, внезапно столкнувшую его с драматической реальностью, которую ему захотелось запечатлеть. Мимо двух хорошеньких девушек, напевавших популярную песенку «Я закрыл глаза, это было прекрасно», шёл слепой нищий. У Адамова зародилась идея показать «на сцене, насколько это возможно грубо и зримо, одиночество человека, отсутствие коммуникации»24.
Эта идея воплотилась в его первой пьесе «Пародия». В непрерывных, быстро сменяющихся эскизных сценах изображены двое, которым вскружила головы пустая, ничем не примечательная девушка Лили. Один из них, Служащий, деловой, энергичный, оптимист. Другой, N, пассивен, беспомощен, всегда подавлен. Служащий, случайно встретив Лили, без всяких оснований решил, что она назначила ему свидание. Он надеется и постоянно представляет воображаемое свидание. N проводит всё время на улице в надежде случайно встретить Лили. В финале оптимизм Служащего и жалкая пассивность N приводят к одинаковому нулевому результату. Лили даже не различает соперничающих поклонников. В конце концов, Служащий попадает в тюрьму, где продолжает строить планы на будущее и даже надеется сохранить место на службе, хотя он и ослеп. N сбит автомобилем и выброшен метельщиками улицы в мусорный бак. На Лили имеют виды двое успешных мужчин — журналист и редактор газеты, в которой работает журналист. Лили кажется, что она влюблена в журналиста, и он ждёт свидания; но она содержанка редактора. По ходу действия редактор превращается в различных персонажей, обладающих властью. Он — менеджер ресторана, директор фирмы, где Служащий — коммивояжер, портье в отеле, где журналист снимает номер. Служащий и N явлены, так сказать, изнутри, с их собственной точки зрения; редактор и журналист — снаружи, как «другие люди», которые необъяснимым образом могут управлять ситуацией и у которых не бывает неприятностей. Две идентичных и взаимозаменяемых пары представляют своего рода хор, безликую толпу, окружающую нас. По мере развития действия они становятся старше, но по-прежнему остаются анонимными и взаимозаменяемыми.
Время играет важную роль: персонажи постоянно спрашивают друг у друга, который час, не получая ответа. Часы без стрелок — характерный образ сценографии. Действие времени иллюстрируется постепенным уменьшением пространства. Дансинг-холл в одиннадцатой сцене становится намного меньше, чем в начале пьесы.
В одной из сцен N просит проститутку унизить его. Адамов признается, что «Пародия» оправдывает его позицию: «Даже если я подобен N, то не буду наказан сильнее, чем Служащий»25. Активность столь же бессмысленна, как апатия и самоуничижение.
«Пародия» — попытка зримо изобразить невроз, психологическое состояние в конкретных условиях. В предисловии к первому изданию Адамов пишет, что постановка подобной пьесы — «проекция в мир восприятий скрытых состояний ума и образов. Сценическое воплощение пьесы должно стать точкой пересечения видимого и невидимого миров, иными словами, проявлением скрытой сути, образующей оболочку зерна драмы»26.
В решительном отказе от личности, в замене её схематическими образами «Пародия» сближается с немецкой экспрессионистской драмой, протестуя против сложности психологического театра. В этом обдуманный возврат к примитивизму. Адамов не хочет изображать мир, он хочет пародировать его. «Критикуя окружающий мир, я зачастую обвиняю его в том, что он всего лишь пародия. Но признаю, болезнь — нечто большее, чем пародия?»27 Его пародия недвусмысленная, резкая, слишком упрощённая. Он сознательно избегает тонкостей в сюжете, обрисовке характеров, в языке. Это театр жеста — N, валяющийся на дороге, суетливый Служащий, взаимозаменяемые пары, без всяких признаков индивидуальности, — имитация жизни.
Адамов понял, что, пародируя мир в столь простых формах, он зашёл в тупик. В следующей пьесе «Вторжение» он делает первые шаги на пути создания реальных характеров в реальных условиях. Изолированные, одинокие индивиды «Пародии» заменены семьей. Но и семья состоит из таких же одиноких личностей, не способных к коммуникации. Однако их, как ни странно, связывает преданность умершему герою.
Герой — покойный писатель Жан, после которого остались рукописи, которые невозможно прочесть из-за неразборчивого почерка. Рукописи оставлены другу и ученику Пьеру, мужу его сестры Агнес. Квартира, где они живут с матерью Пьера, в полном беспорядке, символизирующем душевное смятение. Расшифровка рукописей из-за неразборчивого почерка — задача невыполнимая. Герои в отчаянии: невозможно узнать, что он написал, и опасность в том, что литературный душеприказчик сочинит сам и выдаст за написанное мастером. Если даже мизерная часть рукописи, хотя бы одна фраза, в конце концов, будет расшифрована, это ничего не даст, поскольку её невозможно вставить в огромную беспорядочную рукопись.
В расшифровке текста пытается помочь другой ученик писателя, Трейдл, но его подозревают в необъективном прочтении творения Жана. Беспорядок в комнате, где происходит действие, соответствует беспорядку в стране. Иммигранты переходят границу, рушатся социальные структуры. Во втором акте беспорядок в комнате, загромождённой мебелью, возрастает. У Пьера возникает ещё больше трудностей с расшифровкой рукописи. Входит мужчина, кого-то разыскивающий в соседней квартире, и заводит разговор с Агнес. Он «первый, переступивший порог дома», и Агнес с ним уйдёт. В третьем акте он обосновывается в комнате, Пьер перебирается в каморку под лестницей, чтобы там спокойно работать. Агнес уходит от Пьера «с первым, кто переступил порог дома». В четвёртом акте комната приведена в порядок, рукописи сложены. Порядок воцарился и в стране. Пьер решил прекратить работу. Он рвёт рукописи. Появляется Агнес. Она хочет одолжить пишущую машинку. Её любовник болен, она не справляется с его делами. Пьера Трейдл находит мёртвым.
«Вторжение» — пьеса о безнадёжных поисках идеи, которая бы придала смысл груде рукописей; но это пьеса и о проблеме порядка и беспорядка в обществе и семье. Кажется, что Агнес символизирует беспорядок. Став мужем Агнес, не женился ли Пьер таким образом и на её брате, рукописи которого после его смерти не поддаются расшифровке? Когда она покидает дом, порядок в нём восстанавливается, а беспорядок и неудачи переходят к человеку, чьей любовницей она стала. Пьер, отказавшись продолжить работу над рукописями, умирает. Он теряет Агнес, которая уходит с «первым, переступившим порог дома», потому что отказался от всех контактов с людьми. Язык на глазах распадается: «Почему говорят “Это случилось”? Что значит “это” и что “это” от меня хочет? Почему предпочитают говорить “на земле”, не “над землёй” или “на поверхности земли”? Я потратил столько времени, размышляя над этим. Мне не нужен смысл слов, нужен объём, подвижная плоть. Я больше ничего не буду искать… буду ждать в безмолвии, в неподвижности»28.
Пьер просит мать, которая приносит ему в каморку еду, не говорить с ним — знак его полной изоляции. После того, как он отказывается от изоляции и решает вести нормальную, как все люди, жизнь, он узнаёт об уходе Агнес. «Она слишком поздно или слишком рано оставила меня. Будь у неё больше терпения, мы могли бы начать всё сначала»29. Он возвращается в каморку, чтобы умереть, не зная, что приходила Агнес, «одолжить пишущую машинку», то есть позволить ей вернуться. Но мать не поняла или не захотела понять и не позвала Пьера.
Трагедия оборачивается недоразумением. Если бы мать Пьера восприняла просьбу Агнес одолжить пишущую машинку не буквально, а как намёк на желание вернуться и принять участие в работе семьи, Пьер не умер бы брошенным и нелюбимым. Адамов писал, что нашёл новый важный драматургический приём — косвенный диалог (подтекст), скрываемую в прямом диалоге связь с чувствами, которые персонажи не имеют мужества выразить открыто и остаются трагически непонятыми. Позднее он понял, что эта техника уже применялась другими драматургами, в частности Чеховым.
«Вторжение» — пьеса, западающая в душу. Под большим впечатлением от неё был Андре Жид. Он считал, что в ней идёт речь о постепенно угасающем влиянии и власти над умами великого писателя после его смерти — странное непонимание, которое выказал почитаемый старый писатель, применивший концепцию своего поколения к творениям нового века. Для современного читателя самая примечательная особенность «Вторжения» — нереальность умершего героя. Факт, что его столь превозносимые творения, по сути, лишены смысла, — абсурден.
Жан Вилар, великий французский режиссёр, поставивший на Авиньонском фестивале 1948 года «Смерть Дантона» Бюхнера, воспринял «Вторжение» глазами современника. Он оценил Адамова за отказ от «кружевных орнаментов диалогов и интриги, за возвращение к драме абсолютной чистоты»30, ясных и простых сценических символов. Он противопоставлял этот совершенный современный театр Клоделю, который «заимствует свои эффекты из алкоголя веры и возвышенного слова» и, выдвигая альтернативу «Адамов — Клодель»31, отдал предпочтение Адамову.
Благодаря финансовой поддержке Жида и Вилара и отзывам таких известных литературных и театральных деятелей, как Рене Шар, Жак Превер и Роже Блен, весной 1950 года вышла небольшая книга с двумя первыми, не поставленными пьесами Адамова. Выход книги дал плоды. 14 ноября 1950 года состоялась премьера «Вторжения» в постановке Жана Вилара, открыв Studio des Champs-Elysees. Тремя днями ранее состоялась премьера третьей пьесы Адамова «Большие и малые манёвры» в Theatre des Noctambules в постановке выдающегося пионера французского авангарда Жана-Мари Серро с Роже Бленом в главной роли.
Адамов объясняет название пьесы так: малые маневры олицетворяют социальный беспорядок, изображённый в пьесе; большие манёвры — условия человеческого существования, внутри которых они происходят, подчёркивая незначительность малых маневров в сравнении с большими; в контексте «манёвры» получают двойное значение — войны и психологического состояния людей»32.
В «Больших и малых манёврах» соединяются темы параллельных жизней «Пародии» и социальных и политических беспорядков «Вторжения». В новой пьесе активная, самоотверженная борьба вождя повстанцев бессмысленна, а сам он — жертва скрытых психологических сил, вынуждающих его подчиняться приказам, которые выкрикивают невидимые радиоголоса, постепенно превратившие его в калеку. Действие происходит в стране, находящейся под гнётом жесточайшей диктатуры. Активный герой, le militant (борец), ведёт победоносную борьбу против полицейского режима; призвав повстанцев к жестокому террору во имя победы, он терпит крах. Более того, militant становится причиной смерти собственного ребёнка; из-за спровоцированных им беспорядков доктор не смог приехать к его больному сыну. Ещё раз активная личность оказывается в пассиве, превратившись в калеку (le mutile), тележку с безногим и безруким борцом-калекой выталкивает на дорогу под ноги толпе, сминающей его, женщина, которую он любит.
Очевидно, что mutile (калека), следовавший приказам голосов, вынудивших его засунуть руки в машину, отрубившую их, и заставивших его кинуться под автомобиль, лишивший его ног, выражает позицию автора. Его увечья, как и смерть N и Пьера в предыдущих пьесах, — следствие его неконтактности и несостоятельности в любви. Он признается, что если бы он мог жить с женщиной и иметь от неё ребенка, голоса потеряли бы власть над ним33. Катастрофы, в которых он теряет руки и ноги, происходят после его неудачной попытки добиться любви Эрны. Порой она заботится о нём, но чаще приходит, чтобы шпионить за ним для своего любовника, секретного полицейского агента.
Адамов интерпретировал пьесу, основой которой стал яркий, вызвавший страх сон, как попытку оправдать свою недостаточную активность в борьбе левых сил. Со стороны такая интерпретация может показаться неубедительной для сложного содержания «Больших и малых манёвров». Пьеса не только утверждает (Адамов позднее считал, что недостаточно) бесполезность устремлений революционера покончить с политическим террором, поскольку любая власть держится на грубом насилии; она наглядно показывает сходство между активностью борца и рабской покорностью иррациональным силам подсознания. Категорический императив, вынуждающий militant (борца) рисковать жизнью, бросить жену на произвол судьбы, стать причиной смерти больного ребёнка, — в его неспособности любить и в самоубийственных приказах его подсознания, толкающих mutile (калеку) к мазохистскому саморазрушению. Агрессивные импульсы militant (борца) — оборотная сторона агрессии mutile (калеки), направленной на самого себя.
Амбивалентность возможных интерпретаций свидетельствует о силе драматургии «Больших и малых манёвров», основанной на глубоком, мучительном опыте, порождаемом встающими перед человеком фундаментальными дилеммами. Пьеса так же подтверждает, что Адамов полностью овладел техникой претворения своих идей. Действие не только развивается в непрерывных напряженных, контрастирующих сценах, подобно киномонтажу, оно до конца реализует концепцию Адамова: театр способен транслировать идеи и психологические реалии в понятные конкретные образы, чтобы «суть буквально, физически совпала бы с содержанием»34. Подобная конкретизация содержания приводит к переносу акцента с языка драмы на визуальное действие. Язык пьесы перестаёт быть главным средством поэзии, как это имеет место в театре Клоделя, пьесы которого Вилар противопоставлял пьесам Адамова. Адамов определяет перенос, как «возрастание действия вне зависимости от обстоятельств, …проявление которого я вижу в объёме, на что язык сам по себе не способен; когда язык подпадает под ритм физического действия, которое становится автономным, самая ординарная, повседневная речь обретает силу поэзии, но я удовлетворюсь тем, что назову её функционально эффективной»35. В «Больших и малых манёврах» преобразование содержания в визуальное, зримое выражение, реализовано полностью.
Кажется, что приём, усовершенствованный Адамовым, универсален. Его единственный недостаток — узкая область применения; сравнительно немного ситуаций, которые можно выразить таким элементарным способом. Несмотря на то, что его следующая пьеса «В сторону ускорения» (Le Sens de la Marche) содержит многие темы его предыдущих пьес, Адамову удалось найти новые приёмы для воплощения своей главной ментальной тревоги, с помощью которых он преодолевает навязчивые идеи. В этой пьесе герой вначале отказывается подчиняться и протестует. Эти действия не всегда направлены на реального виновника его бед, но всё же это действия. Отец героя пьесы Анри — тиран. Анри попадает в ситуации, в которых сталкивается с непререкаемым авторитетом отца, воплощающегося в чреде инкарнаций: офицера в казарме, где Анри отбывает воинскую повинность; главы религиозной секты, дочь которого какое-то время является его невестой; директора школы, где он преподает. Он всем подчиняется, но вернувшись домой и увидев, что массажист его покойного отца превратился в домашнего тирана и стал любовником его сестры, герой душит злодея. Адамов отмечал, что толчком для написания пьесы послужила следующая идея: «в этой жизни основные события вселяют страх, одни и те же ситуации фатально повторяются; всё, что мы можем сделать, — разрушить их. Слишком поздно мы понимаем: то, что ошибочно принимали за реальные препятствия, фактически конечный пункт в гибельной чреде событий»36. Эта оригинальная идея высокохудожественно реализована. Некоторые темы его предыдущих пьес повторяются: революционеры, вновь терпящие поражение; неспособность героя любить, образ сестры.
Адамов не был удовлетворён пьесой «В сторону ускорения» и на время отложил её; другой сон дал ему не только идею пьесы, но пьесу от начала до конца. Это был «Профессор Таранн», ставший поворотным пунктом в его творчестве.
Профессор обвиняется в эксгибиционизме на морском берегу. Он с возмущением это отрицает: он известный учёный, приглашён читать лекции за границей, в Бельгии. Его доказательства своей невиновности противоречивы, и это делает его вину правдоподобной. Даме, которая приходит в полицию, кажется, что она его знает, и она адресуется к нему «Профессор». Однако она приняла его за другого профессора, Менара, на которого Таранн немного похож. Далее действие переносится в отель, где он остановился. Снова Таранна обвиняют в правонарушении: он намусорил в кабинке для переодевания на берегу моря. Он возражает, он не переодевался в кабинке, тем самым подтвердив первое обвинение. Полицейский приносит найденную им записную книжку. Таранн признает, что это его книжка, но не может разобрать почерк. К тому же большинство страниц чистые, хотя Таранн уверяет, что книжка полностью исписана. Профессор получает план столовой на океанском лайнере с указанием его места за столом почётных гостей.
Жанна, родственница или секретарша, приносит ему письмо из Бельгии от ректора университета, подтверждающего, что он действительно профессор. Но это отказ в грубой форме от приглашения, поскольку его лекции — плагиат работ известного профессора Менара. Таранн остается в одиночестве. Он вешает на стену план столовой на океанском лайнере, оказавшийся чистым листом бумаги. Профессор медленно раздевается до полной наготы, в чём его и обвиняли. Выставленный мошенником, он показывает себя таким. Это кошмар: человек, пытающийся отстоять свою идентичность, не может её доказать.
Пьеса воспроизводит сон Адамова «без малейшей попытки придать ему широкий смысл, что-то доказать»37. Во сне с Адамовым случилось то же, что с Таранном, с той разницей, что во сне он кричал не «Я профессор Таранн», а «Я написал “Пародию”!»38
Адамов считал «Профессора Таранна» особенно важным для себя как для драматурга. Воспроизведя свой сон, он переступил порог, впервые назвав в пьесе реальное место происходящего. Профессор заявляет, что читает лекции за границей, в Бельгии, откуда он получил письмо с почтовой маркой с бельгийским львом, подтверждающей, что письмо пришло из этой страны. «Это мелочь, но всё же я впервые вышел из свободного пространства поэзии и отважился назвать вещи своими именами»39.
Автор «Признания», страдающий от одиночества и разобщенности, описанных в этой книге, сделал огромный шаг, установив связь, пусть незначительную, с реальностью, с миром, существующим за пределами его ночных кошмаров, даже если это проявляется только в названии страны, прозвучавшей в ночном кошмаре. Разумеется, в «Признании» Адамов описывает подлинные картины своей жизни. Но большая разница между обдуманным унизительным обнажением своих страданий (реминисценция эксгибиционизма Таранна) и способностью иметь дело с реальным миром в процессе творческого, художественного акта, подразумевающего столкновение с внешней реальностью и овладения ею.
Морис Регно в пронзительном эссе об Адамове40 обращает внимание на то, что «Профессор Таранн» знаменует ещё одну важную ступень эволюции Адамова. В предшествующих пьесах для выражения тщетности и абсурдности жизни Адамов, как правило, применял принцип парности — противоположные позиции персонажей в итоге приводили к одинаковому результату — к нулю. Таковы Служащий и N, Пьер и его сердобольная мать, militant (борец) и mutile (калека), Анри и повстанцы. Сон, ставший основой «Профессора Таранна», впервые показал Адамову способ симультанного соединения в одном человеке конструктивного и деструктивного начал: в отстаивании своего гражданского достоинства, научных достижений Таранн видит возможность для обмана. Непонятно, разоблачается в этой пьесе обман или же невиновный человек оказывается жертвой чудовищных обстоятельств, тайного заговора с целью попрать его права. Поскольку Адамов идентифицирует себя с Таранном, то предпочтительнее вторая точка зрения: Адамов во сне кричал: «Я — автор “Пародии”!», кем он и был; его авторство в ночном кошмаре постоянно опровергалось. Если любая деятельность тщетна и абсурдна, тогда право написать пьесу или право читать лекции в Бельгии в итоге превращаются в ничто; смерть и забвение перечёркивают все. В «Профессоре Таранне» герой сочетает в себе учёного и мошенника, добропорядочного гражданина и эксгибициониста, оптимиста и разрушающего себя ленивого пессимиста. Этот опыт открыл Адамову путь к созданию противоречивых трёхмерных характеров взамен схематичного выражения определённых психологических черт.
Адамову понадобилось несколько лет для создания двух первых пьес. «Профессор Таранн» написан в 1951 году за два дня, что свидетельствует о том, что он подчинил свои неврозы, превратив их в художественные произведения.
Завершив «В сторону ускорения» (работу над этой пьесой он прервал, чтобы воплотить свой ночной кошмар в «Профессоре Таранне»), Адамов возвращается к теме, которая его давно волновала, — беспорядки эпох, социальные перевороты, гонения. В пьесе «Все против всех» мы снова оказываемся в стране, наводнённой беженцами. Они легко распознаются по хромоте. От героя, Жана Риста, жена уходит к беженцу, и Рист превращается в политикана-демагога, произнося напыщенные речи против беженцев. На короткое время он получает власть, но когда колесо политической фортуны поворачивается, из преследователя он превращается в преследуемого. Притворившись хромым и выдав себя за беженца, он избегает ареста. Рист живёт в полной неизвестности, его поддерживает любовь девушки-беженки. Происходит переворот, и беженцев снова начинают преследовать. Он может избежать смерти, объявив, кто он. Но, признавшись, что он ярый противник беженцев, он потерял бы любовь девушки. Он выбирает смерть.
В Жане Ристе, преследователе и жертве преследования, Адамов вновь соединяет две противоположные тенденции, но они проявляются не так успешно и симультанно, как в «Профессоре Таранне», но последовательно, с резкими временными пассажами. Финал с самопожертвованием героя во имя любви подвергался критике, поскольку низводил драму до сентиментальной героики, характерной для романтического стиля. Этот упрёк несправедлив. Отказ Жана Риста от спасения можно интерпретировать и как акт смирения — самоубийства из-за абсурда циркулирующей судьбы. Недостаток пьесы, по мнению Адамова, в том, что она не раскрывает реальной проблемы, им заявленной. Очевидно, что идёт речь о еврейском вопросе, иначе говоря, о расовом преследовании. Но, лишив персонажей социальной принадлежности, не определив момента истории, точки на географической карте, автор лишился возможности дать должную оценку теме, не сумев объяснить суть разногласий: почему беженцы отбирали рабочие места у местного населения? И оправданны ли попытки местных жителей изгнать беженцев из страны? Адамов знал об этих недостатках пьесы; как он говорил, ему хотелось в этом конфликте показать неправоту обеих сторон. Но он понимал, что большинство жертв «хорошие» лишь потому, что они невинно страдают: «Я мучился оттого, что неизвестно, где происходит действие, от схематизма характеров, от символических ситуаций, но я не видел возможности решить социальный конфликт и показать его в истинном виде, отказавшись от архетипов»41.
В «Профессоре Таранне» он имел мужество дать некоторое представление о реальном мире, хотя это был только его сон. Теперь он снова решил вернуться к миру снов, написав две пьесы со схожими темами. В марте 1953 года он публикует в Nouvelle Revue Frangaise «Какими мы тогда были» и приблизительно в 1952 году пишет «Обретения».
В обеих пьесах исследуется психология взрослого человека, возвращающегося в детство на пороге женитьбы. В первой пьесе персонаж А заснул в своей комнате перед бракосочетанием. Ему снится, что мать и тётка ищут маленького мальчика, считая, что он заблудился в доме. А не знает их, но по мере развития действия он постепенно превращается в маленького мальчика, которого ищут эти женщины. Во второй пьесе Эдгар собирается покинуть Монпелье, где он слушал лекции по праву, и вернуться домой. Его дом находится неподалеку от бельгийской границы. Он знакомится с двумя дамами, пожилой и молодой. Его склоняют остаться в доме пожилой дамы и обручиться с молодой. Он отвергает её, она погибает в железнодорожной катастрофе. Вернувшись домой, он узнает, что ждавшая его невеста также погибла в железнодорожной катастрофе. Мать Эдгара насильно усаживает его в детскую коляску и увозит со сцены.
Эти пьесы снов содержат скрытый психологический смысл и направлены против типа матери, стремящейся оградить взрослого сына от других женщин. Адамов отказался включить «Какими мы тогда были» в собрание пьес, хотя в 1957 году разрешил публикацию английского перевода42. Технически усовершенствовав пьесу, создав атмосферу сна за счёт последовательных сценических изменений и парных персонажей матери — невесты, Адамов включил «Обретения» в издание. В предисловии он отрицает, что пьеса — его сон. Она сочинена от начала до конца. Он декларирует: «“Обретения” — важнейшая для меня пьеса; закончив её, перечитав и хорошенько проштудировав, я понял, что пора поставить точку на эксплуатации полуснов и старого семейного конфликта. То есть писать ближе к жизни; думаю, благодаря «Обретениям» я распрощался со всем, что прежде давало мне пищу для творчества, и получил возможность писать без препятствий»43.
Иначе говоря, Адамов достиг уровня, когда смог не только выражать свой взгляд на условия человеческого существования. Его характеры не просто эманации его души, они существуют по своим законам, как реальные люди, которых можно наблюдать в жизни. Такой пьесой стала «Пинг-понг», один из шедевров театра абсурда.
Основа сюжета — история студентов, медика Виктора и искусствоведа Артура. Они встречаются в кафе мадам Дюран и играют в бильярд на игровом автомате. Наблюдая за служащим, забирающим выручку из автомата, они загораются желанием сделать деловое предложение компании, заметив в автомате легко устранимые технические несовершенства. Автомат пробуждает в них и поэтические чувства. Вспыхивающие огоньки обладают для них поэзией, а автомат для них — своего рода произведение искусства. Виктор и Артур предлагают администрации контролирующего консорциума усовершенствовать автомат; постепенно он становится смыслом их жизни, управляет их мечтами и чувствами. Если они влюбляются, то в девушку из офиса консорциума. Если ссорятся, то из-за этой девушки или из-за автомата. Страх им внушает только консорциум. Их интересы сосредоточены вокруг автомата и подчинены политическим и социальным моментам, влияющим на подъём и падение прибыли игровых автоматов.
Они стареют. В финале это два старика, играющие в пинг-понг, игру, столь же детскую и несерьезную, как их увлечение автоматом, длившееся всю жизнь. Виктор умирает, Артур остается в одиночестве.
«Пинг-понг», как и первая пьеса Адамова «Пародия», иллюстрирует тщетность человеческих устремлений. Если «Пародия» утверждает: какие бы усилия вы ни прилагали, итог один — смерть, то «Пинг-понг» — яркое, всеобъемлющее доказательство того, как и почему множество человеческих усилий пропадает втуне. Подпав под власть вещи, автомата, сулящего могущество, денег, желанной женщины, Виктор и Артур растрачивают свои жизни в бессмысленной погоне за тенями. Усовершенствовав автомат, они дошли до предела, извратив все жизненные ценности, убив в себе творческое начало, способность любить, причастность к обществу.
«Пинг-понг» — мощный образ отчуждения, к которому приводит культ ложной цели, обожествление автомата, честолюбие или же идеология.
Бильярд-автомат в «Пинг-понге» больше, чем автомат; он — средоточие их жизни и помыслов. Объективный момент — усовершенствование игрового автомата — становится их идеалом, преобразуется в структуру, полную борьбы за власть, интриг, политики, тактики и стратегии. Структура становится вопросом жизни и смерти для всех, кто видит в этом высшую цель. Ряд персонажей терпит поражение в служении этой структуре или же в междоусобной борьбе за власть. Они отдаются этим играм с предельным рвением, страстью и напряжением. Во имя чего? Во имя детской игры, игрового автомата, ради ничего. Но большинство целеустремленных людей, посвящающих жизнь бизнесу, политике, искусству или науке, чем они отличаются от Артура и Виктора с их всепоглощающей навязчивой идеей? Сила и красота «Пинг-понга» в том, что пьеса убедительно высветила эту проблему. Высокое мастерство позволило Адамову превратить автомат в яркий образ объектов всех устремлений человека. Он достигает этого поэтической глубиной, с какой выписаны персонажи, рассуждающие о самых абсурдных аспектах этого абсурдного автомата. Убежденность и сосредоточенность заставляют звучать их слова правдиво.
Пьеса соединяет элементы действительности и фантазии в идеально точных пропорциях; реальны время и место, хотя сфера действия персонажей герметична и отделена от внешнего мира. Но драматург использует не только реалистические приёмы, чтобы воплотить навязчивую идею героев в действие; они заключены в узкий сегмент реального мира, и мы воспринимаем его через их ограниченное представление о нём.
Персонажи «Пинг-понга» — полностью реализовавшиеся личности. Они не подчиняются неконтролируемым силам, не идут сомнамбулически к цели, у них есть элемент свободы, чтобы определиться в жизни: на наших глазах Виктор и Артур принимают решение посвятить себя автомату. И хотя Виктор более практичен, а Артур поэт, они не персонифицируют взаимодополняющие образы.
Пожалуй, самая оригинальная черта «Пинг-понга» — приём, создающий внутреннее противоречие, диалектическое взаимодействие между действием и диалогом. Если только прочесть пьесу, она может показаться бессмысленной. Разговоры об усовершенствовании игрового автомата кажутся чепухой; смысл пьесы открывается, когда актёр произносит абсурдные фразы с глубокой верой, достойной высочайших взлётов поэзии. Это пьеса, которую нужно играть скорее против текста, чем по тексту. Такая техника аналогична косвенному диалогу (подтексту). Адамов считал, что такой диалог он открыл во «Вторжении», но потом он столкнулся с таким диалогом у Чехова. В «Пинг-понге» он предложил другой уровень. Чехов использовал косвенный диалог в ситуациях, в которых персонажи боятся высказать свои мысли и скрывают чувства за тривиальными словами. У Адамова в этой пьесе персонажи верят в абсурдные проекты с такой силой, что высказывают нелепые идеи с жаром пророческого прозрения. У Чехова подлинные чувства скрываются за ничего не значащей учтивостью, в «Пинг-понге» абсурдные идеи провозглашаются как вечные истины.
Адамов воссоздал историю работы над «Пинг-понгом». Он начал с финальной сцены, в которой два старика играют в пинг-понг. Затем решил превратить эту сцену в сюжетный ход. Он лишь знал, что ему хотелось ещё раз показать, как в конце жизни все устремления сводятся к нулю: старики коротают время перед смертью, которая всё сведёт к полному абсурду. Но, замечает Адамов, «этот странный метод работы, достаточно парадоксальный, спас меня. Как только я убедился, что, как всегда, могу показать идентичность судеб… я понял, что смогу создать действенные характеры и ситуации»44. Сделав центром действия игровой автомат, он добился конкретизации времени (настоящее) и места действия (город, похожий на Париж).
Тем не менее «Пинг-понг» принадлежит театру абсурда: человек прилагает бесцельные усилия, проявляет сумасшедшую активность, чтобы прийти к тому, к чему приходят все — к старости и смерти. Игровой автомат обладает гипнотической неоднозначностью символа. Он олицетворяет капитализм и крупный бизнес, но в равной степени религиозную или политическую идеологию со своей организацией и аппаратом власти, требующим преданности и лояльности от своих приверженцев.
Продолжая работать над пьесой, Адамов начал отходить от идеи театра общечеловеческих проблем. Он подверг критике «Пинг-понг» по двум направлениям. Финал, написанный в начале работы, будто бы предрешил результат, став помехой; кроме того, изображение консорциума схематично, «не свободно от аллегории. Фактически социальные события по мере того, как идёт время, недостаточно модифицируют внутреннюю организацию консорциума, и потому не известно состояние общества. С другой стороны, не ощущается течение времени. Если уж я зашёл столь далеко, что занялся “деньгоделательным автоматом”, то обязан проверить все колёсики и винтики гигантской социальной машины с такой же тщательностью, с какой проверял бамперы и флипперы игрового автомата. Такую проверку я попытаюсь выполнить в новой пьесе, в которой более точно, чем в “Пинг-понге” будут даны ситуации времени и среды»45.
Такая пьеса, над которой Адамов работал в начале 1955 года, когда писал предисловие ко второму тому собрания своих пьес, была завершена в следующем году. Это был «Паоло Паоли», блистательно сыграннный молодой труппой Роже Планшона в Лионе 17 мая 1957 года. Эта пьеса — отречение Адамова от театра абсурда и переход к другому театру, равному по значению для современной сцены эпическому театру Брехта. Адамов считал Брехта величайшим из современных драматургов и ставил его сразу же за Шекспиром, Чеховым и Бюхнером, которыми восхищался. Освободившись от маний и навязчивых идей, он ощутил свободу для воплощения своего опыта. (До этого он переводил и делал адаптации пьес Бюхнера и Чехова.)
«Паоло Паоли» — эпическая драма, вскрывающая социальные и политические причины Первой мировой войны, исследующая отношения в обществе, основанном на росте прибыли, и растущий протест обездоленных. Пьеса охватывает период с 1900 года по 1914 год. Каждой из двенадцати сцен предшествует интермедия, рисующая социальное положение в определённый период. На экран проецируются цитаты из газет, сопровождаемые популярными мелодиями того времени.
Персонажи, тщательно отобранные, отражают весь микрокосм политических, религиозных и социальных сил, ставших причиной этой войны. Адамов проявил недюжинную изобретательность, лаконично воплотив все эти темы в семи персонажах.
Паоло Паоли — торговый агент по продаже редких видов бабочек; Флоран Юло-Вассер, коллекционер бабочек и клиент Паоло, — импортер и поставщик перьев страусов, и любовник жены Паоло, немки Стеллы. Клерикализм и национализм олицетворяют аббат и жена капитана. Дополняют этот синклит рабочий и профсоюзный деятель Робер Марпо и его молоденькая жена Роза.
Не менее абсурдную функцию, чем у игрового автомата в «Пинг-понге», как товара потребления, в этой пьесе выполняют бабочки и перья страусов. Этот товар намного реальнее. Перед первой сценой на экран проецируется сообщение из газет о том, что во Франции в 1900 году перья страусов и изготовленные из них вещи занимают четвёртое место в экспорте. Адамов блестяще раскрывает далеко идущие социальные и политические последствия торговли этими абсурдными вещами: бизнес Паоло держится на том, что его отец, мелкий корсиканский государственный служащий в департаменте общественных работ на острове Дьявола, позволяет своему сыну брать заключённых на неполный рабочий день и за нищенскую плату охотиться на бабочек. Молодой рабочий Марпо, отбывающий наказание за мелкое воровство, бежал на материк из болот Венесуэлы и материально полностью зависит от Паоло, добывая для него бабочек. Когда начались волнения в Китае, охота на бабочек там стала труднее, и цены на редкие китайские экземпляры возросли. Аббат, брат которого миссионер в Китае, может поставлять Паоло эти редкие образцы. Немногими штрихами Адамов показывает связь между абсурдными товарами и уголовным миром, иностранным капиталом и служителями церкви. Аналогична связь между поставками перьев страусов Юло-Вассеру и Бурской войной. Несмотря на то, что круг персонажей не широк, рабочие и профсоюзные волнения на фабрике, борьба с конкурирующей Германией детально изображены. Как и в «Пинг-понге», персонажи обуяны жаждой денег и власти, олицетворяемыми абсурдными товарами. Богатство Паоло возрастает на период, когда он становится поставщиком безделушек из крыльев бабочек — пепельниц, чайных подносов, картин на религиозные сюжеты, популярных в период и подъёма, и спада клерикализма; конкуренция же с Германией возрастает. Паоло теряет жену, открыв для неё галантерейную торговлю. Она попадает в зависимость от Юло-Вассера, поставляющего ей перья, и становится его любовницей. Судьба Стеллы символизирует абсурд национализма; она покидает Францию на волне антигерманских настроений из-за политики в Марокко: её ненавидят, потому что она немка. В Германии её преследуют соседи, потому что она жена француза.
Только Марпо и его жена Роза, хотя она и становится на некоторое время любовницей Паоло, свободны от этих страстей. Когда Марпо нелегально возвращается из Венесуэлы, Паоло предлагает ему до помилования охотиться на бабочек в Марокко, поскольку на них поднялись цены. В Марокко опасно; французы сражаются с аборигенами. Мораль пьесы в том, что товар — бабочки — только кажется абсурдным предметом торговли; товар, которым торгуют реально, — человек, продающий своё здоровье и безопасность из-за бабочек. Основной предмет торговли — человек, превращённый в товар. (Эта идея лежит в основе великолепной инсценировки Адамова «Мёртвых душ» Гоголя.) Более того, товар покупается и продаётся с убийственной серьёзностью: торговля ведёт к войне.
Жертва социальной системы, Марпо понимает, что поставлено на карту. Получив помилование (война между Францией и Германией из-за Марокко была неизбежна, и добровольцы получали амнистию), Марпо нелегально возвращается во Францию и примыкает к социалистам. Работая на фабрике Юло-Вассера, он борется с «жёлтыми» католическими союзами, которые возглавляет аббат, распространяя пацифистские памфлеты в казармах среди солдат. Чтобы избавиться от Марпо, аббат обвиняет его в подрывной деятельности.
Войска отправляются на войну, Марпо арестовывают. Роза сообщает Паоло об аресте мужа, и в нём просыпается совесть, что не очень убедительно; в заключительном монологе он клянётся, что отныне будет помогать нуждающимся, отказавшись участвовать в бесконечном, чудовищном процессе купли-продажи бесполезных товаров.
«Паоло Паоли» — политическая пьеса, блестяще построенная драма, но как политический аргумент недостаточно убедительная. (Смысл заключительного монолога Паоло мало понятен даже с точки зрения марксистской экономики: деньги, посланные нуждающимся жертвам правых сил, не смогут остановить цикл капиталистического оборота.) Однако пьеса показывает, насколько блестяще Адамов владеет материалом, подавая его с замечательной изобретательностью, конструктивностью и лаконизмом.
Возникает вопрос, можно ли сравнить эту концептуальную, дидактическую, односторонне аргументированную пьесу с менее концептуальными, исполненными навязчивых идей и сновидческой поэзии пьесами «Пародия», «Большие и малые манёвры», «Профессор Таранн»? Можно ли сравнивать по глубине и по силе убеждения отчётливо выраженную социальную структуру «Паоло Паоли» со всей её виртуозностью с нечёткими, расплывчатыми, но потому-то и всеобъемлющими образами «Пинг-понга»?
Без сомнения, от «Пародии» до «Паоло Паоли» Адамов как художник постепенно освобождается от кошмара неврозов и глубоких личных страданий. Во всей истории литературы трудно найти более убедительный пример целительной силы творческого процесса сублимации. Огромный интерес представляют наблюдения за разрушением барьеров, которые сдерживали писателя в ряде пьес, и его переход к реалиям повседневной жизни. Столь же интересно наблюдать, как он обретает уверенность, справляясь с ночными кошмарами, подчинившими его творчество до такой степени, что он мог отлить их в форму и таким образом справиться с ними. Ранние пьесы — своеобразные эманации его подсознания, проецирующиеся на сцену, воспроизводя его жуткие фантазии. «Паоло Паоли» сознательно спланирован и рационально выверен. Однако рационализм и сознательный контроль обернулись потерей прекрасного безумия, западающих в память неврозов, придающих ранним пьесам магнетический поэтический импульс. Более того, сконцентрировав критику на политической и социальной сфере, он сузил поле воображения.
Если в «Больших и малых манёврах» бесполезность революционной борьбы символизируют малые манёвры, а всеобъемлющую абсурдность человеческой жизни, подчеркивающей ничтожность социальной борьбы, — большие манёвры, то в «Паоло Паоли» малые манёвры принимают угрожающие размеры, а большие отступают в тень. «Мы знаем, что нас обступает смерть. Но если мы не найдём в себе мужества побороть эту мысль, мы предадим будущее, и все наши жертвы напрасны»46, - говорит революционер в ранней пьесе. Это аргумент и Паоло Паоли. В «Больших и малых манёврах» Адамов давал горько ироничные ремарки. В момент опасности голос революционного лидера, произносящего эти дерзновенные слова, понижался, темп речи замедлялся, он падал духом.
Адамов слишком проницательный мыслитель, чтобы не осознавать значения своей новой позиции. На ранней стадии он сосредотачивался на абсурде условий человеческого существования; позднее утверждал, что «театр должен одновременно, но строго дифференцированно показывать исцелимые и неисцелимые аспекты жизни. Неисцелимый аспект, и мы все это знаем, — неизбежность смерти, исцелимый — социальный»47.
Так сохраняется шаткое равновесие между исцелимыми и неисцелимыми аспектами жизни, чему «Пинг- понг» — прекрасное доказательство. Игровой автомат символизирует иллюзорные цели, материальные и идеологические, погоня за которыми порождает тайные амбиции, карьеризм, стремление властвовать над другими. Социальный урок пьесы — не следует приносить жертвы ради подобных иллюзорных целей. Абсурдность всех усилий человека перед лицом смерти невозможно полностью изгнать из памяти, в итоге возникает её мощный, непреодолимый образ. С другой стороны, недостаток «Паоло Паоли» в обилии навязываемых экономических и социальных теорий. Образ Марпо слишком положителен, а потому не столь реален. Ещё менее правдоподобно превращение отрицательного Паоло в положительного героя ради разрешения проблемы в кульминационный момент. Благородный персонаж и его благородный поступок — односторонняя аргументация автора в пользу исцелимого аспекта, принижающего значение неисцелимого аспекта. Усилия Марпо столь же бесплодны, как и Служащего в «Пародии»: Марпо арестован, и, несмотря на все его усилия, начинается война. Тем не менее, автор счёл необходимым превратить это в благородное поражение, возложив вину на личных врагов или на социальные условия данного исторического периода. Это безнадёжное заблуждение создаёт политически ангажированный театр. Брехт, которому хорошо была известна такая опасность, избежал этой западни, отказавшись в своих лучших пьесах, «Мамаше Кураж» и «Галилее», от положительных героев; позитивная идея возникала как предположение раньше, чем конкретная демонстрация, воздействуя на публику так же, как театр отрицания, концентрирующийся на неисцелимых аспектах жизни.
В некотором отношении «Паоло Паоли» намечает важную перспективу, указывая способ плодотворного соединения двух традиций — театра абсурда с традиционными приёмами хорошо сделанной пьесы. «Паоло Паоли» благодаря простоте композиции, чёткости характеров, превращения реального товара, бабочек и страусовых перьев, в символы, — пример для дальнейшего развития театра, соединяющего элементы дидактического, эпического стиля с театром абсурда.
Это не был окончательный переход Адамова к реалистической стилистике, как это может показаться. Осенью 1958 года, когда он занял активную позицию в кампании против новой конституции де Голля, Адамов прибегнул не к реалистической, дидактической драме, а использовал приём аллегории. В том «Социальный театр»48 вошли три короткие пьесы, две из которых аллегорические, одна — реалистическая, общепризнанная неудача.
Наиболее энергичная из них — «Интимность». В ней использованы собирательные образы, подобные аллегориям средневекового театра. Карикатура на де Голля именуется Реальное Дело, на социалистов — Подобострастие. Глупый лакей, молодой член партии, ведущий себя по отношению к алжирским колонистам, как бандит, именуется Цвет Общества. Реальное дело защищает личная охрана из жестоких насильников. Они называются Суть Дела. Короткие монологи Смешной Жалобы олицетворяют нелепое хныканье по поводу печального факта — во Франции потеряно право на убийство, как это имело место в былые, счастливые времена. Две первые небольшие пьесы как здоровая актуальная сатира, несмотря на то, что они были однодневками (pieces d’occasion), имели успех. Третья пьеса «Я не знаю французский», если даже считать её однодневкой, не удалась. В основе сюжета предпринятая в мае 1958 года попытка французских парашютистов добиться, чтобы мусульманское население Алжира вышло на демонстрацию в поддержку Франции; пьеса не имела успеха вопреки или благодаря документальности. Политическая цель была настолько очевидна, что пьеса потеряла эффект реальности.
В радиопьесе «В фиакре» (1959) Адамов соединяет реалистическое и фантастическое, сделав сюжетом подлинное событие. Три помешанные старые дамы провели ночь в нанятом фиакре, разъезжая по Парижу. Случай, произошедший в феврале 1902 года, записанный психиатром в истории болезни, вполне мог быть порождён сновидческим миром ранних пьес Адамова. Одна из трёх сестёр погибла, выпав из фиакра. Сбросили ли её сестры? И почему дамы в ту ночь стали бездомными? Произошло ли это, когда после смерти отца они вдруг узнали, что в их доме помещается контора сети публичных домов. Можно предположить, что погибшая младшая сестра была тайно вовлечена в деятельность борделей, у неё был любовник, и время от времени она по привычке расплачивалась с извозчиками за их ночные прогулки не только деньгами. Но это в той же мере могло быть фантазией потерявших рассудок старух. Пьеса строго документальна, но, как и в истории болезни, указан только факт без мотивации и без разрешения. В то же время трактовка натуралистическая; основная тема — безумие, фантазии, сны, иррациональные страхи, подозрительность. Ночные улицы Парижа, несчастные жертвы неврозов, подвергающиеся оскорблениям извозчиков, — весь этот мир не столь уж далёк от мира «Признания».
«Весна 71» — грандиозное полотно о Парижской коммуне, крупномасштабное изображение — включает двадцать шесть сцен, девять интерлюдий и эпилог. Трагическая расправа с революционным правительством Парижа представлена как сложная мозаика мгновенно сменяющихся сцен со множеством персонажей. Но и здесь Адамов не обошёлся без гротескно-аллегорического элемента; девять интерлюдий, названных им гиньолями (кукольные шоу), вскрывают мораль через гротескные курбеты исторических и аллегорических персонажей: Бисмарка, Тьера, коммунаров, Французского банка, сидящего в своих сейфах, Национальной ассамблеи в лице сонной старухи, вяжущей носки, и тому подобных. Это ожившие карикатуры Домье, однако реалистическое действие само по себе впечатляющее, растянуто; аллегорические, карикатурные, короткие, остроумные сцены с изумительной силой выражают идею пьесы.
Следующая значительная пьеса Адамова «Священная Европа» (1966), объемная политическая карикатура на Шарля де Голля, представленного под именем императора Шарлеманя. Адамов предпринял попытку соединить реализм со сновидческим миром политических кошмаров. Сомнительно, что это возможно достигнуть в драме.
В последние годы жизни Адамова преследовали болезни, причиной которых бывали и вспышки алкоголизма. Его последние пьесы свидетельствуют о явной атрофии его творческих сил. Эти пьесы — симбиоз его старых неврозов и сосредоточенности на политических и пропагандистских проблемах. «Политика остатка» (написана в 1961–1962 гг., премьера — в 1967 г.) — о расовом угнетении в Соединенных Штатах; пьеса «Господин Умеренный» (1967) — о бессмысленности умеренной позиции в политике; в пьесе «Вход воспрещён» (1968) продолжена атака на американский образ жизни, в «Так возвращается лето» (1969) действие происходит в богатой Швеции, исследуется преступление в буржуазной семье.
15 марта 1970 года Артюр Адамов умер от передозировки барбитуратов; возможно, это было самоубийство.
Его эволюция от страдающего невротика, блуждающего по улицам, где обитали проститутки, которых он провоцировал оскорблять и избивать его, до уважаемого борца левого фронта, — одно из самых интересных и хорошо документированных явлений в европейской литературе. (Адамов написал вторую часть «Признания» и опубликовал под названием «Я… Они…» в 1969 году; другая автобиографическая книга «Мужчина и ребёнок» издана в 1968 году.) Ранние абсурдистские пьесы избавили его от неврозов, постепенно возвратив в реальный мир. Он нашёл идеальный синтез поэтической формы и политических убеждений в «Пинг-понге» и «Паоло Паоли». В последних, особенно тенденциозных пьесах, его политическая ангажированность по иронии судьбы вновь отдалила его от реальности; он переводил в драматическую форму клише и мифы левых сторонников тоталитарного режима; политический фанатизм привёл его к новым неврозам. Пьесы, отражающие его личные неврозы, освобождая от душевных мук, помогали проникать в условия человеческого существования; фанатизм политических драм отражает клише политического механизма. В произведениях последних лет, когда не прекращались боли и глубокие психологические муки, неврозы иногда порождали творческие импульсы, но силы уже его покинули.
Адамов был обаятелен: худой, смуглый, с испытующим, проницательным взглядом огромных глаз на небритом лице сатира, всегда в потрёпанной одежде, он олицетворял архетип богемного Парижа и poete maudit.[24] Он обладал колоссальной эрудицией, был широко образован в области психологии и психопатологии, перевёл Юнга, Рильке, «Преступление и наказание» Достоевского, «Отца» Стриндберга, Гоголя, Бюхнера, Горького и Чехова. Он — автор блестящей монографии о Стриндберге, составитель антологии о Парижской коммуне. Он был другом Арто и сыграл важную роль в освобождении его из психиатрической больницы; человек огромной притягательности, страстно увлекающийся, верный своим обязательствам. Не все его пьесы удачны, но лучшие из них выдержат испытание временем.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЭЖЕН ИОНЕСКО. ТЕАТР И АНТИТЕАТР
Творческий путь Адамова — альтернатива между театром навязчивых идей, кошмаров, страхов и театром идеологическим, коллективного социального воздействия. Он дал красноречивый ответ на эту дилемму. Эжен Ионеско начал с тех же предпосылок, что и Адамов, и на ранней стадии, развиваясь в том же направлении, пришёл к противоположным результатам.
Ионеско, какими бы непонятными и таинственными ни казались его пьесы, доказал, что он может внятно и убедительно интерпретировать свои идеи, если его провоцируют защищаться от нападок, одну из которых предпринял театральный обозреватель лондонского Observer Кеннет Тайнен. В рецензии на постановку «Стульев» и «Урока» в Royal Court Theatre Тайнен предупреждал читателей, что в лице Ионеско противники реализма в театре могут заполучить мессию: «Перед нами предстал самозваный адвокат антитеатра: откровенный проповедник антиреализма — писатель, утверждающий, что слова не имеют смысла и всякая связь между людьми невозможна». Тайнен допускал, что Ионеско даёт обоснованное личное видение, но «опасно, когда подобное становится примером для подражания, принимается за преддверие в театр будущего, в унылый холодный новый мир, заставляющий гуманиста терять веру в логику и в человека, который навсегда будет изгнан из театра». Ионеско отошёл от реализма с «характерами и событиями, взятыми из жизни», как это имеет место в драматургии Горького, Чехова, Артура Миллера, Теннесси Уильямса, Брехта, О’Кейси, Осборна и Сартра1.
Нападки Тайнена открыли одну из самых интересных публичных дискуссий на эту тему. Ионеско ответил, что он не считает себя мессией: «Мне не нравятся мессии, и я не считаю это призванием художника или драматурга. У меня сложилось впечатление, что сам мистер Тайнен находится в поисках мессии. Однако обращаться с посланиями к человечеству, указывать ему пути, спасать его — дело основателей религий, моралистов или политиков …драматург всего лишь пишет пьесы, в которых предлагает свою точку зрения, а не дидактическое послание. …Всякое искусство, исчерпывающееся идеологией, бессмысленно… оно ниже доктрины, которая подчинена готовым формулам из арсенала дискурсивной манифестации. …Идеологическая пьеса — не более чем вульгаризированная идеология»2.
Ионеско протестовал против обвинения в антиреализме, отрицал, что он настаивает на невозможности вербального общения. «Сам факт, что пьеса написана и поставлена, совершенно несовместим с подобной точкой зрения. Я считаю, что достигнуть понимания трудно, но не невозможно»3. После издевательств над Сартром (как автором политических мелодрам), Осборном, Миллером, Брехтом и прочими «бульварными писателями левого крыла конформизма, столь же жалкого, как и правое», Ионеско высказывает убеждение, что общество сформировало барьер между людьми, и аутентичное человеческое сообщество шире, чем общество. «Общество не может избавить человека от печали, политическая система — освободить от страданий, страха смерти и жажды абсолюта; условия жизни контролируют социальное положение, а не наоборот». Поэтому необходимо разрушить язык, который есть «ничто, клише, пустые формулы и лозунги». Поэтому и идеологии с их рутинным языком должны постоянно изменяться, а «их закоснелый язык… неумолимо распадаться на части, чтобы под обломками обрести животворную силу».
«Чтобы определить фундаментальную проблему, общую для всего человечества, я должен спросить себя, в чём моя проблема, в чём выражается мой непреодолимый страх. Тогда, скажу без преувеличения, я определю проблемы и страхи каждого. Это верный путь пробиться в моё отчаяние, в наше отчаяние, которые я пытаюсь извлечь на свет дня…. Творчество есть выражение некоммуникабельной реальности, попытка её понять, и она иногда удаётся. В этом заключается парадокс и истина»4.
Статья Ионеско вызвала широкий отклик — явный признак, что оба, Ионеско и Тайнен, задели животрепещущие проблемы. Одни поздравляли Ионеско с тем, что он сделал «блестящее опровержение современной теории “социального реализма”», добавляя, что если бы мистер Ионеско смог привнести ясность и здравый смысл в свои пьесы, он стал бы великим драматургом! (Исследователь и критик современной немецкой драмы Г.Ф. Гармент.) Другие соглашались с Кеннетом Тайненом в том, что отказ от политики сам по себе является политической идеологией. (Художественный критик-марксист Джон Бергер.) Артистический директор Royal Court Theatre Джордж Девин поддержал Ионеско, но настаивал на том, что Артур Миллер, Джон Осборн и Брехт ставят не только социальные цели: «Каркас их пьес сознательно социальный, но суть человеческая». Филип Тойнби заявил, что Ионеско поверхностен, и в любом случае, Миллер как драматург значительнее.
В том же выпуске Observer Тайнен бросил Ионеско вызов. Его аргументы вращались вокруг утверждения Ионеско о том, что художественное высказывание может быть независимо и в известном смысле выше идеологии и необходимости в «реальном мире». «Искусство и идеология часто воздействуют друг на друга, но очевидно, что они произрастают из общего источника. Они рождаются из человеческого опыта, чтобы объяснить человечеству его суть… Они братья, а не ребёнок и родитель». Тайнен доказывал, что Ионеско делает акцент на самоанализе, исследовании собственных страхов, открывая дверь субъективизму, с позиций которого якобы происходит объективная оценка, а потому критический разбор таких пьес невозможен. «Допускает это мистер Ионеско или нет, но каждая пьеса, заслуживающая серьёзного внимания, — высказывание. Оно адресовано от первого лица единственного числа первому лицу множественного числа, и последние имеют право не соглашаться. …Если человек говорит мне нечто, а я не считаю это правдой, запрещено ли мне сделать больше, чем поздравить с великолепием его лжи?»5
Полемика продолжилась в следующем выпуске Observer. Разные мнения высказали Орсон Уэллс (в основном о критике и критических эталонах), Линдсей Андерсон, молодой драматург Кит Джонстоун и другие. Однако второй ответный удар со стороны Ионеско не был опубликован в газете. Эта статья появилась позже в Cahiers des Saisons6 и в книге его эссе. В ней Ионеско вскрывает суть полемики — проблему формы и содержания.
«Мистер Тайнен упрекает меня в том, что я любыми способами извращаю “объективную реальность” (однако что такое объективная реальность? Это уже другой вопрос.) ради способа её выражения. …Иными словами, меня обвиняют в формализме». Отстаивая свою точку зрения, Ионеско говорит, что история искусства, литературы есть история способов выражения, «Подходить к проблеме литературы через изучение способов её выражения (на мой взгляд, это и следует делать критикам), означает приблизиться к их основе, понять их суть». Таким образом, критика закоснелых форм языка, при помощи которого пытаются оживить мёртвые формы, вырастает из глубины столь же объективной реальности, как и социальный реализм. «Обновить язык — значит обновить концепцию, взгляд на мир. Революция — это изменение ментальности». Поскольку всякое истинно художественное выражение — попытка сказать новое новыми способами, оно не может ограничиться только подтверждением существующих идеологий. Форма и структура должны подчиняться внутренним законам логики, и связи так же важны, как и концептуальное содержание. «Я не вижу противоречия между творческой и познавательной энергией, потому что, возможно, структуры мысли отражают универсальные структуры».
Храм или собор, хотя они не репрезентативны, открывают фундаментальные законы структуры, и их ценность как произведений искусства больше, чем их утилитарное назначение. Таким образом, формальный эксперимент в искусстве превращается в исследование действительности, более живой и полезной (потому что эксперимент расширяет понимание реального мира), чем поверхностные произведения, которые мгновенно понимают массы. В начале XX века наблюдался великий подъём такого творческого исследования, в частности, в музыке и живописи, трансформировавший наше понимание мира. «В литературе и ещё более в театре это движение закончилось, кажется, в 1925 году. Мне хотелось бы надеяться, что явится некий скромный мастер, с которого вновь начнётся это движение. Я, например, пытался облечь в конкретную форму страх… моих персонажей с помощью предметов; чтобы время и место пьесы говорили сами за себя; перевести действие в визуальный ряд; воплотить зримые образы страха, раскаяния, сострадания, отчуждения; играть словами. …Так я пытался усилить язык театра. …Надо ли за это порицать?»
Ионеско приводит доводы в пользу формального эксперимента, который, по его мнению, более соотносится с действительностью, чем социальный реализм, как это показала выставка советской живописи, которую посетил Ионеско. Скучные репрезентативные картины советских художников приветствовались местными капиталистами-филистимлянами, и более того, «художники социалистического реализма — формалисты и академики именно потому, что они обращают недостаточно внимания на форму выражения смысла и не способны передать глубину». С другой стороны, в живописи такого художника, как Массон, правда и жизнь: «Массон — мастер, ему нет дела до реальности, он не стремится овладеть ею, сосредотачиваясь только на акте живописи, и именно по этой причине реальность с её трагическими элементами беспрепятственно самораскрывается. То, что мистер Тайнен называет антиреализмом, превращается в реальность; некоммуникабельное становится коммуникативным, и в его живописи за явным отрицанием всего человеческого, конкретного и духовного всегда скрывается живое сердце. Антиформалисты же продемонстрировали истощённые формы, пустые и мёртвые. Абсолютное отсутствие чувств»7.
Полемика Ионеско и Тайнена, блестяще проведённая обеими сторонами, показала, что Эжен Ионеско никоим образом не автор всего лишь весёлых, абсурдистских пьес, как его часто представляют в критике, но серьёзный художник огромной интеллектуальной силы, посвятивший себя сложному исследованию реальных человеческих ситуаций, осознающий свои задачи.
Ионеско родился 26 ноября 1912 года в Румынии, в Слатине. Его мать — француженка, урождённая Тереза Икар. Вскоре после его рождения родители перебрались в Париж, и его первым языком стал французский. В тринадцать лет ему пришлось учить румынский, так как родители вернулись в Румынию. Его первые воспоминания и впечатления о Париже: «Мы жили на площади Вожирар. Как это было давно! Помню плохо освещённые улицы осенними и зимними вечерами. Мама несёт меня на руках; я боюсь, это обычный детский страх; мы вышли купить еды на ужин. По тротуарам движутся тёмные силуэты, люди спешат — фантомные, галлюцинирующие тени. Когда в моей памяти возникает образ этой улицы, и я думаю, что почти все эти люди умерли, всё вокруг кажется тенью. Всё недолговечно. От страха у меня кружится голова…»8
Эфемерность, страх — и театр: «… мама не могла оторвать меня от представления Панча и Джуди в Люксембургском саду. Зачарованный, я мог стоять там целыми днями. Панч и Джуди держали меня, ошеломляя зрелищем кукол, которые говорили, двигались, колотили друг друга дубинками. Это был спектакль самой жизни, необычной, неправдоподобной, но правдивее правды, в крайне упрощенной и карикатурной форме подчёркивая её гротеск и грубость…»9
Несколько лет он учился в местной ecole communale в Париже. Ему не было и девяти лет, когда у него развилась анемия, и вместе с сестрой, которая была на год младше, его отправили в деревню Ла Шапель-Антенез на полный пансион в крестьянскую семью. Он описал приезд в деревню: «Надвигающиеся сумерки; я устал; таинственный свет сельской местности; воображаю тёмные переходы “замка” — это была колокольня деревенской церкви; и затем мысль, что меня бросила мама. Я не мог побороть себя …рыдая, я уткнулся в мамину юбку»10.
В канун войны, в 1939 году, он посетил Ла Шапель-Антенез и воскресил обрывки прошлого: игру в «театр» с детьми, деревенскую школу, приятелей на ферме, ночные кошмары и странные видения «подобно фигурам с полотен Брейгеля или Босха — огромные носы, косолапые, искривлённые тела, жуткие улыбки. Когда мы вернулись в Румынию, я был слишком мал, чтобы меня посещали ночные кошмары. Но теперь призраки моих страхов являлись в других обличиях — плоские, скорее печальные, чем жуткие, с огромными глазами. Готические и византийские галлюцинации»".
Он вспоминал, что тогда мечтал стать святым, но, читая религиозные книги, которые нашлись в деревне, понял, что охотиться за славой дурно. И он отказался от мысли стать святым. Вскоре он прочел жизнеописания Тюренна и Конде и решил стать великим воином. В тринадцать лет он вернулся в Париж и написал свою первую пьесу, патриотическую драму.
Семья возвратилась в Румынию; Ионеско столкнулся с ещё более жестоким и грубым миром: «Вскоре по прибытии на мою вторую родину, я увидел молодого, крупного, здорового человека, набросившегося с кулаками на старика и топтавшего его ногами. …Мир в моём представлении эфемерен, ничтожен, отвратителен, брутален, полон тщеславия, ярости, бессмысленной ненависти. Весь мой жизненный опыт подтверждает увиденное и понятое мной в детстве: бессмысленную, отвратительную ярость, крики, внезапно нарушающие тишину, тени, навеки поглощаемые ночью…»12
В Румынии Ионеско окончил школу и поступил на французское отделение Бухарестского университета. Под влиянием Метерлинка и Франсиса Жамма он написал свои первые стихи и элегии. Отважился он заняться и литературной критикой, опубликовав уничижительные рецензии на в то время ведущих модных румынских поэтов Тудора Аргези и Иона Барбу и романиста Камила Петреску, обвинив их в узком провинциализме и отсутствии новаций. Однако спустя несколько дней он опубликовал второй памфлет, в котором возносил до небес тех же авторов, как великих универсальных личностей румынской национальной литературы. В результате он представил оба эссе одновременно под названием «No!», чтобы доказать возможность противоположных взглядов на одно и то же явление и идентичность противоположностей.
По окончании университета Ионеско стал преподавать французский язык в бухарестском лицее. В 1936 году он женился на Родике Бурилеано, изящной женщине с экзотической внешностью, нетипичной для восточной Европы. Её восточная красота породила слухи, будто жена Ионеско — китаянка. В 1938 году Ионеско получил правительственный грант, давший возможность уехать во Францию для работы над диссертацией «Темы греха и смерти во французской поэзии после Бодлера». Он вернулся во Францию, но не написал ни единой строчки этого великого труда.
Весной 1939 года он посетил Ла Шапель-Антенез, чтобы вспомнить детство. Он записал в дневнике: «Я пишу, пишу, пишу. Всю свою жизнь я пишу; ничего другого не могу делать13 …Кому это может быть интересно? Моя печаль, моё отчаянное стремление к общению? Это никому не интересно. Я безвестен. Никто. Если бы я был писателем, фигурой общественно значимой, я, вероятно, мог бы вызывать интерес. Ко всему прочему я такой же, как все. Каждый может узнать себя во мне»14.
Когда разразилась война, Ионеско находился в Марселе. Позднее он возвратился в Париж и работал в производственном отделе издательства. В 1944 году у него родилась дочь Мари-Франс. Закончилась война, Ионеско было почти тридцать три года. Ничто не предвещало, что вскоре он станет известным драматургом. Надо сказать, он очень не любил театр: «Я читал беллетристику, эссе, с удовольствием ходил в кино. Время от времени слушал музыку, посещал художественные галереи, но с трудом выносил театр»15.
Почему театр вызывал у него антипатию? Мальчиком он любил театр, но разлюбил, у него «выработалось критическое чутьё. Я узнал об условности, грубой условности театра». Игра актёров приводила его в замешательство, сбивала с толку. «Посещение театра для меня означало, что я пришёл смотреть на серьёзных людей, игравших спектакль о себе». Ионеско любил беллетристику и был убеждён, что правда вымысла выше реальности. Тем не менее, он принимал кино. В театре «присутствие людей из плоти и крови приводило меня в недоумение. Их материальность разрушала вымысел. Как будто меня сталкивали лицом к лицу с двумя планами реальности — конкретной, материальной, нищей, пустой, ограниченной реальностью этих живых, обыкновенных людей, говоривших и двигавшихся по сцене, и реальностью воображения; они не совпадали и были не в состоянии вступить в отношения друг с другом; антагонистические миры, неспособные соединиться»16.
Вопреки своей нелюбви к театру, почти против своего желания Ионеско написал пьесу. В 1948 году он решил изучать английский и купил учебник. В научном изыскании, позднее опубликованном в августовском номере Cahiers du College de Pataphysique,[25] тщательным текстуальным анализом было установлено, что текст, о котором шла речь, взят из учебника «Английский без усилий. Ассимилятивный метод»17. Ионеско описал, как это произошло: «Я начал работать. Добросовестно переписывал все предложения из учебника для начинающих, чтобы их запомнить. Внимательно перечитывая, я познавал не английский, но некие удивительные истины — например, что в неделе семь дней, но я это уже знал; пол — внизу, а потолок наверху, это я тоже знал, но никогда об этом не задумывался или забыл об этом, и вдруг всё это мне показалось ошеломительным и бесспорным»18.
Поскольку уроки усложнялись, появились два новых персонажа, мистер и миссис Смит: «К моему удивлению, миссис Смит сообщала мужу, что у них есть дети, что живут они в пригороде Лондона, их фамилия — Смит, мистер Смит — клерк, у них есть служанка Мери, которая, как и они, англичанка. …Мне пришло в голову, что утверждения миссис Смит — неопровержимые аксиомы, а способ изложения носит картезианский характер. Но что было поистине замечательным в учебнике, так это в высшей степени систематический подход к поискам истины. Пятый урок включал друзей Смитов — семейство Мартинов, которые пришли к ним в гости. Четверо начинали разговор сразу же с основной аксиомы, на которой строились более сложные истины: в деревне жить спокойнее, чем в большом городе…»19
Комическая ситуация теперь проявлялась в диалоге: две супружеские пары торжественно сообщали друг другу, что им было известно изначально. Затем «последовал странный феномен. Не знаю, каким образом, текст начал на моих глазах незаметно меняться независимо от меня. Простые, абсолютно ясные фразы я старательно переписывал в свою… записную книжку, предоставляя их самим себе. Через какое-то время среди них началось брожение, они потеряли свой первоначальный смысл, расширились и вышли за пределы». Клише и трюизмы бесед из учебника, которые когда-то имели смысл, теперь стали пустыми и косными и открывали путь псевдоклише и псевдотрюизмам; распавшиеся на составные части беседы оборачивались несусветной карикатурой и пародией, и в результате язык разрушался, превращаясь в бессвязные обрывки слов».
«Когда я писал пьесу, боясь, что моя работа превратится в ничто, и я вместе с ней (это становилось своего рода пьесой, или антипьесой, пародией на пьесу, комедией комедии), я заболевал, у меня начинались головокружение и тошнота. Я вынужден был время от времени прерывать работу, задавая себе вопросы, какой чёрт меня попутал, ложился на кушетку в страхе, что моя работа сводится к нулю, и я вместе с ней»20.
Так родилась первая пьеса Ионеско; вначале он хотел назвать её «Английский без усилий», затем «Английский час», но в итоге пьеса получила название «Лысая певица».
Ионеско прочёл пьесу друзьям. Они нашли её смешной, но он считал, что написал серьёзную пьесу «о трагедии языка». На читке присутствовала Моник Сен-Ком, переводчица с румынского языка. В то время, это был конец 1949 года, она работала с авангардистской труппой, которую возглавлял Николя Батай, и попросила Ионеско дать ей рукопись.
Двадцатитрёхлетнему Николя Батаю пьеса понравилась, и он захотел встретиться с автором. Ионеско пришёл в крошечный Theatre de Poche. Николя Батай записал эту встречу: «…традиция предписывает, что я должен рассказать о своём первом впечатлении о нём. Придерживаясь её, скажу, что он показался мне похожим на мистера Пиквика. Я сообщил ему, что мы хотим поставить его пьесу. Он ответил, что это невозможно. Он уже смирился с неуспехом — пьесу, среди других, отклонил Жан-Луи Барро и… Comedie Frangaisel»21
Сначала режиссёр предпринял попытку поставить пьесу в преувеличенно пародийном стиле. Из этого ничего не вышло. В итоге решили, что для полного эффекта текст должен быть сыгран предельно серьёзно, как пьесы Ибсена или Сарду. Надо сказать, что сценографу Жаку Ноэлю Батай даже не дал читать пьесу, сказав, что нужна гостиная для «Гедды Габлер». Другой пример: концепция английского характера была почерпнута из романов Жюля Верна, у которого англичане обладали своеобразной внешностью и невозмутимостью, а оригинальные иллюстрации чопорных, с бакенбардами фигур в изданиях Хетцеля завораживали.
Название пьесы возникло на репетициях; в длинной, не имеющей смысла «истории о насморке», которую рассказывает брандмайор, фигурирует блондинка учительница (institutrice blonde). На прогоне Анри-Жак Юэ, игравший брандмайора, ошибся и произнёс вместо блондинки учительницы «лысая певица» (cantatrice chauve). Ионеско, присутствующий на репетиции, немедленно заявил, что надо назвать пьесу «Лысая певица». Такое название лучше, чем «Английский без усилий» или «Причуды Биг Бена» (одно время Ионеско так хотел назвать пьесу). В итоге пьеса стала называться «Лысая певица». Лысая певица возникает в финале десятой сцены, когда брандмайор сбивает всех с толку, спрашивая о лысой певице. После тягостного молчания получает ответ, что у неё прежняя причёска.
Ещё одно важное изменение, произошедшее в ходе репетиций, — новый финал. Первоначально Ионеско намеревался после последней ссоры супружеских пар оставить сцену пустой. «Подсадные утки» из публики начинали шикать и возмущаться. Выходил администратор с полицейскими. Они открывали по публике «пулемётный огонь», а администратор и сержант полиции обменивались рукопожатием. Для этого надо было ввести дополнительно актёров, увеличив затраты на спектакль. В качестве альтернативы Ионеско планировал, чтобы в разгар ссоры служанка провозглашала «Автора!», после чего появлялся автор, актёры почтительно отступали и аплодировали ему. Автор подходил бы энергичным шагом к рампе и, размахивая кулаками, кричал в публику: «Банда обманщиков! Я вам покажу!» Но потом Ионеско решил, что такой финал «слишком полемичен» и, вероятно, не придумав другого финала, решил, что пьеса начнётся снова.
«Лысая певица» с подзаголовком «антипьеса» впервые была представлена 11 мая 1950 года в Theatre des Noctambules. Она встретила холодный приём. Только Жак Лемаршан, обозреватель Combat, и драматург Арман Салакру отозвались благосклонно. Денег на рекламу было мало, и за час до начала актёры ходили по улицам подобно «человеку-сэндвичу» с объявлением о спектакле. Но театр почти всегда пустовал. Неоднократно, когда набиралось менее трёх человек, им возвращали деньги, а актёры расходились. Через шесть недель спектакль закрыли.
Для Ионеско эта первая встреча с живым театром стала поворотным пунктом. Он не только удивлялся, слыша смех публики, считая, что это трагический спектакль о жизни, доведённой до бесстрастного автоматизма буржуазными нормами и закоснелостью языка; его глубоко волновало, что создания его воображения обрели плоть и кровь: «Невозможно противостоять желанию увидеть на сцене персонажей, которые одновременно и реальны, и выдуманы. Невозможно побороть желание увидеть их заговорившими. Воплотить фантомы, дать им жизнь — удивительная, ни с чем не сравнимая авантюра; я был сражён на репетициях моей первой пьесы, вдруг увидев на сцене персонажей, порождённых мною. Я испугался. Какое право я на это имел? Позволено ли сие? В этом было что-то дьявольское»22.
Неожиданно Ионеско реализовал предначертанное ему судьбой — писать для театра. Его смущали попытки актёров идентифицироваться с персонажами, его это коробило, как и Брехта, но он не принимал и метод Брехта, который «превращал актёра в пешку на шахматной доске», делая его безликим. Теперь это происходило с его пьесами, что было для него нелегко: «…если театр и приводил меня в замешательство преувеличениями и огрублением нюансов, то потому, что это делалось в недостаточной мере. Казавшееся слишком грубым, было недостаточно грубым; казавшееся недостаточно тонким, в действительности было слишком тонким. Если суть театра в усилении эффектов, их необходимо усиливать, подчеркивать, выделять, как можно сильнее. Толкать театр в промежуточную зону, не относящуюся ни к театру, ни к литературе, — значит возвращать его к готовым схемам, к естественным ограничениям. Надо не маскировать нити, посредством которых двигаются куклы, но сделать их ещё более заметными, не бояться открыть их, дойти до самых основ гротеска, до карикатуры, выйти за пределы тусклой иронии остроумных салонных комедий… свести всё к пароксизму, источнику трагического. Создать театр ярости — неистово комический, неистово драматический»23.
Далее Ионеско аргументировал: чтобы добиться этого, надо разработать тактику сокрушительных ударов; сама действительность, сознание зрителя, его привычный орган мышления — язык — должны быть перевёрнуты, сдвинуты, вывернуты наизнанку так, чтобы зритель внезапно по-новому воспринял реальность. Так Ионеско, неутомимый критик Брехта, фактически постулирует более радикальный, более фундаментальный эффект остранения. Его не устраивал брехтовский стиль игры, «недопустимое смешение правды и фальши», приводившее не к остранению, а к развязной симуляции реальности.
«Лысая певица» (The Bald Soprano в США, The Bald Prima Donna в Англии) широко ставилась и публиковалась, и нет необходимости излагать детально её содержание. Некоторые моменты пьесы общеизвестны: часы, показывающие неверное время, классическая сцена узнавания супругами друг друга: путём искусно выстроенных логических умозаключений к своему величайшему удивлению они приходят к выводу, что живут на одной улице, в одном доме, на одном этаже, спят в одной постели и являются мужем и женой. (Рассказывают, что эта сцена родилась из случая, когда Ионеско и его жена вошли в вагон метро через разные двери и страшно удивились, увидев друг друга.)24
Нет сомнений по поводу замысла и идеи пьесы. Ионеско признавался, что у него не возникало идей прежде, чем он начинал писать пьесу; множество её концепций у него появлялось после окончания работы над пьесой25. В сущности, это трагикомическая картина жизни эпохи, когда «мы не можем более уходить от вопроса, что делаем на этой земле и как, серьёзно не осознавая своей судьбы, выдерживаем сокрушительную тяжесть материального мира. …Когда нет причины для злости, и все добры, что нам делать с нашей добротой или нашей незлобивостью, нашей щедростью, с нашим беспредельным безразличием? У персонажей “Лысой певицы” нет потребностей и осознанных желаний; они скучные зануды. Они смутно это ощущают, поэтому финальный взрыв бесполезен, так как персонажи и ситуации статичны и взаимозаменяемы. Все заканчивается на том, с чего началось»26.
Пьеса направлена против того, что Ионеско называл «универсальной мелкобуржуазностью… персонификацией общепризнанных идей и лозунгов, повсеместным конформизмом». Он возмущается нивелированием личности, массовыми лозунгами и избитыми идеями, которые все более и более низводят наше массовое общество до сборища управляемых из центра роботов. «Смиты, Мартины не могут разговаривать, потому что они не могут думать; они не могут думать потому что, их ничто не трогает, они пассивны. Они не могут жить; они могут «стать» кем угодно, чем угодно; потеряв идентичность, они присваивают чужую… они взаимозаменяемы»27.
Мы живём в мире, утратившем свой метафизический объём и, следовательно, всякую тайну. Чтобы вернуть ощущение тайны, мы должны научиться видеть банальность во всем её омерзении: «Ощутить абсурдность банальности и языка, их фальшь — уже продвинуться вперёд. Чтобы сделать этот шаг, мы должны раствориться во всём этом. Комическое есть необычное в его первозданном виде; более всего меня изумляет банальность; скудость наших ежедневных разговоров — вот где гиперреальное»28.
Страсть к театру, испытываемая Ионеско в детстве, вспыхнула вновь, и он рискнул стать актёром. Он принял предложение режиссёра La Cantatrice Chauve Никола Батая и известного театрального педагога и режиссёра Акакии Виала сыграть Степана Трофимовича в их инсценировке «Бесов» Достоевского. Он всегда считал, что актёрская профессия требует неимоверных усилий, граничащих с абсурдом или с особой святостью; теперь он узнал, что она представляет: «принять в себя другого человека, когда уже трудно выносить себя; с помощью режиссёра понять его, когда не понимаешь себя»29.
Ионеско не нравился персонаж, которого он взялся играть: «он другой, и, позволив ему вселиться в меня, я получил представление о вселении и изгнании бесов, о потере себя и отторжении от своей личности, которая мне не так уж и нравится, но к которой, тем не менее, я привык»30. Однако после многих попыток уйти из спектакля, не сделав этого только из чувства долга, в какой-то момент он понял, что, отказавшись от своего «Я», растворившись в Степане Трофимовиче, он нашёл себя, ощутив себя по-новому: «Я понял, что каждый из нас — все; что моё одиночество не абсолютно и что актёр может лучше, чем кто-либо, понять людей, поняв себя. Узнав об этом в процессе постижения актёрской игры, я в каком-то смысле научился принимать, что ты — это другие, и все одиночества идентичны»31.
Участие в спектакле помогло Ионеско проникнуть в суть актёрской профессии.
Последний спектакль «Бесов» в Theatre des Noctambules был сыгран 18 февраля 1951 года. Через два дня в маленьком Theatre de Poche состоялась премьера второй пьесы Ионеско «Урок», написанной в июне 1950 года. Как отмечал Жак Лемаршан, часть зрителей была обескуражена: после «Лысой певицы», где не было ни певицы, ни лысых, ожидалось, что «Урок» не будет уроком. К их удивлению пьеса представляла часовой урок, безусловно, странный, но всё же урок: пожилой профессор занимался с жаждущей знаний, но бестолковой ученицей. Это был урок географии, дополненный таблицей умножения, лингвистикой и другими предметами. Короче, как писал Жак Лемаршан, это был почти «точно воспроизведённый урок, который дал маршал Фош в военной школе»32.
В «Уроке», как и в «Лысой певице», речь идёт о языке. Но не только в длинных рассуждениях о группе новоиспанского языка, с массой существующих и придуманных наречий, отличающихся на слух тончайшими нюансами. Французское слово «grandmere» (бабушка) так же произносится по-испански, по-румынски, по-сарданапальски, и всё же между ними есть различие. Если два человека произносят «бабушка», то только кажется, что они произносят одно слово. Это произносят разные люди! Профессор со знанием дела объясняет, что если итальянец говорит «моя страна», он имеет в виду Италию, но если это произносит житель Востока, он имеет в виду Восток. Одно и то же слово означает разные понятия. Это доказательство элементарной невозможности коммуникации: слова не могут передать смысл, потому что не вызывают личных ассоциаций. В этом одна из причин, почему профессору кажется, что он не может ничего добиться от ученицы. Их мысль работает в разных направлениях и никогда не сойдётся. Ученица постигла сложение, но не понимает вычитание, она мгновенно умножает астрономические цифры, признавшись озадаченному профессору, что она выучила наизусть все существующие в мире таблицы умножения. Но считать может только до шестнадцати.
«Урок» скорее касается проблемы языка, чем трудностей коммуникации. Язык в пьесе — инструмент власти. По мере развития действия в живую ученицу вселяется тревога, и она начинает терять энергию. Профессор, вначале робкий и нервный, постепенно становится твёрдым и властным. Очевидно, что уверенность профессора возрастает потому, что он даёт урок и может произвольно трактовать любое явление. Поскольку слова получают тот смысл, какой он решает им придать, ученица подпадает под его власть. Её конкретное театральное выражение в том, что профессор насилует и убивает ученицу. В свою очередь над профессором, подобно злобной мамаше, властвует служанка. Когда он набрасывается на неё с ножом, которым он убил девочку, она не реагирует, не будучи его ученицей. В финале служанка резюмирует: «Арифметика приводит к филологии, а филология — к преступлению…»
Сдача позиций проявляется во внезапной сильной зубной боли. «Вот он, последний симптом», — возвещает служанка. В некотором смысле зубная боль символизирует утрату ученицей способности говорить, утрату дара языка и победу материального над духовным. Постепенно у ученицы начинают болеть все части тела, приводя к окончательному физическому порабощению, что позволяет профессору вонзить в неё нож с последним наставлением: «Нож убивает».
Сексуальная подоплёка кульминационного момента пьесы очевидна. Ученица падает на стул «в непристойной позе, широко расставив ноги. Профессор стоит перед ней спиной к публике». Из убийцы и жертвы одновременно вырывалась «А-ах!» В спектакле Марселя Кювелье ритмично повторяемое убийцей жертве ключевое слово «нож» недвусмысленно говорило об оргазме.
Пьер-Эме Тушар доказывал, что «Урок» в карикатурной форме отображает власть, всегда присутствующую в отношениях учитель-ученик. Профессор убивает девочку, потому что её зубная боль позволяет ей не слушать учителя. Это, в соответствии с прямолинейной интерпретацией Тушара, в свою очередь, — символ всех видов диктатуры. Когда диктаторы чувствуют, что их власть над народом сходит на нет, они уничтожают непокорных, теряя таким образом власть33. Эта интерпретация несколько рационалистична, хотя повязка со свастикой, которую в финале служанка надевает на руку профессора, подкрепляет такую точку зрения. Политический смысл власти в «Уроке» определённо присутствует, но, вероятно, лишь как второстепенный аспект основной проблемы: сексуальная природа всякой власти и отношение языка и власти как основы всех человеческих связей. Профессор обладает властью над ученицей, но сам находится под властью служанки, которая смотрит на него глазами любящей матери, даже если и не одобряет поступки избалованного капризного дитяти, балуя его и не замечая его восхитительные шалости. Несомненно, соль пьесы в том, что у учениц всегда болят зубы, а профессора всегда насилуют и убивают их. Мы свидетели сорокового убийства этого дня. Пьеса заканчивается приходом на урок сорок первой жертвы.
Таким образом, любая власть проявляет свою сексуальную, садистскую природу. Ионеско утверждает, что даже в столь безобидных отношениях, как учитель-ученик, есть насилие и господство, агрессивность и собственнические инстинкты, жестокость и похоть — составные черты власти. Техника нелитературного театра, позволяющая автору и режиссёру вольно обращаться с текстом пьесы, даёт возможность вскрыть истинное содержание. Язык, несущий информацию в форме вопроса и ответа, позволяет действию стать яростнее, чувственнее и грубее. При всей сложности совокупной информации в пародийной форме, от концепции остаётся основной факт — профессор хочет властвовать и обладать ученицей. Ионеско определил жанр «Урока» как комическую драму. Несомненно, это очень смешная, но и жёсткая, пессимистическая драма.
Подобную тему Ионеско разрабатывает в пьесе, написанной вслед за «Уроком» летом 1950 года, — Jacgues, ои la Soumission. В американском варианте пьеса называется «Жак, или Подчинение», в английском — «Жак, или Повиновение». Человек под давлением общества и сексуального инстинкта становится конформистом. Сначала Жак отказывается употреблять слова, подтверждающие, что он признаёт нормы своей семьи, все члены которой, как и он, носят имя Жак. Такой же отказ от индивидуальности мы видим в семье Бобби Уотсонов в «Лысой певице», символизирующий конформизм мелкобуржуазного семейства. Некоторое время Жак восстаёт против нажима семьи, не желая произносить роковые слова. Он даже кричит: «О, слова, сколько преступлений совершается вашим именем!» Но когда его сестра Жаклин говорит, что он «chronometrable», то есть, вероятно, существующий, как часовой механизм, он не выдерживает и, в итоге, изрекает фамильное credo: «J'adore les pommes terre au lard». В английском переводе — «Я обожаю картошку в мундире». В американском варианте — «Я обожаю жареную картошку», но с таким же успехом это может означать «Я обожаю картошку с беконом», как в пьесе «Будущее в яйцах».
Признание буржуазного кредо мятежным, в недавнем прошлом богемным сынком, во французской традиции — сигнал к обретению равновесия и скорой свадьбе. Следуя этой традиции, Жак соединяется с дочерью семейства Робер, Робертой, девицей с двумя носами. Жак ещё раз выказывает неподчинение: ему мало двух носов, ему требуется жена с тремя носами, и его не останавливает слишком высокая цена носовых платков, которых потребуется уже три. Хотя Роберта с двумя носами — единственная дочь в семействе, они находят выход, предъявив другую «единственную дочь» — Роберту II, у которой три носа. Но и она не удовлетворяет бунтарский дух Жака: она для него недостаточно уродлива. Он не сможет её полюбить: «Я сделал всё, что в моих силах! Я такой, какой есть…» Однако, оставшись наедине с Робертой II, он сдаётся. Роберта покоряет его, рассказав свой сон о морской свинке, производившей потомство в ванне. Неожиданно он сообщает ей о своём тайном желании стать другим. Разговор поднимается до образов огня (что несколько напоминает стихи о пожаре, которые читает служанка в «Лысой певице») и возвращается к Роберте, сообщающей о своей влажности. Жак восклицает: «Очарова-а-тель-но!», и возникает знаменитый диалог, в котором любовники стремительно перебрасываются словами, со слогом «chat» (кот) с явным эротическим смыслом — от cha-peau (шляпа) до cha-touille (щекотка) и cha-pitre (глава в книге), и продолжается до тех пор, пока Роберта не объявит, что впредь всё без различия будет называться chat. Жак и Роберта обнимаются, входит семейство и непристойно вокруг них приплясывает. Жак и Роберта опускаются на пол, приглушается свет, сцена наполняется животными звуками. В ремарке указано: «Это должно вызывать у публики смущение, неловкость и стыд».
Жак подчиняется дважды, сначала семейному буржуазному конформизму и, вторично и окончательно, — непреодолимому сексуальному инстинкту, ускорившему его переход под железную пяту заплесневелого конформизма.
Эта тема усиливается в следующей пьесе Ионеско, выросшей из рассказа «Будущее в яйцах, или Всякие люди бывают» (1951). Пьеса начинается с продолжения оргии «chat» и заканчивается тем, что Роберта производит несметное количество яиц, заполняющих доверху корзины. В будущем этим яйцам предназначено стать императорами, полисменами, марксистами, пьяницами, чтобы затем превратиться в колбасный фарш, пушечное мясо, омлеты. «Да здравствует производство! Да здравствует белая раса!». Этим отчаянным воплем заканчивается пьеса.
Кошмар изобилия, — вторжение на сцену постоянно возрастающего количества людей или предметов в пьесе «Будущее в яйцах» — один из самых характерных образов драматургии Ионеско. Образ, выражающий ужас перед непреодолимой задачей совладать с жизнью, одиночеством, перед их чудовищным размахом и продолжительностью. Это тема и «Стульев», написанных приблизительно одновременно со второй частью «Жака» (апрель-июнь 1951 года), одним из величайших достижений Ионеско.
В круглой башне на острове (напоминает «Конец игры» Беккета) живёт престарелая супружеская пара. Ему девяносто пять лет, ей девяносто четыре; муж — консьерж, хотя трудно представить его обязанности в пустой башне. Старики ожидают приезда известных людей, приглашённых выслушать послание, с которым старик собирается обратиться к будущим поколениям. Послание — плод его жизненного опыта. Сам он не оратор, поэтому приглашён профессионал, который должен зачитать послание. Прибывают гости. Они невидимы, но старики заполняют сцену стульями, чтобы рассадить гостей, занимая их потоком светской болтовни. Старикам становится трудно передвигаться среди стульев. Наконец, прибывает сам император. Все ждут оратора. Он является. Это реальный персонаж. Довольные, что послание будет зачитано, старик, а вслед за ним жена, бросаются в море. Оратор обращается к стульям, пытаясь что-то произнести, но он глухонемой и издаёт только булькающие звуки. Он что-то пишет на доске, но это всего лишь бессмысленное нагромождение букв.
Сила и острота этой ситуации в её действенности и театральности. Воображаемая толпа невидимых персонажей — потрясающий ход, дающий возможность актёрам, если им это по плечу, создать выразительную сценическую зрелищность. «Стулья» — поэтический образ, рождённый жизнью, — сложный, неоднозначный, многомерный. Красота и глубина образа, как символа и мифа, превышает количество интерпретаций. Конечно, он несёт в себе тему некоммуникабельности; конечно, он драматизирует бесполезность и несостоятельность жизни, сносной только благодаря самообману и восхищению впавшей в детство, не допускающей критики жены; конечно, он высмеивает пустоту светских бесед, механический обмен банальностями. В пьесе сильный элемент трагедии автора: ряды стульев напоминают театр; оратор-профессионал в романтических одеждах середины XIX века, который должен зачитать послание, интерпретатор, вставший между драматургом и публикой. Но послание бессмысленно, публика — ряды пустых стульев — яркий образ абсурдной ситуации художника.
Все эти темы переплетены в «Стульях». Ионеско определил основную задачу в письме к первому постановщику пьесы Сильвану Домму: «Тема пьесы — не послание, не несостоявшаяся жизнь, не моральная катастрофа двух стариков, но сами стулья; то есть отсутствие людей, отсутствие императора, отсутствие Бога, отсутствие смысла, нереальность мира, метафизическая пустота. Тема пьесы — небытие …невидимые элементы должны всё более и более становиться реальными (придать нереальность реальности должна реальность, приведённая к нереальности), пока не будет достигнута цель и конкретно выражена: логически оправдать невозможное, когда нереальные элементы говорят и волнуют… и небытие можно услышать…»34
«Стулья» — третья пьеса Ионеско, увидевшая свет рампы без затруднений. Пьесу ставил Сильван Домм с актёрами Циллой Шелтон и Полем Шевалье. Три месяца ушло на поиски стилистики — соединения предельно натуралистических деталей и необычного замысла. Ни один из известных парижских театров не пожелал рисковать, чтобы поставить «Стулья». Актёры сами арендовали старый заброшенный зал Theatre Lancry, в котором 22 апреля 1952 года они сыграли премьеру, потерпев финансовый крах. Зачастую стулья пустовали на сцене и в зале; случались спектакли, когда удавалось продать пять или шесть билетов. Большинство критиков разнесли пьесу в пух и прах, но были и горячие сторонники. Журнал Arts взял на себя защиту «Стульев», опубликовав статью за подписью Жюля Сапервилля, Артюра Адамова, Сэмюэля Беккета, Люка Эстана, Клары Мальро, Раймона Кено и других. На последнем спектакле поэт и драматург Одиберти слышал, как в почти пустом зале кто-то во всю мощь своего голоса кричал «Браво!»
Четыре года спустя, когда Жак Макло поставил «Стулья» с Циллой Шелтон в роли старухи, атмосфера изменилась. Спектакль в Studio des Champs-Elysees имел огромный успех. Ведущие критики консервативного направления такие, как Ж.-Ж. Готье из «Фигаро», были все ещё настроены против Ионеско. Но Жан Ануй встал на защиту; назвав пьесу шедевром. Он суммировал: «Я считаю её лучше пьес Стриндберга, потому что в ней есть чёрный юмор, как у Мольера; до известной степени всё ужасно смешно, потому что приводит в ужас, но это и комично, и трогательно, и всегда правда; если не считать немного старомодного авангардизма в финале, который мне не понравился, это классика»35.
Ионеско определил жанр «Стульев» как трагический фарс; «Жак, или Подчинение» — как натуралистическую комедию. Следующую пьесу — «Жертвы долга» — он определил как псевдодраму. Эта пьеса менее удачна, чем две предыдущие, но, безусловно, это одно из его самых значительных высказываний.
«Жертвы долга» — пьеса о драматургии; аргументация за и против проблемной драмы: «Все пьесы, от древнегреческих до современных, ничто иное, как триллеры. Драма всегда реалистична и почти всегда детектив. Любая пьеса — расследование, успешно завершающееся. Загадка, которая разгадывается в последней сцене»36.
Даже классическая французская трагедия, как заявляет Шуберт, герой «Жертв долга», в конечном итоге, может быть сведена к изысканной детективной драме.
Мелкий буржуа Шуберт тихо проводит вечера с женой, штопающей носки. Его взгляды на театр немедленно обращаются в тест. Приходит детектив. Ему нужны соседи, но они отсутствуют. Детективу требуется узнать, как произносится фамилия жильцов, которые до Шубертов нанимали эту квартиру, — Маллот или Маллод. Шуберты приглашают симпатичного молодого человека зайти к ним. Прежде, чем Шуберт поймёт, кто это, он трижды становится его жертвой. Он никогда не знал Маллота или Маллода, но его заставляют покопаться в подсознании: оно должно дать ответ на вопрос. Детектив превращается в психоаналитика; так демонстрируется идентичность детективной пьесы и психологической драмы.
Шуберт все глубже и глубже погружается в бездонный колодец подсознания, его жена Мадлен также претерпевает перемены: сначала она соблазнительница, затем старуха и в итоге — любовница детектива. Шуберт настолько глубоко уходит в подсознание, что минует звуковые и световые барьеры и исчезает из поля зрения. Он возвращается ребёнком; Мадлен превращается в его мать, детектив — в отца. Ситуация меняется вновь: в центре внимания Шуберт и драма его поисков в подсознании; Мадлен и детектив — его публика. Но он находит лишь зияющую дыру. Он слишком погрузился в подсознание, и все его попытки вернуться, приводят к тому, что он взлетает всё выше и выше, парит над Монбланом, его подстерегает опасность навсегда остаться в воздухе. Возникают новые персонажи. В углу сидит молчаливая дама, к которой изредка обращаются с вежливым «Не правда ли, мадам?» и бородатый человек Николай Вто-Рой (не путать с последним русским царём Николаем Вторым), который переводит разговор на театр. Шуберт же продолжает свои бесполезные поиски Маллота.
Николай ратует за новый, современный театр, который находится «в гармонии с общей тенденцией других проявлений современного духа… Мы избавимся от принципа идентичности и единства характера… Сюжет и мотивации не стоят внимания…никакой драмы, никакой трагедии; трагическое превращается в комическое, комическое — в трагическое, и жизнь делается веселее…»37. Разумеется, это известные взгляды самого Ионеско, пародийно преподнесённые. Николай признается, что сам он писать не хочет и добавляет: «У нас есть Ионеско, и этого достаточно»38.
Тем временем детектив кормит Шуберта, впихивая в него огромное количество хлеба, чтобы заткнуть зияющую дыру его памяти. Неожиданно Николая Вто-Рого выводит из равновесия детектив; в страхе за свою жизнь он съёживается, но Николай безжалостно всаживает в него нож. Детектив умирает с криком «Да здравствует белая раса!». Мадлен приносит чашки с кофе и повсюду их расставляет. Заполнив сцену чашками, она напоминает, что они все ещё не нашли Маллота. Николай, заменив детектива, впихивает хлеб в протестующего Шуберта. Он, как и прежде детектив, лишь исполняет свой долг. Он жертва долга, как Шуберт и Мадлен. Они все жертвы долга. В чем их долг? По всей вероятности, решение этой загадки содержится в начале пьесы. Любой ценой персонажи должны найти ответ на вопрос, оканчивается Маллот на «т» или на «д». Ибо мы в царстве псевдодрамы.
«Жертвы долга» — одна из любимых пьес Ионеско. Она трактует важную для него проблему: задачи театра и его границы. Детектив-психоаналитик символизирует возможность разгадки тайн жизни. Он заявляет: «Что касается меня, я следую логике Аристотеля, верен себе и своему долгу, почтителен к начальству… Я не верю в абсурд; всё логично, и со временем все можно понять… благодаря достижениям человеческой мысли и науки»39. Но Шуберт, как бы глубоко он ни погружался в подсознание, не может найти объяснения; перед ним зияющая дыра пустоты. Подсознание не способно раскрыть тайны бытия; оно открывает путь в преисподню, в абсолютную пустоту.
Серж Дубровский акцентировал внимание на том, что, возможно, самый глубокий анализ сделан Ионеско именно в этой пьесе: психоанализ Фрейда противопоставлен экзистенциалистской онтологии и психологии Сартра. Намеренно или нет, — это станет известно позднее — Ионеско иллюстрирует утверждение Сартра: человек — «дыра в бытии» и представляет собой «бытие, через которое ничто входит в мир»40, и «сознание есть бытие, в котором его бытие осознаётся через ничто бытия»41. Человек — ничто, потому что он обладает свободой выбора и, следовательно, он всегда пребывает в состоянии выбора, скорее в потенциальной возможности бытия, чем в истинном бытии. Поэтому огромное количество хлеба, которое детектив, а затем Николай Вто-Рой запихивают в Шуберта, не может, как считает Дубровский, уничтожить зияющую дыру в сознании Шуберта или «дать идею субстанционального существования»42.
И снова цитируется Дубровский: «Если сознание — ничто, тогда личность и характер исчезают окончательно»43. Если человек может делать выбор заново на каждой стадии своей жизни, то концепция характера личности как конечная предельная субстанция, согласно Платону, исчезнет. Как говорит в «Жертвах долга» Николай Вто-Рой: «Мы — это не мы. Личности не существует. В нас только совместимые или несовместимые силы. …Характеры теряют форму в бесформенности становления. В каждом из нас сидит другой». Это подтверждается блистательно изображённой последовательностью погружения Шуберта в глубины подсознания и его финального взлёта в эмпиреи. Шуберт, достигая различных уровней погружения в глубины подсознания и взлётов, приходит в замешательство от такого разнообразия непохожих и непоследовательных состояний. Характер его жены Мадлен также претерпевает ряд изменений. И не только потому, что он видит каждый раз другую Мадлен, находясь на разных уровнях, но и потому, что она превращается в другую личность в соответствии с изменениями его характера. К примеру, когда он превращается в ребёнка, она становится его матерью и т. д.
Дубровский строит свое эссе на предположении, что Ионеско иллюстрирует психологию Сартра и пародирует психоанализ Фрейда. Не исключено, что Ионеско пародирует и Сартра, и Фрейда. Убив детектива-фрейдиста, Николай Вто-Рой, собиравшийся обсуждать изменчивость характера, возобновляет поиски Маллота, запихивая хлеб в Шуберта. То есть обе точки зрения взаимозаменяемы. Маленький человек Шуберт одинаково страдает от тирании детектива и Николая Вто-Рого. Воспринимать Ионеско слишком серьезно опасно. С другой стороны, многое в его творчестве говорит о том, что он следует принципам антипсихологической драмы, не признавая готовых решений проблем, чтобы озадачить; отказывается от священной концепции характера как сути личности. Эту точку зрения излагает Николай Вто-Рой. Но для Ионеско, автора эссе «No!» об идентичности противоположностей, написанного в молодые годы, не составило труда сохранять веру и одновременно пародировать её.
Однако «Жертвы долга» не только пьеса о театральной теории Ионеско, первое из такого рода эссе в традициях «Версальского экспромта» Мольера. Но и не только психологическое и философское исследование или пародия на подобные исследования; это навязчивый кошмар, глубоко прочувствованное и мучительное выражение жизненного опыта автора, познавшего абсурдность и жестокость жизни. Как Кафка и Беккет, Ионеско, в первую очередь, пытается передать своё ощущение жизни, сказать людям, что они чувствуют то же самое, и когда он говорит «я» или «Я жив», это означает для него то же, что и для них. Это «исходная точка» его творчества: «Два непременных состояния сознания в основе всех моих пьес. …Два главных чувства — эфемерность и тяжесть; пустота и несметное богатство божественного; нереальная прозрачность мира и его непроницаемость.
…Чувство недолговечности приводит к страданию, своего рода головокружению. Оно может переходить в эйфорию; страдание неожиданно трансформируется в свободу. …Такое состояние сознания крайне редко. …Чаще я нахожусь под властью противоположного чувства: лёгкость оборачивается депрессией, прозрачность — непроницаемостью; тяжесть мира и вселенная меня подавляют. Между мной и миром, между мной и моим «Я» завеса, непреодолимая стена. Материя заполняет всё, поглощает пространство, своей тяжестью уничтожает свободу. …Распадается речь…»44
Распространение материи — стульев, яиц, мебели в пьесе «Новый жилец» или в «Жертвах долга», чашек с кофе, которые приносит Мадлен, — одно из проявлений тяжёлого, тупого, безнадёжно депрессивного состояния сознания. Распространение материи выражает «конкретизацию одиночества, победу антидуховных сил»45. И только юмор освобождает от страдания.
«Жертвы долга» написаны в период, когда Ионеско находился в депрессии. Премьера состоялась в феврале 1953 года в постановке молодого режиссёра Жака Моклера. Впоследствии его постановка «Стульев» принесла Ионеско первый большой успех. Семь одноактных пьес Ионеско, поставленных Жаком Польери в маленьком Theatre de la Huchette в сентябре этого же года, были менее мрачные, в них больше юмора и лёгкости, чем в «Жертвах долга». Три пьесы были опубликованы: «Выставка автомобилей», «Девушка на выданье», «Мэтр». Четыре пьесы: «Знаете ли вы?», «Ужасный насморк», «Племянница-супруга» и «Большая жара» (адаптация румына Караджале), очевидно, затерялись; рукописи утрачены.
Эти изящные, по сути, кабаретные скетчи, тем не менее, характерны для Ионеско и раскрывают его технику комического. «Выставка автомобилей»46 построена на путанице, возникающей между людьми и автомобилями. Покупатель отбывает на новом автомобиле, который оказывается женщиной, и он решает жениться на ней. В выставочном зале стоит шум, как на скотном дворе. В «Девушке на выданье» комический элемент ещё более неожиданный. Дама рассказывает о своей юной невинной дочери, только что окончившей школу. Ожидание прихода юной невинности нарастает. В итоге дочь оказывается: «малым под тридцать в расцвете сил, с чёрными усами, в сером костюме»47. Столь же комический приём использован и в скетче «Мэтр». Радиодиктор и две юные пары с нарастающим нетерпением ждут появления великого человека, чтобы лично его увидеть. В английском переводе это лидер, но тогда не совсем ясно, имеет ли он отношение к литературе. Во Франции к литераторам обращаются «мэтр». Он за сценой. Диктор описывает, как в атмосфере возрастающего обожания он впадает в экстаз: целует детей, ест суп, раздаёт автографы, гладит свои брюки и т. д. Когда он, наконец, появляется, то оказывается, что это безголовое туловище48.
В начале творческого пути Ионеско предпочитал короткие или одноактные пьесы, которые могут развиваться беспрерывно. Трёхактные пьесы его связывали, он находил их искусственными. «Пьеса заканчивается, затем вновь возобновляется, снова заканчивается, снова начинается. …Не думаю, что стоит так много в неё вкладывать. В трёхактной пьесе есть что-то чрезмерное. Театру нужен очень простой замысел: единая воля, простое, предельно ясное, не требующее доказательств изложение»49. Первая попытка создания трехактной комедии «Амедей, или Как от него избавиться» подтверждает эти опасения, но именно в ней содержатся некоторые его самые навязчивые образы. Пьеса рождена сильнейшей депрессией и несёт мощный символ — распространение материи, подавляющей дух.
Герой пьесы Амедей Буччиниони, как и Ионеско, писатель. Он пишет пьесу о стариках, супружеской паре, подобных героям «Стульев». Но за пятнадцать лет он написал только две строчки:
СТАРУХА. Ты думаешь, это будет сделано?
СТАРИК. Само по себе ничего не делается.50
Амедей и его жена Мадлен (снова Мадлен, как и в «Жертвах долга») отрезаны от мира. Пятнадцать лет они не покидали своего жилища, и даже продукты им передают в корзине через окно. Но Мадлен ещё общается с внешним миром: в их гостиной стоит коммутатор, и она в определённое время дня становится кем-то вроде телефонистки. Она соединяет даже с приёмной президента республики, сообщает новые маршруты движения дорожным регулировщикам и т. д. Супруги постоянно ссорятся. Мадлен — тяжёлое, ворчливое создание. Но главное, что тяготит супругов, — труп молодого человека в соседней комнате. Пятнадцать лет назад он зашёл к ним позвонить, и, не исключено, что Амедей убил его в порыве ревности. Возможно, он и не был любовником жены. С одной стороны, как говорит Амедей, он отсутствовал, когда было совершено «преступление». С другой стороны, вероятно, это труп ребёнка, которого некогда оставил сосед на их попечение и не вернулся за ним. Но почему ребёнок умер?
Труп в соседней комнате очень активен. У него растут борода и ногти, в глазах сверкают жуткие зелёные огоньки, и мертвец растёт и растёт. Труп страдает «неизлечимой болезнью мертвецов» — геометрической прогрессией. На протяжении пьесы рост ускоряется: неожиданно открывается дверь, и гигантская нога вторгается в комнату стариков. По мере того, как растёт труп, в жилище появляются грибы — образ гниения и разложения.
Кем или чем является этот труп, который так неутомимо растёт? Короткая ретроспективная сцена прошлого даёт ключ к разгадке. Амедей и Мадлен — молодожёны. Амедей влюблён, нетерпелив, романтичен; Мадлен раздражительна, замкнута и не желает слушать любовные признания, охлаждая его пыл. Диалог откровенно эротичен; девушка считает все попытки страстного любовника оскорблением и насилием: «У вас пронзительный голос! Вы меня оглушаете! Мне больно! Не трогайте меня! С-а-дист! С-а-дист!»51 Молодой Амедей слышит звуки весны, голоса детей, Мадлен — только «ругань и кваканье лягушек». Кульминационный момент сцены — мольба Амедея о любви: «Далёкое может приблизиться. Увядшее расцвести вновь. Распавшееся — соединиться. Засохшее — зазеленеть. Мёртвое — вновь воскреснуть!» Амедей мечтает о счастье в доме из стекла, Мадлен настаивает на доме из железа. Образу лёгкости, счастья, эйфории противостоит образ тяжести, депрессии, глупости.
Труп в соседней комнате символизирует мёртвую любовь персонажей, жертву их сексуальной несовместимости. В трупе также материализуется отвращение, вина, сожаление. Он отравляет воздух гниющими и разлагающимися грибами. День ото дня, час от часу труп растёт. Амедей резонно утверждает, что гниение в доме — от отсутствия любви: «Знаешь, Мадлен, если бы мы любили друг друга, действительно любили, имело бы это всё значение?». Но Мадлен жестока и бесчувственна, суть в том, что «любовь не может помочь людям избавиться от несчастий!»52
Амедей должен избавиться от трупа, который угрожает занять всё жилище. Прилагая нечеловеческие усилия, он пытается сбросить тело из окна. В ремарке Ионеско указывает, что тело «как будто тащит за собой весь дом и тянет все внутренности из героев»53.
В третьем акте Амедей волочит тело к Сене. По дороге ему встречаются разные люди, среди которых американский солдат, вышедший из бара или борделя. Амедей объясняет этому иностранцу, языка которого он не знает, что пишет пьесу, в которой защищает живых от мёртвых; он против нигилизма, за новый гуманизм. Он, Амедей, стоит за убеждения и верит в прогресс. Сцена наполняется толпой, появляются девушки, солдаты, полицейские, и Амедей продолжает уверять всех подряд, что он стоит за социальный реализм, против дезинтеграции и нигилизма. Тем временем труп превращается в воздушный шар, и Амедей воспаряет в воздух. Мадлен хочет вернуть его назад, грибы продолжают расти, но Амедей парит в небе.
В «Амедее» показаны две стороны отношения к жизни: тяжесть и рост материи в двух первых актах и лёгкость, эфемерность в третьем акте. Когда Амедей избавляется от трупа, символизирующего мёртвую любовь, подавляющую его, он обретает лёгкость и воспаряет в небеса. Жанр пьесы Ионеско определяет, как комедию. Но это комедия освобождения, мечты о новой жизни, ставящей крест на прошлом.
Как и в «Жертвах долга», в «Амедее» Ионеско развёртывает полемику против социального реализма, и эта вторая тема проходит через всю пьесу. В какой-то момент Мадлен говорит Амедею, что труп в соседней комнате искажает его восприятие реальности, заставляет мир видеть в чёрном свете, и поэтому он не может создать социологическую пьесу. В третьем акте выясняется: то, что он писатель, для него важнее, чем общественные устремления. Как бы торжественно он ни заявлял о своей вере в прогресс и социальные обязательства, его любовь и воспоминания о прошлом, превратившиеся в труп, заставляют его вознестись, оторвавшись от земли.
В «Амедее» содержится несколько блистательных образов Ионеско. Театральный символ мощной силы и воздействия — непрерывно растущий труп, как мерило вечности. Блистательно показана клаустрофобическая частная жизнь супругов, усиленная эхом голосов, раздающихся за сценой. Приход почтальона ввергает обоих в безумный страх, заставляющий отказаться взять у него письмо. Слабость пьесы кроется в третьем акте. По сцене гоняются друг за другом солдаты и полицейские, как в финале комедий Keystone Film,[26] мешают переходу от клаустрофобии к открытости и лёгкости.
В небольшом рассказе «Орифламма»54, предварительном эскизе пьесы, события последнего акта занимают одну страницу; сюжет первых двух актов — двенадцать страниц. Последний абзац рассказа — финальное вознесение героя — более понятен, чем в драматической версии: «Я ещё слышал американцев, полагавших, что я совершаю какой-то спортивный трюк, и приветствовавших меня возгласами “Хелло, парень!”. Я сбросил вниз одежду и сигареты; полицейские поделили их между собой. Потом был только Млечный путь, орифламма, подобная священному золотозвёздному знамени Франции, вздымающемуся на ветру, которые я пересёк с головокружительной быстротой»55.
«Амедей» датирован августом 1953 года, Серизи ла Саль. Премьера состоялась в Theatre de Baby lone 14 апреля 1954 года в постановке Жана-Мари Серро. Спустя несколько недель после окончания «Амедея» Ионеско уже думал над другой пьесой и написал её за три дня (14–16 сентября 1953 года). В одноактной пьесе «Новый жилец» образ распространяющейся материи возродился с новой силой. Действие происходит в пустой комнате, заполняемой мебелью нового жильца, уравновешенного господина средних лет, поначалу казавшегося чуждым всему суетному. Он не торопится, тщательно расставляет первые предметы мебели, но в итоге оказывается погребённым под мебелью, которую сначала без устали вносят два грузчика. Затем мебель прибывает сама по себе. Из-за неё останавливается движение. Все улицы Парижа блокированы. Мебель заполняет устье Сены.
«Новый жилец» — пьеса потрясающей простоты. Диалогу (между жильцом и скандальной, жадной консьержкой, жильцом и грузчиками) отведена второстепенная роль. В первую очередь, это пьеса о предметах, приходящих в движение, подавляющих человека, погребающих его в море инертной материи. Единственный поэтический образ рождается на наших глазах и сначала воспринимается с некоторой долей удивления, затем как безжалостная неизбежность. Это демонстрация возможностей чистого театра: концепции характеров, конфликт, сюжет отсутствуют, и, тем не менее, «Новый жилец» — драма с возрастающим напряжением (mounting suspense), импульсивностью поэтической силы. Что это всё значит? Пустая комната, медленно, а затем с возрастающей скоростью заполняемая мебелью, — образ человеческой жизни, сначала полой, потом наполняющейся без конца повторяющимися впечатлениями и воспоминаниями? Или пьеса всего лишь перевод в сценическое действие клаустрофобии — погружения в гнетущую субстанцию, депрессивное настроение, которому был подвержен Ионеско?
Впервые «Новый жилец» был сыгран в 1955 году шведской труппой в Финляндии. В ноябре 1956 года премьера «Нового жильца» состоялась в Arts Theatre в Лондоне. И только в сентябре 1957 года «Новый жилец» был сыгран в Париже. Вопреки всем препятствиям, финансовым неудачам, сопутствующим первым постановкам пьес Ионеско, его известность постоянно росла. В конце 1954 года вышел первый том его «Театра», опубликованный Галлимаром, ведущим французским издателем, на решение которого повлиял поэт и романист Раймон Кено, находившийся под большим впечатлением первых опытов Ионеско. Эксперименты Кено с языком, в свою очередь, оказали влияние на Ионеско. В первом томе было опубликовано шесть пьес, и лишь одна из них, «Жак, или Подчинение», к моменту выхода тома не была поставлена в театре. Это упущение было исправлено в октябре 1955 года. Робер Постек поставил «Жака» в один вечер с пьесой Ионеско «Картина» в Theatre de la Huchette.
В отличие от «Жака» «Картина» успеха не имела. Но пьеса была напечатана в Dossiers Acenonetes du College de Pataphysique, издаваемого группой известных патафизиков, последователей Жарри и его «Доктора Фостролля». В эту группу входил Ионеско, носивший высокое звание — Трансцедентальный Сатрап; такое же звание было у Рене Клера, Раймона Кено, Жака Превера и других, входивших в это сообщество. «Картина» в переводе Доналда Уотсона была поставлена на радио и прозвучала по третьей программе Би-би-си, выходившей в эфир 11 и 15 марта 1957 года, и опубликована в четвёртом томе «Театра» Ионеско.
«Картина» — пьеса курьезная. Богатый толстяк хочет купить у художника картину. Они не могут сговориться о цене. Художник настаивает, чтобы покупатель увидел картину прежде, чем он назначит цену, но толстяк хочет решить эту проблему заранее. Художник просит за неё пятьсот тысяч франков, но беспрерывно снижает цену, и в итоге готов удовольствоваться четырьмястами франков. Теперь хитрый бизнесмен готов увидеть картину, на которой изображена королева. Он яростно её громит, художник просит взять её бесплатно. Он даже согласен заплатить толстяку деньги за её хранение.
В дело вмешивается некрасивая сестра толстяка, но брат грубо её обрывает. Когда художник уходит, ситуация резко меняется. Алиса, так зовут сестру толстяка, превращается в тирана, и толстяк превращается в напуганного школьника. Стоя перед картиной, предоставленный самому себе, толстяк, жаждущий красоты и страстей, доводит себя до безумия. В сноске56 Ионеско указывает: «Актёр должен передать эротическое возбуждение насколько это допускается цензурой, или насколько будут толерантны зрители». Когда возвращается сестра, он вновь становится старым самодуром. Он грозит застрелить сестру из ружья и, в конце концов, стреляет. Но сестра не падает мертвой, а превращается в красавицу, подобную изображённой на картине. Некрасивая соседка тоже хочет стать красавицей. В неё стреляют, и она превращается в прекрасную принцессу.
Возвратившийся художник восхищается способностью своего клиента создавать красоту силой. Он стреляется и становится Принцем Очарование. Выстрелы в воздух превращают комнату в роскошный дворец. И только толстяк остается таким же безобразным и просит публику пристрелить его.
Ионеско определяет жанр «Картины» как гиньоль, игру Панча и Джуди. Провал пьесы в 1955 году он объясняет тем, что первая часть пьесы, спор о цене картины, была сыграна реалистически и прозвучала, как критика эксплуатации художника капиталистом. «Эта пьеса Панча и Джуди должна разыгрываться цирковыми клоунами в самой что ни на есть детской, преувеличенно дурацкой, манере. …Манипуляции должны происходить грубо, бесцеремонно, без подготовки. …Самым простым путём… смысл этого фарса может быть прояснен и понят только через необычное и дурацкое»57. Тема пьесы, как сказано в этом же примечании, «метаморфозы, представленные… пародийно, чтобы не испытывать стыда и замаскировать её серьезный смысл»58.
Было бы легкомыслием пытаться увидеть слишком много в этом нарочито «дурацком» спектакле. По-видимому, имеется в виду порочный круг, в котором пребывает бизнесмен-филистимлянин с его грубым торгашеским духом, низостью и сентиментальностью; с другой стороны, — воображаемый переход этого уродливого мира в его противоположность, в мир «красоты», созданный «искусством». Но суть в их убожестве: избавившись от уродства, заменив его тем, что они считают прямой противоположностью, они оказываются в мире дешёвого китча, мире оперетты с принцессой и Принцем Очарование, порождением грубейших эротических фантазий. Когда в финале толстяк просит публику выстрелить в него, повторяется вариант отвергнутого жестокого финала «Лысой певицы», в котором в зрителей-филистимлян должны были стрелять со сцены из пулемёта. В «Картине» филистимлянин на сцене хочет быть расстрелянным зрителями-нефилистимлянами. Пьеса демонстрирует бесполезность такого рода действия. Убийство, насилие не могут привести к истинному преобразованию; надежда изменить мир или чувства насилием бесполезна и абсурдна; изменения так же глупы, как изначальная ситуация.
В то же время пьеса представляет эксперимент в сфере возможностей театра. Ионеско однажды заметил: «Лично я хотел бы вынести на сцену черепаху, превратить её в беговую лошадь, затем в шляпу, в песню, драгуна и фонтан. В театре можно отважиться на всё, по крайней мере, в нём можно рисковать. Я не приемлю никаких ограничений, кроме технических, связанных с театральной машинерией. Можно считать мои пьесы мюзик-холльными выкрутасами или цирковыми шоу. Тем лучше — давайте включим цирк в театр! Пускай драматурга обвиняют в произволе. Да, театр — такое место, где произвол возможен. Фактически, это вовсе и не произвол. Воображение — не произвол, оно разоблачает… Я решил не признавать никаких законов, кроме своего воображения, а у него свои законы, что доказывает: оно — не произвол»59.
Эти два толкования «Картины» — критика обывательской сентиментальности и эксперимент в сфере чистого театра с меняющимися сценами, как в цирке, ни в какой мере не противоречат друг другу. В театре Ионеско эти два полюса существуют бок о бок: полная свобода воображения и сильный полемический элемент. В его первой антипьесе «Лысая певица» критика современного театра сочетается с критикой омертвевшего общества. Всё творчество Ионеско пронизано боевым духом, неверно видеть в нём только клоуна и шутника. Пьесы Ионеско — сложное соединение поэзии, фантазии, кошмаров, критики социальной и критики культурных ценностей. Несмотря на то, что Ионеско отвергает и питает отвращение к откровенно дидактическому театру («Я не поучаю, я утверждаю. Я не объясняю, я пытаюсь понять себя»60), он убеждён, что подлинно новаторская литература должна заключать в себе полемический элемент. «Авангардист всегда в оппозиции к существующей системе… Художественное произведение из-за своей новизны агрессивно, стихийно агрессивно; оно направлено против публики, её большинства; оно вызывает неприятие необычностью, которая сама по себе есть форма неприятия»61.
Самая полемическая пьеса Ионеско с открытыми нападками на его критиков — «Экспромт Альмы, или Хамелеон пастуха». Пьеса написана в Париже в 1955 году и впервые сыграна в феврале 1956 года в Studio des Champs Elysees. Уже названием Ионеско провозглашает свое кредо: обновление традиции связано с авангардом, но в то же время пьеса отсылает к «Версальскому экспромту» Мольера и «Парижскому экспромту» Жироду. Как и Мольер, Ионеско выводит себя на сцене в момент, когда он пишет пьесу, — заснувшим, с шариковой ручкой в руке. К нему приходят три доктора в помпезных одеяниях из «Мнимого больного» Мольера; все трое носят имя Бартоломеус: Бартоломеус Первый, Бартоломеус Второй, Бартоломеус Третий. Ионеско сообщает Бартоломеусу Первому, что пишет пьесу «Хамелеон пастуха», основанную на подлинном случае: «Однажды летом в маленьком городе, посреди улицы, часов около трёх дня я увидел молодого пастуха, который обнимал хамелеона. …Это была такая трогательная сцена, что я решил сделать из неё трагифарс»62. Но, разумеется, это лишь предлог, отправная точка пьесы. В действительности же, объясняет Ионеско, это будет пьеса о его театральных идеях: «Можете считать, что пастух — это я, театр — хамелеон. Я заключил в объятья театр, а театр, конечно же, меняется, поскольку театр — это жизнь»63.
Ионеско начинал читать только что написанный текст, зеркально отражавшийся на сцене; эффект прямого зеркального отражения удваивался с приходом Бартоломеуса Второго, который вновь зачитывает этот же текст; когда является Бартоломеус Третий, он читает этот же текст и просит Ионеско зачитать его ещё раз. Раздаётся стук в дверь; кажется, это заколдованный круг, и всё будет повторяться до бесконечности. На этот раз постучавший в дверь не приходит, и дискуссия начинается. Три учёных доктора распространяются о теории драмы, неся полуэкзистенциалистскую-полубрехтовскую мешанину с отсылками к Сартру и Адамову, открывшему принципы Аристотеля раньше самого Аристотеля. Разумеется, в этом крошеве bete noire[27] Ионеско более всего нацелен на Брехта.
И лишь приход уборщицы (это она всё время стучала в дверь) избавляет Ионеско от полного фиаско, которое собрались учинить ему доктора. Уборщица олицетворяет здравый смысл, демистифицируя происходящее. К Ионеско возвращается равновесие, и он с жаром начинает излагать своё кредо драматурга. Он обрушивается на трёх критиков за то, что они размениваются на мелочи, высказывают банальности, прикрываясь экстравагантным жаргоном. Тогда как «критик должен описывать, а не предписывать… судить творение по его законам, определяющим его эстетику, поскольку каждое произведение соответствует своей мифологии, и войти в его мир. Нельзя применять законы химии к музыке, к биологии — критерии живописи или архитектуры…Что касается меня, я искренне верю, что бедные бедны, и сожалею об этом; это реальность, и она может служить материалом для театра; я так же верю, что богатые испытывают смутные тревоги и страхи. Но не из нужды бедных и не из несчастий богатых извлекаю я субстанцию своей драмы. Для меня театр — проекция на сцену внутреннего мира, моих снов, моего страдания, моих скрытых желаний, внутренних противоречий, на которые я сохраняю право, чтобы искать материал для пьес. Я существую во вселенной не один; как и все, я погружён в бездны своего бытия, и в это время в такие же бездны погружён ещё кто-то; мои сны и желания, мои страхи и навязчивые идеи не только мои; они часть наследия моих предков, древнейший вклад, на который может притязать всё человечество»64. С этого момента в речи Ионеско появляется претензия на истину в последней инстанции. Он цитирует американские и немецкие авторитеты, и, наконец, его спрашивают, серьёзно ли он это изрекает. Сконфуженный, он понимает, что угодил в собственную ловушку, рискуя впасть в дидактику. Он приносит извинения, ибо это для него исключение, а не правило. Шпилька в адрес пьесы Брехта «Исключение и правило».
«Экспромт Альмы» возвращает нас в разгар бурной полемики о дидактическом, политическом театре, которую вели Ионеско и Кеннет Тайнен, впоследствии ставшей блестящим, но отнюдь не центральным эпизодом. Главное наступление на Ионеско в таких периодических изданиях, как Les Temps Moderness Сартра и влиятельного Theatre Populaire, предприняли критики, сначала превозносившие его как мастера нового авангарда. Не было простым совпадением и то, что в одном номере Theatre Populaire от 1 марта 1956 года опубликовали раздражённую рецензию Мориса Регно на «Экспромт Альмы» и «Стулья», которые шли в один вечер в Studio des Champs-Elysees, и эссе Адамова «Театр, деньги и политика». В этом эссе Адамов публично признавался, что напрасно избегал социальной тематики, и ратовал за возрождение исторического, социологического театра. Неудивительно, что Морис Регно, несмотря на высокую оценку режиссуры и актёров, завершал рецензию на «Стулья» вопросом, на который сам и отвечал: «Почему мы всё же чувствуем себя “обманутыми”? Да потому, что наш интерес был спровоцирован тем, до чего, в сущности, нам вовсе нет дела. Эта пьеса содержит объективную реальность в той степени, в какой постулат лирической исповеди является правдой. Мы, более чем Ионеско, нуждаемся в вере в то, что “один — это все”. Но старая мистификация не может долго скрывать пустоту такого театра. Трансформация театра в музыку — единственная художественная мечта мелкого буржуа, которого Горький назвал “человеком, предпочитающим всем самого себя”»65.
Так началась борьба между историческим, социологическим, эпическим театром и лирическим, поэтическим театром души, мечты, настроения, театром живого. Мы вернёмся к дискуссии об этих двух взглядах на современный театр в последней главе. Заметим, что окончательное расхождение между театральными концепциями Ионеско и Брехта и его новообращённого последователя Адамова совпали с признанием и успехом Ионеско во всём мире. В глазах его оппонентов это верный знак того, что буржуазия наконец опознала человека, наилучшим образом выражающего её декадентскую точку зрения.
Не только во Франции, но и в других странах Ионеско начали чаще ставить. Случались и скандалы, как например, в Брюсселе, когда публика на спектакле «Урок» потребовала вернуть деньги, а актёр вынужден был бежать через чёрный ход, но в Югославии и Польше его пьесы имели поразительный успех. В Польше «Стулья» играли в рабочих комбинезонах. Через шесть лет после провала «Лысой певицы» к Ионеско пришёл успех.
Ионеско был уже признанным драматургом, когда он попал в историю, которая могла бы произойти в его пьесе. В мае 1957 года ряд лондонских газет сообщал, что «Герцог и герцогиня Виндзорские и ещё десять гостей недавно присутствовали на замечательном театральном представлении в Париже, в доме аргентинского миллионера А. Анхорена»66, и далее: пьесу написал Ионеско, музыку к спектаклю — Пьер Булез. Несколько дней спустя лондонские газеты строили предположения, мог бы «Экспромт в честь герцогини Виндзорской» быть показан в Англии, но как высказалась Daily Mail, «это могло бы стать причиной головной боли у лорда Чемберлена». В тот же день, 31 мая 1957 года, даже The Evening News сообщала, что герцогиня Виндзорская не дала разрешения ставить эту маленькую пьесу в Англии. Помимо этих сообщений, та же The Evening News писала, что, по словам Ионеско, герцог и герцогиня Виндзорские «вполне довольны».
В действительности второй «Экспромт» Ионеско — лёгкая, остроумная и совершенно невинная шутка. Это сценка, в которой Хозяйка дома обсуждает с Автором и Актрисой, что сыграть, чтобы развлечь герцога и герцогиню Виндзорских. Обсуждение выливается в дискуссию о пьесах Ионеско и его любимой теме — идентичности комедии и трагедии. Хозяйка дома просит Ионеско не давать «грустной пьесы, какой-нибудь из этих современных драм Беккета или Софокла, заставляющих людей плакать». На это Ионеско отвечает: «Иногда, мадам, комедии вызывают слезы скорее, чем драмы… комедии, которые пишу я. Когда я пишу трагедию, я хочу заставить людей смеяться. И я хочу заставить их плакать, когда пишу комедию»67. В то же время это нелепая, абсурдная версия английской истории, как она видится французу, и в равной степени, характерное следствие непонимания семантического смысла: когда Хозяйка дома предлагает виски, Автор настаивает, что это джин; актриса пробует и заявляет, что это бенедиктин. Когда автор из вежливости соглашается, что это виски, остальные так же из вежливости соглашаются со всеми интерпретациями, увеличивая путаницу. Дискуссия о том, что могло бы доставить удовольствие высокородным гостям, окончательно заходит в тупик, и пьеса заканчивается извинениями хозяйки дома. Как писала The Evening Standard, мадам Марсель Ашар, супруга драматурга, заметила после спектакля: «Только Ионеско способен справиться с такой изысканной темой». Сальвадор Дали, присутствующий на спектакле, сказал: «Это было необычайно трогательно».
Сочинение такой весёлой шутки отвлекло Ионеско от более важных и художественно значимых тем. В ноябре 1955 года в Nouvelle Revue Frangaise был опубликован его рассказ, превратившийся позднее в одну из его самых значительных пьес. (Пять пьес Ионеско возникли из рассказов. Рассказ «Жертва долга», (журнал Medium) стал пьесой «Жертвы долга»; «Орифламма» (Nouvelle Revue Frangaise, февраль 1954) превратилась в пьесу «Амедей»; стал пьесой «Носорог» (Les Lettres Nouvelles, сентябрь 1954); «Фотография полковника» (La Nouvelle Review Frangaise, ноябрь 1955); «Пешком по воздуху» (Nouvelle Frangaise, февраль 1961). Особенно заслуживает внимания рассказ «Фотография полковника»68, лёгший в основу пьесы «Бескорыстный убийца», законченной в Лондоне в августе 1957 года. В английском переводе пьеса называется Killer, что не совсем передает смысл французского названия, суть которого в том, что это убийца без вознаграждения, без оплаты; убийца, не имеющий цели.
«Бескорыстный убийца» — вторая пьеса Ионеско в трёх актах. Это не только его самая смелая пьеса, но возможно, и самая лучшая. Её герой Беранже, маленький человек чаплинского типа. Простой, неловкий, но очень человечный. Пьеса начинается с того, что честолюбивый муниципальный архитектор показывает Беранже новый жилой район. Это великолепный квартал с садами и бассейном. Более того, поясняет архитектор, в этом квартале всегда солнечная погода. Если в других районах города идёт дождь, стоит перейти границу, и вы попадаете в сияющий город (cite radieuse), где царит вечная весна.
Беранже, не имевший представления о таком совершенном современном дизайне и планировке, по чистой случайности оказавшийся в этом новом мире, глубоко растроган. Но почему, спрашивает он, улицы этого чудесного квартала так пустынны? Он огорчается, услышав, что жители либо покинули его, либо заперлись в своих домах, потому что в этом счастливом городе бродит таинственный убийца, завлекая жертв обещанием показать фотографию полковника, и убивает их. Архитектор сообщает, что он, помимо этой должности, исполняет ещё и функции полицейского комиссара. Он не понимает, почему Беранже пришёл в ужас, узнав про убийцу. В конце концов, мир полон страданий: «Убитые дети, голодные старики, безутешные вдовы, сироты, умирающие, судебные ошибки… погребённые под обломками своих жилищ люди… обвалы в горах… резня… наводнения, собаки, попавшие под машину, — всё это даёт возможность журналистам заработать на хлеб». Беранже в ужасе. Когда приходит известие, что среди последних жертв оказалась мадемуазель Дани, молоденькая секретарша архитектора, с которой он только что встречался и в которую влюблён, он решает отправиться на поиски убийцы.
Второй акт начинается в запущенной комнате Беранже, где его в полном молчании ожидает Эдуард. Снаружи раздаются голоса жильцов — абсурдные обрывки их разговоров; учитель, дающий абсурдный урок истории; деловитый эксперт, подсчитывающий, как можно сэкономить, запретив квартиросъёмщикам посещать туалет по пять раз в день и уменьшив количество естественных потребностей до одного раза в месяц, но по четыре с половиной часа за одно посещение; старики, вспоминающие прошлые времена, — целая симфония гротескных обрывочных разговоров, которые подхватываются голосами собравшихся на лестничной площадке, расположенной за сценой, как в «Амедее». Возвращается Беранже и рассказывает Эдуарду жуткие новости об убийце, удивляясь, что Эдуард давно знает об убийце, и все знают об убийце, успокаивая себя тем, что убийца в другом квартале. У Эдуарда открывается портфель, из которого вываливаются вещи убийцы: безделушки на продажу, груда фотографий полковника и даже его удостоверение личности. Эдуард говорит, что, должно быть, портфель захватил по ошибке, но непостижимым образом в кармане его пальто оказываются дневник убийцы, карта с обозначением мест совершённых и будущих убийств. Беранже хочет идти в полицию. Эдуард вынужден согласиться. В конце концов, они уходят, но Эдуард оставляет портфель.
На улице политический митинг. Уродливая женщина по прозвищу мамаша Пип, именуемая содержательницей общественных гусей и похожая на консьержку Беранже, произносит речь из тоталитарных клише. После её победы в мире всё изменится, по крайней мере, номинально, но суть вещей останется прежней. Тирания будет называться свободой, оккупация — освобождением. Её речь прерывает пьяный, высказывая противоположную точку зрения (это точка зрения Ионеско). Пьяный утверждает, как и Ионеско в финальном ответе в полемике с Тайненом, что истинная революция делается не политиками, а художниками и мыслителями, такими, как Эйнштейн, Бретон, Кандинский, Пикассо, меняющими способ видения и мышления человечества. В балаганной потасовке с мамашей Пип в стиле Панча и Джуди пьяный повержен. Беранже замечает потерю портфеля. В отчаянии он пытается вырывать похожие портфели из рук прохожих, требуя искать убийцу. Но у полицейских есть дела поважнее: они должны регулировать уличное движение.
Беранже остается в одиночестве. Он бредёт по пустынным улицам. И чем дальше он идёт, тем больше меняются декорации. Внезапно он оказывается лицом к лицу с ухмыляющимся, хихикающим карликом в лохмотьях. Беранже понимает, что это убийца. В длинной речи (во французском издании она занимает около десяти страниц мелким шрифтом) он пытается убедить убийцу, явного идиота с признаками вырождения, прекратить кровожадную, бессмысленную деятельность. Беранже приводит общеизвестные аргументы: любовь к человечеству, добро, патриотизм, личные интересы, социальная ответственность, христианство, разум, бессмысленность всякой активности, даже называет его убийцей. Убийца молчит и только идиотически хихикает. В финале Беранже хватает два старых ружья и пытается его убить, но не в состоянии это сделать. Бросив ружье, он молча подставляет себя под нож убийцы.
В ремарке Ионеско подчеркивает смысл последней сцены: «это короткое самостоятельное действие». Речь должна быть произнесена так, чтобы «показать постепенный слом Беранже, его растерянность, пустословие, точнее банальную мораль, лопающуюся, как мыльный пузырь. Вопреки желанию и против воли, Беранже находит аргументы в защиту убийцы»69. Убийца (в ремарке Ионеско указывает, что он может быть невидим, только в темноте должны слышаться его ухмылки) — это неизбежность смерти, абсурдность человеческого существования. Их смертоносная близость таится даже в эйфории беспечности и самого радужного счастья, превращая повседневность в холодный, серый, дождливый ноябрь.
В первом акте Беранже подробно описывает чувство, которое вызывает у него сияющий город, — сердечное тепло, в былые времена наполняющее его душу, невыразимое чувство эйфории и лёгкости заставляло кричать от радости: «Я существую, я есть, всё вокруг существует!» Затем внезапно в его душе возникла пустота, как в миг трагического разлада: «Старухи выползали из своих двориков, раздирая слух громкими, вульгарными голосами. Лаяли собаки. И я почувствовал себя покинутым среди этих людей, среди всего этого». Его состояние во втором акте передаётся симфонией голосов жильцов, сплетничающих во внутреннем дворе, затем в жутком политическом митинге и в равнодушии полицейских. Это воплощение общепризнанной бессмысленности жизни перед лицом неминуемой смерти, сменяющей эйфорию депрессией. Смерть — это фотография полковника, фатально завораживающая жертв убийцы. Никакие доводы морали или целесообразности не могут противостоять бессмысленной, идиотической тщете жизни.
Как и в «Амедее», в этой пьесе тщательно разрабатывается один поэтический образ, — сияющий город — непрерывно углубляющийся на протяжении действия; финальная сцена пьесы — блестящая находка, создающая мощную кульминацию даже после изумительной поэтической фантазии сияющего города в первой сцене, по контрасту со спадом напряжения в третьем действии «Амедея».
Существенно, что едва намеченная в рассказе финальная речь героя в пьесе блестяще развернута. Герой рассказа лишь осознает, что на убийцу не подействовали бы «никакие слова, дружеские или повелевающие; никакие обещания счастья, никакая вселенская любовь не смогла бы смягчить его; никакая красота не могла бы тронуть его, а ирония — заставить понять; и все мудрецы мира не смогли бы убедить его в бессмысленности его преступления, как и в милосердии». Трансформация небольшого абзаца рассказа в захватывающую, полную драматизма речь говорит о художественной мощи драматурга.
И ещё одна сцена, отсутствующая в рассказе 1955 года, важна в пьесе 1957 года — политический митинг и спор о сути революции, что говорит о возросшей серьёзности полемики Ионеско с левыми критиками. Можно спорить, что включение аполитичного элемента (что само по себе уже политика) уводит в сторону от основного поэтического образа пьесы. В итоге, сияющий город первой сцены — более сильный аргумент такой точки зрения. Это образ мира, в котором решены все социальные проблемы, устранены все тревоги; однако и там близость смерти обессмысливает жизнь, превращая её в абсурд. С другой стороны, массовые сцены с кошмарным шумом и агитацией оправдывают объём образов углубляющейся тяжёлой депрессии Беранже.
«Бескорыстный убийца» был поставлен в Theatre Recamier в феврале 1959 года и шёл с большим успехом. В апреле 1960 года состоялась премьера в Нью-Йорке, но была встречена непониманием, и спектакль прошёл всего несколько раз. Брукс Аткинсон счёл третий акт «плохим театром», потому что финальная сцена статична, «невыносимо нервирует и малохудожественна»70. Однако сцена и задумана как невыносимая. Несмотря на то, что она расцвечена горьким фарсово-трагическим юмором, условность театра Ионеско намного грубее, чем у театра, доставляющего удовольствие. Сочетание фарсового и трагического, как и условность нового типа, оказались не по зубам нью-йоркской публике; неудивительно, что Брукс Аткинсон нашёл в пьесе скопление «беспорядочных издевательств». С точки зрения законов, по которым написан «Бескорыстный убийца», это пьеса классической чистоты стиля и языка, во всяком случае, французского.
Помимо блестящей концепции, пьесу отличают замечательно точные детали: к примеру, в сияющем городе так много солнца, что в построенных из стекла домах есть специальные приспособления, обеспечивающие растения водой. Архитектор, показывающий Беранже новый район, продолжает выполнять свои рутинные обязанности, отдавая распоряжения в офис по телефону, который он носит в кармане. Его секретарша мадемуазель Дени не может дальше оставаться в этой рутине и решает покинуть офис. Поэтому она попадает под нож убийцы, не нападающего на муниципальных служащих. Избрав свободу, она избрала смерть. Архитектор лишь пожимает плечами по поводу мании людей: «мания жертв — всегда возвращаться на место преступления». Среди вещей убийцы, находившихся в портфеле Эдуарда, ящик, в котором оказывался другой, в нём — следующий и так далее, ad infinitum. В толпе на политическом митинге маленький старичок спрашивает, как пройти к Дунаю, хотя знает, что он в Париже и что он парижанин. Это обилие вымысла помогает создать свойственный самому Ионеско мир кошмаров, чаплинского юмора, тоски по нежности. «Бескорыстный убийца» — одна из самых значительных пьес театра абсурда.
До премьеры Ионеско признался, что написал ещё одну трёхактную пьесу — «Носорог». 25 ноября 1958 года состоялось публичное чтение третьего акта во Вье-Коломбье, после окончания чтения он заявил публике, что «пьеса написана, чтобы быть поставленной на сцене, а не для чтения. Будь моя воля, я бы не пришёл». Следующей весной пьеса вышла отдельной книгой. В заметках в Cahiers du College de Pataphysique Ионеско извещал, что его издатели неправильно напечатали название пьесы: Le Rhineseros вместо Rhineseros. 20 августа 1959 года пьеса, переведённая на английский язык Дереком Прусом, прозвучала по радио по третьей программе Би-би-си. 6 ноября состоялась мировая премьера в Дюссельдорфе. 25 января 1960 года — в Париже в постановке Жана-Луи Барро на сцене театра Odeon, и Барро играл Беранже. 28 апреля состоялась премьера в Royal Court в Лондоне в постановке Орсона Уэллса, и Беранже играл сэр Лоуренс Оливье. Мировое признание Ионеско, как центральной фигуры театра абсурда, началось с «Носорога».
Героем «Носорога» вновь стал Беранже, и этот выбор не поддаётся объяснению, если помнить, что он был убит в финале «Бескорыстного убийцы». Однако это предположение небезусловно: в рассказе «Фотография полковника» повествование ведётся от первого лица, подтверждая, что герой жив, а пьеса заканчивается до рокового удара. Но подобные «патафизические» гипотезы безрезультатны; если сопоставить характер Беранже этих двух пьес, можно заметить некоторое несходство. Беранже в «Носороге» не столь мрачен, но более рассеян. В нём больше поэзии и меньше идеализма, чем в Беранже «Бескорыстного убийцы». Он живёт в Париже, Беранже «Носорога» — в маленьком провинциальном городке. Необязательно, чтобы это было одно и то же лицо. Или, возможно, в «Носороге» герой моложе, чем в «Бескорыстном убийце». Он только вступает в жизнь.
Беранже в «Носороге» работает в производственном отделе издательства юридической литературы, как одно время работал и Ионеско. Он влюблён в свою коллегу мадемуазель Дези. Её имя напоминает первую любовь Беранже — Дани. У него есть приятель Жан. Воскресным утром они увидели, или полагают, что увидели, одного, а быть может, и двух носорогов, несущихся по главной улице городка. Постепенно носорогов становится все больше и больше. Жители заразились таинственной болезнью, носорожеством, которая не только превращает их в носорогов, но рождает желание превратиться в этих сильных, агрессивных и толстокожих животных. В финале во всем городе только Беранже и Дези остаются людьми. Но и Дези не может противостоять искушению стать такой, как все. Беранже остается один; последний человек, он мужественно заявляет, что не капитулирует.
Известно, что «Носорог» отражает чувства Ионеско перед отъездом из Румынии в 1938 году, когда всё больше и больше его знакомых присоединялись к фашистскому движению «Железная гвардия». Он рассказывал: «Как всегда, я предался своим мыслям. Всю жизнь я помнил, как был оглушен возможностью манипулировать мнением, его мгновенной эволюцией, силе его заразы, превращающейся в эпидемию. Люди позволяют себе неожиданно принять новую религию, доктрину, отдаться фанатизму. …В такие моменты мы становимся свидетелями настоящей ментальной мутации. Не знаю, замечали ли вы, если люди не разделяют ваших взглядов, и вы перестаете их понимать, а они — вас, создаётся впечатление противостояния монстрам, например носорогам. В них перемешивается искренность с жестокостью. Они убьют вас с чистой совестью. За последние четверть века история показала, что люди не только становились похожими на носорогов, но превращались в них»72.
На премьере в Дюссельдорфе в театре Schauspielhaus немецкая публика сразу же узнала аргументы персонажей, считающих, что должны следовать общей тенденции: зрители слышали или сами использовали подобные аргументы во времена, когда немецкий народ не мог устоять перед соблазнами Гитлера. Некоторые персонажи пьесы пожелали стать толстокожими: их восхищала брутальная сила и простота, возникавшие при подавлении слишком слабых человеческих чувств. Другие так поступали, потому что обратить носорогов снова в людей будет возможно, если научиться понимать их образ мысли. Ещё она группа, особенно Дези, просто не могла позволить себе быть не такими, как большинство. Носорожество — не только болезнь, именуемая тоталитаризмом, свойственным правым и левым, но и стремление к конформизму. «Носорог» — остроумная пьеса. Она полна блестящих эффектов, от большинства пьес Ионеско она отличается тем, что создаёт впечатление понятной. Лондонская Times поместила рецензию под названием «Пьеса Ионеско понятна всем»73.
Но так ли легко её понять на самом деле? Бернар Франсуэль в Cahiers du College de Pataphysique74 заметил в остроумной статье, что финальная исповедь Беранже и его предыдущие размышления о преимуществе людей перед носорогами странным образом напоминает крики «Да здравствует белая раса!» в пьесах «Будущее в яйцах» и «Жертвы долга». Если мы исследуем логический ход мысли Беранже в разговоре с приятелем Дюдаром, то увидим, что он защищает своё желание остаться человеком с теми же выплесками инстинктивных чувств, которые он осуждает в носорогах, и когда он замечает свою ошибку, он лишь поправляет себя, заменив «инстинкт» на интуицию. Более того, в самом финале Беранже горько сожалеет о том, что ему кажется, будто он не сможет превратиться в носорога! Его последние дерзкое заявление о вере в гуманизм — всего лишь презрение лисы к винограду, который слишком зелен. Фарсовый и трагикомический вызов Беранже далёк от подлинного героизма, и конечный смысл пьесы не столь понятен, как сочли некоторые критики. Пьеса показывает абсурдность вызова в той же степени, в какой и абсурдность конформизма, трагедию индивидуалиста, который не может слиться со счастливой массой не таких чувствительных людей, как он, ощущение художника, ощутившего себя парией. Это темы Кафки и Томаса Манна. В известной мере финальная ситуация Беранже напоминает о жертве другой метаморфозы — Грегоре Замза в «Превращении» Кафки. Замза превращается в огромное насекомое, остальные не меняются; последний человек Беранже оказывается в той же ситуации, что и Замза, ибо теперь нормально превратиться в носорога, остаться человеком — чудовищно. В заключительном монологе Беранже сожалеет, что у него белая мягкая кожа и мечтает о грубой, тёмно-зелёной, панциреобразной коже. «Только я один чудовище, только я!» — кричит он, пока окончательно не решит остаться человеком.
«Носорог» — памфлет против конформизма и нечувствительности (последнее определённо присутствует в пьесе), издевательство над индивидуалистом, который всего лишь приносит жертву необходимости, подчёркивая превосходство своей тонко организованной художественной натуры. Там, где пьеса выходит за пределы пропагандистской упрощенности, она превращается в доказательство фатальной запутанности и абсурдности человеческой жизни. И лишь спектакль, выявляющий двойственность позиции Беранже в финале, может дать полное представление о пьесе.
После десяти лет, отданных драматургии, в середине XX века Ионеско оказался в тисках бешеного успеха. Он ездит по миру: выступает с речью на международном конгрессе авангардистских театров в Хельсинки; премьерой своей пьесы открывает новый театр в Бразилии; читает лекции в Копенгагене; пишет текст к польскому авангардистскому мультипликационному фильму «Monsieur Tete», (приз критики на фестивале в Туре, 1959); обсуждает с американским продюсером возможность написать мюзикл.
Истинный гений, он остался прежним Ионеско. Невысокий, улыбающийся человек с лицом клоуна и большими, круглыми, грустными глазами; дружески расположенный, готовый помочь докучливому собирателю информации и дюжине других; он должен помогать многим, продолжая переводить свои страхи и фантазии в конкретную поэзию театра. Какие бы мелочи он ни создавал, на всех печать обаяния Ионеско. Таков маленький скетч «Театр на четверых», показанный в июне 1959 года на фестивале в Сполетто75, в котором ожидаемая встреча на высшем уровне заканчивается зловещим пророчеством. В короткой сценке три господина в одинаковых костюмах — Дюпон, Дюран и Мартин — горячо, но абсолютно бессмысленно спорят. Они сходятся только в предостережении: «Осторожно с цветочными горшками!». Когда появляется очаровательная дама, все трое пытаются представить её как свою невесту и поднести ей горшок с цветами. В итоге все цветочные горшки разбиты, дама серьёзно покалечена, с неё сорваны одежды. Не воплощала ли прекрасная дама порядок?
Ещё одна прелестная вещица Ионеско — его первый балет «Уроки ходьбы», в хореографии Дерика Менделя, постановщика пантомимы Беккета в Theatre de L ’Etoile в апреле 1960 года. Очаровательная сиделка возвращает парализованному юноше в инвалидном кресле возможность двигаться и виртуозно танцевать. Больница преображается в ярко освещённый сад. Сиделка хочет обнять молодого человека: это она научила его ходить и танцевать, но он поднимается по бесконечной лестнице и исчезает. Её сердце разбито. Возмущённый доктор заставляет её вновь надеть сестринскую униформу.
В двух следующих пьесах «Воздушный пешеход» и «Король умирает» вновь появляется Беранже. Сначала свет рампы увидела последняя пьеса. Её премьера состоялась 15 декабря 1962 г. в Париже в постановке Жака Макло. Премьера «Король умирает» — 8 февраля 1963 года в Odeon в постановке Жана-Луи Барро, вновь сыгравшего Беранже.
В «Воздушном пешеходе» Беранже, на сей раз с женой и дочерью, находится в Англии, представленной в стиле Таможенника Руссо, Шагала или Утрилло. Узнаётся множество клише, сопутствующих изображению Англии, известных нам по «Лысой певице». Кульминационный момент пьесы наступает, когда Беранже, обретший способность летать по воздуху, исчезает из виду, затем возвращается и рассказывает, каков истинный ад. Здесь Беранже — художник, у которого душевный подъём сменяется депрессией, отчуждающей его от слушателей со свойственным ему пессимистическим восприятием жизни.
Столь же пессимистическая пьеса «Король умирает» свидетельствует о выходе Ионеско на новый уровень почти классической формальной сдержанности. Беранже — король, но его власть кончается, королевство постепенно исчезает, и ему сообщают, что через полтора часа он умрёт. Вся пьеса превращается в безжалостный, предопределённый ритуал падения и смерти короля Беранже. Поскольку он теряет власть над армией (у него остался единственный солдат), служанкой и двумя жёнами, его мир распадается, исчезает даже мебель. В финале он на троне в абсолютной пустоте.
После «Голода и жажды» Ионеско окончательно признан современным классиком. Пьеса была приобретена Comedie Française и впервые сыграна 28 февраля 1966 года с Робером Иршем в главной роли. Её герой напоминает Беранже (на сей раз он именуется просто Жан). Он оставляет жену и дочь, тщетно ожидая свидания с воображаемой дамой, полагая, что у них назначено свидание; в финале он становится свидетелем странной церемонии, происходящей в помещении под названием La Bonne Auberge, напоминающим одновременно монастырь, казарму и тюрьму. Триппа и Брехтола, заключённых в клетки, пытают. Они олицетворяют различные концепции жизни и драмы (аллюзия с Брехтом, любимой мишенью Ионеско, очевидна). Однако пьесе недостает театральности, и временами она опускается до романтических реминисценций более раннего периода драмы. Ирония в том, что Ионеско достиг официального признания во Франции благодаря пьесе, не имеющей особого успеха и не слишком характерной для поэтики Ионеско.
В следующих пьесах он возвращается к откровенной пародийности: «Смертельная игра» (1970) (в английском переводе «Сюда идёт мясник») получила название от ярмарочного развлечения: посетители, зайдя в палатку, с удовольствием сбивают огромных кукол. Пьеса определённо навеяна «Дневником чумного года» Дефо, в котором таинственная болезнь внезапно мгновенно поражает людей в разных ситуациях повседневной жизни. Держащий речь политик падает замертво, влюблённый, признающийся в любви, так же падает замертво, все внезапно сражены смертью. Сначала зрелище приводит в ужас, но поскольку люди один за другим падают замертво в сценах-скетчах, а их количество механически увеличивается, становится смешно, и пьеса превращается в безудержно весёлую Пляску Смерти, в гротесковый и одновременно трагический образ.
Механическое повторение ужаса становится главной темой «Макбетта», ещё одной пародии, а, возможно, модернизированной и расширенной вариацией на тему шекспировского «Макбета». У Ионеско будущая леди Макбетт — жена Дункана; она толкает Макбетта на убийство мужа и затем становится леди Макбетт. Она так же одна из ведьм, пробуждающая честолюбие Банко и Макбетта (орфография имён Ионеско). Как и у Шекспира, в финале Макбетта свергает Макол (шекспировский Малькольм) и произносит речь шекспировского Малькольма о пороках Макбетта и ужасах, которые принесло бы его воцарение на престол. Но в отличие от шекспировской пьесы он не испытывает верность Макдуфа, открыто декларируя свои цели. Колесо власти безостановочно крутится, а власть всегда коррумпирована.
Следующая полнометражная пьеса «Этот громадный бордель» (1973) написана по его роману «Отшельник» (1973). В английском переводе «О, этот чертов цирк», в американском варианте — «Адский притон». Это история человека средних лет, именуемого Персонаж, который после многих лет беспросветной работы в конторе, получив наследство, обретает независимость и порывает все связи с миром, в то время как вокруг свирепствует революция и гражданская война.
Герой пьесы «Человек с чемоданами» (1975) назван Первый человек и представляет такой же отчуждённый характер, как и герой предыдущей пьесы. Человек ходит с двумя чемоданами. Третий он потерял и пытается найти его. Текучее действие из эпизодов, воссоздающих ситуацию сна: время и место — неопределённые и меняющиеся; Париж превращается в Венецию, прошлое — в настоящее. Персонажи не индивидуализированы, отсутствуют даже типажи, превращаясь в эманации солипсистической поглощённости сновидца своим неуловимым «Я».
Главная тема «Человека с чемоданами» — отчуждение от несовершенного мира. Эта же тема фильма «Тина» (1971), в котором Ионеско играет героя, удалившегося от мира и в финале утонувшего в грязи.
Ирония в том, что эти чувства Ионеско выражает в период своего мирового признания и осознания своего истеблишмента. Постановки его пьес в Comedie Française в 1971 году способствовали его избранию во Французскую академию, самый внушительный корпус литературной жизни. К этому в итоге пришел маленький румынский иммигрант.
То, что Ионеско стал драматургом с мировым именем, — феномен поразительный. Он написал «Лысую певицу» в тридцать шесть лет. Это случай долго сдерживаемого стремления выразиться, поиски нужной формы, неожиданное обретение точного способа — диалога. Готовые диалоги в учебнике английского языка для начинающих открыли Ионеско его истинное призвание — театр, который он не любил, потому что в нём превалировала условность, противостоящая его драматическому пониманию и интуиции. В опубликованных фрагментах дневника за 1939 год76 он признавался, что писал всю жизнь, но эти мысли и наброски были лишь записями для себя. Но в этом же фрагменте мы находим беглую запись идеи драматического скетча — женщина разговаривает с невидимым мужчиной, и очевидно, что это очень эмоциональная сцена из обрывков клише, повторения одних и тех же стереотипных фраз, и без читателя (или зрителя) понятно, о чём спор. Этот короткий скетч говорит о том, что уже десять лет назад у Ионеско рождались строки его будущих пьес, до того как он открыл ассимилятивный метод, пробудивший в нём латентную энергию драматурга.
Ионеско — писатель высокой интуиции. О своём методе работы он пишет, слегка подтрунивая над собой и преувеличивая, но убедительно: «Очевидно, что написать пьесу нелегко; это требует значительных физических усилий. Нужно подняться, что утомительно; сесть, и только когда осознаешь, что поднялся, взяться за перо, отягощающее руку, разложить бумагу, которую надо ещё найти; сесть за стол, часто не выдерживающий тяжести локтей. …Относительно легко сочинять пьесу в голове, не записывая. Легко воображать, мечтать, растянувшись на кушетке, пребывая между сном и явью. Ты идёшь, не делая ни шагу, не контролируя себя. Неизвестно откуда появляется персонаж; он призывает других. Первый персонаж начинает говорить, звучит первая реплика, появляется первая запись, остальные возникают автоматически. Остаётся подчиниться, слушать, наблюдать за тем, что происходит на внутреннем экране…»77
Ионеско считает спонтанность важным творческим элементом: «У меня нет идей, пока я не начну писать пьесу. Они возникают, когда я уже написал её или когда я вообще не пишу. Творчество спонтанно. Для меня это именно так»78. Но это не означает, что он считает свои произведения бессмысленными или бесцельными. Напротив, работа спонтанного воображения — процесс познавательный, исследовательский: «Всё начинается с фантазии; это метод познания. Правда рождается воображением; отсутствие воображения порождает неправду»79. Всё, что рождает воображение, — психологическая реальность: «Поскольку художник постигает реальность непосредственно, он — истинный философ. Именно отсюда глубина и острота его философского видения, из которого проистекает его сила»80.
Спонтанность творческого видения заключает в себе инструмент философского исследования и открытия. Но спонтанность не означает непрофессионализм; истинный художник настолько подчиняет себе технические средства, что может пользоваться ими бессознательно, как хорошая балерина, которая в совершенстве владея техникой танца, сосредотачивается на том, чтобы выразить музыку и чувства создаваемого ею образа. Ионеско не пренебрегает формальными приёмами драматургии. Он — мастер своего дела и классик. Он считает, что «цель авангарда открыть снова, не изобретая, в чистейшем виде постоянные формы и забытые идеалы театра. Мы должны отказаться от клише и освободиться от закоснелого “традиционализма”; вновь открыть подлинную, живую традицию»81.
Ионеско поглощён обособлением «чистых» элементов театра, раскрытием и выявлением механизма действия, даже если оно не имеет смысла. Поэтому, хотя он не любит Лабиша, он восхищается Фейдо, изумляется, находя сходство своих пьес с фарсами Фейдо — «не в темах, но ритмах. Например, в структуре его пьесы “Блоха в ухе” своего рода ускорение развития действия, движение, своего рода безумие. В этом суть театра или, по крайней мере, суть комического… Ибо, если Фейдо доставляет удовольствие, то не идеями (их у него нет); не диалогами (они глупы); это безумие, этот, по-видимому, выверенный механизм разрушается абсолютным движением и ускорением»82.
Ионеско сравнивает свой классицизм, своё стремление заново открыть «механизм театра в его чистом виде» с принципом ускорения в фарсах Фейдо. «Например, в “Уроке” нет сюжета, но есть движение. Я стремлюсь вызвать движение постепенным прогрессирующим сжатием смысла, чувства, ситуации, страха. Текст — только предлог, чтобы актёры поступательно усиливали комизм. Текст — опора, предлог для этого усиления»83. От «Лысой певицы» до «Носорога» сжатие и ускорение действия основной формальный принцип, форма пьес Ионеско, по контрасту с пьесами Беккета и Адамова (до его разрыва с театром абсурда): У пьес Ионеско круговая форма: всё возвращается к изначальной ситуации или её эквиваленту, к точке отсчёта, от которой становится ясно, что предшествующее действие бесполезно и потому неважно, произойдёт оно или нет. И «Урок», и «Лысая певица» заканчиваются той же сценой, с которой они начинались. Мартины (в парижском спектакле Смиты) начинают тот же диалог, который мы слышали в начале, и новая ученица приходит на новый урок. Однако в «Лысой певице» финал придуман задним числом; первоначальное намерение Ионеско было превратить финал в кромешный ад агрессивными действиями актёров по отношению к публике. Понятно, что в «Уроке» сорок первая ученица, явившаяся на урок в этот день, будет убита так же, как и сороковая. Это следующая неизбежная, ещё более безумная кульминация, что характерно для большинства пьес Ионеско. Мы видим такое же ускорение, сжатие и совпадение в жутком финале «Жака», в возрастающем количестве мебели в «Новом жильце», в увеличении в «Стульях» и возрастающем числе превращений в «Носороге».
Тем не менее, по мысли Ионеско, усиление, ускорение и движение не должны разрушать стремление рассказчика вести действие к кульминации, ведущей к финальному разрешению проблемы. Ионеско терпеть не может «аргументированных пьес, построенных как силлогизм: заключительные сцены — логический вывод из предыдущих сцен, служащих предпосылкой»84. Он не признает хорошо сделанной пьесы: «Я не пишу пьес ради того, чтобы рассказать историю. Театр не может быть эпическим… потому что он драматический. Для меня пьеса не изложение истории, как таковой (иначе надо писать роман или сценарий). Пьеса — структура, включающая серию состояний сознания или ситуаций, которые обостряются, все более уплотняются, затем осложняются, чтобы стать вновь элементарными или же в финале прийти к безысходности»85.
Элегантной логической композиции хорошо сделанной пьесы Ионеско противопоставляет максимум напряжения, постепенный рост психологического конфликта. Чтобы достигнуть этого, автор, как считает Ионеско, не должен ограничивать себя правилами или нормами. «В театре позволено всё: дать персонажам жизнь, но так же материализовать страх, внутреннюю жизнь, одушевить предметы, оживить декорации, конкретизировать символы. Когда слова продолжаются жестами, действиями, мимикой, когда они становятся неадекватными, их замещают материальные элементы сцены, которые, в свою очередь, усиливают их воздействие»86.
Язык низводится до относительно второстепенной функции. Согласно Ионеско, театр не может бросить вызов формам выражения, в которых язык полностью автономен, — дискурсивному языку философии, описательному языку поэзии или прозы. Для этого, аргументирует Ионеско, театральный язык ограничен функцией «диалога; слова как средства борьбы, конфликта»87. Но театральный язык — не самоцель, он лишь один элемент из множества других; автор может обращаться с ним свободно, опровергать действием текст, полностью дезинтегрировать язык персонажа. Тот же приём служит моделью усиления — основы театра Ионеско. Язык может быть переведён в театральный материал «доведением его до пароксизма. Воздать театру полной мерой, вывести за пределы, чтобы сами слова достигали наивысшего предела, и язык доходил бы до взрыва или саморазрушался из-за невозможности вместить все свои смыслы»88.
Модель пьес Ионеско — единство усиления, ускорения, аккумуляции, пролиферации до пароксизма, когда психологическое напряжение доходит до предела, своего рода оргазма. Это должно происходить через освобождение, сменяемое или замещаемое покоем — через смех. В этом причина комизма пьес Ионеско.
Ионеско признаётся: «Сколько я ни размышлял, я никогда не мог понять различия между комическим и трагическим. В комическом интуитивно ощущается абсурд, и поэтому, мне кажется, оно более способно породить отчаяние, чем трагическое. Комическое безысходно. Я говорю “отчаяние”, но в действительности это за пределами отчаяния или надежды»89. Смех определённо обладает освобождающим эффектом: «Юмор даёт нам понимание, свободное осознание трагического или бесцельного существования человека. …Он содержит не только критический дух… юмор — наша единственная возможность отторжения (но только после того, как мы преодолели, ассимилировались, осознали это) от наших трагикомических условий существования. Осознать этот ужас и смеяться над ним — значит стать хозяином положения. …Осознав алогизм абсурда, мы находим в нём логику. Только смех не признаёт никаких табу, не даёт создавать новых антитабу; комическое даёт нам силы бороться с трагизмом жизни. Природа вещей, сама истина, может быть нами понятна только благодаря фантазии, которая реалистичнее, чем весь реализм мира»90. Поскольку Ионеско снова и снова настаивает на исследовательской, познавательной функции его театра, необходимо всякий раз иметь в виду, какого рода знание он хочет передать. Озадаченные критики, сначала настроенные против «Стульев» или «Бескорыстного убийцы», склонны были спрашивать, что он хотел сказать этими пьесами; в конце концов, все мы знаем, что людям трудно делиться личным опытом, знаем о неизбежности смерти. Как только публика поняла, куда клонит автор, пьеса бы закончилась. Но это не концептуальная, выработанная мораль, которую Ионеско пытается транслировать, это его опыт, полученный в подобной ситуации. Плоды личного опыта нельзя передавать в виде расфасованных, четко сформулированных концептуальных пилюль, которые прописывает его театр. Его критика, мощная сатира разрушает рационалистическое заблуждение, что только язык, оторванный от опыта, способен передать этот опыт. Если бы это было возможно, то осуществлялось бы только через творческий акт художника, поэта, который в состоянии поведать нечто из собственного опыта, пробудив в человеке способность чувствовать то, что художник, поэт испытал сам.
Никакие самые объективные описания не могут передать, скажем, что значит быть влюблённым. Молодой человек может говорить и думать, что знает, что такое любить, но когда у него, действительно, появится опыт, он поймёт: интеллектуальное знание не означает знания в полном смысле. С другой стороны, стихотворение или музыка в какой-то мере выражают реальность чувства и опыта. Точно так же Ионеско в «Бескорыстном убийце» не стремится, как считали некоторые критики, сказать нам в трёх длинных актах, что смерть неизбежна, но производит с нами совместный опыт, что значит вступить в борьбу с элементарным человеческим опытом; что значит, когда в конце мы должны посмотреть в лицо суровой правде, и нет такого довода, нет логического объяснения, которые могли бы устранить этот завершающий жизненный акт. Когда в финале Беранже подставляет себя под нож убийцы, он осознаёт, что мы должны смотреть смерти в лицо, не уклоняясь, не закрывая глаза, не ища логического объяснения, — это эквивалент мистического опыта.
И другие персонажи, архитектор или Эдуард, допускают существование среди них убийцы как неизбежность. Различие в том, что они поступают так из-за эгоизма, отсутствия воображения, самодовольства; им непонятно, что значит ощутить присутствие смерти и терять силы перед источником смерти; в них мало жизни. Пробудить публику, углубить знание жизни, передать опыт через опыт Беранже — в этом реальная цель пьесы Ионеско.
Мы не ждём новой информации от стихотворения; трогательное стихотворение о времени или неизбежности смерти не отвергается критиками лишь потому, что в нём нет новых истин. Театр Ионеско — поэтический театр, транслирующий опыт труднейших жизненных ситуаций, поскольку язык, в значительной степени состоящий из стандартных застывших символов, скорее запутывает, чем выявляет личный опыт. Когда А говорит Б «Я люблю», Б его понимает только потому, что он это испытал или ожидает испытать это, что вполне может по своей природе и силе отличаться от чувства А. Вместо того, чтобы передать суть своего чувства, А пробуждает в Б его собственную модель чувства. Это неподлинная коммуникация. Оба они не свободны, оставаясь в границах собственного опыта. Поэтому Ионеско говорит о своём творчестве, как попытке транслировать неподдающееся трансляции.
Если язык в силу своей концептуальности, а, следовательно, схематичности, обобщённости и закоснелых, деперсонализированных, окаменевших клише становится препятствием, а не способом подлинного общения, то прорыв к сознанию другого человека через поэтическое выражение чувства и опыта должен стать такой попыткой на более важном, довербальном или субвербальном уровне, элементарного опыта. Это достигается образностью и символами в лирической поэзии, с её ритмом, тональностью, ассоциативностью. В театре Ионеско предпринята подобная попытка смоделировать основные человеческие ситуации, вызывающие прямой и почти физический отклик. Так Панч колотит полицейских в кукольных представлениях; цирковые клоуны падают со стульев, персонажи немых фильмов швыряют друг другу в лицо торты с кремом. Все эти трюки вызывают прямой, на уровне инстинкта, отклик публики. Комбинируя эмоциональные образы в более и более сложные структуры, Ионеско постепенно превращает свой театр в инструмент передачи трудных ситуаций и опыта.
Он не всегда добивается одинакового успеха, но в пьесах «Урок», «Стулья», «Жак», в двух первых актах «Амедея», в «Новом жильце» и «Жертвах долга» он блистательно достигает цели, транслируя свой опыт на сцену и передавая его через рампу публике. Возможно, в целом, для выражения основных, хотя и поливалентных и сложных состояний сознания скорее годятся одноактные пьесы или даже скетчи, чем пьесы в нескольких актах. Однако «Бескорыстный убийца» доказывает, что можно создать и сложную структуру, соединив основные образы, передающие опыт. В «Носороге», показавшем, что Ионеско способен создать крупную форму, множество аргументов приближает его к piece a these.[28]
Разумеется, традиционный театр всегда был инструментом трансляции основного опыта человечества. Но это качество часто зависело от таких функций, как повествование или дискуссия идей. Ионеско пытается обособить только этот элемент, считая его высшим достижением театра, превосходящим все другие формы художественного выражения, возвращаясь к чистому, абсолютно театральному театру.
Техническая изобретательность Ионеско поистине удивительна. Только в одной «Лысой певице», первой и самой простой его пьесе, Ален Боске нашёл, как минимум, тридцать шесть «способов использования комического»91: отсутствие действия; потеря идентификации; вводящее в заблуждение название пьесы, технические сюрпризы, повторы, псевдоэкзотика, псевдологика, отсутствие хронологической последовательности, множество двойников (всё семейство носит имя Бобби Уотсон); потеря памяти, мелодраматическая неожиданность (служанка провозглашает: «Я — Шерлок Холмс»); противоположные объяснения одного и того же события; разрыв диалога и ложные надежды на будущее до чисто стилистических приёмов: клише, трюизмы, сюрреалистические притчи, звукоподражания, абсурдное использование иностранных языков и полное отсутствие смысла, низведение языка до приблизительного соответствия и просто звуковой модели.
Множество подобных характерных приёмов из более поздних пьес Ионеско продолжают этот список. Анимация и количественный рост предметов; потеря гомогенности персонажами, меняющими свою природу на наших глазах; разнообразие зеркальных эффектов — пьеса превращается в объект дискуссии внутри себя; использование диалога за сценой, подчеркивающего изоляцию личности в океане ненужных разговоров; невозможность отличить одушевлённое от неодушевлённого; несоответствие между описываемым и действительным обликом персонажей (юная девушка оказывается усатым господином в «Свадьбе служанки»); гений без головы в «Мэтре»; метаморфозы на сцене («Картина», «Носорог»), и многие другие приёмы.
Каковы же, в таком случае, основные ситуации и опыт, который хочет транслировать Ионеско, используя такое обилие комического и трагикомического вымысла? В театре Ионеско две фундаментальные темы, часто сосуществующие в одной пьесе. Менее значительная — протест против дошедшей до последней черты современной механической буржуазной цивилизации, потеря реальных, осознаваемых ценностей, и как следствие — деградация жизни. Ионеско критикует мир, потерявший метафизическую величину, в котором люди не чувствуют тайны, благоговейного трепета перед собственным существованием. За яростным осмеянием закосневшего языка слышится призыв возродить поэтическую концепцию жизни: «Когда я пробуждаюсь благословенным утром и кончается моё ночное онемение, сознание освобождается от рутины сна, я вдруг осознаю свое существование, универсальность присутствия в мире, все кажется странным и в то же время привычным, и изумление перед бытием проникает в меня, — эти чувства, этот обряд свойствен всем людям во все времена. Такое состояние сознания выражается почти одинаковыми словами всеми поэтами, мистиками, философами, чувствующими то же, что чувствую я…»92
Ионеско жёстко критикует образ жизни, лишённый тайны, не считая отзывчивость и причастность к жизни эйфорией. Напротив, восприятие жизни, которое он пытается транслировать, — отчаяние. Главные темы его пьес — одиночество, изоляция личности, трудность общения, зависимость от унизительного давления извне, автоматическое подчинение обществу и в такой же степени унизительная внутренняя сексуальная зависимость от себя, и вытекающие из этого чувства вина, страх, порождённые неуверенностью в своей идентификации и неизбежностью смерти.
Если основная модель пьес Беккета — взаимозависимые и взаимодополняющие друг друга пары, в пьесах Адамова — контрастирующие пары, экстраверты и интроверты, то у Ионеско — супружеские пары, семья: мистер и миссис Смит, Амедей и Мадлен, Шуберт и его Мадлен, старик и старуха в «Стульях», семейство Жака в «Жаке» и в «Будущем в яйцах», профессор и служанка, которая для него и мать, и жена в «Уроке», бизнесмен и его сестра в «Картине». В основной модели Ионеско женщина обычно горячо, но строго привержена мужу. В поздних пьесах Ионеско — одинокий и изолированный от мира Беранже, но во всех вариантах он любит savoir-faire,[29] молодую, интеллектуальную, работающую женщину Дани-Дези, воплощение грации, красоты и ума.
Персонажи Ионеско могут быть одинокими и изолированными в метафизическом значении, но они не бродяги и не отверженные, как у Беккета и Адамова, что увеличивает отчаяние и абсурдность их изоляции: они одиноки, несмотря на то, что принадлежат к чему-то, чему следовало бы быть органичным сообществом. Помимо этого, мы видим в «Жаке», что семья — фактор общественного давления, воплощение конформизма, которому не может противостоять даже прелестная и любящая Дези в «Носороге».
Всё же в мире Ионеско дружеские и семейные отношения уменьшают отчаяние. Считать его позицию абсолютно пессимистической было бы ошибкой. Он стремится сделать жизнь аутентичной, живой, повернув человека лицом к грубой реальности условий его существования. Но это и путь к освобождению. Однажды Ионеско высказал такую мысль: «Нападать на абсурд жизни — способ избавиться от её абсурда … где ещё искать точку опоры?… В дзен-буддизме нет прямого ответа, только постоянный поиск просвета, откровения. Ничто не делает меня более пессимистом, чем обязанность не быть им. Я считаю, что всякая проповедь отчаяния есть констатация ситуации, из которой необходимо пытаться найти выход»93.
Сама по себе констатация безвыходности ситуации, дающая возможность зрителям смотреть без страха ей в лицо, — катарсис, освобождение. Разве Эдип и Лир не оказались лицом к лицу с отчаянием и абсурдом жизни, достигших высшей точки? Их трагедии дают опыт освобождения.
Ионеско всегда восставал против причисления его к авангардистам, он вне традиции: авангард всего лишь открываемые исчезнувшие элементы основной традиции. Корнель для него скучен, Шиллер невыносим, Мариво несерьёзен, Мюссе бессодержателен, Виньи не сценичен, Виктор Гюго нелеп, Лабиш не смешон, Дюма-сын до смешного сентиментален, Оскар Уайльд неглубок, Ибсен тяжеловесен, Стриндберг груб, Пиранделло устарел, Жироду и Кокто поверхностны. Себя он видит продолжателем традиций Софокла и Эсхила, Шекспира, Клейста и Бюхнера, потому что их волновали условия человеческого существования во всей их брутальной абсурдности.
Только время рассудит, насколько Ионеско войдёт в число продолжателей главной великой традиции. Бесспорно, что его творчество — героическая попытка разрушить барьеры во имя коммуникации людей.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЖАН ЖЕНЕ. ЗАЛ ЗЕРКАЛ
В своей самой личной книге, в автобиографическом «Дневнике вора», Жене рассказывает, как однажды ему довелось увидеть одного из кумиров своей юности, высокого однорукого красавца-серба Стилитано, сутенёра, вора, торговца наркотиками, заблудившегося в зале зеркал ярмарочного аттракциона. Это было сооружение из зеркал и обычного оконного стекла, сквозь которое толпа зевак могла наблюдать за Стилитано, метавшегося, как загнанный зверь. Он обезумел от ярости, пытаясь выбраться. Из него вырывались проклятья, которых не было слышно, но все видели его гримасы, от которых глазеющую на его муки толпу распирал смех.
«Стилитано был абсолютно один. Внезапно упавшая и сокрывшая от меня весь мир тень, тень моего одиночества, встретилась с отчаянием Стилитано, у которого не было больше сил кричать и биться о стеклянные стены. Ему оставалось только смириться с издевательством толпы, он бросился на пол, отчаявшись найти выход».
Квинтэссенция театра Жене — образ человека, затерявшегося в лабиринте кривых зеркал, искажающих его лик, стремящегося вырваться из этой ловушки и соединиться с теми, кто рядом, но отделён от него стеклянными барьерами (этот образ Жене использовал в либретто балета «Зеркало Адама»). Пьесы Жене — отражение его беспомощности и одиночества, противостоящих отчаянию человека, оказавшегося в тисках жизни, обернувшейся залом кривых зеркал; безжалостно обманутого бесконечно множащимися искаженными отражениями, — ложь на лжи, фантазии, вскармливающие новые, кошмары, питающиеся кошмарами внутри кошмаров.
Через всю французскую литературу красной нитью проходит череда проклятых поэтов от Вийона до маркиза де Сада, Верлена, Рембо и Лотреамона, среди которых Жене — фигура самая экстраординарная. Он пишет: «На планете Уран атмосфера настолько тяжелая… что животные под давлением газа с трудом передвигаются. С этими униженными тварями, вечно ползающими на брюхе, я хочу слиться. При переселении душ я изберу эту проклятую планету, чтобы обитать с преступниками моей породы»2.
Жан Жене родился в Париже 19 декабря 1910 года. Брошенный матерью, он вырос в благополучной крестьянской семье в Морване, на севере Центрального массива. Достигнув двадцати одного года, он получил свидетельство о рождении, из которого узнал, что имя его матери Габриэль Жене, и что он появился на свет на рю де Асса, 22, позади Люксембургского сада. Когда он пришёл посмотреть на это место, то увидел родильный дом.
В фундаментальном труде о Жене, одной из самых выдающихся книг XX века, Жан-Поль Сартр рассказал, как десятилетний послушный, благочестивый ребёнок был обвинён в воровстве и, названный вором, он решил им быть. Для Сартра это величайший акт экзистенциального выбора. Жене объясняет свой шаг не столь философски: «Решение стать вором пришло не в какой-то особый период моей жизни. Лень и одолевающие меня фантазии привели меня в исправительную колонию Меттре, где я должен был находиться до совершеннолетия, но я сбежал, чтобы завербоваться на пять лет в армию и получить бонус добровольного рекрута. Через несколько дней моего пребывания в Иностранном легионе я дезертировал, прихватив чемоданы чернокожих офицеров. Какое-то время мне нравилось воровать, но проституция привлекала меня лёгкостью. Мне было двадцать лет…»3
Основная причина экзистенциального выбора Жене совпадает с точкой зрения Сартра: «Брошенный семьёй, я счёл естественным усугубить это любовью мужчин, а эту любовь усугубить воровством, а воровство — преступлениями или участием в них. Так я окончательно отверг мир, отвергший меня»4.
Между 1930 и 1940 годами Жене вел жизнь скитающегося правонарушителя. Прожив некоторое время среди воров и сутенёров в китайском квартале Барселоны, он вернулся во Францию, где состоялось его первое знакомство с французскими тюрьмами, затем перебрался в Италию. Через Рим, Неаполь, Бриндизи он прибыл в Албанию. Не получив разрешения на жительство на Корфу, он отправился в Югославию, затем в Австрию и Чехословакию. В Польше он попался, сбывая фальшивые деньги, был арестован и, вероятно, выслан. В гитлеровской Германии он почувствовал себя не в своей тарелке: «Даже на Унтер-ден-Линден у меня было ощущение, что это лагерь, организованный бандитами… Это была страна воров, я это чувствовал. Воруя, я тем самым поддерживал бы заведённый здесь порядок. Я ничего не нарушал бы»5. И он отправился в страну, где ещё подчинялись традиционному моральному кодексу и где, следовательно, преступник имел возможность чувствовать себя вне порядка. Он прибыл в Антверпен, а затем возвратился во Францию.
В период гитлеровской оккупации Франции Жене то сажали в тюрьму, то выпускали на волю. Тюрьма сделала его поэтом. Он рассказывал Сартру, как однажды, когда он был арестован, ему по ошибке выдали арестантскую одежду и отправили в камеру, где находились преступники, которым так же, как Жене, ещё не был вынесен приговор, и они были в своей одежде. Его подняли на смех. Среди заключённых был тип, «писавший своей сестре глупые и жалостливые стихи, приводившие камеру в восторг… Я заявил, что могу писать такие же стихи. Они приняли мой вызов, и я написал “Приговоренный к смерти”»6.
Это была длинная напыщенная элегия, посвященная памяти Мориса Пилоржа, казнённого за убийство друга 17 марта 1939 года в тюрьме Сен-Бри. Стихи напоминали странные, ритуальные заклинания. На них лежал таинственный отпечаток религиозного действа, как будто стихи были магической формулой, которая могла бы вернуть человека к жизни. Такое же впечатление производили четыре длинных стихотворения в прозе, которые чаще называют романами. Жене их написал между 1940 и 1948 годом: «Богоматерь цветов» (тюрьма Фресне, 1942); «Чудо о розе» (тюрьма Ла Санте и тюрьма Турель), 1943 год; «Торжество похорон» и «Керель из Бреста» — истории, порождённые миром гомосексуалистов-отщепенцев. Однако это не романы, потому что, как сказал Жене Сартру: «Ни один из моих персонажей не принимает самостоятельно решения»7. Другими словами, персонажи — плод фантазии их создателя. Фактически это эротические фантазии заключённого, грёзы одинокого изгоя, которому общество навязывает свою модель жизни. Неудивительно, что эти сочинения Жене странным образом соединяют лирическую красоту с самым отталкивающим содержанием.
В «Дневнике вора» Жене пишет: «Меня упрекают в использовании бутафории: ярмарочные балаганы; бродяги, тюрьмы, цветы, ограбление святынь, вокзалы, границы, опиум, матросы, порты, писсуары, похороны, трущобы — всё это ради дешёвых, мелодраматических эффектов; обвиняли в том, что я принимаю за поэзию пустую живописность. Что могу я на это ответить? Я уже говорил, как страстно я люблю отверженных, не имеющих иной красоты, кроме своих тел. Всё, названное бутафорией, пропитано мужской неистовостью во всей её брутальности»8.
Проза Жене, эротическая, скабрёзная, скатологическая и в то же время высоко поэтическая, пронизана торжественной, вывернутой наизнанку религиозностью: мир, перевёрнутый с ног на голову, в котором гонения униженного приводят его к святости. Сартр в эссе, по этой причине названном «Святой Жене», заходит настолько далеко, что сравнивает Жене со святой Терезой Авильской и приходит к выводу, что если святость заключается в постоянном унижении, в полнейшем отказе от гордыни и принятии греховности жизни, Жене заслуживает, чтобы его причислили к лику святых.
Как бы то ни было, описывая эротические фантазии, облекая грёзы в предложения со своим ритмом, красками, свойственными подлинному мастерству, Жене научился управлять миром своих снов. Как замечает Сартр: «Вовлекая нас в свой порочный мир, Жене освобождается от него. Каждая его книга — очистительный кризис изгнания бесов, психодрама; кажется, будто каждая из них рождена предыдущей, его новое любовное приключение повторяет прежнее. Но с каждой книгой этот одержимый человек становится всё в большей степени хозяином своих демонов. Десять лет литературного труда эквивалентны психоаналитическому курсу лечения»9.
Знаменательно, что в процессе постепенного подчинения своих навязчивых идей Жене переходит от поэзии к прозе и, в конце концов, обращается к драматургии.
Итогом стал переход от субъективного творчества к более объективным формам. К тому времени он закончил «Дневник вора» (около 1947 года) и мог сказать: «Я писал книги последние пять лет. И могу признаться, что делал это с удовольствием, но теперь я с этим покончил. Я обрёл в творчестве то, к чему стремился…»10 Он более не возвращался к прозе и стал писать пьесы. И только в пьесах он смог освободиться от автобиографических моментов, от мира тюрем и гомосексуалистов-преступников.
И всё же его первая пьеса «Камера смертников» ещё принадлежит этому миру. Действие этой длинной одноактной пьесы происходит в тюремной камере. Тема иерархии преступления проходит через всю его прозу. В фантазиях Жене тюрьма уподобляется королевскому дворцу: «У заключённого тюрьма порождает такое же чувство безопасности, как у гостя короля… Строгость и чёткость тюремного распорядка подобны этикету королевского двора, и гость — жертва этого тиранического этикета»11.
Для Жене это столь же строгое соблюдение приоритетов среди заключённых. В «Камере смертников» заключённый, находящийся на высшей ступени иерархической лестницы, осуждённый за убийство негр по кличке Снежок, — внесценический персонаж. Трое обитателей камеры купаются в отражении славы этого идола. Зеленоглазый, тоже убийца, но меньшего ранга, чем Снежок, он убил ради наживы проститутку, потеряв над собой контроль. Лефранс — вор, Морис, которому только семнадцать лет, — малолетний правонарушитель. (Во французском издании указано, что Зеленоглазый очень красив, Морис невысок и красив, Лефранс высок и красив. Этими, очень характерными для Жене указаниями американские издатели из ложной скромности пренебрегли.)
Сюжет «Камеры смертников» строится на взаимоотношениях между заключёнными. Морис преклоняется перед Зеленоглазым, который знает, что его будут судить за убийство и, вероятно, приговорят к смертной казни. Лефранс пишет письма жене неграмотного Зеленоглазого и ревнует его к Морису. Он использует письма, написанные им жене Зеленоглазого, пытаясь отвратить её от мужа, но не ради женитьбы на ней, не столько ради себя, сколько для того, чтобы испортить её отношения с Зеленоглазым. Когда Зеленоглазый догадывается об этом, он предлагает Лефрансу или Морису убить её, когда они выйдут на свободу, что должно произойти на днях. Кто же из них двоих найдёт в себе мужество совершить убийство ради своего идола, рискуя попасть на гильотину, как и он? Зеленоглазый теряет самообладание. Он рассказывает, что убил проститутку в порыве садистской ярости, с которой не смог совладать. Когда часовой передаёт Зеленоглазому сигареты, подарок Снежка, аутентичного убийцы, он завещает жену часовому. Юный поклонник Зеленоглазого Морис глубоко разочарован падением своего героя. Чтобы показать, что он настоящий, закоренелый преступник, Лефранс, над которым зло насмехается Морис, считая, что тот никогда не будет таким, как они («Ты не нашей породы и никогда не будешь таким, как мы. Хотя ты и убил человека»12), хладнокровно душит мальчика. Зеленоглазый по-прежнему отказывается признать Лефранса аутентичным убийцей: «Я не хотел совершать преступление, — говорит он. — Оно само меня выбрало». С другой стороны, Лефранс настойчиво утверждает: «Мое несчастье приходит откуда-то из глубины. Оно сидит во мне». На Зеленоглазого эти слова не производят впечатления. Пьеса заканчивается осознанием Лефранса своего одиночества: «Я совсем один!»
Первая пьеса Жене, главным образом, — драматизированная история из жизни преступников и заключённых, рассказанная в лирическом ключе. Внешне пьеса походит на стилизованный тюремный эпос с некоторой долей экзальтации; она могла бы стать сценарием голливудского тюремного фильма, если бы не её откровенный аморализм. Однако автор далёк от чистого натурализма. В ремарке он указывает: «Пьеса развивается, как сон. Пластика актёров должна сочетать замедленность и стремительность, подобную вспышкам света»13. Иначе говоря, Жене поясняет, что в пьесе показаны не реальные события, но фантазия очнувшегося от сна заключённого, плод лихорадочного воображения.
В странной, перевернутой с ног на голову особенности сюжета фантазии Жене во многом напоминают истории Томаса Манна и Кафки. Отверженный Лефранс пытается подражать аутентичной, инстинктивной красоте и интуитивной общности несложных натур, которые просто существуют и которым не нужно стремиться к этому. Даже когда он, поборов слабость, совершит акт, должный приравнять его к ним, они его отвергают. Что бы он ни сделал, он никогда не будет признан. Неграмотного Зеленоглазого выбрало несчастье. Грамотный Лефранс сам выбирает несчастье. Осознание этого выводит его за пределы дозволенного. Он окончательно понимает, что в ловушке, подобно человеку, потерявшемуся в зале зеркал среди собственных отображений.
Его вторая пьеса «Служанки», увидевшая первой свет рампы, ещё глубже заводит нас в зал зеркал. Впервые Жене, по крайней мере, внешне, вышел за пределы мира заключённых.
Действие «Служанок» разворачивается в спальне в стиле Людовика XV: элегантная дама совершает туалет. Ей помогает служанка, которую дама называет Клер. Дама высокомерна, служанка раболепна. Но обе откровенно насмехаются друг над другом. В конце концов, служанка даёт даме пощечину. Внезапно звонит будильник, в один миг атмосфера рушится. Дама — вовсе не госпожа, но одна из служанок; в отсутствие хозяйки они затеяли игру, поочередно исполняя роль Мадам. Однако Клер — вовсе не Клер, а Соланж. Клер же играла роль госпожи и обходилась с сестрой в её стиле.
Когда Мадам покидает дом, служанки, меняясь ролями, разыгрывают фантастическую историю о рабской покорности и затем бунта против Мадам. Мадам моложе и красивее их, и обе питают к ней странную смесь привязанности, эротической любви и глубокой ненависти. Служанки писали анонимные доносы на Мсье, любовника Мадам, и он арестован. Раздаётся телефонный звонок: Мсье отпущен под залог. Служанки приходят в ужас. Их обман откроется. Они решают убить Мадам, когда она вернётся, подсыпав в чай яд. Возвращается Мадам. Они скрывают, что Мсье освобождён. Взяв чашку с отравленным чаем, Мадам замечает, что телефонная трубка не на месте. Одна из служанок сообщает Мадам новость об освобождении Мсье. У Мадам нет времени пить чай, она спешит встретить Мсье. Служанки остаются одни и возобновляют игру. Клер снова в роли Мадам и приказывает подать ей чашку с отравленным чаем. Соланж однажды уже пыталась убить Мадам, но ей это не удалось. Теперь Клер собирается проявить отвагу. Она пьёт чай и умирает в роли Мадам.
Обе служанки связаны любовью-ненавистью, зеркально отражая друг друга. Об этом говорит Клер: «Меня тошнит от моего вида в зеркале, как от дурного запаха»14. В то же время в роли Мадам Клер видит слуг в искажённом отражении кривых зеркал, как их видит высший класс: «Ваши испуганные, виноватые лица, морщинистые локти, вышедшие из моды платья, тощие тела, годные лишь на то, чтобы донашивать наши обноски! Вы — наши кривые зеркала, наши мерзкие испражнения, наш стыд, наши отбросы!»15 Ненавистное отражение друг в друге искажённо отражает мир не знающих тревог хозяев, которых они обожают, которым подражают и ненавидят.
Но зал зеркал Жене ещё более запутан. Когда в 1947 году Луи Жуве решил ставить «Служанок», Жене сначала настоял на том, чтобы в спектакле играли мужчины. Об этом он размышляет в своём первом прозаическом опусе «Богоматерь цветов»: «Если бы я ставил спектакль, я бы отдал женские роли мужчинам и оповестил бы об этом публику, поместив справа или слева от сцены плакаты, не снимая их на протяжении спектакля»16. Фактически, служанки и их госпожа — юноши.
В блистательном анализе «Служанок» Сартр заметил, что пьеса почти с точностью воспроизводит ситуацию «Камеры смертников». Отсутствующий Мсье, совершивший преступление, корреспондируется с отсутствующим героем-убийцей Снежком; Мадам, чья красота и богатство — отражение славы Мсье, соответствует Зеленоглазому. Служанки, менее значительные фигуры, как Лефранс и Морис, любят и ненавидят, а их несостоятельность отражается в великолепии славы их героя. И как Лефранс убивает Мориса, чтобы доказать свое равенство с Зеленоглазым, так Клер бросает вызов смерти, заставив Соланж подать ей отравленный чай. Нас возвращают к грёзе заключённого, к фантазии отверженного, предпринимающего бесполезные усилия, чтобы мир принял его.
Но Мадам и её любовник, хозяева служанок, не только стоят на высшей ступени иерархической лестницы преступников, как Снежок и Зеленоглазый в «Камере смертников». Они — олицетворение, образ респектабельного общества, закрытый мир les justes («правильных»), в котором сирота-подкидыш Жене чувствовал себя изгнанником и отверженным выродком. Бунт служанок против господ — не социальный жест, не революционный акт; он слегка подкрашен ностальгией и страстным желанием бунта, подобного бунту падшего ангела Сатаны против царства света, откуда он навеки изгнан. Поэтому бунт выливается не в протест, но в ритуал. Служанки поочередно играют роль Мадам, выражая страстное желание быть ею; но они так же поочередно играют и роль служанки, переходя от обожания и раболепства к оскорблениям и ненависти, таким образом освобождаясь от ярости, ненависти изгоя, воспринимающего себя отвергнутым любовником. Сартр называет этот ритуал своего рода чёрной мессой — желанием убить объект любви и зависти, застывшим и всегда повторяющимся, как церемониал, стереотипным действом. Подобный ритуал — отчаяние, обретшее плоть, действие, которое никогда не произойдёт в реальности, и будет снова и снова повторяться, как в чистом виде игра. И никогда этот ритуал не достигнет истинной кульминации. Мадам всегда будет возвращаться до кульминации. Как замечает Сартр, это банкротство, если можно так выразиться, подсознательно выливается в ритуал. Игра идёт таким образом, что всякий раз слишком много времени уходит на развитие действия, и до кульминации дело не доходит.
Ритуал исполнения желания — акт абсурдный, пустота, отражающая себя; попытка, никогда не перекидывающая мост через бездну, разделяющую мечту и реальность, подобная магии первобытного человека, который не может смотреть в лицо холодной, безжалостной жестокости реального мира. Это ритуал мира неврозов и маниакальных наваждений, проявление отторжения от жизни.
Концепция ритуального действа, магическое повторение действия, не имеющего отношения к реальности, — ключ к пониманию театра Жене. В письме к издателю Поверу (позже это письмо стало предисловием к одному из изданий «Служанок») Жене говорит о своём идеале театра как слиянии ритуала с драмой: «На сцене, почти такой же, как наша, на помосте, происходило нечто, воссоздающее окончание трапезы. От той исходной точки, которую теперь едва ли можно обнаружить, высочайшая современная драма на протяжении двух тысяч лет претворялась в ежедневных мессах жертвоприношения. Исходная точка погребена под изобилием орнаментов и символов… Спектакль, не затрагивающий мою душу, сыгран всуе… Несомненно, что одно из важнейших назначений искусства в том, чтобы заменить религию красотой. По меньшей мере, красота должна обладать властью стиха, повествующего о преступлении. Но оставим это»17.[30]
Жене отвергает театр как чистое развлечение. Он не верит, что в западном мире когда-либо театр мог служить истинной общности, связи между людьми. Он вспоминает, как Сартр рассказал ему, что такие чувства театр пробудил в нём только однажды, во время рождественского представления в лагере для военнопленных, когда неожиданно французская пьеса вызвала у него ностальгию, оживила в памяти Францию, родину и мистическую связь, но не со сценой, а с публикой. Но, продолжил Жене: «Я не знаю, каков будет театр в социалистическом обществе. Мне легче понять, каким он будет в племени мау-мау, но в западном мире театр всё сильнее и сильнее затронут дыханием смерти и сосредоточен на этом. Очиститься от этого он может только «отражением» комедии в комедии, отражением отражения, которое в переводе в ритуал смогло бы создать что-то мощное и недоступное взору. Если избрать созерцание великолепия собственной смерти, нужно неотступно следовать этому и распорядиться о погребальных символах. Или же выбрать жизнь и найти Врага. У меня никогда и нигде не будет врага, как не будет и родины, даже абстрактной, даже во мне самом. Если что-то и шевельнётся в моей душе, то лишь ностальгия по тому, что однажды было моей родиной. И только театр теней может ещё меня тронуть»18.
Театр Жене в полном смысле — Пляска Смерти. Если в театре Ионеско смерть всегда присутствует, в некотором смысле, как страх угасания, наполняющий жизнь, то в театре Жене мир живых существует, как ностальгическая память о жизни в мире мечты и фантазии. На первой странице своего монументального исследования о Жене Сартр отмечает: «Жене мёртв; если кажется, что он ещё жив, то он живет той скрытой жизнью, которую некоторые люди приписывают покоящимся в могилах. Все его герои умирали, по меньшей мере, однажды в жизни»19.
В игре зеркал у Жене любая реальность оборачивается видимостью, которая в свою очередь оборачивается обрывком сна или иллюзии, и так далее ad infinitum, — механизм раскрытия фундаментального абсурда жизни, её небытия. Фиксированная точка, с которой можем беспрепятственно наблюдать мир, вероятно, возникает из обманчивых видимостей, но всегда сводится к предельной реальности, проявляясь в чистом отражении в зеркале, и вся структура рушится. Первый coup de theatre[31] в «Служанках» — пример тому. Мы видим элегантную даму, совершающую туалет с помощью служанки Клер и; зная, что в пьесе должна быть экспозиция, фиксируем их взаимоотношения. Но неожиданно раздаётся звон будильника, и фиксированная точка, о которой мы говорили, исчезает; дама оказывается служанкой Клер, Клер — Соланж; первая сцена традиционной пьесы — часть ритуального действа, то есть пьеса в пьесе.
Сартр формулирует на языке философии экзистенциализма: «Это миг мерцающего света, и в полумраке достигается изменчивый союз бытия в небытии и небытия в бытии; это прекрасное и порочное мгновение даёт нам осознать изнутри психическое состояние Жене, когда он мечтает: это момент зла. Чтобы окончательно убедиться в том, что видение никогда не перестанет быть видением, Жене стремится, чтобы его фантазии на второй или третьей стадии неосуществления проявились бы в небытии. В этой пирамиде фантазий последнее видение уничтожает все другие»20. Или, как сформулировал сам Жене, к чему он стремился прийти в «Служанках»: «Я пытался установить дистанцию, позволив себе декламационный стиль, который создал бы эффект театра в театре. Я так же надеялся упразднить характеры… заменив их символами, сведя на нет, насколько это возможно, то, что они должны означать, но при этом соответствовать символам, чтобы единственным способом соединить автора с публикой; короче, превратить персонажи в метафоры»21. Таким образом, персонажи — лишь символы, отражения в зеркале, мечта в мечте.
Когда 17 апреля 1947 года в Париже в театре Athenee состоялась премьера «Служанок» в постановке выдающегося деятеля французского театра Луи Жуве, создалось впечатление, что Жене обрёл респектабельность. Его проза рассматривалась в издательствах. Стоит заметить, что именно Жуве предложил написать ему пьесу. «Получив предложение от знаменитого актёра, я написал пьесу не из тщеславия, а от скуки»22. Блестяще поставленные в изумительно красивых декорациях Кристиана Берара, «Служанки» имели ошеломительный успех. Но Жене всё ещё находился вне закона. В 1948 году суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению. И только петиция, подписанная выдающимися писателями, в числе которых были Сартр и Кокто, склонила, в конце концов, президента республики подписать Жене помилование.
Жене начал писать киносценарий и работал над ним несколько лет, но фильм снят не был. Одно из ведущих французских издательств начало публикацию монументального издания его сочинений. Первый том вышел в 1951 году; в 1952 году — грандиозное исследование о нём Сартра; в 1953 году — следующий том сочинений Жене. Казалось, он перестал писать для театра. Говорил, что от театра отрекся после опыта со «Служанками» и «Камерой смертников», премьера которой состоялась в феврале 1949 года в Theatre des Mathurins. В письме к Поверу о «Служанках» он пишет об отвращении к театру и миру театра: «Поэт, сотрудничающий с театром, наталкивается на противостояние заносчивой глупости актёров и прочего театрального люда. Трудно ожидать другого от тех, в профессии которых так мало серьёзности и которая не вызывает уважения. Стартовая точка, смысл их существования — выставление себя напоказ»23. Но в 1956 году он пишет пьесу «Балкон».
События, сопутствующие премьере, показали, что и теперь Жене не стал более снисходительным к актёрам и людям театра. Мировая премьера «Балкона» состоялась 22 апреля 1957 года в Лондоне в Arts Theatre Club, куда имели доступ только члены клуба. Так пьеса избежала цензуры лорда Чемберлена. Обозреватели лондонских газет, побывавшие на закрытом просмотре «Балкона», писали, что автор запретил играть пьесу, придя в бешенство от режиссёрской трактовки. Молодой режиссёр Петер Цадек, поставивший в Лондоне в начале 1952 года «Служанок» на французском языке, а затем в английском переводе, был обвинен Жене в вульгаризации «Балкона».
«Действие моей пьесы происходит в роскошном борделе, который Петер Цадек низвёл до третьесортного бардака»24. Обозреватели цитировали и блестящего американского переводчика Жене Бернарда Фрехтмана: «Сцены в борделе должны быть представлены, как торжественная месса в великолепном соборе. Мистер Цадек перенес действие в самый что ни на есть заурядный бордель»25. Через несколько дней появилась проникнутая рыцарским духом статья Петера Цадека, в которой он полемизировал с автором, блестяще аргументируя и отдавая дань Жене как художнику: «Невозможно скомпрометировать образы, которые позволяют назвать Жене одним из великих драматических поэтов века»26. Вспышку Жене режиссёр объяснил тем, у Жене нет пограничной линии между фантазией и реальностью: «Жене кажется, что жизнь целиком повторяет модель мечтателя, который пытается, чтобы его фантазия проникла в реальный мир. Но мир всегда распинал мечтателей, и святой Жене — не исключение. …Для него совершенная фантазия «Балкона» реальность, и наши усилия сделать её конкретной, поставив спектакль с актёрами, привела к тому, что фантазия была принесена в жертву»27.
Конфликт, разыгравшийся вокруг лондонской постановки «Балкона» (нельзя не признать, что это была смелая попытка в маленьком театре с весьма скромными средствами), вышел за рамки колоритного происшествия в жизни эксцентричного, оригинального драматурга. Он высветил суть всех исканий Жене — глубокое внутреннее напряжение, возникающее в результате его поисков абсолюта, прекрасного ритуального элемента в перевёрнутой системе ценностей, в которой зло — величайшее добро, а великолепные цветы вырастают среди нечистот и гнусных преступлений. И потому не кажется парадоксальным его требование, чтобы его фантазии о сексе и власти были бы поставлены на сцене с торжественностью и великолепием литургии, совершаемой в одном из самых величественных соборов мира. И в то же время от режиссёра требуется, чтобы спектакль был «вульгарным, неистовым, дурного вкуса»28. Жене идёт дальше: «Если вам скажут, что вы поставили эту пьесу с хорошим вкусом, значит это полный провал. Мои шлюхи — самые порочные во всем мире»29. Соответствовать этим требованиям очень трудно, если не невозможно.
Откровенно говоря, лондонская постановка «Балкона» при всех недостатках, слабостях, купировании важных сцен донесла суть пьесы в целом и имела успех у публики в большей степени, чем спектакль Питера Брука, более отшлифованный, с великолепной сценографией и блестящим актёрским составом. Эта была первая постановка пьесы во Франции. Премьера состоялась в мае 1960 года в Theatre du Gymnase. Точно следуя авторским указаниям, Брук поставил спектакль в замедленных темпоритмах, и он шёл очень долго. После премьеры была изъята важная, центральная сцена революционеров, которая репетировалась и была сыграна на премьере. В результате спектакль лишился финальной кульминации, существенного момента для понимания пьесы. Эта же сцена отсутствовала в нью-йоркской постановке, премьера которой состоялась в марте 1960 года. Но во время парижской премьеры Жене предусмотрительно отправился в Грецию лечить ревматизм.
«Балкон» — важный этап в эволюции Жене, шаг вперёд. Снова в начале спектакля у нас почва уходит из-под ног. В первой сцене облачённый в великолепные одежды епископ произносит напыщенную богословскую речь. Но едва мы поняли ситуацию, как становится ясно, что это не дворец епископа, а бордель, и оратор — вовсе не епископ, а инспектор по эксплуатации газа, заплативший мадам за воплощение своих фантазий о сексе и власти. Бордель мадам Ирмы называется Le Grand Balcon. Это дворец иллюзий, зал зеркал, где воплощаются самые тайные фантазии. Здесь можно стать судьёй, назначающим наказание юной воровке; генералом, представляющим себя любовником любимого боевого коня, которого изображает очаровательная девушка; прокажённым, чудесно исцелённым самой мадонной; умирающим солдатом иностранного легиона, которому оказывает помощь прекрасная арабская девушка. В заведении мадам Ирмы есть весь реквизит для воплощения грандиозных фантазий постоянных клиентов. Le Grand Balcon — зал зеркал не только в метафорическом, но и прямом смысле. Кругом зеркала, умножающие образы воображающих себя героями, но это ещё и театр, где мадам Ирма — продюсер и импресарио в одном лице.
Сюжет строится на том, что страна, где находится Le Grand Balcon, во власти стихийной революции. Уже в первых сценах слышится пулемётная стрельба. Мятежники хотят свергнуть законную власть в лице чистой, непорочной королевы, воплощающей страну, и её епископами, судьями и генералами. Одна из девушек заведения мадам Ирмы, Шанталь, — возлюбленная вождя мятежа, водопроводчика, с которым она познакомилась, когда он устранял неполадки в Le Grand Balcon. Она стала своего рода символом революции, её Жанной д’Арк. Борьбу с революцией возглавляет Шеф полиции; в его руках реальная власть в стране, современный аппарат диктатуры, воплощающий тоталитарную и террористическую власть. Однако Шеф полиции понимает, что власть — это не физическое насилие и пытки, а вопрос господства над человеческим разумом. Наилучшим образом такая власть реализуется в тайных фантазиях людей; лишь когда в борделе мадам Ирмы будет амуниция для диктатора — Шефа полиции, он ощутит себя в безопасности. С волнением спрашивает он, не заказал ли ещё кто-нибудь подобную ситуацию в борделе. Все готово, но желающих фантазировать не находится.
Сцены с мятежниками построены по контрасту к миру Le Grand Balcon, но их власть также основана на сексуальных фантазиях. Один из восставших хочет, чтобы Шанталь стала символом революции: прекрасная девушка, ведущая в атаку, поющая зажигательные мелодии, возбуждающие мужчин на великие деяния. Роже, возглавляющий мятеж, против этого предложения, но в результате уступает просьбам: «Я глазом не моргнув тебя выкрал не для того, чтобы ты превратилась в носорога или в двуглавого орла». Но Шанталь идёт в атаку.
Королевский дворец разрушен, Королева свергнута. На балконе появляется посланец дворца. Если только удастся уговорить народ продолжать верить в вековые символы власти, то положение можно спасти. Способна ли мадам Ирма взять на себя роль королевы, а её клиенты в маскарадных костюмах сыграть Епископа, Генерала и Судью достойным образом? Они идут на это. Торжественно появившись на балконе, они кланяются толпе. Шанталь устремляется к балкону, её настигает пуля. Случайный ли это был выстрел? Или может быть, мятежники стреляли в Шанталь, чтобы сделать из неё миф? Или же это дело рук Епископа, пожелавшего причислить её к рангу святых?
Мятеж подавлен. Но «епископ», «генерал» и «судья», которые могут осуществлять теперь свою власть реально, устали и ностальгируют по своим фантазиям. Когда они пытаются заявить о своих реальных функциях, Шеф полиции нагло напоминает, что реальная власть принадлежит ему. Кроме того, он по-прежнему страстно ожидает момента, когда произойдёт торжественная церемония введения его в высокую должность во всём блеске его эротических фантазий. Он выстроил великолепный мавзолей в надежде приблизиться к цели. Он пытается раскрыть символ своего величия, который будит его воображение. Ему не нужно красное одеяние и топор палача. Его новейшая идея — быть изображённым в виде гигантского фаллоса.
Приходит первый клиент, пожелавший облачиться в одежды Шефа полиции. Это Роже, вождь поверженных мятежников. С тревогой Ирма (она в роли королевы) и её сановники видят сцену через сложную систему зеркал и перископы, установленные в её борделе, наблюдают за тем, что происходит в номерах. Роже разыгрывает свою фантазию о власти и пытках, но в итоге восклицает: «Я играю Шефа полиции… у меня есть право поступить с ним, как я хочу. …Я выбрал его судьбу, нет, не то, я выбрал свою судьбу, и она слилась с его судьбой». С этими словами он выхватывает нож и кастрирует себя. Шеф полиции, удовлетворённый тем, что его образ сохранится в памяти народа, замуровывает себя в гробнице. Возможно, это разыгрывается в борделе. Слышна пулемётная стрельба. Начинается новая революция. Мадам Ирма распускает своих клиентов, снимает королевское облачение и возвращается к прежним обязанностям хозяйки дома иллюзий.
В ремарке к «Камере смертников» Жене указывает, что всё происходящее должно играться, как фантазия. «Балкон» не нуждается в подобном указании. Предельно ясно, что пьеса — мир фантазий о мире фантазий; представление Жене о сути природы власти и секса, которые, по его мнению, имеют одни и те же корни; его осуществленная фантазия об истинной природе судей, полицейских, военных и епископов. Брошенный ребёнок, изгнанный обществом, не знающий его законов, не понимающий мотивы органов государственного принудительного аппарата, воплощает свои фантазии о мотивах поступков людей, в чьих руках сосредоточена государственная власть. Отверженный заключает, что эти люди проявляют свои садистские импульсы для поддержания власти, используют жуткую символику, окружающую со всех сторон, — ритуал и церемониал суда, армии, церкви для опоры и гарантии безопасности власти. Суть секса для Жене — господство и подчинение; государство, властвующее над заключенными в суде и полиции; и романтический церемониал, в сущности, есть проявление мифа в сексе и власти. Чувством беспомощности пропитано сознание западного человека перед колоссальной сложностью современного мира, и он бессилен влиять на запутанный и непостижимый механизм. Мир, таинственно функционирующий за пределами нашего сознательного контроля, должен казаться абсурдом. Он потерял метафизическую мотивировку религиозной или исторической цели, перестал быть понятным. Заключённый, физически отделённый от внешнего мира, полностью лишён возможности ощутить своё присутствие в мире, оказывать влияние на реальность; в известной мере, заключённый чувствует условия человеческого существования в наше время более напряжённо и непосредственно, чем любой из нас. Заключённый, по крайней мере, если он обладает восприимчивостью Жене и возможностью её отразить, может выразить невысказанные мысли, подсознательное чувство неудовлетворенности.
Картина, нарисованная Жене в «Балконе», возможно, проникнута местью и искажена неистовой ненавистью к обществу, которую питает заключённый, но она и обоснована. Неправомерно критиковать пьесу за то, что анализ функционирования общества не соответствует реальности; что церковь, суд и полиция выполняют другие функции, чем в пьесе, где они сведены к страстному желанию надежно удерживать власть в своих руках на иерархических лестницах (хотя эти мотивации играют огромную роль в психологии юристов, епископов, генералов). Жене не интересует подобный анализ. Он воплощает чувство беспомощности личности, зажатой в тисках общества, переводя в драматическую форму часто подавленную и подсознательную ярость одинокого, полного ужаса «я» перед анонимной значимостью неопределённого «они». Эта беспомощность, это бессилие ищут выход в суррогатном истолковании мифа и фантазий. С их помощью пытаются вернуть смысл и цель во вселенную, хотя вынуждают рушить снова и снова. Реальность недосягаема. Личность бессильна что-либо сделать для обретения смысла в мире, находящемся на грани полного уничтожения, ибо личность не в состоянии его постичь, как не поддающийся контролю.
Мятежники в «Балконе» пытаются уничтожить систему, основанную на мифических образах. Но в акте попытки разорвать железное кольцо мифа в реальном мире, за пределами мифа, они вынуждены создавать свой миф, и кормя массы фантазиями, доказывать, что общество продолжает функционировать. Шанталь, сбежавшая из борделя мадам Ирмы, потому что не могла более заниматься проституцией ради фантазий ничтожных импотентов, пытающихся вспомнить ощущение власти и сексуальной потенции, которых они лишены и потому должны уходить в мир фантазий и неизбежно возвращаться к мифу, — сексуальный образ для пушечного мяса, необходимого революции. Шанталь, мифическая Жанна д’Арк, играя героическую роль, совершает самопожертвование. Ряженый епископ без усилий превращает её смерть в часть своей литургии. (Заслуживает внимания факт, что Жене использует приём, применённый Брехтом в «Святой Иоанне скотобоен», хотя вряд ли эта пьеса была Жене известна. У Брехта капиталисты канонизируют святую деву-революционерку сразу же после её смерти.)
Вождь мятежников осознаёт истинность своих побуждений. Реальность, которую он хотел разрушить, — реальность власти секретной службы и террористических методов современного тоталитарного государства. Поэтому он стремится удовлетворить своё неосуществленное страстное желание власти в борделе, воплотившись в Шефа полиции. Но одновременно он чувствует вину за подобную реализацию и жаждет мести. Его акт самокастрации в образе Шефа полиции носит двойственный характер: он хочет наказать себя за свою жажду власти и косвенно — Шефа полиции — одним и тем же гипнотическим актом магии. Для Роже власть и половая потенция тождественны, как для Жене и Шефа полиции, избравшего своей геральдической эмблемой гигантский фаллос. Акт гипнотический магии происходит как кастрация.
Хотя на протяжении длинной пьесы Роже появляется только дважды на короткое время, подлинным героем «Балкона» является он. Его роль соответствует роли Лефранса в «Камере смертников» и Клер в «Служанках». Лефранс пытается избавиться от одиночества и отверженности, совершив убийство. Но терпит неудачу и оказывается ещё более одиноким, чем до совершения убийства. Клер, неудачно покусившись на Мадам, кончает самоубийством в её облике. Таким же образом Роже кастрирует Шефа полиции, замещая его собой. Клер, мечтающая стать Мадам, которую она любит и ненавидит, страстно желает персонифицироваться в обожаемый образ и наказать себя за это желание, покончив с собой. Роже так же осознает свое желание быть Шефом полиции и одновременно расправиться с ним в своём лице. Но ни Клер, ни Роже не могут разрушить реальность. Клер не может стать Мадам и не может её убить в реальности. Роже не может прийти к власти через революцию и реально расправиться с Шефом полиции через гипнотический акт магии. Напротив, его поступок завершает водворение через ритуал Шефа полиции в пантеон фантазий человечества о сексе и власти. Вместо того чтобы разбить зеркало и выйти во внешний мир, Роже лишь прибавил ещё одну камеру зеркал к множеству других, отражающих фальсифицированные образы маленьких людей, мечтающих о власти.
Понятно, что такой анализ мифа и мечты сам по себе есть миф и мечта. Ещё более чем в «Служанках» и «Камере смертников» у публики не остаётся сомнений в том, что не предполагается воспринимать происходящее, как реальность. В «Балконе» отсутствуют персонажи в традиционном понимании, есть образы основных побудительных мотивов и импульсов. Нет и сюжета. За серией ритуалов следуют их ритуальные разоблачения: посетители борделя воплощают ритуальные действа и представления о новой иерархии власти, ритуальную кастрацию несостоявшегося переворота. Сюжетная структура, нуждающаяся в церемониальных актах, — самая слабая сторона пьесы. Критики единодушны в том, что финал слишком затянут и менее выразителен, чем начало пьесы. Персонажи, преображаясь в образы своих фантазий, слишком схематичны, чтобы воплощать реальную власть; они не совершают конкретных действий, если не считать дискуссий об их мифах и позирования перед фоторепортёрами на обозрение толпе. Жене не удалось сделать прорыв в реальность. С другой стороны, ритуальные или издевательски ритуальные сцены и великолепие языка грандиозны в своей театральности: триумфант выходит на котурнах, воплощая фантастические мечты маленького человека, вообразившего себя исполином.
Эта несоразмерность вытекает из основной дилеммы Жене. Он прилагает усилия для создания театра ритуала, но родственный гипнотической магии ритуал постоянно повторяет мифические события. Он стремится влиять на реальный мир, восстанавливая ключевые события, формирующие мир, или (как в ритуале рождения) иллюстрируя, в ожидании изобилия событий. Театр ритуала и обряда, подобно древнегреческому, предполагает обоснованный и жизненно важный корпус веры и мифа. Этого недостаёт современной цивилизации. В результате в «Балконе» Жене сталкивается с необходимостью создать сюжетную структуру, которая представила бы логическое обоснование его издевательской литургии и издевательского ритуала. Он не достигает интеграции сюжета и ритуала.
В «Неграх» он нашёл простое решение этой проблемы. Пьеса — клоунада (шоу клоунов), ритуал в чистом виде, и не нуждается в сюжетных схемах. Труппа чёрных актёров представляет ритуальную реконструкцию своих обид и жажды мести перед белой публикой. В предисловии Жене предупреждает, что пьеса лишится смысла, если среди публики не будет хотя бы одного белого. «Что делать, если всё-таки не будет ни одного белого? В таком случае надо, чтобы чёрные надели маски белых при входе в театр. Если чёрные откажутся надеть маски, надо использовать манекен»30. Присутствие, хотя бы символическое, одного белого обязательно для специфического ритуала.
Чёрные актёры разделены на две группы; одна играет чёрных и их фантазии, другая гротескно, в масках изображает белых. Белых зрителей в театре сталкивают с их гротескным зеркальным отображением на сцене. Чёрные актёры находятся между белой публикой на сцене и в зале. Сценическая публика олицетворяет фантазии чёрных о белых, воплощённых в иерархии власти колониального общества — надменной, холодной королевы; губернатора, судьи, миссионера и лакея (он же художник или интеллектуал, использующий своё положение на иерархической лестнице власти, хотя прямого отношения к власти не имеет). Королева, судья, епископ и генерал (губернатор — военный) идентичны представителям иерархии власти в «Балконе».
Перед этим воображаемым подобием иноземных господ труппа чёрных актёров разыгрывает свои фантазии ярости. Центральная часть ритуала — фантазия ритуального убийства белой женщины, изображаемого с отвратительными подробностями. В центре сцены гроб, в котором предполагается, что лежит белая женщина. Как заявляет один из чёрных: «Мы должны быть достойными их (то есть белых) осуждения и предоставить им возможность совершить над нами суд, который признает нас виновными»31. Сначала чернокожий Вилледж, гипотетический убийца, описывает задушенную им жертву, старую каргу, валявшуюся в доках в стельку пьяной. После тщательно реконструированного убийства жертва превращается в пышную белокожую женщину, соблазнившуюся суперсексуальным чернокожим, которого она пригласила в свою спальню, где была изнасилована и задушена. Дополнительный иронический штрих — чёрный, изображавший изнасилованную белую женщину, в реальной жизни — чернокожий священнослужитель Дайоф. После его ритуального убийства он занимает место среди других «белых» на возвышении в глубине сцены.
После того, как чёрные разыграли не только ненависть и отвращение, но и вину, следует новая фаза — окончательное освобождение. Королева и её приближенные ведут себя, как карательная экспедиция в колонии. Их берут в плен, и чёрные приговаривают их к позорной смерти; миссионер-епископ кастрирован. Арчибальд, исполняющий в спектакле роль менеджера, благодарит чёрных актёров и суммирует смысл ритуала: «Ещё не пришло время для пьес о благородных материях. Но можно предположить, что кроется под этим нагромождением пустоты и слов. Мы такие, какими нас хотят видеть. И будем такими до скончания веков, до абсурда».
Ритуал представления отношения чёрных к белым выдержан в гротескных клоунских красках, демонстрируя терпимость к белой аудитории. Открывая судебное разбирательство, Арчибальд сообщает: «Чтобы вы могли спокойно сидеть на своих местах во время представления, которое уже начинается, чтобы вы были уверены, что события драмы ничем не грозят вашим драгоценным жизням, мы даже будем соблюдать хороший тон, которому мы научились у вас: понимание между нами невозможно. Мы увеличим дистанцию, разделяющую нас; дистанция — это главное, и мы её соблюдём, пустив в ход весь наш блеск, манеры и наглость. Ведь мы ещё и актёры»33. Пьеса скорее ритуальная церемония, чем дискуссия о расовых проблемах и колониализме. В ритуале смысл выражается повторением символических действий. Участники более внушают ужас, чувство мистического соучастия, чем выражают концептуальное послание. Различие в том, что публика видит гротескную пародию на ритуал, в которой горечь проявляется в клоунаде и смехе.
Однако это только первый обман в запутанном зале зеркал. По мере развития действия публика сталкивается с реальностью значительно больше, чем предлагает ритуал, но вне сцены. Один из персонажей, Виль де Сеи-Назер (в английском переводе Нью-Портские новости), в начале спектакля отправленный с револьвером, в финале возвращается и докладывает, что негр-предатель допрошен и казнён. Тщательно разыгранное представление — обман, иллюзия для отвлечения внимания от реального действия, происходящего вне сцены. Нам показали ритуал убийства белой женщины, но в реальности происходил суд и казнь предателя-негра.
Когда возвращается Нью-Портские новости с сообщением о казни предателя, актёры, изображающие суд белых, снимают маски и предстают чёрными. Но это происходит после того, как они узнают, что новый революционный представитель направлен в Африку для возобновления следствия по делу казнённого предателя, после чего они вновь надевают маски и приводят в исполнение судебный приговор, пытая белых угнетателей.
Ритуал мести был отвлечением внимания. Но так ли это? Нам известно, что Нью-Портские новости также и актёр, и ничего реального не произошло вне сцены, и спектакль более реален, чем вымышленные казнь и революция. Входило ли это в намерение Жене, или политический вымысел в дымовой завесе гротескного представления ещё одно отражение в цепи миражей? Мы знаем, что чёрные на сцене не просто чёрные. Как и служанки в одноименной пьесе, даже если их играют женщины, представляют мир мужчин, так чёрные в «Неграх». Как замечает Жене в предисловии: «Однажды актёр попросил меня написать пьесу для чернокожей труппы. Но что означает «чёрный»? Что такое его цвет?»34. Чёрные в пьесе — образ всех отверженных; сверх того, для Жене они олицетворяют тех, кто в десятилетнем возрасте назвал его вором, после чего он решил «быть тем, кем они хотят, чтобы мы были». Или, как говорит Арчибальд: «На этой сцене мы — виновные заключённые, которые играют виновных»35. На сцене чёрные снова преступники, заключённые, лишенные шансов быть принятыми обществом, лелеющие мечты о своей вине и мести, суде и казни предателей.
«Мы — это ты и я, — говорит Вилледж, — мы на обочине мира, мы за его пределами. Мы — тени, тёмная часть светлого творения…» Он произносит эти слова, объясняясь в любви чернокожей проститутке Виртю. Когда в нём зажглась любовь, он оказался на пороге реальности: «Глядя на тебя, вдруг, на какой-то, вероятно, миг, я ощутил в себе силу отвергнуть всё, что не было тобой и посмеяться над иллюзией. Но у меня слишком слабые плечи. Я не в состоянии бороться с тяжестью мирского осуждения. И я возненавидел тебя, когда всё вокруг воспламеняло мою любовь, делало презрение людей невыносимым. Оно убило мою любовь. Я ненавижу тебя»36.
Чёрные отщепенцы лишены человеческого достоинства, чувства реальности. Однако в финале, когда разрушен гротескный ритуал, на сцене остаются только Вилледж и Виртю. Вилледж пытается выразить любовь, хотя это для него трудно. Это первый проблеск надежды в трагическом театре Жене: двое, полюбив, нашли в себе мужество разорвать порочный круг фантазий и установить человеческий контакт. Или же это слишком оптимистическая интерпретация? Или такой счастливый финал — фантазия об осуществлении подсознательного желания и потому ложный? Нет. В финальной сцене «Негров» труппа в глубине сцены, и только Вилледж и Виртю стоят спиной к публике. Они идут к своим товарищам-актёрам под менуэт из «Дон Жуана» Моцарта. Влюблённые отвернулись от мира иллюзий.
«Негры» написаны в 1957 году. Премьера состоялась 28 октября 1958 года в постановке Роже Блена в Theatre de Lutece и игралась чернокожей труппой Les Griots. Блистательно сыгранный спектакль имел огромный успех и не сходил со сцены несколько месяцев, хотя приводил в замешательство большую часть публики и изрядное количество критиков.
Вопреки открыто декларируемому презрению к театру и отказу признавать в актёрах художников, Жене более не вернулся к роману или другой прозе, обратившись к драматургии. Его последняя пьеса «Ширмы», написанная в 1961 году, — едкий комментарий войны в Алжире. На первый взгляд может показаться, что Жене, как Адамов, отказался от театра абсурда, обратившись к политическому реализму. Но это не так, хотя «Ширмы» недвусмысленно говорят, на чьей стороне симпатии Жене. В «Ширмах» он резюмирует тему «Негров», но менее успешно. В пьесе, в которой задействовано огромное количество персонажей, вновь изображены беднейшие из бедных, алжирские крестьяне, отверженные обществом, ведущие безнадежную борьбу с властями — администрацией, «праведники». Но если в «Неграх» действие концентрируется в мощном поэтическом образе, то в «Ширмах» оно рассредоточено на огромной, на открытом воздухе, четырехъярусной сцене. Жене настаивает на этом. Действие должно происходить зачастую одновременно на нескольких ярусах перед множеством разнообразных ширм, бесшумно вращающихся на резиновых колесах. На ширмах обозначено место действия, которое иногда актёры рисуют сами. В пьесе около ста персонажей; Жене обуславливает, что каждый актёр должен играть пять или шесть ролей.
Грандиозное полотно фокусируется на самом бедном арабе Саиде; он настолько беден, что может жениться только на самой некрасивой девушке Лейле. Мать Саида властвует над ним. Она, как все матери у Жене, — амбивалентный характер. Они оба принимают участие в мятеже; мать убивают, и она появляется на верхнем ярусе с другими погибшими, наблюдая за происходящим. Как и в «Неграх», некоторые персонажи в масках белых. Ярко воспроизведена жизнь арабской деревни с кади, борделем, базаром, колонистами, полицейскими. Гротескно-карикатурно изображены французские солдаты — жестокие, грубые фигляры. Однако антиколониальная направленность пьесы перекрывается изобилием образов анального эротизма, не столь откровенного в предыдущих пьесах, хотя характерного для прозы Жене. По этой причине и из-за расплывчатости «Ширм» спектакль произвёл меньшее впечатление, чем предыдущие. Естественно, эта пьеса не могла быть поставлена во Франции в период нерешённого алжирского конфликта. Мировая премьера пьесы в сильно урезанном варианте состоялась в Западном Берлине в мае 1961 года.
Питер Брук, открывший в начале 1964 года сезон театра жестокости, в учебных целях обратился к «Ширмам», поставив экспериментальный спектакль, взяв только первые двенадцать сцен, сократив пьесу более чем на половину. Показ был закрытым и произвел неизгладимое впечатление. Сцена, в которой алжирцы жгли сады колонистов, доводила эмоции до предела.
Живописное изображение на ширмах пламени трансформировало действие в драму. Цензурные препятствия и очевидность неуспеха у широкой публики заставили отказаться от проекта. Летом 1964 года труппа Брука триумфально выступила с пьесой Петера Вайса «Марат/Сад».
История постановки «Ширм» — ирония судьбы: после окончания войны в Алжире, в период расцвета правления де Голля, 21 апреля 1966 года «Ширмы», в конце концов, впервые были показаны во Франции в театре Odeon в постановке Роже Блена с Мадлен Рено и Жаном-Луи Барро в главных ролях. Прошло несколько демонстраций протеста, но спектакль был принят с энтузиазмом большинством публики.
Возможно, «Ширмы» — часть цикла из семи пьес, над которым, как говорил Жене, он работал, но ни одна из них не появилась до конца 1970-х годов.
Фильм Mademoiselle (1966), снятый Тони Ричардсоном с Жанной Моро в заглавной роли, свидетельствует о прорыве Жене к реальности. Скромная деревенская учительница наблюдает, как красавец, рабочий-строитель (в оригинале он — поляк, в фильме — итальянец) отважно спасает деревню. Она совершает ряд преступлений (поджигает амбар, загрязняет колодец, руша его тележкой для перевозки угля) ради того, чтобы дать выход своим подавленным желаниям, и каждый раз мужественный иностранец приходит на помощь жителям. Не в состоянии понять обрушившиеся на них одна за другой беды, местные жители-ксенофобы обвиняют во всем иностранца. После страстной, принесшей ей полное удовлетворение ночи с ним скромная молодая женщина холодно и равнодушно наблюдает, как толпа линчует её любовника. Затем она собирает вещи и отправляется на новое место службы. Сценарий Жене написан блестяще. К сожалению, топорный перенос на экран сделал его нелепым, почти самопародией.
После публикации пьес интерес Жене к театру угас, и он замолчал. В конце 1960-х Жене энергично поддерживал партию Чёрных пантер в Соединенных Штатах и сделал несколько публичных заявлений в их поддержку. Он вел кочующий образ жизни, переезжая без багажа из отеля в отель, появляясь на краткий миг на одном континенте и тут же отправляясь на другой, неуловимая блуждающая звезда.[32]
Жене в драматургии довёл до конца идею о том, что все его персонажи, за возможным исключением Вилледжа и Виртю в «Неграх», терпят крах, достигнув цели; он пробился сквозь порочную спираль мечты и иллюзий, перенеся свои конкретные, грубые, разрушительные фантазии на сцену; он добился успеха, воздействуя на реальный мир, даже если при этом он заставлял публику, «правильных», испытывать возбуждение и отвращение. Как резюмирует Сартр об удивительной судьбе Жене: «В желании быть вором он доходит до предела возможного, погружаясь в мечту; в стремлении довести мечту до точки безумия он становится поэтом; в жажде довести поэзию до финального торжества слова, он становится человеком; и человек делается истинным поэтом так же, как поэт был истинным вором»37. Если антиобщественные поступки молодого отщепенца были попытками мстить обществу, полностью разрушить его структуру символическими актами гипнотической магии, то его деятельность писателя — прямое более эффективное продолжение этого протеста. Как говорит Сартр: «Если Жене, заключенный в мир фантазий безжалостным ходом жизни (то есть отверженный, который не может воздействовать на реальный мир), не признающей его стремления шокировать тем, что он стал вором?.. Если он сделал воображаемую сферу постоянным источником скандала? Если он мог повсюду, где бы ни находился, извлекать из своих фантазий, из бессилия беспредельную силу вопреки полициям всего мира, не ставит ли это под сомнение общество? Не обнаружил ли он в таком случае точку соединения воображаемого и реального, неплодотворного и плодотворного, лжи и истины, права защищаться и использовать это право?»38.
Противопоставляя себя обществу в драматургии, Жене намного ближе к своей цели, чем в прозе, где он наедине с читателем. В театре живые люди, сообщество, публика оказываются лицом к лицу с таинственным миром мечты и фантазий отщепенца. Более того, публике приходится под воздействием спектакля, даже если он вызывает ужас и отвращение, узнать собственное психологическое состояние, чудовищно усиленное и преувеличенное, хотя это всего лишь театр. Несомненно, большая часть публики пришла в театр, привлеченная слухами, что спектакль скандальный или порнографический, что только увеличивает эффект шока. Потому что снедаемые любопытством «правильные» видят, что их фантазии не так уж и отличаются от фантазий откровенничающего отщепенца.
Театру Жене недостает сюжета, характеров, конструктивности, последовательности и социальной правды. Его пьесы психологически правдивы. Это не интеллектуальные, талантливые экзерсисы, но проекции мира личного мифа, постигаемого прелогическим способом мышления, знаком сферы мифа и фантазии; в результате преобладание магических форм действия в пьесах Жене ведёт к идентификации субъекта и объекта, символа и реальности, слова и идеи, и в ряде случаев происходит отрыв названия от предмета, его означающего, к объективизации слова. Однажды Жене сказал Сартру, что ненавидит розы, но любит слово «розы». Дологическое мышление превращает фантазии, язык мифа в заклинание взамен коммуникации; слово не обозначает понятие, но вызывает мысленный образ предмета, превращаясь в магическую формулу. Желание и любовь выражаются в стремлении обладать и соединиться с любимым объектом. Заклинание, магическое замещение и идентификация — важные элементы ритуала. Использование языка как магического заклинания — воплощения слов — превращает театр Жене вопреки его жестокости и скабрезности в подлинно поэтический театр, своего рода перевод «Цветов зла» Бодлера в драматические образы.
Театр Жене, без сомнения, — театр социального протеста. Однако, как Ионеско и Адамов до его обращения к эпическому реализму, он решительно отвергает политические обязательства и дискуссии, дидактику и пропаганду. Его театр — мир фантазий отверженных, исследующий условия человеческого существования, отчуждение человека, его одиночество, тщетные поиски смысла и реальности.
Театр Жене отличается методом и подходом от театра рассматриваемых в этой книге драматургов, хотя ему свойственны признаки, характерные для этих драматургов: отказ от концепции характера и мотиваций; большая сосредоточенность на душевном состоянии и основных человеческих ситуациях, чем на развитии сюжета, начиная от экспозиции и кончая развязкой; девальвация языка как способа коммуникации и понимания; отказ от дидактики; столкновение зрителей с жестокими фактами жестокого мира и его собственной изоляции. Несомненно, «Балкон», «Негры» и во многом «Служанки» принадлежат театру абсурда.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ГАРОЛЬД ПИНТЕР. РЕАЛЬНОЕ И НЕРЕАЛЬНОЕ
Среди молодого поколения драматургов, следующих по стопам пионеров театра абсурда, — Гарольд Пинтер (1930–2008). Будучи на двадцать четыре года моложе Беккета, он достиг статуса крупной фигуры в современном театре. Его предыстория иная, нежели у изгнанников Армении, Румынии, Ирландии и у выходца криминального мира Франции. Они сделали главный вклад в новое направление драмы, и Пинтер, из семьи относительно недавних эмигрантов из Восточной Европы, в целом повторяет эту модель. Сын портного-еврея из Хакни, в восточной части Лондона, он начал писать стихи ещё подростком, печатаясь в небольших журналах. Он изучал актёрское искусство в Королевской академии драматического искусства и в Центральной школе речи и драмы, играл под псевдонимом Дэвид Бэрон в шекспировской труппе в Ирландии. Годы напряженного труда он отдал провинциальному театру. Начав писать роман «Карлики», он не окончил его.[33] С 1957 года начал писать пьесы. Пинтер рассказывал, как однажды он бросил идею пьесы приятелю, работавшему на кафедре драмы Бристольского университета. Приятелю настолько понравилась идея, что он прислал Пинтеру письмо с просьбой написать пьесу, прибавив, что ему дается неделя, и он должен сразу же выслать рукопись для постановки пьесы в университете. «Я ответил ему, чтобы он забыл об этом. Затем сел и написал пьесу за четыре дня. Я не вполне понимал, как мне это удалось, однако всё же удалось»1.
Это была быстро и спонтанно написанная «Комната», премьера которой состоялась в мае 1957 года в Бристольском университете. В ней уже содержатся многие основные темы и особенности стиля Пинтера с идиомами, характерными для его поздних и более совершенных пьес, со сверхъестественно жёсткой меткостью интонаций, неумеренной болтливостью, безотносительностью и бессвязностью повседневной речи; банальностью ситуации, постепенно превращающейся в угрожающую, жуткую, таинственную; с нарочитым отсутствием объяснения или мотивации действия. Комната — центральный и главный поэтический образ пьесы, один из повторяющихся у Пинтера. Однажды он сформулировал суть своего метода: «Двое в комнате — я давно использую этот образ. Поднимается занавес, и у меня возникает вопрос, что произойдёт с этими двумя в комнате? Откроется ли дверь и войдёт ли к ним кто-нибудь?»2. Исходная точка театра Пинтера — возвращение к основным элементам драмы: напряжение (suspense) создается элементарными способами чистого, долитературного театра: сцена, двое, дверь; поэтический образ непостижимого страха и ожидания. Когда критик спросил, чего же боятся эти двое в комнате, Пинтер ответил: «Очевидно, они боятся мира за пределами комнаты. Снаружи мир, нагоняющий страх. Убежден, что этот мир пугает и нас с вами»3.
В этой пьесе место действия — комната, в которой живут простодушная старушка Роз и её муж Берт, который с ней не разговаривает, хотя она по-матерински ухаживает и заботится о нём. Комната находится в большом доме, за её стенами — зима и ночь. Для Роз комната — единственное убежище, защита от враждебного мира. Она не хотела бы жить внизу, где холодно и сыро. Комната — образ маленького островка света и тепла, наше осознание, что мы существуем; образ, возникающий в необозримом океане небытия, из которого мы постепенно появляемся после рождения и куда мы возвращаемся после смерти. Комната — частица тепла и света в кромешной тьме, ненадежная опора; Роза боится выселения. Она не знает, где расположена её комната в доме. Когда она спрашивает мистера Кидца, считая его домовладельцем, хотя он всего лишь сторож, сколько этажей в доме, он не может ответить: «Сказать по правде, я их теперь не считаю»4. Мистер Кидд старчески болтлив, не знает своего происхождения: «Думаю, мать моя — еврейка. Я не удивлюсь, если это так»5.
Муж и мистер Кидд уходят. Роз остается одна. Дверь вот-вот откроется в неизвестность, в зиму и ночь. Когда Роз открывает дверь, чтобы выставить мусор, за порогом стоят двое. Мгновение истинного страха достигается минимальными средствами. Хотя незнакомцы всего лишь молодая пара, которая ищет хозяина, атмосфера ужаса не исчезает. Они узнали, что в доме сдаётся хорошая комната. Шли по пустому дому и услышали голос из темноты, подтвердивший, что сдаётся комната номер семь, то есть комната Роз.
Незнакомцы уходят. Возвращается мистер Кидд. Какой-то человек хочет видеть Роз. Он уже несколько дней ждал, пока уйдёт муж Роз. Мистер Кидд уходит. Роз остаётся одна. Снова дверь превращается в фокусирующую точку неизвестной угрозы. Дверь открывается. Входит слепой негр Райли. Его прислал отец Роз: «Ваш отец хочет, чтобы вы вернулись домой. Идите домой, Сэл»6. Нам известно, что имя женщины — Роз. Но она не поправляет посланца, а только просит: «Не называйте меня так». Возвращается её муж Берт, не произнесший ни слова в первой сцене. Сейчас он говорит: «Я вернулся. Всё в порядке». Снова настоящий coup de theatre,[34] достигнутый простейшими средствами. Берт рассказывает о страшной темноте, и как он возвращался на своём любимом фургоне обратно. Он замечает негра. Берт опрокидывает стул, на котором сидел негр, и жестоко его избивает до тех пор, пока тот не становится неподвижным. Роз подносит руки к глазам. Она ослепла.
«Комната» демонстрирует не только полностью сформировавшиеся основные черты стиля Пинтера, но и его слабые места, позволяющие увидеть, как постепенно он учился избегать искушений, не преодоленных в первой схватке в порыве спонтанного энтузиазма. Слабость «Комнаты» — в снижении образа ужаса, построенного на банальности, грубой символике, дешёвой таинственности и насилии. Слепой негр, приносящий весть от отца, призывающего дочь вернуться домой; его убийство ревнивым мужем — почти пародийные символы, как и слепота Роз; все эти мелодраматические средства не выдерживают сравнения с таинственно нарастающим ужасом начальных сцен. В других сценах тайна превращается в банальную мистификацию.
Во второй его пьесе ещё присутствует элемент мистификации, но он значительно тоньше и остроумнее. В «Немом официанте» (1957, премьера 21 января 1961 года в Hamstead Theatre Club в Лондоне) снова комната, в которой находятся двое, дверь ведёт в неизвестность. Двое в мрачной подвальной комнате — киллеры, нанятые таинственной политической организацией, раскинувшей сети по всей стране. Киллеры получили адрес и ключ и ожидают инструкций. Рано или поздно появится жертва, они её убьют и будут свободны. Они не понимают, что происходит: «Кто приведёт всё в порядок после нашего ухода? Хотелось бы мне знать это. Кто всё уберет? Может, и убирать ничего не станут, а? Как ты считаешь?»7.
Оба бандита, Бен и Гус, очень нервничают. Они хотят чаю, но это невозможно. У них нет спичек. Таинственным образом под дверью появляется конверт со спичками. Но у них нет монеты, чтобы бросить её в газовый счетчик. В задней стене дверца, через которую можно поднять заказ, так называемый «немой официант». Должно быть, здесь когда-то была кухня ресторана. Внезапно приспособление начинает двигаться: опускается бумага с заказом: «Два бифштекса с жареным картофелем. Два пудинга из саго, два чая с сахаром». Бандиты боятся, что их обнаружат и лихорадочно пытаются выполнить таинственный заказ, присланный сверху. Они шарят в карманах в поисках остатков еды и посылают пакетик чая, бутылку молока, плитку шоколада, церковную облатку, пакетик чипсов. Но немой официант вновь возвращается, заказы поступают всё более сложные с требованием блюд греческой и китайской кухонь. Рядом с «немым официантом» есть переговорное устройство, и Бен входит в переговоры с верхними силами. Он слышит: «Церковная облатка чёрствая, шоколад растаял, бисквиты заплесневелые»8. Когда Гус выходит за стаканом воды, переговорное устройство вновь оживает. Бен получает сверху последнюю инструкцию: первый, переступивший порог подвала, должен быть убит. Им оказывается Гус. Бен снимает пиджак, жилет, галстук, кобуру с револьвером. Входит Гус, он и есть жертва.
В «Немом официанте» блестяще воплощен постулат Ионеско — сплав трагедии с самым уморительным фарсом. Это достигается благодаря превращению таинственного, сверхъестественного элемента, который в «Комнате» всего лишь сентиментален, в дополнительный комический элемент: представление о божественных силах, бомбардирующих двух бандитов требованиями «macaroni pastpaitsio, ormitha macarounada, char sie и пророщенную фасоль», что ужасно смешно. Однако главный элемент комедии — блестящая болтовня о пустяках, за которой бандиты скрывают своё растущее беспокойство. Их споры о том, какая футбольная команда проиграет в эту субботу, как правильно сказать «включить чайник» или «включить газ»; бессмысленные рассуждения о тривиальных новостях в вечерних газетах поразительно точны, комичны и ужасают своей абсурдностью.
Первая полнометражная пьеса Пинтера «День рождения» сочетает некоторые характерные ситуации «Комнаты» и «Немого официанта»; однако в этой пьесе он впервые обходится без мелодраматического сверхъестественного элемента, не жертвуя таинственностью и порождаемым ситуацией страхом. Спасительная тёплая гавань «Комнаты» превращается в пансион с сомнительной репутацией на морском побережье, который содержит неряшливая, по-матерински ухаживающая за постояльцами старушка Мэг, во многом напоминающая Роз из «Комнаты». Её муж Питей почти так же молчалив, как муж Роз, Берт. Это добродушный старик, выдающий на променаде шезлонги. Бандиты Бен и Гус из «Немого официанта» здесь — зловещая пара чужестранцев: грубый, молчаливый ирландец и еврей-простак с напускной житейской мудростью. Центральный персонаж Стэнли — новый характер. Ему под сорок, он вял, ленив и апатичен. Некогда он нашёл убежище в пансионе Мэг, годами не имеющей постояльцев. Мэг настолько по-матерински с ним обращается, что их отношения кажутся инцестом. Об его прошлом мало известно, кроме апокрифической истории, будто бы однажды он давал сольный фортепианный концерт в Lower Edmonton и имел огромный успех. Но затем, на следующем концерте: «Надули меня. Надули. Всё было подстроено. Вычислено. Мой следующий концерт, он был в другом месте. Зимой. Я отправился туда играть. Когда я туда прибыл, зал был закрыт. Никого не было, даже сторожа. Они всё заперли… Мошенничество. Они надули. Я хотел узнать, кто отвечает за концерт. …Да, Джек, я мог взять чаевые»9.
Хотя Стэнли мечтает о мировом турне, ясно, что он спрятался от враждебного мира в жалком приморском пансионе Мэг.
Затем, как и в двух предыдущих пьесах, открывается дверь. Два зловещих визитёра, Голдберг и Макканн, хотят получить комнату в пансионе Мэг. Вскоре становится понятно, что они явились за Стэнли. Кто они? Эмиссары некой тайной организации, которую он предал? Служители сумасшедшего дома, откуда он сбежал? Или это посланцы с того света, как слепой негр в «Комнате»? На эти вопросы ответа нет. Мы видим, что готовится вечерника в честь дня рождения Стэнли, однако он заявляет, что это не день его рождения. Ему устраивают промывку мозгов — ужасающий, абсурдный экзамен из перекрёстных вопросов.
ГОЛДБЕРГ. Вы замарали червями простыню при своём рождении?
МАККАНН. Что такое ересь альбигойцев?
ГОЛДБЕРГ. Кто наполнил водой шлюзы Мельбурна?
МАККАНН. Что известно о блаженном Оливере Планкетте?
ГОЛДБЕРГ. Громче, Уэббер. Зачем цыпленок переходил дорогу?
СТЭНЛИ. Он хотел… он хотел… он хотел…
МАККАНН. Он не знает!
СТЭНЛИ. Он хотел…
МАККАНН. Он не знает. Он не знает, что было сначала.
ГОЛДБЕРГ. Что было сначала?
МАККАНН. Курица? Яйцо? Что было сначала?
ГОЛДБЕРГ И МАККАНН. Что было сначала? Что было сначала? Что было сначала?10
Вечеринка продолжается; Мэг, не понимающая, что происходит, нелепо изображает королеву бала; оказывается, у Голдберга множество имён, и он соблазняет немую блондинку из соседнего дома. Всё это продолжается до тех пор, пока не наступает кульминация — игра в жмурки. Стэнли, у которого Макканн отобрал очки, впадает в истерику, пытаясь задушить Мэг. В конце концов, зловещие постояльцы сталкивают его с лестницы.
В третьем акте Голдберг и Макканн усаживают Стэнли в огромный чёрный автомобиль. Теперь на нём чёрный пиджак, брюки в полоску, чистая рубашка, на голове котелок. В руках у него разбитые очки. Он безмолвен, у него провал памяти, он превратился в марионетку. Спускается Мэг, грезя об удивительной вечеринке, не понимая, что произошло.
«День рождения» можно интерпретировать как аллегорию подавления, превращение в конформиста пианиста Стэнли, художника, которого эмиссары буржуазного мира принудили быть респектабельным, надев на него брюки в полоску. Но пьеса может восприниматься и как аллегория смерти: человека выдворяют из дома, который он сам построил; чёрные ангелы небытия, задававшие ему вопрос, что было сначала — курица или яйцо, отторгают его от сердечного тепла и любви, олицетворяемые Мэг, соединяющей материнские чувства и сексуальные притязания. Но, как и «В ожидании Годо», интерпретации такого рода заводят в тупик; такие пьесы исследуют ситуацию, в которой содержится поэтический образ, убедительный и правдивый, что сразу же очевидно. Пьеса откровенно рассказывает о безнадёжных поисках личности защиты, о тайных страхах и тревогах; о терроризме нашего мира, столь часто явленного притворной добротой и фанатичной грубостью; о трагедии, возникающей из-за отсутствия понимания между людьми. Стэнли никогда не почувствует сердечного тепла и любви Мэг, потому что он презирает её за неряшливость и глупость. С другой стороны, открытая сердечность и привязанность мужа Мэг Питея, косноязычного до идиотизма, остаются невостребованными, глубоко скрытыми внутри.
Аллегорическая интерпретация пьесы была бы возможной, если бы она была написана с определённой идеей. Пинтер категорически отрицает такой способ работы: «Думаю, невозможно, во всяком случае, для меня, начать писать пьесу, отталкиваясь от абстрактной идеи. …Я начинаю писать пьесу, представив мысленно ситуацию и пару персонажей, попавших в неё, и эти люди всегда для меня реальны; если их нет, пьесу написать невозможно»11.
Пинтер не видит противоречия между стремлением к реализму и элементарной абсурдностью ситуаций, его вдохновляющих. Как Ионеско, он считает абсурд жизни до известной степени смешным. «Всё смешно; смешна чрезмерная серьёзность; даже трагедия смешна. И я пытаюсь, чтобы в моих пьесах узнавалась действительность в абсурдности наших поступков, поведении, разговорах»12.
Всё смешно до тех пор, пока ужас ситуации не выйдет наружу: «Смысл трагедии в том, что это уже не смешно…»13 Жизнь смешна, потому что она произвольна и основана на иллюзиях и самообмане, подобно фантазии Стэнли о мировом турне; она построена на нелепой переоценке своих возможностей. В нашем мире всё неопределённо и относительно. Нет ничего постоянного; нас окружает неизвестность. И «действительно, это приводит к тому, что неизвестность заставляет нас делать следующий шаг, что, кажется, и происходит в моих пьесах. Этот род ужаса повсюду, и думаю, что этот ужас и абсурд сочетаются»14.
Пространство неизвестности, окружающее нас, заключает в себе мотивацию и подоплёку характеров. Стремясь достичь высокой степени реализма в театре, Пинтер отвергает в хорошо сделанной пьесе слишком большую информацию о подоплёке и мотивации действий каждого персонажа. В реальной жизни мы постоянно имеем дело с людьми, игнорируя их биографию, семейные отношения или психологические мотивации. Они нас интересуют, если мы видим их в некой драматической ситуации. Мы останавливаемся и с интересом наблюдаем за уличной ссорой, даже не зная её причины. Но в этом больше неприятия слишком определённой мотивации характеров в драме, чем стремление к реализму. Существует проблема возможности всегда знать реальную мотивацию поступков людей сложных, чья психология противоречива и не поддаётся контролю. Одна из главных тревог Пинтера как драматурга — трудность контроля. В буклете к спектаклю по двум его одноактным пьесам в Royal Court Theatre в марте 1960 года Пинтер изложил эту проблему: «Желание контроля понятно, но всегда неосуществимо. Между реальностью и нереальностью, между истиной и ложью нет строгого разграничения. И нет необходимости их разграничивать; та и другая могут быть и правдой, и ложью. Контроль над тем, что произошло и что происходит, не такая уж проблема, я допускаю, что ошибаюсь в этом. Персонаж на сцене, который не предоставляет убедительных аргументов или информации о своём прошлом, о поведении в настоящий момент, о стремлениях, подробного анализа своих мотивов, так же достоин внимания, как и тот, кто горячо сообщает о себе все подробности. Чем острее переживание, тем менее чётко выражена мысль»15.
Проблема контроля в театре Пинтера тесно связана с языком. У Пинтера чуткое ухо, он беспристрастно фиксирует абсурдность повседневной речи со всеми повторами, бессвязностью, нелогичностью и грамматическими неточностями. Диалог в его пьесах — гамма поп sequiturs пустяковых разговоров; он регистрирует эффект замедленного действия, возникающий из-за различия скорости мысли: тяжелодум ещё только отвечает на предпоследний вопрос, схватывающий на лету уже давно его обскакал. Непонимание возникает и от неспособности слушать; непонятные многосложные слова используются для персонажей, нечётко выражающих свои мысли; в ход идут плохо расслышанные слова и ложные предчувствия. Диалог Пинтера строится не на логическом развитии, но на ассоциативном мышлении, звук постоянно превалирует над смыслом. Однако Пинтер отрицает, что он стремится представить доводы о неспособности человека общаться с себе подобными. Однажды он высказался: «Я считаю, что это не неспособность общаться, но намеренное уклонение от общения. Общение пугает больше, чем постоянная словесная перепалка, непрекращающаяся болтовня о том о сём, и в этом суть взаимоотношений»16.
«День рождения» — первая пьеса Пинтера, поставленная в Лондоне профессиональным театром. Премьера состоялась 28 апреля 1958 года в Кембридже в Art Theatre и в мае была перенесена в Lyric, Hammersmith. Сначала пьеса успеха не имела. В январе 1959 года Пинтер сам поставил пьесу в Бирмингеме. С огромным успехом пьеса прошла в блестящем исполнении Tavistock Players at the Tower Theatre, Canonbury, в Лондоне весной этого же года. Блистательную телепостановку увидели миллионы английских телезрителей в начале 1960 года.
Странная, требующая ответов пьеса произвела огромное впечатление на телезрителей. Им не хватало дешёвых, понятных мотиваций, к которым они привыкли в повседневном телевизионном меню, но зрители были явно заинтересованы. Целыми днями в автобусах и кафе велись страстные споры о пьесе, вызвавшей раздражение, но вместе с тем и глубокое беспокойство. «День рождения» был поставлен в Соединенных Штатах в июле 1960 года, с большим успехом сыгранный в Сан-Франциско Actors’ Workshop.
В 1957 году Пинтер написал для радио и телевидения поразительно глубокие пьесы. В радиопьесе «Лёгкая боль», премьера которой прошла по третьей программе Би-би-си 29 июля 1959 года, Пинтер блистательно ограничивает выразительные средства. Из трёх персонажей пьесы лишь двое разговаривают, третий персонаж не проронит ни слова на протяжении всей пьесы, внося ужас неизвестности. Супруги, старики Эдвард и Флора, обеспокоены таинственным присутствием продавца спичек у ворот их дома. Он неделями стоит с корзиной, ничего не продав. В конце концов, они приглашают его в дом. На все их обращения к нему он отвечает молчанием. Словно не замечая его реакции, Эдвард начинает рассказывать ему про свою жизнь. Эдвард уверяет, что он не боится, но ему необходимо дышать свежим воздухом в саду. Потом наступает очередь Флоры обратиться к молчаливому визитёру с потоком воспоминаний и признаний. Она даже заводит разговор о сексе, явно пытаясь его соблазнить, но старый бродяга её отталкивает. «Я и не подумаю тебя отпустить, старина, я буду звать тебя Барнабас». Как и у Мэг в «Дне рождения», отношение Флоры к старику — смесь сексуальности и материнства. Эдвард ужасно ревнует. Он вновь обращается к Барнабасу. Не добившись реакции, он чувствует себя задетым и лишним. Пьеса заканчивается водворением
Барнабаса в дом, Эдварда же Флора выставляет прочь: «Эдвард, вот твоя корзина»17. Бродяга и муж поменялись местами.
Любопытна параллель между молчащим продавцом спичек в «Лёгкой боли» и Убийцей у Ионеско, молчание которого приводит его антагониста Беранже к пароксизму красноречия и гибели. В пьесе Пинтера, как и в пьесе Ионеско, безмолвный персонаж становится катализатором рождения у другого персонажа глубочайших чувств. Эдвард, облекавший мысли в слова, внутренне пуст и ничтожен. Флора, обладая всё ещё витальной сексуальностью, меняет партнёров. Безмолвный продавец спичек вообще не подаёт голоса в отличие от нечленораздельного хихиканья Убийцы, и он вполне может быть фантазией стариков. Радиослушатели никогда не смогут проверить, реальная он фигура или нет. «Лёгкая боль» имела успех и на сцене. 18 января 1961 года в лондонском Arts Theatre состоялась премьера пьесы.
Элемент тайны почти полностью отсутствует в радиопьесе «Свободный вечер». Радиопремьера состоялась в марте 1960 года по третьей программе; телевизионная версия прошла в апреле на ABC; телепьеса «Вечерняя школа» была впервые показана в июле 1960 года Associated Rediffusion TV. В обеих пьесах, как и во многих коротких ревю-скетчах, которые он писал тогда же, Пинтер мастерски использует идиомы разговорного языка для воссоздания абсурда и пустоты жизни.
«Свободный вечер» повествует о клерке Альбете Стоунзе, маменькином сынке, подавляемом собственническими инстинктами мамаши, похожими на материнские чувства Мэг к Стэнли или Флоры к загадочному продавцу спичек. Альберт приглашён к сослуживцам. Он вырывается на свободу от матери и отправляется на вечеринку, где его конкурент по службе подбивает девушек вызвать Альберта на откровенность, что приводит его в смущение. Его обвиняют, что он якобы «пристаёт» к одной из девушек, и он уходит домой. Мать начинает его пилить, он выходит из себя, чем-то бросает в неё и покидает дом в полной уверенности, что он её убил. Его заманивает к себе проститутка, но когда она его начинает пилить за то, что он сбрасывает пепел на ковёр, он вновь выходит из себя. Напугав проститутку, он убегает. Вернувшись под утро домой, он застаёт мать живой, и его агрессивность несколько утихает. Вырвался ли он действительно на свободу этим вечером? Вопрос остаётся без ответа.
«Свободный вечер» только на первый взгляд кажется простой пьесой. Она очень точно выстроена: Альберт проходит через серию повторяющихся трудных ситуаций, начинающихся со ссоры с матерью. Сцена с проституткой аналогична, чему способствует огорчившая его история с девушками на вечеринке. Таким образом, вдвойне фокусируется коллизия, суть её в неспособности Альберта восстать против матери и робость с женщинами. Сбежав от матери и с вечеринки, у проститутки он вновь попадает в ситуацию, которой пытался избежать.
Телевизионная пьеса «Вечерняя школа» возвращает к другой важной теме Пинтера — комнате как символе места человека в мире. Вернувшись из тюрьмы, куда Уолтер попал за подделку сберегательных книжек, он узнаёт, что престарелые тётки сдали его комнату. Это приводит героя в ужас. Комнату занимает девушка Салли. Она представилась учительницей, по вечерам она надолго уходит в вечернюю школу, где изучает иностранные языки. Придя в комнату за вещами, Уолтер узнаёт, что девушка работает в ночном клубе. Это отличный шанс стать её другом, заполучить крышу над головой, завязать роман или даже жениться. Однако он просит приятеля тёток, бизнесмена с сомнительной репутацией, проследить за девушкой. Солто, бизнесмен, случайно встречает девушку в клубе, надеется закрутить с ней роман и только тут обнаруживает, что Уолтер послал его шпионить именно за ней. Солто сообщает Уолтеру, что нашёл Салли, но та, узнав, что её тайну хотели раскрыть, покидает комнату. Желая заполучить комнату обратно, Уолтер потерял шанс завоевать девушку, которая помогла бы ему вернуться в общество. «Вечерняя школа» поднимает проблему контроля и идентификации: стремясь произвести впечатление на девушку, Уолтер выставляет себя романтическим бандитом; Салли выдаёт себя за учительницу. Желание рисоваться приводит к тому, что они не способны к нормальным отношениями.
Борьба за комнату — тема второй полнометражной пьесы Пинтера «Сторож», принесшей ему первый большой успех у публики. Премьера состоялась 27 апреля 1960 года в Лондоне в Arts Theatre Club. В пьесе три акта и три персонажа. Комната, о которой идёт речь, находится в полуразрушенном доме, в котором живёт Астон, добрый, но психически не вполне полноценный парень. Ему за тридцать. Пьеса начинается с того, что ночью Астон приводит Дэвиса, старого бродягу, которого он спас от побоев в кафе, где работает. Дэвис потерял не только место в обществе, но и свою идентичность. Очень скоро он сообщает: хотя его настоящее имя — Дэвис, много лет он называл себя Дженкинзом. Он мог бы это доказать, будь у него документы, но он оставил их много лет назад человеку в Сидкапе. Он не может попасть в Сидкап, потому что у него нет подходящих ботинок, да и погода не слишком благоприятствует путешествию.
Дэвис тщеславен, раздражителен и предубежден против всех и всего. Он мог бы остаться с Астоном и его младшим братом Миком, которому дом и принадлежит, он мечтает сделать в нём современные квартиры. Дэвису почти предложена работа сторожа. Но он не может устоять против искушения настроить братьев друг против друга, пытаясь показать свое превосходство, когда мягкий Астон в порыве откровенности рассказал, что его лечили электрошоком в психиатрической больнице. Дэвис персонифицирует человеческие слабости. Несомненно, ему необходимо место в обществе, но он не в состоянии обуздать себя, привыкнуть хотя бы к минимальной самодисциплине, чтобы существовать в обществе. Мик выгоняет его из дому: «Ну что ты за тип, скажи на милость? Честное слово, ты какой-то не такой. Как только ты пришёл в дом, ничего, кроме неприятностей. Правда. Не могу взять в толк, что ты такое говоришь. Каждое твоё слово можно истолковать и так и сяк. Что ни скажешь — сплошное вранье. Набрасываешься на людей, как дикий зверь. Ты самый настоящий варвар»18.
Вся драматургическая мощь Пинтера выплёскивается в финальной сцене, достигающей чуть ли не трагедии в момент, когда Дэвис безуспешно просит дать ему ещё один шанс остаться в доме. Но он показал свою низость и ненадежность. Он не заслуживает сострадания братьев; его изгнание из грязной комнаты, в которой мог бы обрести пристанище, принимает почти космические масштабы изгнания Адама из рая. Дэвис лжив, навязчив, ни в состоянии не показывать свое превосходство, и к тому же ему свойственны исконные человеческие грехи — высокомерие, нескромность, слепота в отношении собственных ошибок.
«Сторож» достигает универсализма и высот трагедии без таинственных трюков и насилия, которые Пинтер использовал в ранних пьесах для создания атмосферы поэтического ужаса. Даже миф Дэвиса о невозможности добраться до Сидкапа не выходит за границы строгого реализма. Это лишь форма самообмана и нелепая увертка со стороны Дэвиса, что понятно всем, кроме него самого, слишком снисходительного к себе, чтобы заметить, что он оправдывает свою апатию и неспособность адаптироваться, обманывая только себя одного.
Пинтер рассказывал, что он хотел использовать насилие: «Первоначальная идея … состояла в том, чтобы закончить пьесу насильственной смертью бродяги… Внезапно меня осенило, что в этом нет необходимости. И думаю, что в этой пьесе… я пришёл к мысли, что мне не нужны кабаретные трюки, эффектная темнота на сцене и вопли в темноте в той мере, в которой мне нравилось их использовать прежде. Чувствую, что могу обходиться без таких приёмов, используя лишь ситуацию в чистом виде. …Я рассматриваю эту пьесу, как… частную ситуацию троих и, кстати… безо всяких символов»19.
В «Стороже» много комического, и долгая жизнь пьесы в театре объясняется в какой-то степени тем, что источник смеха — простонародная речь низших классов, потрясающе точно переданная Пинтером. В письме в Лондонскую Sunday Times он возражает против такой точки зрения и объясняет свой взгляд на отношение между трагическим и фарсовым в пьесе: «Думаю, элемент абсурда одна из особенностей «Сторожа», но я не намеревался создать всего лишь смешной фарс. Если бы у меня не было других задач, я не стал бы писать пьесу. Реакцию публики регулировать невозможно, да и не к чему; анализировать её реакцию непросто. …Но там, где комическое и трагическое (хотелось бы найти лучшее определение) близко сопряжены, определённая часть публики всегда предпочтет комическое, таким образом освобождаясь от другой стороны жизни… поскольку это неоправданное веселье возникает, я ощущаю снисходительное отношение весельчаков к персонажам, и соучастие зрителей отсутствует… Смех должен возникать там, где я его замыслил. Вне этих моментов смеха не должно быть по той причине, что я так написал»20.
«Сторожу» присуща истинная поэзия. Она присутствует в длинном рассказе Астона о шокотерапии, в рассказе Мика о планах сделать новый интерьер в старом доме, который, говоря на жаргоне современных фирм, превратит дом в сказочный мир, исполнение мечты: «Можно положить коврик из натурального ворса, светлый, но не совсем белый, и чтоб стол был… облицован плиткой под тиковое дерево, сервант с матово-чёрными ящиками, стулья с гнутыми ножками и мягкими сиденьями, кресла, обитые твидом, диванчик с плетёным сиденьем из морской травы, огнеупорный кофейный столик. Кругом белый кафель…»21.
Пинтер — один из первых мастеров слова, оценивший возможности ламинированного пластика и автоматических инструментов. Брат Мика Астон — типичный мастер на все руки середины XX века, каких много на Западе, механик-самоучка и умелец. Он постоянно что-то чинит и, будучи не совсем нормальным, находит поэзию в техническом жаргоне:
ДЭВИС. А эта штука зачем?
АСТОН. Ажурная пила? Она из того же комплекта, что и лобзик. Смотри, а вот эту штуковину нужно крепить на портативную дрель.
ДЭВИС. Это хорошо. Сподручно.
АСТОН. Да, ничего не скажешь, сподручно.
ДЭВИС. И ножовка от них?
АСТОН. Нет, ножовку, на самом деле, приволок я сам.
ДЭВИС. Да, ну и сподручные же они у тебя.
АСТОН. Да… А вот это для замочной скважины.
Смех зрителей на длинном спектакле «Сторож» ни в коем случае нельзя назвать снисходительным. Он вызван узнаванием. Не так часто со зрителем в театре говорят на его языке и об его заботах, и хотя все преувеличено, усилено и доведено до абсурда, большинство из нас получает примитивное, магическое удовольствие оттого, что может узнать и, следовательно, пользоваться сложным набором технических новинок, окружающих нас. В мире, который всё более лишается смысла, мы ищем убежища в постижении самых узких сфер ненужных знаний, приобретая эрудицию. Пытаясь стать мастером по электроприборам, Астон ищет в этом занятии точку опоры в реальности. Нервное расстройство, из-за которого его подвергли шокотерапии, привело к потере контакта с реальностью и людьми: «Они всегда вроде меня слушали. Я думал… они понимали, что я говорил. Я обычно с ними говорил. Слишком много говорил. Это была моя ошибка»21.
Он страдал галлюцинациями, видел какие-то явления с необычайной ясностью и поэтому был принудительно помещён в психиатрическую больницу. Он пытался сохранить своё ясновидение, просил мать не давать согласия на операцию, но «она подписала их бумагу, видишь ли, дала им разрешение». Астон — поэт, которого общество подавляет, задействовав механизм закона и бюрократизма. С его галлюцинациями и ясновидением было покончено; Астона сделали таким же, как большинство граждан общества потребления: удовлетворение и поэзию в жизни они могут найти, только возясь дома: «…вот я попытался дом отделать. Пришёл в эту комнату и начал собирать дерево для сарая, и всякие там обломки и обрезки, из которых, думаю, можно что-нибудь смастерить для дома или около него»22.
В радиопьесе «Карлики», премьера которой прошла по третьей программе 2 декабря 1960 года, Пинтер развивает тему Астона. Лен, герой «Карликов», страдает галлюцинациями: ему кажется, что он находится среди карликов, которых кормит лакомыми кусочками крысиного мяса. Он боится карликов и возмущается, что должен на них работать. Но когда видения исчезают, он ощущает утрату, лишившись тепла и уюта на соломенной подстилке на их запущенном дворе: «Они не платили мне ни пенни. И только сидели по-турецки и глазели на огонь. Они бросили меня в беде. Не дали мне даже протухших сосисок, не оставили шкурки от бекона или листа капусты, не бросили даже заплесневелого кусочка салями, как это было раньше, когда мы, греясь на солнышке, рассказывали сказки»23.
У Лена есть два приятеля, которые заняли его комнату. Оба, Пит и Марк, пытаются настроить его друг против друга. Комната Лена, как и его восприятие реальности, постоянно меняется: «Наши комнаты… открываются и закрываются. …Вы заметили? Они меняются, как им заблагорассудится. Я был бы не против этого, если бы они изменялись в определённой последовательности. Но они меняются, как им заблагорасудится. И я не знаю, какой они собственно величины»24.
«Карлики» родились из неопубликованного романа[35] и представляют пьесу без сюжета; это вариации на тему реальности и фантазии. Как говорит Пит Лену: «Надо уметь разбираться в своих переживаниях. И думать только о тех, которые тебе полезны. А ты не можешь. Тебе в голову не приходит, что надо держать дистанцию между тем, чем ты пахнешь, и тем, что ты об этом думаешь. …А как ты можешь оценить и проверить что-то, если день-деньской бродишь, уткнувшись носом между ног?». И Пит, желая вернуть Лена к действительности, рассказывает ему о своём сне — лицах людей, которых охватила паника в метро.
«Карлики» при внешней простоте и отсутствии трюков и мистификаций, свойственных ранним пьесам Пинтера, — пьеса сложная, одно из его самых личных высказываний. Мир карликов Лена подобен миру Астона в «Стороже» и Стэнли в «Дне рождения». Все трое обладают одинаковым жизненным опытом: их лишают внутреннего мира, жалкого, но уютного, в котором они могли позволить себе иметь собственные представления. Стэнли сведён в могилу в разгар событий аллегорического плана; Астон и Лен теряют свои видения в процессе лечения, что приводит к катастрофической потере объёма их жизней — фантазий или поэзии, способности видеть больше за банальными картинами повседневного мира.
«Коллекция» — телевизионная пьеса, показанная по первой программе 11 мая 1961 года. Позднее была переделана для театра и поставлена Royal Shakespeare Company at the Aldwych Theatre в Лондоне 18 июня 1962 года. В ней Пинтер возвращается к проблеме контроля. Гарри, богатый гомосексуалист, дизайнер по текстилю, живёт с Биллом, молодым человеком, которого он «открыл» и сделал другом. Джеймс, так же занимающийся текстильным бизнесом, обвиняет Билла в том, что он совратил его жену Стеллу, проведя с ней ночь, когда они ездили на север, в Лидз, смотреть сезонную коллекцию платьев. Так ли это было в действительности или же Стелла выдумала эту историю, чтобы заставить мужа ревновать? Или же Билл попытался разорвать магический круг гомосексуальных отношений, куда его затянул Гарри? Вероятно, на этот вопрос не может ответить и сам Пинтер. Как бы там ни было, но из-за вербальных недомолвок между тремя мужчинами возникает подозрение, что у мужа Стеллы Джеймса — гомосексуальные наклонности. Он проявляет к Биллу больше интереса, чем человек, имеющий дело с совратителем его жены. Гарри, покровитель Билла, старший по возрасту, ревнует сильнее, чем обманутый муж жену. В телевизионной версии действие происходило то в квартире Джеймса и Стеллы, то в доме Гарри и Билла. В сценической версии подмостки были разделены на две части, и зрители видели оба жилища на протяжении всего спектакля. Мы видели Стеллу, сидящую на диване, по большей части, одинокую, покинутую, гладящую кошку. Спектакль давал интересный ракурс, на который, по всей вероятности, читая текст, не обращаешь внимания. На первый план выдвигалась драма женщины в мире, в котором мужчины склонны интересоваться более друг другом, чем женщинами. В «Коллекции» Пинтер показал себя вновь мастером языка, но уже не низшего, но среднего класса, представители которого занимают место где-то между бизнесменами и «эстетами». Пинтер блистательно добивается эффекта почти такого же, как в ранних пьесах, мастерски используя идиомы, свойственные различным слоям общества.
Телевизионная пьеса «Любовник» была показана по первой программе Associated Rediffussion, London 18 марта 1963 года и перенесена на сцену вместе со сценической версией «Карликов» в Лондоне в Arts Theatre 18 сентября 1963 года. Мы вновь встречаемся с представителями среднего класса, супружеской парой Ричардом и Сарой, живущими в пригороде. Муж ежедневно ездит на службу в Лондон. Уходя по утрам из дому, он каждый раз спрашивает жену, придёт ли к ней после полудня любовник. Она отвечает утвердительно. Он одобрительно кивает и уезжает. Вечером, вернувшись домой, он мимоходом спрашивает, хорошо ли она провела время с любовником. И так же, мимоходом, она отвечает утвердительно. Он признается, опять же мимоходом, что постоянно наведывается к проститутке. Мы видим, как на другой день Сара готовится к приходу любовника, надев платье в обтяжку. Приходит любовник — это её муж в элегантном костюме. Она называет его Максом. Фактически эта пара разыгрывает свои сексуальные фантазии под масками романтического садиста-соблазнителя и шикарной шлюхи. Но по мере развития действия, становится понятно, что они сталкиваются с невозможностью единства двух сторон их личностей, существующих раздельно. В результате создается впечатление, что фантастические фигуры стремятся соединиться в одно целое.
В «Любовнике» тема реальности и фантазии подсознательных желаний обнажена и в какой-то степени представлена буквально. В третьей полнометражной пьесе «Возвращение домой» Пинтер блистательно соединяет два уровня в интригующее амбивалентное целое. Впервые пьеса была сыграна Royal Shakespeare Company at Aldwych Theatre 3 июня 1965 года, очень озадачив часть публики. Между тем ключ к пьесе не сложен: в ней представлены реальные события, последовательно развивающиеся, объяснимые с реалистической точки зрения; однако, в то же время эти события с полным основанием могут восприниматься, как фантазия, осуществление подсознательных желаний. Оба уровня пьесы понятны. Поэтическая сила пьесы в двойственности этих уровней. Макс, мясник на пенсии, живёт в северной части Лондона с двумя сыновьями. Ленни — ловкий, всегда начеку, в начале пьесы трудно определить род его занятий. Второй сын Джо — дюжий, медлительный боксёр. В доме ещё живет дядя Сэм, таксист. Из его намёков создаётся впечатление, что Джесси, умершая мать семейства, одно время была увлечена другом семьи Макгрегором. Неожиданно возвращается старший сын Макса Тедди с женой Рут. Тедди долгое время не был в Лондоне. Он уехал в Америку, где преподает в университете философию. Рут тоже англичанка. Тедди женился на ней перед отъездом в Америку, но семье она не была представлена. Сейчас у них трое сыновей, которые остались в Америке. Оба сына мясника увлекаются сексапильной Рут. Постепенно становится известно, что Ленни — профессиональный сутенер. Через некоторое время он хладнокровно предлагает ей, чтобы она осталась в доме, и он бы использовал её как проститутку. Её муж Тедди с готовностью соглашается и возвращается в Америку к сыновьям. У старого Сэма происходит сердечный приступ, когда он узнаёт, что мать братьев однажды занималась любовью с Макгрегором на заднем сиденье его такси. Старик Макс, отец братьев, униженно просит Рут подарить ему свою благосклонность.
Предложение Ленни, сделанное Рут, и спокойное согласие её мужа на то, чтобы жена занималась проституцией — единственный элемент, невозможный в реалистической пьесе. Столь же спокойно в «Любовнике» Ричард принимает сообщение жены о её связи с романтическим «любовником». Зная о нежелании Пинтера давать чёткую экспозицию и детальные мотивировки поступков персонажей, мы можем найти совершенно обоснованное объяснение; действительно, всё становится понятным из того, что известно о Рут. До встречи с Тедди и замужества она работала натурщицей и позировала обнажённой. Возможно, она была проституткой или кем-то в этом роде. Не приспособившись к респектабельной жизни в Америке (из пьесы следует, что она нимфоманка), она должна была причинять бедному Тедди массу неприятностей в кампусе. Путешествие в Венецию, после которого они прибывают в Лондон по приглашению семьи Тедди, могло быть последней попыткой спасти брак. Но брак рушится. Тедди может быть искренне рад освобождению от жены. И если Джесси, мать братьев, была проституткой или кем-то в этом роде, как об этом можно догадаться из намеков Сэма, тогда Тедди столь же рад освобождению от жены, сколь и деловой сделке с Ленни. Таким образом, его первоначальное удивление и равнодушное согласие со своим новым положением вполне естественны.
Пьеса выходит за пределы реализма. На мой взгляд, уровень фантазии и подсознательных желаний представлен в мечтах сыновей о сексуальной победе матери и поражении отца. То, что Макс и Тедди (старший брат часто замещает отца) — аспекты фигуры отца, достаточно ясно. Макс являет более смехотворные стороны старческого возраста; философ Тедди — более высокие интеллектуальные притязания отца. В таком случае, Рут, жена Тедди, — двойник матери. Следовательно, сыновья желают её, и с фантастической лёгкостью это желание исполняется. И финальная мольба Макса о самой малости любовных милостей Рут — мечта сыновей Эдипа: отец и сын поменялись ролями, сыновья гордятся своей сексуальной близостью с матерью, а отец вынужден вымаливать её милости.
Ричард в «Любовнике» хочет обращаться со своей респектабельной женой, как со шлюхой, таким образом высвечивая дихотомию между женским архетипом матери и одновременно проститутки. Джесси, мать в «Возвращении домой», обвиняется в любовной связи с Макгрегором. Другими словами, сыновья жаждут обладать матерью и мечтают превратить её в шлюху, и их сексуальные домогательства по первому требованию исполняются. Если бы мать была шлюхой, насколько же легко можно было бы избавиться от всех табу!
«Возвращение домой» проливает свет на его предыдущие пьесы. В Стэнли в «Дне рождения» можно увидеть сына, нашедшего убежище в любви персонажа, олицетворяющего мать. Грубо забирающий его эмиссар — олицетворение отца. Гольдберг так же олицетворяет отцовское начало, получая радость от Лулу, которая почти шлюха. Аналогия между персонажами «Сторожа» и «Возвращения домой» ещё более поразительна. Дэвис соответствует раздражительному и несдержанному Максу, элегантный сутенер Ленни — Мику, и медлительный гигант Джо — Астону. Таким образом, в «Стороже», помимо других его тем, можно обнаружить и тему мечты об изгнании из дома сыновьями отца. В «Возвращении домой» фигура матери объясняет истинную причину презрения и ненависти у сыновей к отцу в «Стороже». Фигура отца полностью побеждает в «Дне рождения»; в «Стороже» отец изгоняется, в «Возвращении домой» его крушение явлено во всех подробностях.
Телевизионная пьеса Tea Party была показана Би-би-си в 1965 году. Её сюжет намного традиционнее. Герой, богатый производитель сантехнического оборудования, женат на женщине из высшего класса. В её семье он ощущает себя на низшей социальной ступени. Комплекс неполноценности, порождённый положением жены, заставляет его вожделеть к секретарше. На tea party в его офис приглашены жена и её брат. Они видят секретаршу, пролетариев-родителей героя. Его напряжение от этого вырастает настолько, что его разбивает паралич и поражает слепота.
Ещё одна телевизионная пьеса «Подвал» была показана по Би-би-си в начале 1967 года. Она должна была стать частью кинопроекта, инициированного Grove Press, и для этого проекта Беккет написал свой «Фильм». Проект назывался «Купе». Это интригующий сценарий со свободной ассоциацией образов вокруг излюбленной Пинтером темы — комната, как территория, которую необходимо завоевать и защищать. Владельца подвальной комнаты навещает его старый приятель, но как только ему было оказано гостеприимство, он приводит девушку, ожидавшую его на улице под дождём, и ложится с ней в постель. Возникает ряд образов, иллюстрирующих борьбу между двумя мужчинами, Лоу и Стоттом, за благосклонность девушки. По мере того, как изменяются методы спора, меняется комната и мебель. В финале Лоу теряет комнату, но выигрывает девушку. Теперь он стоит с ней на улице под дождём, Стотт же находится в тёплой и уютной комнате. Но раздаётся звонок, он поднимается, чтобы впустить старого приятеля… и история начинается вновь в обратном порядке. Телезрителям было трудно решить, реальная или воображаемая эта история. Намерение Пинтера представляется, как создание почти абстрактной пьесы — фантазии, возможность всех перемещений в одной архетипической ситуации.
Затем последовали две короткие пьесы «Пейзаж» (1968) и «Молчание» (1969), в которых Пинтер углубляет тему неуловимости человеческой личности. В «Пейзаже» Бет и Дафф, пара среднего возраста, сидят на кухне большого загородного дома. По всей вероятности, он дворецкий и шофер, она — горничная. Бет полностью погружена в себя, мы слышим её внутренний монолог; Дафф же безуспешно пытается вступить с ней в разговор. Пейзаж, вынесенный в название пьесы, — воспоминания Бет, сцена любви с неизвестным на морском берегу, и эти воспоминания пронизаны нежностью и изяществом. Напротив, Дафф — грубый тип, вульгарно изъясняющийся. Воспоминания об адюльтере уводят в далёкое прошлое. Пьеса задаёт вопрос, почему Бет так глубоко погружена в себя. Потому что это был адюльтер с Даффом? Или потому, что она была любовницей их хозяина, мистера Сайкса, который сейчас отсутствует и, возможно, умер? Был ли мистер Сайкс её любовником только в воспоминаниях? Или же это был Дафф, превратившийся в вульгарного скота? Возможно. Но очарование пьесы в том, что вопросы остаются без ответа. «Молчание» — вариации на эту же тему: девушка и два её возлюбленных вспоминают прошлое; и в этой пьесе множество вопросов остаются без ответа. По форме пьесы более статичны, чем предыдущие. На протяжении всего действия персонажи сидят, драма выражена вербально и ностальгическим настроением.
В следующей полнометражной пьесе «В былые времена» (1971) недоговоренности и статическое равновесие «Пейзажа» и «Молчания» получают дальнейшее развитие и приводят к потрясающему эффекту. В этой пьесе мужчина оказывается между двумя женщинами, вовлекающими его в загадочное и непонятное действо, суть которого — проблема памяти. Дили — интеллектуал среднего возраста. Он кино- или телережиссёр. Его жена — Кейт. Пьеса начинается с беседы супругов о скором приезде Анны, подруги Кейт в дни её молодости, двадцать лет назад, в сороковые годы. Обе тогда жили в Лондоне. Всё это время они не виделись. Во время беседы мы видим Анну, недвижно стоящую у окна. Действительно ли она находится там? Или же это плод фантазии супругов? Неожиданно она вступает в разговор, превращающийся в поединок между Дили и Анной за любовь Кейт. Дуэль строится на противоречивых воспоминаниях о былых временах двадцатилетней давности. В финале женщины доводят Дили до слёз. Очевидно, они лесбиянки; во всяком случае, эта мысль мелькает в голове Дили. Пьеса зависает между тремя уровнями реальности: Дили страшится, что такой вариант может возникнуть, если Анна приедет; с другой стороны, возможно, это истинная причина приезда Анны, и тогда её таинственное присутствие — лишь театральный символ; или же с поднятием занавеса Анна реально присутствует; в таком случае это эротический ритуал или фантазия на тему a menage a trois[36] наподобие ситуации в «Любовнике». Возможность сделать три выбора делает пьесу смешной и в то же время заставляет над ней долго размышлять.
Дуэль между подлинными и вымышленными воспоминаниями в центре следующей пьесы Пинтера «Ничейная земля» (1974). В этой пьесе ситуация «Сторожа» переносится на более высокую социальную ступень. Известный писатель Херст пригласил в свой роскошный элегантный дом Спунера, старика-интеллектуала, человека конченого, которого он подобрал на Hampstead Heath, выпить. Попав в дом, Спунер понимает, что Херст, сначала показавшийся одиноким и нуждающимся в дружбе, совсем не такой. Его надеждам обрести приют угрожает появление двух молодых людей низшего класса, Бриггса и Фостера; они производят впечатление слуг, но в то же время выполняют при хозяине функции тюремщиков и мужчин-сиделок и временами обращаются с ним, как со своим слугой. Пьеса заканчивается так же, как и «Сторож», — изгнанием Спунера из столь желанной тихой гавани. Но изгнание Спунера — в то же время и кульминационный момент в жизни Херста, последняя попытка разорвать замкнутый круг его странного домашнего окружения, так как в финале двое слуг разыгрывают почти все действия погребального церемониала, коду жизни Херста, его вступление на ничейную землю между жизнью и смертью.
В «Предательстве» (1974) Пинтер возвращается к теме любовного треугольника: снова двое мужчин оспаривают женщину. Это история адюльтера, рассказанная в обратном порядке: она начинается с распада любовной связи и возвращается к началу, десятью годами ранее. Вопрос, возникающий в самом начале пьесы, — кого предала жена, мужа или любовника, которому она все эти десять лет не говорила, что муж, лучший друг любовника, знал об их отношениях?
Пинтер-киносценарист заслуживает упоминания об этой стороне его деятельности. Он предпочитает обращаться к сюжетам других авторов и делает это с высочайшим мастерством и профессионализмом. Но характерные черты его творчества остаются и обогащают фильмы, большинство которых снято Джозефом Лоузи, художником, чья восприимчивость созвучна сжатому, эллиптическому стилю Пинтера с его умолчаниями и паузами. Лоузи снял «Слугу» по роману Робина Моэма (1963) и «Аварию» по роману Николаса Мосли (1967). Пинтер написал киносценарий «Сторожа», блестяще переведя пьесу на киноязык, столь же блестяще снятый Клайвом Доннером. Другие его фильмы — «Любитель тыквы» по роману Пенелопы Мортимер, «Меморандум Квиллера» по роману-триллеру Адама Холла, «Сводник» по роману Л. П. Хартли и «Последний магнат» по роману Ф. С. Фицджеральда. Киносценарий на основе романа Эйдана Хиггинса «Лангриш, ты проиграл» Пинтер превратил в телевизионную пьесу. Его мастерски сделанная адаптация великого романа Пруста «В поисках утраченного времени» не была снята из-за финансовых трудностей, но была опубликована в 1978 году.[37] Эта работа показала, что Пинтер блестяще может переводить сложное повествование в сильные визуальные образы.
Но в основе своей Пинтер — человек театра. Он поэт, и его театр по своей сути поэтический в большей степени, чем напыщенная стихотворная драма некоторых его современников. Пинтер, признающий влияние Кафки и Беккета, как и они, поглощен человеком в пределах его бытия. Лен говорит в «Карликах»: «Суть в том, кто ты есть? Не почему или как, ни даже какой… Ты итог множества отражений. Сколько этих отражений? Чьи это отражения? Из каких отражений ты состоишь? Какую пену оставляет морской прибой? Что с этой пеной происходит? Когда происходит? Я видел, что происходит… Пена разбивается о берег и откатывается обратно. Я не вижу, куда она откатывается, не вижу, когда; что я вижу, что я видел? Что же я видел, итог или суть?»25
Поглощенность проблемой человеческого «я» отделяет Пинтера от социальных реалистов, молодых драматургов его поколения, с которыми его сближает умение привнести на сцену современную речь. Когда Кеннет Тайнен в радиоинтервью упрекал его за то, что его пьесы безыдейны, и он изображает очень ограниченный аспект жизни своих персонажей, упуская их политические взгляды, идеи и даже их сексуальную жизнь, Пинтер ответил, что он помещает свои персонажи «на самое острие их жизни, в которой они очень одиноки. И когда они возвращаются в свои комнаты, то вновь сталкиваются с основными проблемами бытия»26.
Мы видим персонажей Пинтера в процессе необходимого им приспособления к миру — будут ли они в состоянии противостоять действительности или полностью приспособятся к ней. Но это станет возможно только после того, как они адаптируются, станут частью общества и тогда смогут заниматься сексуальными или политическими играми. Пинтер опровергает мнение о том, что его герои нереалистичны. В конце концов, парирует он, в его пьесах дается короткий, кульминационный период их жизни, несколько дней, или как в «Стороже» — две недели. «Мы только прикасаемся к тому, что тогда случилось, к особому моменту жизни этих людей. Не стоит думать, что в тот или иной момент они не присутствовали на политическом митинге… или что у них нет подружек»27 или, добавим, у них отсутствуют идеи.
Интригующая парадоксальность позиции Пинтера в том, что он считает себя более бескомпромиссным и жестким реалистом, чем поборники «социального реализма». Они разбавляют водой реальность картины, допуская, что могут покончить с нерешенными проблемами, которые никогда не будут решены; они предполагают, что возможно знать полную мотивацию характера; более того, они берут срез наименее существенной действительности и, следовательно, менее реальной, менее жизненно правдивой, чем театр, который избрал более фундаментальный аспект жизни. Если жизнь в наше время абсурдна, то всякая её драматизация с выдуманным чётким решением проблем создает иллюзию, что всё это «имеет смысл» и в результате приводит к упрощению, сокрытию главных факторов, и приукрашенная и упрощенная реальность превращается в фантазию. Для драматурга абсурда Гарольда Пинтера политическая, социально-реалистическая пьеса теряет право называться реалистической, поскольку она фокусирует внимание на незначительном, преувеличивая его важность, как будто, достигнув некоей цели, мы можем быть счастливы до конца наших дней. Выбирая ложный срез жизни, драматург впадает в ту же ошибку, что автор салонной комедии, заканчивающейся предложением юноши, которое он делает девушке в тот момент, когда только ещё возникают реальные проблемы — свадьба, дальнейшая взрослая жизнь. Хотя представители социального реализма заявили о необходимости реформы, основные проблемы бытия — одиночество, неразрешимая тайна вселенной, смерть — не исчезли.
Пинтер возмутился, когда критик попросил его представить персонаж, прошлое которого было показано в телевизионной пьесе «Вечерняя школа», аргументируя, что персонаж приходит скорее ниоткуда, чем из тюрьмы. Пинтер считает «Вечернюю школу» экспериментом в облегчённом стиле и протестует, когда говорят, что настоящая пьеса Пинтера должна быть исключительно загадочна и с абсолютно немотивированным исходом.
Из всех крупных драматургов абсурда творчество Гарольда Пинтера представляет самую оригинальную комбинацию авангарда и традиционных элементов. Мир его фантазий — мир поэта, осененного тенями Кафки, Джойса, чью пьесу «Изгнанники» он блистательно адаптировал и поставил, и Беккета. Пинтер переводит свои видения в театральную форму, используя технику мгновенного темпа с эпиграмматическим остроумием мастеров высокой английской комедии от Конгрива до Оскара Уайльда и Ноэля Кауарда. Это плоды ученичества Пинтера, его жизненного опыта, приобретенного во времена, когда он был актёром английского провинциального репертуарного театра; он подлинный профессионал театра, равным образом прекрасный актёр, режиссёр и драматург. С 1974 года он член режиссёрской ассоциации Питера Холла в Британском Национальном театре.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ПАРАЛЛЕЛИ И ПРОЗЕЛИТЫ
~ ~ ~
По своей природе театр абсурда не является и никогда не будет литературным направлением или школой, поскольку его суть — свободное, ничем не стесненное исследование художника, обладающего собственным личностным видением мира. Широкий отклик на эти, на первый взгляд, непостижимые и, безусловно, трудные пьесы вызывают спектакли, потому что они отражают проблемы нашей эпохи, стремление по-новому подходить к театру. Отказавшись от психологического, или повествовательного театра, не приспосабливаясь к устарелым средствам «хорошо сделанной пьесы», драматурги театра абсурда, каждый по-своему, независимо от друг от друга, начали борьбу за новые законы драмы. Взвалив на себя это испытание, чреватое ошибками и непрестанными экспериментами, четыре драматурга, творчество которых детально проанализировано в этой книге, не одиноки. Определённое количество писателей этого поколения экспериментирует параллельно, и всё больше молодых драматургов, воодушевленных успехом Беккета, Ионеско или Жене, пытаются создать свой язык в подобной эстетике. Не претендующее на полноту исследование, экспериментов этих современных драматургов и последователей мастеров новой условности, намечает контуры будущего развития театра.
Жан Тардьё
Жан Тардьё — писатель, в творчестве которого соединяются всесторонние эксперименты. Он старше Беккета, Адамова, Ионеско и Жене и уже до начала Второй мировой войны был известным поэтом. В ранней молодости он пытался писать пьесы. Он — лучший переводчик на французский язык поэзии Гёльдерлина, унаследовавший чистоту стиля лирики от Малларме. После войны он начал эксперименты с языком в духе Жака Превера и Раймона Кено, исследуя границы возможности театра. Тогда же стал сотрудникам французского радио и телевидения, возглавив экспериментальную мастерскую, club d’essai, и в 1947 году, примерно в то же время, когда делали первые шаги Беккет, Адамов, Ионеско и Жене, начал писать экспериментальные пьесы — любопытный пример духа времени в работе.
Драматические эксперименты, опубликованные в двух томах Theatre Chambre (1955) и Poemes a Jouer (1960), в основном, небольшие. Многие из них — кабаретные скетчи, скорее даже одноактные пьесы, но их сфера шире, чем у драматургов абсурда, чьё творчество рождено фантазиями и суеверным страхом перед чистой лирикой, чья сфера — абсолютно абстрактный театр, в котором язык лишён концептуального содержания и погружён в музыку, сливаясь с ней.
Ранние скетчи, включённые в Theatre de Chambre, предвосхищают Ионеско. Скетч «Кто там?» (1947) написан раньше «Лысой певицы». Он начинается с той же ситуации, что и «Лысая певица». Семейство, отец, мать и сын, за обеденным столом. Отец спрашивает жену и сына, чем они занимались днём, но, зная дословно их ответы, на свои вопросы отвечает сам, не ожидая реплик домочадцев: «Что ты делал утром? Я был в школе. А ты? Ходила на рынок. Что купила? Овощи, они сегодня дороже, чем вчера, а мясо дешевле. Так что я уложилась. Ну а что тебе говорил учитель? Я делаю успехи…»1
Появляется таинственная женщина, предупреждающая отца о надвигающейся опасности. Раздаётся звонок в дверь. Отец открывает. На лестничной площадке мужчина огромного роста. Он душит отца и уносит его труп. Таинственная женщина просит жену посмотреть в окно. Улица усеяна трупами. Среди них тело отца. Сын зовёт отца. Отец поднимается и возвращается в дом. Жена спрашивает: «Кто тебя убил?» Отец отвечает: «Это был не человек». «А кто ты?» — спрашивает жена. «Я не человек», — отвечает мёртвый отец. «Кто же ты?» — «Никто».
Мораль маленькой пьесы в необходимости обрести человеческий облик, нами утерянный, который можно однажды вернуть. Пьеса заканчивается репликой таинственной женщины: «За окном светло. Кто-нибудь придёт. Будем ждать!»2 «Кто там?» — попытка создать поэтический образ ситуации окончания войны: человек оказывается лицом к лицу с буржуазной действительностью, такой же античеловечной, как массовые убийства на фронтах и концлагерях; необходимо начать жить по-новому.
Если в первом скетче Тардьё дана открытая ситуация, до некоторой степени предвещающая «Лысую певицу», то его вторая короткая пьеса «Бесполезная вежливость», так же написанная в 1947 году, начинается с той же ситуации, что и «Урок». Но в этом случае сходство только внешнее. Профессор прощается с молодым человеком, который уходит с экзамена. Профессор наставляет его: гораздо важнее знаний, каков он сам. Когда юноша покидает аудиторию, входит вульгарный, отвратительный тип. В ответ на старомодную учтивость профессора он хамит и затем в ярости избивает его. Профессору удается подняться на ноги, и он обращается к публике: «Я не смогу объяснить вам этот сюжет. Не сомневайтесь, это произошло далеко отсюда, в глубинах моей плохой памяти. Оттуда я пришёл предупредить вас и довести до вашего сознания. …Тсс! Здесь кто-то есть, он может услышать меня… Я вернусь… завтра»3.
Подобный сон, или кошмар характерен для большинства ранних скетчей Тардьё. В «Мебели» изобретатель пытается продать покупателю, находящемуся за сценой, необыкновенный предмет мебели, спроектированный так, что он представляет новый вид сервиса, включающий чтение стихов Мюссе. Но постепенно машина выходит из подчинения; вместо стихов Мюссе она поёт скверные вирши и в результате выхватывает пистолет и убивает покупателя. Если этот скетч — реминисценция Ионеско или Адамова, то в скетче «Замок» ощущается скрытая параллель с Жене. В борделе клиент ожидает полное воплощение своей мечты: он хочет увидеть возлюбленную в замочную скважину большого размера. В экстазе клиент описывает, что он видит, как постепенно девушка обнажается. Но и оставшись нагой, девушка продолжает раздеваться, снимая с себя щеки, глаза и прочие части тела, пока не остается один скелет. Не в состоянии более сдерживать себя, клиент бросается на дверь и падает замертво. Появляется хозяйка борделя: «Надеюсь… джентльмен… удовлетворён».
Подобный мотив возникает в «Фаусте и Йорике», где драматург экспериментирует со временем в духе «Долгого рождественского обеда» Торнтона Уайлдера. Фауст — ученый, проводящий жизнь в поисках образца более высоко развитого черепа, демонстрирующего следующую ступень эволюции человека. Мы видим свадьбу Фауста, видим, как взрослеет его дочь, как стареет он сам, не заботясь о семье, погруженный в поиски черепа.
Так и не обнаружив его, он умирает. Черепом, поискам которого он посвятил всю свою жизнь, оказывается его собственный.
В «Справочном бюро», одной из самых объёмных пьес Тардьё в Theatre de Chambre, мы попадаем в мир кафкианской бюрократии. Человек приходит в справочное бюро узнать время отхода поезда. Он подвергается грубому перекрёстному допросу о его жизни. В конце концов, служащий бюро протягивает человеку гороскоп, в котором сообщается, что, выйдя из бюро, он будет убит. Человек покидает бюро и, действительно, попадает под машину.
Во всех этих скетчах Тардьё исследует возможность создания атмосферы сна на сцене. В других скетчах он более открыто экспериментирует и даже впадает в дидактику, пробуя, что возможно или невозможно создать в различных сценических условиях. В «Освальде и Зинаиде, или Апарты» он пытается использовать реплики в сторону: жених и невеста говорят друг другу одно, но на уме у них другое. Экспериментирует он и с монологами: в скетче «Толпа, или Монологи» на сцене собирается толпа, привлеченная непрерывающимися монологами, которые может произносить один актёр. В скетче «Что означают слова, или Семейные жаргоны» он демонстрирует относительность языка: каждая семья говорит на своём сленге. В «Жесте для другого» путешественник обнаруживает, что самое абсурдное поведение в различных цивилизациях рассматривается, как проявление хороших манер. Эти дидактические скетчи в форме иллюстрированных лекций наименее удачны и скорее напоминают тривиальные приёмы маленьких ревю.
Наиболее интересны эксперименты Тардьё, в которых он исследует возможности абстрактного театра. В «Только они это знают» он создает абсолютно необъяснимое, насыщенное драматическое действие. Персонажи яростно ссорятся, ссылаясь на высокие мотивы и преступные тайны, которые остаются неизвестными, как и взаимоотношения четырех персонажей, противостоящих друг другу. В «Только они это знают», показывая совершенно немотивированные действия, Тардьё фактически демонстрирует возможности чистого, бессюжетного театра.
Но он идёт и дальше. Две короткие пьесы в Theatre de Chambre «Соната и три господина» и «Беседа-синфониетта» повторяют этот же эксперимент, но с шестью голосами. В «Сонате» три господина, А, В и С, о чём-то беседуют, порождая конкретные образ, темп и ритм, соответствующие сонатной форме; темп первой части — Largo (медленное, ностальгическое описание пространства, заполненного водой), вторая часть — Andante (более оживленная дискуссия о том, что они видели); третья, финальная часть — (воодушевление, ведущее к окончательному угасанию). «Беседа-синфониетта» повторяет этот эксперимент, но с шестью голосами: два баса, два контральто, сопрано и тенор под управлением дирижера. Снова три части: allegro mа non troppo, andante sostenuto, scherzo vivace. Текст состоит из самых банальных обрывков разговора: «Добрый день, мадам!». «Добрый день, мсье!» или «Ну, да, ну, да, ну, да, ну, да!»; «Ну, нет, ну, нет, ну, нет, ну, нет!», или же идёт перечень любимых блюд собеседников и рецептов их приготовления.
Исследуя возможности конструирования эквивалента симфонической поэмы из бессвязных элементов речи, Тардьё сделал логический шаг вперед. Во втором томе собрания его пьес мы видим результаты этой эволюции.
Во «Влюблённых в метро» (1931) с подзаголовком «комический балет в метро без танца и музыки» Тардьё стремится заменить язык музыкой и танцем.
Первая сцена происходит в метро. Разговор ожидающих поезд пассажиров тематически связан с главной темой — встречей влюблённых. Два господина, погруженные в свои книги, сообщают друг другу, что они читают: «Святой Павел!», «Маркиз де Сад!», студент рассказывает своей девушке историю Геро и Леандра. Влюблённые ведут диалог в ритме вальса: «Раз, два, три, люблю», «Раз, два, три, обожаю». «Раз, два, три, навсегда» и так далее. Поссорившись, они, выкрикивают женские имена: «Эмма! Элла! Элоиза! Диотима! Жоржи! Хильда!» и так далее.
Во второй сцене влюблённые в вагоне метро, разделённые толпой, олицетворяющей анонимное, враждебное массовое общество. Новый Леандр должен переплыть через море своих ближних, напоминающих кукол. Когда, наконец, он добирается до своей возлюбленной, она сливается с деперсонализированной, анонимной толпой. Только когда он в ярости дает ей пощечину, она пробуждается и снова становится личностью.
Как эксперимент с выразительным потенциалом языка при почти отсутствии концептуального содержания «Влюблённые в метро» — замечательное проявление изобретательности, демонстрирующее богатство текстовых и ритмических возможностей языка. Пьеса показывает так же возможность чистой поэзии, отличающейся от дискурсивной, с драматическим диалогом, замещающим обмен мыслей или информацию между персонажами, возникновением и развитием поэтических образов и тем новой ассоциативной логики.
Следующий шаг в этом направлении Тардьё делает в пьесе «Алфавит нашей жизни» (1958). Премьера состоялась 30 мая 1959 года. Тардьё определяет её как «поэму действия» в форме концерта. Протагонисту отведена главная сольная партия. Тема поэмы — день человека в толпе большого города. Поэма начинается с его пробуждения утром и завершается возвращением домой, чтобы лечь спать. Партия хора состоит из неясного бормотания толпы, которому противостоят отдельные предложения, произносимые то отчетливо, то невнятно. Два персонажа, мсье Слово и мадам Речь, иллюстрируют действие, произнося наизусть слова из словаря, которые автор характеризует как «звучащие ноты или осязание цвета», а не идеи. Сольные партии исполняют любовники, преступник, голоса женщин, которым снятся сны. Три темы переплетаются в концерте слов: иллюзия протагониста о своей неповторимости в противовес бормочущей толпе, частью которой он является; любовь, вырывающая человека из потока времени и делающая его личностью; и признание себя частью человечества как целого: «Человечество, ты мой пейзаж». Бормотание толпы превращается в один из голосов природы, подобно порыву ветра в лесу или шуму прибоя.
В другой «поэме действия» «Ритм на раз, два, три, или Храм Сегеста» (1958) Тардьё попытался воссоздать чувства, охватившие путешественника, впервые увидевшего храм Сегеста в Греции. Он видит шесть колон, которые изображают шесть девушек; голос за сценой передаёт его чувства. Девушки олицетворяют умиротворение и покой; впавший в транс путешественник испытывает восторг и волнение. В первых постановках «Алфавита нашей жизни» и в «Ритме на раз, два, три» звучали фрагменты музыки Антона Веберна.
Исследуя границы театра, Тардьё даже попытался написать небольшую пьесу «Только голос», в которой не было актёров. На сцене пустая комната. Голос из-за кулис вспоминает, что некогда эта комната уже была в его жизни; сценический свет меняется в соответствии с настроением. Время от времени слышится женский голос как эхо прошлого. Безусловно, это интересно и оригинально, но не более того; опус лишь доказывает, какую роль играют свет и декорации для создания поэтичности на сцене, что не нуждается в доказательствах.
В 1956 году в маленьком Theatre de la Huchette в одном вечере с «Только голос» Тардьё представил «Времена глагола, или Власть слова», вплотную приблизившись к чистой драме без музыки. Два акта демонстрируют тезис, что времена глагола обуславливают точку зрения на время. Сюжет несколько мелодраматичен: некий Робер потерял жену в автокатастрофе. Он не воспринимает настоящее, живёт в прошлом и употребляет исключительно прошедшее время. Вскрытие после его смерти показало, что он давно умер. На пустой сцене — его тело в миг, предшествующий катастрофе. Робер слышит голоса жены и племянницы, употребляющих в разговоре будущее время. До катастрофы у жены было будущее; но «Прошлое, настоящее, будущее, какое из них действительно? Всегда одно и то же. Всё постепенно исчезает, но всё остается — и ничто не кончается»4.
Том «Поэмы действия» включает самые ранний драматический опыт Тардьё — стихотворную пьесу «Гром без бури, или Бесполезные боги» (1944). На первый взгляд, это традиционная поэтическая одноактная пьеса, однако она почти программна для театра абсурда. Находясь на пороге смерти, Азия, мать титана Прометея, открывает своему внуку Девкалиону, что богов не существует. Она придумала этот миф, чтобы обуздать честолюбие Прометея, когда он был молод. Но это не привело к желаемому эффекту — подчинить Прометея высшим силам; предполагаемое существование богов побудило его всю жизнь бороться с ними. Девкалион рассказывает об этом Прометею, но тот уже начал раздувать пожар войны, чтобы уничтожить богов и вместе с ними весь мир, и не может от этого отказаться. Девкалион плывёт в неизвестное «искать в отражении двух бездн союз с моим новым богом — небытием»5. Прометей остается в одиночестве:
Теперь я знаю, знаю до конца В великолепии пустыни ночи, Которая есть бог; ему я угрожаю: Я — Прометей!6 (Перевод подстрочный.)Во впечатляющей экспериментальной работе Тардьё — осознание абсурдности жизни в мире без богов; попытка найти способ выражения, адекватно представить поиски места в лишенном смысла мире. Пьесы Тардьё — эксперимент в чистом виде, и хотя некоторым из них присуща высокая поэзия, они не могут притязать на то, чтобы считаться искусством. Это исследование, материал для изучения ценного опыта, который может быть применен для создания работ об искусстве Тардьё или других авторов; используя его опыт, можно строить дальше на заложенном им фундаменте. Это не отрицает значительных достижений Тардьё. Это творения драматурга, посвящённого первопроходца, стремящегося к расширению словаря своего искусства. Он единственный драматург-авангардист, чьё творчество включает всю полноту исследования. Он близок поэтическому театру Шехаде, сардоническому антитеатру Ионеско и психологическому миру мечты Адамова и Жене. Обладая истинными знаниями, готовностью к эксперименту, умением весело отбирать новые приёмы, Тардьё прошёл мимо проблемы маниакальных состояний, и его творения не обладают гипнотической силой, присущей шедеврам театра абсурда.
Борис Виан
Если эксперименты Тардьё — независимая параллель основного течения, то единственная пьеса Бориса Виана (1920–1959) внутри этого течения; прямое влияние Ионеско, его товарища-сатрапа по College de Раtaphysique очевидно. Пьеса «Строители империи» была впервые показана 22 декабря 1959 года, через полгода после трагической смерти автора, в Theatre Recamier, экспериментальном театре Жана Вилара. Борис Виан был одной из самых замечательных фигур в послевоенном Париже. Инженер, джазист-трубач, шансонье, киноактёр, романист, остроумный джазовый критик; один из великих представителей экзистенциалистской богемы погребков, расположенных вокруг Сен-Жерменского предместья; переводчик Раймонда Чандлера, Питера Чейни, Джеймса Кейна, Нельсона Алгрена, Стриндберга и мемуаров генерала Омара Н. Брэдли; бунтарь, обвинённый в порнографии, эксперт научной фантастики. Борис Виан — воплощение своей эпохи — сардонический, практичный, специалист, изобретатель технических новинок, яростный враг ханжества и в то же время тонкий поэт, художник, наэлекризованный крайностями жизни.
Первая пьеса Бориса Виана «Живодёрня — это пустяк» писалась в 1946–1947 гг. и была поставлена в 1950 г. В ней он предстал мастером горького чёрного юмора; его трагикомический фарс ещё вполне традиционен, что не помешало Жану Кокто назвать его событием, которое можно поставить в один ряд с пьесой Аполлинера «Груди Тиресия» и пьесой самого Кокто «Новобрачные на Эйфелевой башне». Жанр пьесы — «полувоенный водевиль в одном длинном действии». События происходят во дворе живодёра в Арроманше в день высадки союзных войск 6 июня 1944 года. Пока его эксцентричное семейство занимается повседневными делами — забоем кляч и устройством свадьбы одной из дочерей с немецким солдатом, дом непрерывно занимают военные разных национальностей — от японского парашютиста до советской женщины-солдата, которая неизвестно по какой причине одна из дочерей главы семьи. Здесь же многочисленные американцы и французские солдаты. Смешные и непристойные ситуации кончаются, когда дом живодёра взрывают, чтобы освободить место для осуществления великолепных проектов будущей реконструкции. Вся семья погибла, и под Марсельезу занавес опускается.
Написанная вскоре после войны эта сардоническая пьеса спровоцировала взрыв негодования со всех сторон, в частности, неуважительным изображением французских освободительных сил, хотя это очень выразительный образ оппортунистов, присоединившихся лишь в последний момент к Сопротивлению, реквизируя машины в свою собственность. Блестящий образец чёрного юмора в его наичернейшем варианте, но не сатира.
В «Строителях империи» тоже есть юмор, но в целом пьеса — поэтический образ страха смерти. В трёх актах показана семья, пытающаяся спастись бегством от таинственного, внушающего ужас шума, поднимаясь по лестнице всё выше и выше, и на каждом этаже попадая всё в меньшую и меньшую квартиру. В первом акте отец, мать, дочь и служанка селятся в двухкомнатной квартире. Во втором акте они уже в однокомнатной квартире этажом выше. Служанка уходит от них; дочь вышла на лестничную площадку и не может вернуться к ним: дверь таинственным образом закрылась. Отец и мать остаются одни. Мир для них сужается. В третьем акте отец в крошечной чердачной комнате. Его так ужасает шум, что он забаррикадировал вход прежде, чем его жена смогла войти. Он один. Но шум, вселяющий страх приближения смерти, не прекращается. Отец не может от него избавиться. Он умирает.
Помимо этих персонажей, в пьесе есть таинственный бессловесный schmiirz; «забинтованный, в лохмотьях, с одной рукой на перевязи, с тростью в другой руке. Он хромает, истекает кровью, от него исходит опасность»7. Его молчаливую фигуру персонажи не видят. Однако они постоянно его избивают.
Простая по структуре, но беспрерывно развивающаяся пьеса — мощное и, в высшей степени, личностное высказывание. Гордые собой, но уверенные в том, что строим свою могучую империю на земле, мы постоянно торопимся; наш мир сжимается, ибо мы приближаемся к смерти, становясь все более одинокими; диапазон нашего видения и действия всё уже и уже. Всё труднее общаться с молодым поколением, и шум смерти из подземного царства всё громче и громче.
Все это ясно. Но что означает schmiirz? Может быть, стоит обратить внимание на то, что некоторые статьи Борис Виан подписывал Адольф Шмюрц (Schmiirz). Не вызывает сомнений, что в «Строителях империи» — выраженные в драматической форме чувства самого Виана. Он знал о своём серьёзном сердечном заболевании с приступами лихорадки. Он вынужден был отказаться играть в джазе на своей любимой трубе: «Каждая нота, сыгранная мной на трубе, укорачивает на день мою жизнь», — говорил он. Для него это сужало диапазон жизни. Schmiirz символизирует нашу бренную оболочку; мы не замечаем, что занимаемся ерундой и плохо относимся к ближним. Поэтому schmiirz терпит крах и умирает прежде, чем герой пьесы. Но после смерти героя другие schmiirzes завладевают сценой. Посланцы ли они смерти или личный schmiirz героя, молчаливо его ожидающего, и которого герой избивает, не осознавая, что это смерть? Или же schmiirz, произведённый от немецкого Schmerz (боль), — тихая, непрекращающаяся боль больного сердца?
Борис Виан умер 23 июня 1959 года на частном просмотре фильма, поставленного по одной из его книг. Экранизация вызвала большую полемику, но он не был приглашён на обсуждение и вынужден был прокрасться на него тайком.
Дино Буццати
В «Строителях империи» Виана бегство от смерти — попытка найти спасение где-то наверху. Противоположный образ дан в замечательной пьесе Дино Буццати, выдающегося итальянского романиста и журналиста миланской газеты Corriere della Sera. Пьеса «Клинический случай» впервые была поставлена в Piccolo Teatro в Милане в 1953 году, в 1955 году — в Париже в адаптации Камю. В двух частях, тринадцати сценах показана смерть бизнесмена средних лет Джованни Корте. Он чересчур много работал, был тираном и кумиром своей семьи, её кормильцем и баловнем. Физически он был здоров, но его преследуют галлюцинации — отдаленно звучащий женский голос и призрак женщины, которая, как ему кажется, появляется в доме. Его уговорили проконсультироваться с известным специалистом, и он отправляется на исследование в больницу, оборудованную самым современным образом. Он становится её пациентом, чтобы установить диагноз и затем сделать операцию. Его успокаивают: в больнице используются самые передовые методы. Те, у кого несложное заболевание или они проходят обследование, помещаются на самом верхнем, седьмом этаже. У кого небольшое недомогание, располагаются на шестом этаже, у кого не слишком серьёзная болезнь, — на пятом и так далее, в нисходящем порядке до первого этажа, преддверия смерти.
В ужасающей последовательности Буццати показывает нисхождение героя. Сперва его помещают на шестом этаже, чтобы освободить комнату для более нуждающегося в отдельной палате. Постепенно он спускается всё ниже и ниже, надеясь, что ему необходим особый уход. Прежде, чем он окончательно осознает происходящее, он будет перемещаться всё ниже и ниже, пока не потеряет надежды на исцеление. Его похоронят среди нищих, изгоев. Мать Корте приходит, чтобы забрать его домой, но поздно.
«Клинический случай» — замечательная, самобытная пьеса, современный миракль в традиции Everyman. В ней драматизируется иллюзия богатого человека, что принадлежность к привилегированному классу защищает от разрушительного действия болезни. Он постепенно теряет контакт с реальностью, не замечая перемещения на нижние этажи, внезапно прозревает и умирает. В больнице с её жестким расслоением Буццати нашёл страшный образ самого общества — обезличенный механизм, неуловимый, регламентируемый правилами, непостижимый и жестокий, толкающий к смерти. Если в «Строителях империи» Виан показал активное бегство от смерти, то «Клинический случай» рисует человека, которого исподволь догоняют старость и болезнь. В процессе умирания человек теряет личность. Глядя на дождевик, который он носил, находясь в расцвете сил, Корте говорит: «Когда-то инженер Корте носил этот прекрасный плащ… Помните его? Энергичный, уверенный в себе… как же он был в себе уверен, помните?..»8
Перу Буццати принадлежат выдающийся роман «Татарская пустыня» и рассказы в духе Кафки; в написанной вслед за «Клиническим случаем» пьесе «Подлец у власти» Буццати использовал другую театральную эстетику. Пьеса — политическая сатира на тоталитарную революцию, реминисценция «1984» Оруэлла, но со странным мистическим финалом — явлением фигуры, напоминающей Христа, в момент, когда ренегат-чиновник собирается осквернить распятие, чтобы доказать свою искренность в поддержке диктатуры атеизма.
Эцио д’Эррико
Значительный вклад в театр абсурда Италии принадлежит Эцио д’Эррико. Человек многих дарований, он сделал имя как автор триллеров в стиле Сименона, как художественный критик, киносценарист и журналист. В 1948 году он начал писать пьесы. Прежде чем он повернул в сторону театра абсурда, он написал более двадцати пьес. Отправная точка его пьес — критика современного мира. В пьесе «Муравейник» мир предстает гротескным, дегуманизированным, в котором его герой Казимиро потерял не только свою индивидуальность, но и дар членораздельной речи. В пьесе «Время саранчи» показана послевоенная разрушенная Италия, населенная эгоистами-приспособленцами. Итальянец Джо, родившийся в Америке, возвращается на родину разделить свое богатство с соотечественниками; его убивают два малолетних преступника. Подобно Христу он возрождается к жизни, но жители уничтожены: виновна ли в этом саранча или атомная бомба? От деревни остались лишь руины. Выжил только один маленький мальчик, символизирующий надежду на рождение нового мира. Премьера пьесы «Время саранчи» состоялась в Дармштадте, в Германии, весной 1958 года.
Экспериментальные пьесы драматурга испугали итальянские театры. Его самая значительная пьеса в эстетике театра абсурда «Лес» также впервые была поставлена в Германии, в Касселе, 19 сентября 1959 года.
Название «Лес» метафорично; лес — гротескные реликты механической цивилизации: поваленные телеграфные столбы, бесхозный бензиновый насос, пилоны и бетонные виселицы. Весной «бетон даёт почки, похожие на плесень, грязную плесень, которая распространяется, наслаивается и захватывает всё вокруг»9. Люди, живущие в этом лесу, из которого нет выхода, — погибшие души. Подобно бродягам «В ожидании Годо», они надеются на чудо, на освобождение, но оно никогда не произойдёт. Время от времени слышен проходящий в отдалении поезд, появляется контролёр как воплощение смерти. Те, у кого закончился срок действия билетов, должны умереть.
Среди отверженных старый профессор, светский человек и его любовница, бывшая проститутка; виноторговец, до некоторой степени олицетворяющий христианство, борющийся за веру; генерал, семья которого убита во время воздушного налета при проводимой им боевой операции, потерявший выдержку при виде руин, под обломками которых погребены его родные; молодой поэт, утративший контакт с реальностью и вынужденный заниматься нудной работой ради куска хлеба для семьи. Он дирижирует оживленными или затухающими разговорами невидимых людей, ведущих диалоги, импровизируя на саксофоне и скрипке.
Действие концентрируется вокруг Марго, бывшей проститутки, которую в плену принудили к этому вражеские солдаты. Она стремится выкупить молодого поэта, говорит ему о любви и предлагает побег, но он, не в силах побороть себя и вернуться к реальности, кончает жизнь самоубийством. Марго упрекает себя в том, что она говорила юноше о романтической любви вместо того, чтобы своим телом вернуть его к реальности. Она сходит с ума. Виноторговец утверждается в том, что человек не покинут Богом. Пьеса заканчивается идиотскими командами утренней гимнастики по радио, которые Макс, любовник Марго, механически выполняет.
Лес из бетона — точный поэтический образ индустриальной цивилизации, люди, обитающие в нем, страдают от войн, самолюбия, подавленных поэтических взлетов, коммерческого прессинга, религиозных сомнений и ужасов концлагерей. Макс под пытками предал лучшего друга, оставившего ему огромное состояние, и теперь он странствует по миру, убегая от воспоминаний. Марго пытали и принудили обслуживать солдат. Пьеса — страстный, гневный протест романтика против умерщвления чувств, потери контакта с живой природой, распространяющейся цивилизации бетона и железа.
Мануэль де Педроло
Мир снов д’Эррико — абсурдный и суровый, хотя и проникнутый печальными поэтическими символами, тонкость которых иногда граничит с сентиментальностью. В творчестве ещё одного писателя-латиняна Мануэля де Педроло мы соприкасаемся с интеллектом почти геометрической строгости. Де Педроло был бы более известен за пределами своей страны, если бы не писал на каталонском языке, мало доступном даже в англоязычном мире, в котором говорят по-французский, по-испански и по-немецки. Он плодовитый романист, новеллист, драматург; несколько пьес написано им в эстетике театра абсурда. После участия в Гражданской войне на стороне побеждённых, он был учителем начальной школы, коммивояжером, страховым агентом, рецензентом в издательстве. Де Педроло — обладатель престижных литературных премий.
Его одноактная пьеса Сгита впервые поставленная в Барселоне 5 июля 1957 года, исследует человеческую разобщенность. На этрусском языке сгита означает меру, или инструмент для измерения10. В пьесе дана попытка измерить человеческую ситуацию стандартами, что оказывается невозможным и бессмысленным. В пустом, с голыми стенами коридоре, части большой квартиры, обитает некий человек, для которого это пространство — дом, и он именуется жильцом. Он приступает к измерению стен. Приходит посетитель и помогает ему в работе, но она безрезультатна; они обнаруживают, что на рулетке отсутствуют какие-либо отметки и цифры.
Ситуация жильца, находящегося в собственной квартире, столь же загадочна, как и ситуация двух бродяг на дороге «В ожидании Годо». Жилец ничего не знает о внешнем мире. Он не представляет, как и почему попали к нему вещи, которыми он пользуется. Посетитель спрашивает, откуда в его доме пепельница. «Не знаю» — отвечает жилец. «Кто-то принес её, и вот она здесь». Посетитель его предостерегает: «Если вы не будете начеку, вещи ворвутся к вам»11. Посетитель тоже забыл, каков внешний мир, хотя, как напоминает ему жилец, он пришел оттуда.
В такой же сновидческой атмосфере эти двое общаются с другими персонажами. Извне доносятся голоса, зовущие женщину по имени Нагайо. По коридору проходит девушка, но её едва замечают жилец и посетитель. Когда посетитель идёт в ванную вымыть руки, появляется незнакомец, которого жилец принимает за посетителя; недоразумение приводит к невозможности какого-либо контакта. Нагайо, женщина, которую звали голоса, появляется в открывшемся окне квартиры на противоположном конце двора. Снова жилец и посетитель не могут войти с ней в контакт, однако незнакомец сразу же становится её другом и назначает свидание. Незнакомцу не составляет труда познакомиться и с девушкой, которая снова проходит по коридору. Он решает назначить свидание ей вместо Нагайо. Когда девушка исчезает за портьерой, он намеревается пойти за ней, но портьера превращается в прочную дверь. Жилец открывает дверь, чтобы помочь незнакомцу встретиться с девушкой. Жилец и посетитель остаются вдвоём, пытаясь понять, что произошло, и приходят к заключению, что других людей, нарушающих их душевные равновесие, не существует. Но в таком случае они не могут притязать на то, что сами реально существуют. Это их устраивает, они могут вернуться к своей работе. Раздается стук в дверь. Жилец идёт открывать, занавес опускается.
Эта странная короткая пьеса ставит проблему реальности существования «других» и возможности вступить с ними в контакт. Персонажи представляют разные уровни бытия. Жилец на одном конце шкалы, олицетворяя аутентичную жизнь, исследуя свой мир, и потому он не может войти в контакт с другими и даже отличить друга от незнакомца. На другом конце шкалы — молодая девушка, существующая постольку, поскольку этого хотят другие. Три других персонажа представляют промежуточные деления шкалы. Чем больше внутренней реальности или аутентичности в человеке, тем в меньшей степени он в состоянии наладить контакт с внешним миром, грубым и полным обмана. Внутреннее одиночество приводит к нарушению душевного равновесия; в финале пьесы весь цикл вторжения из недостоверного, повседневного мира начинается сначала.
Вторая пьеса де Педроло «Люди и Но» требует ещё больших усилий для понимания. Автор определяет пьесу как «исследование в двух действиях». Её премьера состоялась в Барселоне 19 декабря 1958 года. Сцена поделена на три части ширмами из железных перекладин; в среднем отсеке тюремный страж, странное существо по имени Но, наблюдает за заключенными в правой и левой камерах. Но заснул, и две пары, Фаби и Селена, и Брет с Элианой пытаются выбраться из камер, минуя тюремщика. Но просыпается. Попытка двух пар сломать заднюю решетку не удаётся. Люди осознают возможность побега, надеясь, что они выберутся из тюрьмы — не они, так их дети.
Во втором действии у одной пары уже есть сын Феда, у другой — дочь Сорне. Они любят друг друга и решают выбраться из тюрьмы, которая не дает им соединиться. Они обследуют тюрьму и обнаруживают, что дальняя часть камеры заканчивается пропастью, преодолеть которую невозможно. Гипнотическое воздействие Но на родителей настолько велико, что им даже в голову не приходило обследовать другую часть тюрьмы. До сих пор казалось, что побег невозможен. Поэтому молодые люди сконцентрировали внимание на задней стене и нашли, что она вовсе не столь крепкая, как казалось; скорее это некий занавес. Смогут ли они прорваться сквозь него? Безжалостный тюремщик Но обеспокоен и требует, чтобы они этого не делали. Если же они это совершат, их ждёт конец. Смерть? Нет, хуже. Напряжение возрастает, Феда решает пойти на риск, и они срывают занавес. За ним оказывается другой ряд барьеров, которые только закрывают камеры; выясняется, что Но всего лишь заключенный из третьей камеры. За новым рядом барьеров три новых стража в чёрном, молчаливые и неподвижные. Феда восклицает: «И Но знал это»12.
«Люди и Но» — исследование проблемы свободы. Человек заключён в беспрерывно отодвигающиеся ряды ограждений. Он считает, что прошёл через один из барьеров (суеверия, мифа, тирании и неспособности совладать с собой), оказываясь лицом к лицу с новым барьером (метафизической болью человеческого существования, смертью, относительностью всякого знания и т. д.). Однако борьба за преодоление нового ряда железных барьеров продолжается; она должна продолжаться, даже если мы знаем, что нас ожидает очередной барьер.
Простота концепции, слияние философской идеи с конкретными сценическими условиями позволяет пьесе занять место среди лучших образцов театра абсурда.
Фернандо Аррабаль
Ещё один испанец, Фернандо Аррабаль, может быть причислен к театру абсурда. Он родился в 1932 году в Мелилле (бывшее испанское Марокко), закончил юридический факультет в Мадриде, но с 1954 года живёт в Париже и пишет пьесы на французском. Мир Аррабаля абсурден, но иной, нежели у Педроло. Он исходит не из отчаяния философа, пытающегося исследовать тайны бытия, но из того, что его персонажи смотрят на условия человеческого существования с детской простотой, не постигая их. Подобно детям, они часто жестоки, потому что им недостает понимания законов морали, или они им неведомы. Они по-детски страдают от жестокости мира, как от бессмысленной болезни.
Его первая пьеса «Пикник и Кампанья», в названии которой заключена жестокая игра слов: это может означать и «пикник на природе», но фактически это «пикник на поле сражения», что недвусмысленно говорит о намерении автора. Он написал пьесу в возрасте двадцати лет под впечатлением войны в Корее. Небольшая одноактная пьеса повествует о солдате Сапо, оторванном от линии фронта. Родители, не представляющие ужасов войны, навещают его, чтобы вместе провести воскресенье, устроив пикник. Когда появляется вражеский солдат Сепо, Сапо берёт его в плен, но затем приглашает принять участие в пикнике. Весёлый пикник идёт своим чередом, но пулемётный шквал убивает всех его участников.
Эта комедия в духе Чаплина без happy end соединяет детскую наивность и жестокость, характерные для Аррабаля. Подобная атмосфера и в «Надгробном слове», одноактной мистической драме, открывающей том «Театр» (1958). Мужчина и женщина, Фидио и Лилбе, (заметим, что имена звучат на детский лад) сидят у детского гробика, обсуждая пути добра, возможные сегодня. Лилбе не может понять, что значит быть добрым.
ЛИЛБЕ. Мы не можем ходить на кладбище и шутить, как раньше?
ФИДИО. Почему?
ЛИЛБЕ. А вырывать глаза у трупов, как раньше?
ФИДИО. Нет, не можем.
ЛИЛБЕ. А убивать людей?
ФИДИО. Нет.
ЛИЛБЕ. Значит, пускай они живут?
ФИДИО. Конечно.
ЛИЛБЕ. Им же хуже.13
По мере продолжения дискуссии становится понятно, что они сидят у гроба собственного ребёнка, которого убили. Они наивно обсуждают пример Иисуса и приходят к выводу, что надо попытаться сделать добро, хотя Лилбе предвидит, что это утомительно.
В «Двух палачах» аналогичная ситуация, но здесь традиционная мораль критикуется как противоречивая. Женщина по имени Франсез с двумя сыновьями, Бено и Морисом, приходит к двум палачам, чтобы донести на мужа. Она обвиняет его в некоем преступлении. Франсез ненавидит мужа и мечтает своими глазами видеть, как его подвергают пыткам. Она наслаждается его муками и хочет протащить в камеру пыток соль и уксус, чтобы лить на раны. Бино, послушный сын, не возражает, Но Морис протестует. Он плохой сын, не слушается матери. Когда отец умирает под пытками, Морис обвиняет мать в смерти отца. Его возвращают к сыновним обязанностям. Он просит прощение, и под занавес мать и сыновья обнимаются.
В «Фандо и Лис», пьесе в пяти сценах, Фандо везёт в инвалидном кресле свою парализованную возлюбленную Лис. Они направляются в Тар. Фандо горячо любит Лис, но считает её своим тяжким бременем. Он её развлекает, выбивая на барабане единственную мелодию, которую знает — «Песнь птицы». По дороге им встречаются три господина с зонтами, тоже направляющиеся в Тар; как Фандо и Лис, они понимают, что до него дойти почти невозможно. Каждый раз вместо того, чтобы попасть в Тар, они возвращаются на прежнее место. Фандо с гордостью демонстрирует попутчикам красоту Лис; задирая ей юбку и обнажая бедро, приглашает их поцеловать его. Фандо любит Лис, но не может не быть с ней жестоким. В четвёртой сцене мы узнаем, что, обнажив Лис, он оставил её в таком виде на всю ночь, и она заболела. Фандо надевает на неё наручники, чтобы увидеть, справится ли она с ними. Упав, она пробивает его маленький барабан. В ярости он избивает её. Когда возвращаются три господина, она мертва. В последней сцене озадаченные мужчины спорят о том, что произошло. Появляется Фандо с цветком и собакой: он обещал Лис, когда она умрёт, что придёт к ней на могилу с цветком и собакой. Мужчины сопровождают его на кладбище. Затем все четверо вновь отправлятся в Тар.
Странное смешение commedia dell ’arte и grand guignol делают «Фандо и Лис» поэтическим воплощением двойственности любви: так ребёнок то ласкает собаку, то мучает. Проецируя детские эмоции на взрослых, Аррабаль добивается трагикомического и драматического эффекта, обнажая правду, спрятанную за душевными тревогами взрослых.
Наиболее значительная пьеса Аррабаля этого периода — «Кладбище автомобилей»; в двухактной пьесе предпринята попытка воссоздания страстей Христовых, увиденных глазами детей, обитающих в мерзости запустения гротескного пейзажа. Сцена представляет кладбище старых легковых автомобилей, находящихся в распоряжении шикарного отеля. Слуга Милос обслуживает каждого постояльца: завтрак в постель и поцелуй проститутки Дилы перед сном. Герой Эману (Эммануэль), трубач, руководитель трио музыкантов в составе кларнетиста Топе и немого саксофониста Фодера, копирующего Харпо Маркса. Эману, как и Фидио в «Надгробном слове», хочет творить добро: каждый вечер он с коллегами играет танцевальную музыку для обитателей кладбища автомобилей, хотя игра на музыкальных инструментах строго запрещена полицией. На протяжении пьесы двое неутомимых атлетов, мужчина Тиоссидо и пожилая женщина Ласка, разыгрывают гротескное спортивное шоу. Во втором действии выясняется, что эти спортсмены — полицейские агенты, надзирающие за Эману. Они дают деньги Топе за предательство; как Иуда, Топе целует Эману. Когда это происходит, немой Фодер (подобно Петру) жестом отрицает свою причастность к Эману. Того варварски избивают, и, умирающего, распинают на руле велосипеда. Гротескно интенсивная жизнь кладбища автомобилей идёт своим чередом.
Стремление Эману творить добро обозначено, как смутное желание рационального порядка. Он проповедует механически: «Творя добро, чувствуешь великую радость в душе, покой, снисходящий на тебя, когда видишь, что приближаешься к идеалу». В финале пьесы он забыл этот текст и путается, излагая его. Одновременно он серьёзно обсуждает с учениками, чем можно больше заработать грабежом или убийством, но отказывается от этой мысли: им это не под силу. Когда Дила сообщает, что она тоже хочет творить добро, Эману отвечает: «Ты творишь добро, никому не отказывая переспать с тобой»14.
Хотя параллели Эману и Христа, граничащие с богохульством, очевидны (он родился в конюшне, его отец — плотник, он ушёл из дому тридцати лет, чтобы играть на трубе), пьеса наивна. Поиски добра ведутся в убогом, бессмысленном мире, в котором невозможны этические нормы. Стремление творить добро превращается в трагический абсурд, как и нелёгкая погоня полицейских ищеек, притворяющихся спортсменами.
Поглощенность Аррабаля проблемой добра, связь между любовью и жестокостью, его сомнение в этических нормах с точки зрения наивного человека, который может их принять только при условии, если он их понимает, — реминисценция «В ожидании Годо». Творчество Аррабаля выражает его мечты и чувства, восхищение перед Беккетом. Он перевёл ряд пьес Адамова на испанский язык, но не считает, что тот повлиял на него.
Аррабалю интересен абстрактный театр, который высвечивает человеческую сущность. В «Театральной оркестровке», премьера которой состоялась осенью 1959 года в постановке Жака Польери, двигаются трёхмерные, абстрактные фигуры. Некоторые из них перемещаются с помощью механизма, другие — танцовщиками. Симметричный странный мир этого спектакля основывался на созданиях Клее, Мондриана, Делоне и конструкциях Александра Калдера. Для Аррабаля несоответствия механического движения — потенциальный источник комических эффектов. Текст «Театральной оркестровки», впоследствии переименованной в «Математики искушают Бога», лишённый диалогов, напоминает гигантскую шахматную партию (Аррабаль — страстный шахматист) и иллюстрируется очаровательными цветными диаграммами. Авангардистская труппа приложила неимоверные усилия для сценического воплощения этой дерзкой концепции, вложив в осуществление замысла колоссальный труд, но успеха не имела; однако эксперимент не стал окончательным приговором утопичности абстрактного механического театра.
Когда к Аррабалю пришла слава, он обрёл уверенность в своих силах; его богатое воображение породило множество пьес, в которых он постоянно возвращается к перевёрнутому ритуалу, своего рода чёрной мессе; его стремление к богохульству соединилось с бьющими ключом экстремальными садомазохистскими фантазиями. Среди истинно театральных, хаотически структурированных пьес, только одна выделяется экономностью замысла и блестящей простотой концепции, явственно просвечивающейся сквозь барочные детали. Это «Архитектор и император Ассирии» (1967), пьеса, которую часто ставят театры, и её можно причислить к современной классике. Название пьесы заимствовано из труда Арто, в котором тот пишет о жестокости ассирийских императоров, посылающих друг другу отрезанные уши и носы их врагов. Это современный вариант «Бури» Шекспира. Архитектор, творческий, энергичный, естественный человек-Калибан на пустынном острове; он лишен дара речи, она ему не нужна: птицы, звери и даже небеса повинуются его малейшему желанию. После грандиозного взрыва на острове появляется Просперо, современный человек, оставшийся в живых, по-видимому, после авиакатастрофы или атомного взрыва. Он одержим жаждой власти и воображает себя императором, хотя напоминает мелкого служащего из Мадрида. С самонадеянностью «цивилизованного» человека он обучает архитектора языку и манерам, принятым в обществе, в результате чего тот теряет свою чудесную силу. Императора мучает комплекс вины: он пытался убить мать и просит, чтобы архитектор его убил и съел.
Когда архитектор его съедает, то превращается в Императора. Теперь в костюме Адама он обитает на острове до тех пор, пока следующий взрыв не приведёт на остров человека, который вернёт архитектора к цивилизации. Цикл истории отношений природы и человека, коррумпированного, отягощенного комплексом вины и обществом, начнётся снова.
«Архитектор и Император Ассирии» вошёл в том «Театр паники»; понятие, которое драматург применяет к своему творчеству. Это словосочетание соединяет чувство паники, то есть страха, тревоги, ужаса с оригинальной коннотацией, «имеющей отношение к богу Пану»; так Аррабаль подчёркивает элементы стихийности и азарта, аспект праздника всего (Пан по-гречески означает «всё»), что происходит в жизни с её ужасами и великолепием. Аррабаль провозглашает: «Я мечтаю о театре, в котором соединились бы юмор и поэзия. Паника и любовь сливались бы в единое целое. Театральный ритуал трансформировался в opera mundi, подобно фантазиям Дон Кихота, кошмарам Алисы, бреду К., в сущности, гуманоидным снам, которые навевает IBM-компьютер».
Аррабаль доказал, что он в состоянии воплотить эту сложную программу на практике. Однако в большинстве последних пьес он слишком потворствует своим порывам и сознательно нарушает нормы. Его ранние пьесы черпали коллизии из детской непосредственности жестокого видения мира. Этого недостаёт его пьесам последнего периода.
Макс Фриш
Премьера пьесы «Бидерман и поджигатели» в немецком оригинале состоялась в Цюрихе в Schauspielhaus 29 марта 1958 года. Это был первый опыт Фриша в эстетике театра абсурда и чёрного юмора. Фриш, как и его соотечественник Фридрих Дюрренматт, ведущий драматург немецкоязычных стран. Оба стилистически развивали драматическую идиому и многим обязаны Бернарду Шоу, Торнтону Уайлдеру и Бертольту Брехту. Это театр интеллектуальной фантазии, транслирующий современные проблемы в жанре трагикомедии, разрушающей иллюзии сардоническими политическими комментариями. «Бидерман и поджигатели» относится к этому направлению, но пародийная трактовка сюжета позволяет говорить и о влиянии театра абсурда.
Фриш предпосылает пьесе подзаголовок «дидактическая пьеса без назидания». Это поучительная история о респектабельном буржуа из шести сцен и эпилога. Фамилия Бидерман указывает, что действие происходит в Германии. Предприятие Бидермана производит лосьон для волос. В его дом вторгаются три тёмных личности. Бидерману известно, что в городе произошёл ряд поджогов, и это дело рук бездомных, находящих убежище в разных домах. Он подозревает, что его постояльцы — поджигатели; но и тогда, когда, не таясь, на его глазах, они вносят на чердак его дома канистры с бензином, устанавливают фитили и детонаторы, он надеется, что они не подожгут его дом и город, если он будет с ними любезен и пригласит на обед — на гуся с красной капустой. Один из поджигателей суммирует ситуацию: «Веселье — лучшее прикрытие; ещё лучше — чувствительность… Но самое лучшее и безопасное — чистая, голая правда. Как ни странно, в это никто не верит…»15
Бидерман бессердечен и груб. Он доводит одного из служащих до самоубийства, уволив его после многолетней безупречной службы, но себя считает учтивым, умеющим расположить к себе людей. Это его и губит.
Двое поджигателей, хотя они показаны как жертвы социальной системы, разрушают ради разрушения и ощущения власти, наблюдая за пожаром. Третий поджигатель — интеллектуал, считающий, что служит какому-то абстрактному принципу. Когда всё готово для поджога, интеллектуал убегает от подельников, как крыса с тонущего корабля, обвинив их в том, что они не интересуются его идеологическим комментарием. Бидерман не видит в этом предупреждения. Когда поджигатели обнаруживают, что нет спичек, он услужливо даёт им свои, чтобы они могли поджечь, и в огне погибли бы его дом, жена, он сам и весь город.
Цивилизация гибнет, потому что «большинство верит не в Бога, а в пожарных»16. Пьеса обрамлена бурлескным псевдогреческим хором пожарных, постоянно заявляющих о своей готовности вмешаться. В эпилоге Бидерман и его жена оказываются в аду, но в этом неметафизическом веке сам Сатана (один из поджигателей) отказывается управлять адом, в котором люди подобны Бидерману. Поскольку сожженный город восстанавливается и станет «ещё более великолепным, чем был», кажется, что жизнь продолжается.
«Бидерман и поджигатели» не просто политическая сатира: история Бидермана, как пишет автор великолепного исследования о Фрише Ганс Бенцигер, повторяет ситуацию президента Чехословакии Бенеша, допустившего коммунистов в правительство, понимая, что они приведут страну к потере независимости. Это и случай немецких интеллектуалов, считавших, что Гитлер не имел намерения раздуть мировой пожар, когда говорил о войне и победе, и позволивших ему развязать войну. В известном смысле, это ситуация человечества в эпоху водородной бомбы, когда «чердаки» мировых стран-лидеров полны взрывопасными материалами. Но помимо чисто политического аспекта в пьесе Фриша демонстрируется умонастроение, как в семьях, изображенных Ионеско в «Лысой певице» и «Жаке» — мёртвый мир рутины и пустого благодушия, в котором крушение ценностей достигло той точки, когда сбитый с толку индивидуум не может разрываться между тем, что следует сохранить и тем, что надо уничтожить. Пожарные наготове, но никто не видит в поджигателях опасности и некому принять меры по предотвращению пожара. Более того, в мире мёртвой рутины, беспрерывного потребления и производства уничтожение цивилизации воспринимается, как полезное очищение пространства для нового строительного бума.
Вольфганг Хильдесхаймер
Театр абсурда нашёл отклик в немецкоязычных странах, где с приходом к власти Гитлера и его последующим падением потеря смысла и связей в жизни более ощутимы, чем где-либо. Драматурги абсурда в Германии были более востребованы, чем в других странах. Вакуум после краха Гитлера оставался ещё долгое время, пока не появилось новое поколение драматургов. Поэтому в немецкоязычном театре ведущее положение заняли два швейцарских драматурга. И всё же молодые совершили прорыв.
Вольфганг Хильдесхаймер — один из первых немецких драматургов, принявших идиому «театр абсурда», провёл годы войны в изгнании, затем стал гражданином Израиля. Он начинал как художник; как драматург он дебютировал серией остроумных, фантасмагорических радиопьес, плутовских историй о фальшивомонетчиках, фантастических Балканских странах и романтике Востока. Переход от такого типа интеллектуального триллера к театру абсурда вполне логичен. Хильдесхаймер считает театр абсурда театром парабол, о чем он говорил в своей блестящей, аргументированной лекции на эту тему17. Общепризнанно, что «история блудного сына — парабола, но другого рода. Попробуем проанализировать различие. История блудного сына — парабола, сознательно придуманная ради возможности приходить к заключению по аналогии. Пьесы же театра абсурда — параболы жизни благодаря сознательному отказу от любого утверждения. Ибо жизнь ничего не утверждает»18.
Название книги Хильдесхаймера «Пьесы, в которых приходит тьма» иллюстрирует его концепцию театра абсурда. Название буквально отражает содержание. Во всех трёх пьесах гаснет свет, наступает темнота. В пьесе «Пастораль, или Время пить какао» пожилые люди развлекаются странным синкопированным диалогом о бизнесе и биржевых сделках, насыщенных художественными и поэтическими обертонами. Такое соединение характерно для современного западногерманского общества. Постепенно освещение уменьшается, лето сменяют осень и зима, умирают президент крупной компании, консул и горный инженер.
В «Пейзаже с фигурами» художник пишет групповой портрет пустых, претенциозных людей — богатой пожилой дамы, её жиголо и магната. В этой пьесе персонажи постепенно стареют и умирают; их аккуратно укладывают в коробки и продают коллекционеру, и они превращаются в собственные портреты. Пока художник их пишет, стекольщики вставляют новые стекла в мастерской. Снаружи свет постепенно уменьшается. В финале художник и его жена снова молоды. Как только они остаются одни, розовато-сиреневые окна падают, и сцена заливается светом.
В пьесе «Часы» вновь появляются стекольщики, но теперь они вставляют в комнате супругов прочные стекла цвета чёрного агата. Во время их работы оживают сцены совместной жизни героев; в финале приходит коммивояжер, который продаёт им всевозможные часы. Под занавес супруги оказываются внутри часов и тикают.
Эти драматические параболы впечатляют поэтическим изложением, хотя они не свободны от искусственных аналогий и поверхностны.
Гюнтер Грасс
В отличие от тонких, элегантных пьес-парабол Хильдесхаймера структура театра Гюнтера Грасса намного грубее. Грасс, подобно Хильдесхаймеру, начинал как художник. В его пьесах, вызывающих в памяти полотна Босха или Гойи, жизнь неистова и гротескна. Молодой герой пьесы «Дядя, дядя» Боллин целеустремленно желает стать убийцей; его преследуют неудачи: намеченные им жертвы его совершенно не боятся. Маленькая девочка, под кроватью которой он спрятался, не замечает его, а когда его видит, просит помочь разгадать кроссворд. Егерь, которого он заводит в лес, продолжает рассказывать двум городским ребятишкам о ботанике, деревьях и методах их сохранения. Кинозвезда, которую он собирается убить в ванне, своей глупой болтовней обращает его в бегство. В финале двое ребятишек крадут его револьвер и убивают его.
В пьесе «Тридцать два зуба» школьный учитель одержим, как и Боллин: гигиена зубов для него превыше всего. В «Наводнении» семейство, спасающееся от прибывающей воды на верхнем этаже дома, вынуждено перебраться на крышу, где философствуют две крысы. Вода спадает, и они возвращаются к рутинной жизни в разрушенном доме, сожалея, что все их треволнения закончились, и фантастические образы, вызванные игрой воображения, возникали лишь во время наводнения.
В короткой пьесе «Десять минут до Буффало» старый игрушечный паровоз тащится по абсурдному ландшафту под аккомпанемент разговора о море; он никогда не прибудет в Буффало.
Самая интересная пьеса Гюнтера Грасса «Нечестивые повара» (Die Bosen Koche) — грандиозная попытка преобразовать религиозный сюжет в трагикомедию. На сцене количество поваров увеличивается — это две соперничающие группы, пытающиеся разгадать секрет таинственного зелёного супа из обыкновенной капусты с добавлением особого рода пепла. Обладатель секрета известен под кличкой Граф, хотя его настоящее имя Герберт Шимански. Повара предлагают ему сделку. Он может жениться на сиделке Марте, если откроет им секрет. Они требуют, чтобы он выполнил условие, но он забыл рецепт. «Я сто раз вам говорил, что это не рецепт, это практика. Вы прекрасно знаете, что повар дважды не готовит одно и то же блюдо… Последние месяцы с Мартой… сделали этот рецепт ненужным. Я его забыл.»19 Не в состоянии выполнить условие сделки Граф и Марта кончают самоубийством. Это аналогия со страстями Господними. Марта омывает ноги Графа перед его смертью, и эта ассоциация что-то среднее между таинственным рецептом и евхаристией, символизируемой пищей.
Большинство пьес Гюнтера Грасса написано до 1957 года. Огромный успех ему принесли гротескные романы «Жестяной барабан» (1959), «Собачьи годы» (1963) и «Камбала» (1977). Его пьеса «Попытка плебея к восхождению» (1966) — эпизод из жизни Брехта с использованием его театральной эстетики.
Робер Пинье
Робер Пинье — ещё один романист, начинавший как художник и отважившийся писать в манере театра абсурда. Уроженец Женевы, он стал парижанином. Изучал юриспруденцию, рисовал, одно время преподавал французский язык в Англии. Один из ведущих представителей «нового романа», объединившихся вокруг Алена Роб-Грийе. Пинье — близкий друг Сэмюэля Беккета; весной 1960 года его пьеса «Мёртвое письмо» шла в один вечер с «Последней лентой Крэппа» в Theatre Recamier.
Тема «Мёртвого письма» повторяет тему его эпистолярного романа «Сынок» (1959). Брошенный отец пишет своему блудному сыну письмо, не зная, где тот находится. Это «мёртвое письмо»; отослать его невозможно. В «Сынке» он пытался воспроизвести бессвязность, хаотичность бесконечного послания, которое пишется изо дня в день. В романе письма пронумерованы, усиливая иллюзию подлинности сочинений одураченного старика. Персонаж пьесы — тот же старик, мсье Девер. Возникает впечатление, будто автор — жертва навязчивой идеи реальности длинного письма и должен видеть во плоти человека, который его пишет. Мы наблюдаем за мсье Левером в двух ситуациях: в баре, когда он открывает душу бармену, и на почте, где он просит клерка ещё раз посмотреть, нет ли письма от его пропавшего сына, которое могло затеряться. Бармена и почтового клерка играет один артист, и стойка бармена — так же и барьер почты. Старик безнадежно ждёт, как ждут бродяги в «В ожидании Годо». Он постоянно терзается вопросом, почему его покинул сын. Что он сделал не так, почему потерял его любовь. Проходит похоронная процессия. Мсье Левер ждёт смерти. В короткое scherzo этой симфонии печали и сожалений вторгаются два актёра бродячей труппы. Они входят в бар и весело проигрывают сценки из альковного фарса, который они играли тем вечером. Фарс называется «Блудный сын», и в нём отец пишет письма сыну, умоляя его возвратиться. И сын возвращается. Истрёпанный сюжет бульварного театра жестоко сталкивается с театром абсурда, в котором ничего не происходит. Диалог не порхает остроумно туда-сюда, как шарик в пинг-понге. Он бесконечен, повторяющийся и безрезультатный, как в жизни: абсурд и реальность в мире, лишённом смысла, неотделимы друг от друга.
Второе обращение Пинье к драматической форме — короткая радиопьеса «Ручка», переведённая Сэмюэлем Беккетом на английский язык под названием «Старая мелодия». Премьера состоялась по третьей программе Би-би-си 23 августа 1960 года. Абсурдность речи в этой пьесе доходит до предела. Два старика, шарманщик и его друг, вспоминают прошлое. Разговор перескакивает с одной темы на другую, каждый выбирает какой-то период из своей жизни, и все воспоминания о прошлом ставятся под сомнение. Прошлое одного немедленно опровергается другим. Что осталось у них? Было ли их прошлое только иллюзией? Разговор происходит на улице, и их воспоминания почти заглушаются шумом транспорта. В конце концов, ручка (отсюда название французского оригинала) шарманки возвращается в нормальное положение, и старая мелодия триумфально возносится над шумом улицы, очевидно, символизируя старые мотивы памяти, и при всей неустойчивости и неопределённости она торжествует.
Эта короткая радиопьеса, блестяще переведённая Беккетом с вплетением ирландских идиом, создаёт из обрывков, бессвязных до глупости, странную структуру ностальгических ассоциаций и лирической красоты.
В них нет противоречия между тщательным воспроизведением реальности и литературностью абсурда. Скорее наоборот. Большая часть реального разговора бессвязна, алогична, безграмотна и эллиптична. Представляя реальность безжалостно точно, драматург демонстрирует распад языка, свойственный абсурду. Это строго логичный диалог рационально сконструированной пьесы, нереалистической и стилизованной. В абсурдном мире реальность подана с той мерой тщательности, которая создаёт впечатление экстравагантной иррациональности.
В 1961 году Пинье опубликовал три новых пьесы. Пьеса «Здесь или в другом месте» в трёх актах, как и «Мёртвое письмо», выросла из его романа. Герой пьесы, как и в романе «Досье Клоупа», живёт в шалаше на платформе железнодорожного вокзала, зарабатывая на жизнь гаданием на картах. Что-то в прошлом мучает его. Мимо проходит молодой человек Пьеро, собираясь сесть в поезд, и заводит беседу. Кажется, что их связали дружеские отношения, но в какой-то момент он садится в поезд. Поразителен образ человека, умозрительно пытающегося создать длительные отношения в вокзальной сутолоке и суете.
В одноактной пьесе «Архитрюк» скучный, лишённый полномочий, инфантильный король и его министр коротают время в пустых играх, напоминая бродяг из «В ожидании Годо». В финале приходит Смерть и забирает короля. Одноактная монопьеса «Гипотеза» более оригинальна. Мортин сочиняет лекцию или речь о манускрипте, найденном на дне колодца, выстраивая гипотезу о том, как она могла туда попасть, зачем и почему писатель бросил рукопись в колодец. Гипотеза становится всё более нелепой и курьёзной, на экране проецируется изображение, перенявшее его мысли и произносящее их вместо него. Мортин всё больше и больше возбуждается, и в финале он готов отказаться от гипотезы и выбросить манускрипт. Вероятно, это касается и его собственной рукописи…
В объёмном романе «Под инквизицией» (1962) Пинье выступает, как драматург и романист: длинный, таинственный допрос с перекрестными вопросами соединяет театр абсурда с новым романом.
Норман Фредерик Симпсон
Если в пьесах Пинтера реализм переходит в поэтическую фантазию, то творчество Нормана Симпсона — философская фантазия на той же почве. Н. Ф. Симпсон, преподаватель в системе образования взрослых в Лондоне, стал известен после получения премии газеты Observer в 1957 году, проводившей конкурс на лучшую пьесу. Симпсон был удостоен премии за пьесу «Оглушительное бренчанье». Её премьера в очень сокращенном виде состоялась 1 декабря 1957 г. в Royal Court Theatre. Пьеса — экстравагантная фантазия в духе Льюиса Кэррола, и автор сравнивает её с «тарабарщиной, которую снова и снова выкрикивает сержант в мегафон»20. Тем не менее, в её основе — английская классовая система. Если мир Пинтера — мир бродяг и мелких клерков, то в персонажах Симпсона безошибочно угадываются жители пригорода.
Действие «Оглушительного бренчанья» разворачивается в гостиной бунгало, где обитают мистер и миссис Парадок (фактически Парадокс). Дикие, эксцентричные поступки совершают жители пригорода, принадлежащие к английскому классу ниже среднего. Чета Парадок заказала в магазине слона, но он занял бы слишком много места в их доме: «Он велик даже для отеля». Они меняют его на змею: «Можно приобрести и больших размеров, но нам это ни к чему». Обе сделки ненамного абсурднее, чем бессмысленная покупка и постоянная перемена мебели, практикуемая в этих кругах.
Супруги Парадок приглашают комиков, чтобы они дали представление в их доме, что столь же глупо, как смотреть их по телевизору. Их сын Дон возвращается домой, превратившись в молодую женщину: «Почему ты изменил свой пол», но пол — не самое главное в ограниченном мире этих людей. Чета Парадок и их гости-комики пьют нектар и амброзию и слушают религиозную радиопередачу, которую ведёт «Церковь Гипотетического императива в Бринкфоле»21, представляющая «голос культурной англиканской глупости»22, обязывающая слушателей «творить музыку, воду, любовь и клетки для кроликов»23 и произносить молитву: «Давайте смеяться с теми, кого мы щекочем… Рыдать с теми, на кого выпустили слезоточивый газ. Расправим плечи и посмеемся над реальностью, которая всего лишь иллюзия, вызванная дефицитом наркотиков и алкоголя; над здравым смыслом, над знанием — иллюзией, порождаемой биохимическими изменениями в человеческом мозге в ходе эволюции. Посмеёмся над мыслью, появившейся по тем же причинам. И над иллюзией, которая есть иллюзия, как и всё прочее…»24
Бессмыслица и сатира соединяются с пародией, и снова и снова раскрывается серьёзный философский смысл. Комики со знанием дела дискутируют о теории смеха Бергсона: «Человек, корчащий из себя важную шишку, смешон». Мистер Парадок тут же применяет теорию на практике, забравшись в электрощитовую, превращает себя в механический мозг, вопреки базе данных, правильный результат не получается из-за короткого замыкания. Время от времени появляется автор, принося извинения за недостатки пьесы, возникшие у него из-за португальского языка, который, к несчастью, он знает недостаточно хорошо. Он заявляет: «Я не делаю ставку на какое-то особое зрелище, мои мысли ничтожны по сравнению с вашими. Возможно, я всего лишь карлик на цирковой арене и выпускаю на свободу все свои недостатки»25. В финале, подводя итоги «странного представления», автор утешает: «Здравый смысл ничего не значит для тех, кому до него нет дела. Дисциплинированный ум наслаждается non sequitor»[38]26. Так завершается пьеса. Пьесы Н. Ф. Симпсона — высоко интеллектуальные забавы. В них нет мрачной одержимости Адамова, маниакального распространения предметов Ионеско, тревог и угроз Пинтера. Они написаны спонтанно и часто опираются на свободную ассоциацию и чисто вербальную логику («Меньшая часть моей спины слишком велика, доктор»); им недостаёт формальной дисциплины Беккета. Как пишет сам Симпсон в буклете к спектаклю: «Время от времени может казаться, что какие-то части отделяются от основного корпуса пьесы. Так или иначе, хорошо это или плохо, это попытка подтолкнуть публику поставить эти части по ходу пьесы на место. В конце концов, они исчезнут без малейшего ущерба»27.
При всех недостатках композиции и спонтанности мир Симпсона отмечен печатью фантазий и осмыслен; он интеллектуал с тонким юмором. Однажды он высказался: «Я убеждён, что жизнь ужасно смешна. Люди ежедневно ездят в метро, стремятся достигнуть цели и хоронят её в себе; к примеру, уик-энд посвящается мойке машины, купленной для поездок на уик-энд»28.
В одноактной версии «Оглушительного бренчанья» проповедник и прихожане суммируют цели стремлений Симпсона:
ПРОПОВЕДНИК. Прольём же свет на природу наших знаний. Ибо иллюзии нормального человека — не иллюзии безумца, а иллюзии мазохиста — не иллюзии алкоголика, а иллюзии в бреду отличаются от иллюзий влюблённого, иллюзии же гения отнюдь не иллюзии обыкновенного человека.
ПРИХОЖАНЕ. Пролей свет и просвети нас.
ПРОПОВЕДНИК. Пролей на нас, находящихся в здравом уме, свет, чтобы мы смотрели на мир, как безумцы, и открой нам истину.
ПРИХОЖАНЕ. Чтобы мы, находящиеся в здравом уме, могли бы называть это истиной и знать, что она ложная.
ПРОПОВЕДНИК. Чтобы мы, находясь в здравом уме, могли познать себя и, познав себя, узнать, что мы познали.
ПРИХОЖАНЕ. Аминь.29
Это едва ли не лучшее толкование цели не только Симпсона, но театра абсурда в целом.
Относительность видения мира пропорционально личной озабоченности, навязчивым идеями и обстоятельствами, — тема второй пьесы Симпсона «Яма». Её премьера состоялась вместе с укороченной версией «Оглушительного бренчанья» в декабре 1957 года в Royal Court. Персонажи собираются вокруг ямы на улице, споря, что это такое. Каждый видит в тёмной яме своё.
Толпа окружает «провидца», устроившегося на складном стуле с одеялами и едой, чтобы наблюдать чудо, которое, как он заявляет, произойдёт здесь — торжественное раскрытие истинной сущности великолепного витража, который будет озарён священным сиянием вечности. Провидец признается, что когда-то он желал, чтобы «очередь расходилась от меня на все четыре стороны света»30, но теперь ему будет достаточно, если вокруг него будет более скромная очередь.
К яме подходят и безликие персонажи, высказывая свои соображения о таинственном отверстии, на какие способен их скудный ум. Дискуссия вокруг ямы превращается в обозрение фантастической жизни жителей английских пригородов. Всё начинается с классификации спортивных игр от домино до крокета, бокса и гольфа, затем переходит на природу, возвращается к яме, которую можно превратить в аквариум для рыб различных пород, которые определит экспертиза; затем дискуссия переключается на преступление и наказание, следует требование пыток, казни, права на месть. Эмоции собравшихся достигают апогея в политических фантазиях — неприятия шовинизма и революций. В итоге из ямы появляется рабочий и сообщает, что в ней находится соединительная муфта электроснабжения.
Интеллектуал по имени Цереброу готов принять этот отрезвляющий факт и утешиться тем, что он узнал о соединительных муфтах. Но его антагонист Сома — Сталин; Цереброу же — Маркс, сознающий потенциал силы и массовых эмоций. Сома обвиняет его в желании «лишить все тайны поэзии и волшебства». Постепенно отрезвляющая истина восстанавливается в метафизическом смысле. Даже Цереброу ударился в псевдологические домыслы, как правильно сказать: входит кабель в соединительную муфту или выходит из неё. Сома увлекает толпу на митинг, прославляющий религиозные ритуалы культа поколения электричества. Технические аргументы превратились в туманные речи. Провидец в одиночестве остаётся ждать явления витража, озаренного священным сиянием вечности.
«Яма» — философская басня. В третьей пьесе «Маятник качается в одну сторону» Симпсон соединяет тему «Ямы» с абсурдным миром «Оглушительного бренчанья». На вопрос, что означает название пьесы, он ответил, что это просто название, как Лондон или Симпсон. Это пьеса — парадокс. 28 декабря 1959 года после апробации в Брайтоне была сыграна премьера в Royal Court Theatre, спектакль шёл на этой сцене с подзаголовком An evening of high drung and starrit.[39] Когда спектакль перебрался в Вест Энд, этот эзотерический подзаголовок заменили более понятным — «фарс в новом измерении».
Как и в «Яме», персонажи погружены в фантазии. В радиоинтервью Симпсон сказал: «В этих пьесах каждый человек — остров. Суть семейных отношений в том, что у всех свои интересы и общаются они друг с другом мало, ни во что не вникая»31. Глава семейства Артур Грумкирби — владелец автостоянки, высокодоходного предприятия в современной Англии. Как у всех добропорядочных обитателей пригорода, у него есть хобби. Интерес к юриспруденции он разделяет со страстью к плотническому делу и сооружает в гостиной весьма похожую копию здания суда в Олд Бейли.
Его сын Кирби Грумкирби самостоятельно изучил метод Павлова и не приступает к еде без звонка кассового аппарата. Затем он увлёкся новым образовательным проектом. Он хочет, чтобы пятьсот напольных весов исполняли «Аллилуйю» из «Мессии». Обладая логическим складом ума, он доказывает: если машины могут говорить, их можно научить и петь. Он идёт по пути прогресса. Когда он этого достигнет, то транспортирует на Северный полюс машины, которые привлекут толпы желающих услышать их пение. Огромные людские толпы можно будет убедить в этот момент прыгнуть и таким образом наклонить ось земли, и в Англии наступит ледниковый период, который повлечёт за собой множество смертей. Он любит чёрный цвет, и логика подсказывает, что для траура необходимо как можно больше смертей.
Дочь Сильвию, тинэйджера, тоже волнует смерть, точнее, ей хочется иметь череп, как напоминание memento mori. Но череп «не срабатывает», и она перестаёт думать о смерти. Однако она глубоко разочарована жизнью. Ей непонятно, почему её руки не достают колен; она не видит логики в строении человеческого тела. Старушка-тётка сидит в инвалидном кресле, и, исходя из философии Бергсона, её воспринимают скорее как вещь, чем как человека. И только мать семейства Мейбл не погружена в фантазии и не удивляется происходящему вокруг, её эксцентричность проявляется в здравомыслии. Приходящую домработницу Майру Гантри она заставляет доедать остатки еды, а это очень тяжёлая работа, так как остается слишком много.
Во втором акте в домашнем Олд Бейли внезапно появляются судья, прокурор и защитник; семейство продолжает свое рутинное существование. Начинается судебный процесс. Артур Грумкирби вызван в качестве свидетеля и подвергается фантастическому перекрестному допросу, в результате которого выясняется, что у него нет алиби, поскольку в определённый момент он не был в тысяче мест, поэтому маловероятно, что он находился именно в этом месте, что не принимается в расчет. После мучительной игры с судьей в вист в три руки судебное разбирательство продолжается. Обвиняется сын, убивший сорок три человека ради того, чтобы ходить в трауре. Суд доказал его преступления, но убийца оправдан, так как приговор за массовое убийство вынесен только один, что противоречит закону о возмездии за других убитых. Поэтому он освобожден.
Пьеса заканчивается решением Артура Грумкирби самому вершить суд в собственном зале суда, по-видимому, с маленьким шансом на успех.
«Маятник качается в одну сторону» пользовался грандиозным успехом у публики за фантастическую изобретательность бессмыслицы, особенно за блестящую пародию на британское судопроизводство и язык в сцене суда, во втором акте. Пьеса не столь уж безобидна, как может показаться. Невинная попытка повернуть логику вверх тормашками оборачивается злым комментарием современной английской жизни. В пьесе изображена семья из пригорода, члены которой настолько погружены в фантазии, будто каждый обитает на своей планете. Пьеса вскрывает связь между замалчиванием (взаимотерпимость, позволяющая каждому Грумкирби осуществлять странные фантазии в гостиной) и скрытыми жестокостью и садизмом.
Условные рефлексы по Павлову, которые вызывает у себя Кирби, — ключевой образ пьесы; он обусловлен автоматизмом привычного для пригородных жителей отдыха. Чтобы испытать эмоции, Кирби должен доводить себя до бессознательного состояния; только тогда он может получить сексуальное наслаждение. Когда звонок кассового аппарата выводит его из оцепенения, Кирби зло восклицает: «Я мечтаю…и прервать мой оргазм может только смерть!»32
Привычка и социальные условия умерщвляют общество стандартов. Чтобы социально оправдать траур, Кирби готов совершить массовое убийство. Подавлению и привычке всегда сопутствует чувство вины, потому и появляется посредине гостиной Грумкирби зал суда. Это судебное разбирательство можно воспринимать, как смешную пародию, но оно напоминает «Процесс» Кафки, в котором мелкие буржуа судят «другого». В жутком висте в три руки судья почти превращается в сатану. Мистер Грумкирби замечает в его ушах беруши. Когда судья посылает его посмотреть, есть ли свет, вернувшись, он сообщает, что закрыл глаза, так как не собирается «ослепнуть на восходе солнца». В какой-то момент он теряет дар речи, и когда судья свирепо спрашивает, хорошо ли подогнан его зубной протез, он молчит. Неудивительно, что после такой оргии обвинений он приветствует рассвет «с огромным облегчением».
По сравнению с представленным Симпсоном судопроизводством действующее судопроизводство пригодно. Оно может предъявить чрезмерное обвинение, но и обеспечить громоотвод благодаря тотальной бесполезности, формальной аргументации. Симпсону понадобился минимум средств из его богатого арсенала комического, чтобы перевести действительность в сатиру. С одной стороны, его Олд Бейли — фантазия вины, с другой — мощный сатирический образ традиции, низведённой до бессмысленной формальности. «Маятник качается в одну сторону» — портрет общества, ставшего абсурдным, потому что рутина и традиция привели к тому, что люди живут по условному рефлексу Павлова. Симпсон более мощный социальный критик, чем некоторые представители социального реализма. Его творчество доказывает, что театр абсурда не исключает продуктивный социальный комментарий.
Эдвард Олби
Театр абсурда оказал влияние на писателей Франции, Италии, Испании, Германии, Швейцарии и Англии. Относительное отсутствие драматургии абсурда в Соединенных Штатах несколько озадачивает, в частности, потому, что американский pop-art оказал влияние на европейских драматургов театра абсурда, о чём пойдёт речь в следующей главе.
Но причина недостатка примеров театра абсурда в Соединенных Штатах проще — условность абсурда произрастает из чувства глубокого разочарования, потери смысла и цели в жизни, что характерно для Франции и Англии после окончания Второй мировой войны. В Соединенных Штатах этого не происходило. Американская мечта по-прежнему сильна. Вера в прогресс, свойственная Европе в XIX веке, сохранялась до середины XX века. И лишь после событий 70-х годов, Уотергейта и поражения во Вьетнаме американскому оптимизму был нанесён сокрушительный удар.
Показательно, что достойный внимания образец американского авангарда «Слишком много больших пальцев на руке» Роберта Хивнора сравнивали с фантазиями Ионеско, подтверждая веру в прогресс и способность человека к совершенству. Речь идёт о шимпанзе, для которого достаточно нескольких месяцев эволюции, чтобы стать человеком и более того, — обрести духовность. В этой фантазии ощущается тщетность и абсурдность человеческих усилий.
С другой стороны, Эдвард Олби полностью подходит под категорию театра абсурда;[40] подрывая основы американского оптимизма. Его первая пьеса «Случай в зоопарке» (1958) шла в один вечер с «Последней лентой Крэппа» в Provincetown Playhouse, показав силу и горькую иронию своего дарования. Реалистические диалоги и раскрытие темы в «Случае в зоопарке» близки миру Гарольда Пинтера. Но воздействие блестящего диалога аутсайдера Джерри и буржуа-конформиста Питера снижает мелодраматическая кульминация: Джерри провоцирует Питера, выхватив нож, и затем сам на него бросается. Драматизм положения шизофреника-изгоя оборачивается сентиментальностью, особенно в момент, когда жертва, истекая кровью, выказывает дружеские чувства к своему невольному убийце.
Последовавшая за «Случаем в зоопарке» одноактная пьеса «Смерть Бесси Смит», в которой воссоздаётся конец исполнительницы блюзов Бесси Смит в Мемфисе в 1937 году, — беспощадная социальная критика. Бесси погибла в автомобильной катастрофе: ни одна из больниц для белых не оказала ей помощи. Следующая его пьеса стилистически и по содержанию, без сомнений, принадлежит театру абсурда. Олби претворяет в пьесу американскую идиому. Премьера «Американской мечты» (1959–1960) состоялась 24 января 1961 года в Нью-Йорке в York Playhouse. Олби обрушивается на идеалы прогресса, оптимизма, веры в национальное предназначение, сентиментальные образцы семейной жизни и физического совершенства. Олби показал, что эвфемизм языка и нежелание смотреть в лицо жизни в Америке сильнее, чем в Европе, раскрыв сущность буржуазной самонадеянности и позы. В «Американской мечте» семья, Мамочка, Папочка и Бабушка, ищут ребёнка для усыновления, поскольку предыдущий приёмный ребёнок «вышел из строя» и умер. Пропавший член семьи возвращается. Это молодой красавец, воплощение американской мечты. Он признаётся, что состоит из мускулов, обладает великолепной внешностью, но внутри мёртв. У него истощены все чувства, он потерял способность жить и готов на всё ради денег — даже стать членом семьи. Язык «Американской мечты» напоминает язык Ионеско в мастерском соединении клише. Клише с их эвфемизмами, детским лепетом так же характерны для американцев, как и для французов. Неприятные истины скрыты за незатейливыми рекламными стишками и весёлостью семейных журналов, полных елея. Способы использования клише у писателей разных национальностей контрастны. У Ионеско — механическая тупость французских банальностей, у Пинтера — плоские, повторяющиеся глупости, бессмыслицы английского диалога; у Олби — елейная бойкость и сентиментальность американских клише в его многообещающем, блестящем первом образце американского вклада в театр абсурда.
Премьера его первой полнометражной пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф?» состоялась 14 октября 1962 года в Нью-Йорке, доказав, что он входит в первый ряд современных американских драматургов. На первый взгляд, это жестокая супружеская битва в традициях Стриндберга и позднего О’Нила. Ученый-неудачник Джордж, его честолюбивая жена Марта, их гости, молодая супружеская пара, — реальные характеры; их мир — виски с содовой и разочарование в университетском преподавании — реален. При внимательном рассмотрении обнаруживаются черты его ранних пьес с ярко выраженными элементами театра абсурда. Джордж и Марта (отзвук имен Джорджа и Марты Вашингтон) живут иллюзией, что у них есть ребёнок, о котором они говорят, как о живом; но на холодном рассвете этой страшной ночи Джордж «убивает» сына, отказавшись от супружеских фантазий. Очевидна связь с «Американской мечтой» — с внушающим ужас ребенком-мечтой, воплощающим всеамериканский идеал, соединение элементов мечты и аллегории (может ли ребёнок-мечта стать реальным у людей, разрываемых честолюбием и страстным желанием обладать чем-то, подобным американской мечте?). В пьесе есть элементы ритуала, как у Жене, что видно из структуры: первый акт — «Игры и забавы», второй акт — «Вальпургиева ночь», третий — «Изгнание бесов».
В «Крошке Алисе» (1963) Олби предпринял новые шаги, пытаясь развить сложный образ поисков человеком истины и устойчивости в постоянно меняющемся мире, не создавая аллегории и не предлагая решений. Отсюда возмущение некоторых критиков, вызванное явным непониманием. Герой пьесы оказывается между церковью и миром циничного здравого смысла. Церковь требует от него отказаться от призвания священнослужителя и жениться на богатой женщине; от его решения зависит её колоссальное пожертвование церкви. Брак немедленно разрушается; женщина и её приближенные удаляются, оставив его умирать в одиночестве. Центральный образ пьесы — таинственная модель огромного дворца, в котором повторяется действие, происходящее на сцене. Внутри этой модели каждая комната корреспондируется с комнатами реального дома, и крошечные фигурки повторяют действия персонажей на сцене. Всё происходящее в макрокосме точно повторяется в микрокосме модели. Внутри неё ещё меньшая модель, дублирующая происходящее в большей степени и так ad infinitum,[41] вверх и вниз по ступеням жизни. Бесполезно искать философский смысл этого образа. Он создает настроение, ощущение тайны, непостижимую сложность мира. И к этому стремился поэт.
В «Шатком равновесии» (1966) Олби вернулся к реальности, которая, однако, исполнена тайны и необъяснимого страха.
Джек Гелбер
Джек Гелбер в пьесе «Связной» (1959) мастерски сливает джаз с темой ожидания Беккета. Показать наркоманов, ожидающих курьера с наркотиками, — блестящая идея. Джазовый квартет, импровизирующий на сцене, придаёт пьесе пленительный элемент спонтанности, а диалогу — лирическую бессмысленность, характерную для лучших образцов театра абсурда. Но пьесу портит тяжёлая надстройка претензий на реализм. Автор и Режиссёр уверяют публику, что на сцене, действительно, наркоманы. Два кинооператора, снимающие этот вечер, вовлекаются в действие, и один из них становится наркоманом. В итоге странная, спонтанная, поэтическая пьеса завершается требованием реформы закона о наркотиках.
«Связной», местами блестящая пьеса, идёт ко дну из-за своей неопределённой принадлежности: то ли к театру социальных реформ, то ли к театру абсурда. В следующей пьесе «Яблоко» (1961) Гелбер подходит ближе к театру импровизации, или организованной импровизации, остановившись на полпути между Пиранделло и хэппенингом.
Артур Л. Копит
Насколько трудно в Америке прививается поэтика театра абсурда, показывает пьеса Артура Л. Копита «Бедный папа, бедный папа, я в печали, тебя мама повесила в чулане» (1960), премьера которой состоялась в Лондоне в 1960 году. Пьеса — скрытая пародия. Жанр определён автором, как «псевдоклассический фарс в псевдофранцузской традиции». Молодой человек взбунтовался против авторитарной матери, пытающейся лишить его общения с внешним миром. Несносная мамаша путешествует с гробом, в котором находится труп её мужа, и с умственно отсталым сыном, который в финале душит девушку, готовую ему отдаться. Всё это изображается с пародийным смешком, лишая пьесу подлинных трагикомических эффектов, свойственных «Жаку» Ионеско или «Какими мы тогда были» Адамова. Автор вымученно подчёркивает фрейдистские аспекты своей фантазии, как будто говоря: «Не принимайте это всерьёз, я всего лишь нагромождаю ужасы ради смеха!» Он не смог превратить пьесу в гротескный поэтический образ. С другой стороны, слишком очевиден его искренний интерес к проблеме пьесы, чтобы видеть в ней только пародию и шутку.
Театр абсурда Восточной Европы
В начале 1950-х годов разгорелась полемика между Кеннетом Тайненом и Ионеско, суть которой в том, что театр абсурда интроспективный, забывший о социальных проблемах и их решении, антитеза политического театра, проповедуемого Брехтом и его последователями и официозными критиками Советского Союза и его блока. Ирония культурной жизни нашей эпохи в том, что в Восточной Европе после оттепели именно театр Ионеско послужил моделью для возникновения мощного и острого политического театра в ряде стран.
По зрелому размышлению, театр абсурда предназначен для такой роли. В театре Беккета или Ионеско человек находится в затруднительных ситуациях, не внешних или случайных, но в более эффективных для очерчивания умонастроений, главных психологических дилемм или фрустраций. Понадобилось время, чтобы литературные критики поняли смысл романов Кафки, исследующих растерянность человека, оказавшегося лицом к лицу с бездушным, сверхмеханическим и сверхорганизованным миром, предвидением концентрационных лагерей и бюрократической тирании тоталитаризма, воссозданных точнее и правдивее, чем в натуралистическом романе. Если пьеса «В ожидании Годо» была воспринята в Англии и в Америке, как аполитичная, то в Польше в период оттепели 1956 года она воспринималась, как образ жизненного крушения в обществе, в котором привычным объяснением бед настоящего было обещание, что в один прекрасный день настанет изобилие. Вскоре стало ясно, что театр таких конкретных образов, психологических дилемм и жизненных крушений, переводящий умонастроения в миф, полностью соответствовал реальной жизни Восточной Европы. У театра абсурда было преимущество в том, что, концентрируясь на психологической сути ситуации в обрамлении мифа или аллегории, не было необходимости превращаться в открытый политический или актуальный театр с прямыми социально-политическими отсылками.
В Польше, где художники впервые получили некоторую толику свободы, самые талантливые драматурги обратились к новому типу пьес. До войны в Польше существовала традиция сюрреалистической драмы, повлиявшей на такой путь развития, но, несомненно, сказалась и возрастающая известность театра Франции и Англии.
Славомир Мрожек
Мрожек — самый известный польский драматург-авангардист. Его первая пьеса «Полиция», премьера которой состоялась 27 июня 1958 года в Варшаве, — типично кафкианская парабола. Действие происходит в некой стране, в которой тайная полиция настолько могущественна, что к правящему тираническому режиму не существует оппозиции. На подозрении только один левый, годами добивающийся своего, упрямо не сворачивая с избранного пути. Когда же он, желая навести полицию на ложный след, заявляет, что согласен с правящей идеологией, тайная полиция теряет raison d’etre.[42] Не желая лишать такое количество верных людей средств к существованию, начальник полиции вменяет в обязанность одному из них совершить политическое преступление.
«В открытом море» (1961) трое, толстый, худой и средней упитанности, после кораблекрушения оказались на плоту. Чтобы не умереть от голода, они решают кого-то одного съесть. Определяя жертву, они прибегают ко всем типам политических методов — выборам, дискуссии, научным обоснованиям, чтобы установить, кто из них жил лучше и потому должен умереть первым. Но какой бы метод они не применяли, потенциальной жертвой всегда становится худой. Он не хочет быть съеденным. Но когда толстый убеждает его, что такая смерть — героический, художественный акт, худой соглашается. В этот момент персонаж средней упитанности в поисках соли находит банку фасоли с сосисками. Необходимость убивать худого исчезает. Но толстый приказывает приспешнику спрятать банку. «Не хочу фасоли» — бормочет он. «В любом случае… Вы, что, не понимаете? Он будет счастлив умереть!»
В «Стриптизе» (1961) двое заперты в пустой комнате. Они до глубины души возмущены своим положением. Появившаяся огромная рука постепенно снимает с них одежду. Они приходят к решению, что самое лучшее в их ситуации — просить у руки прощения. Они униженно просят руку простить их и целуют её. Появляется вторая рука «…в красной перчатке. Рука заставляет их подойти ближе и нахлобучивает на них шутовские колпаки, погружающие их в полную тьму». Они готовы следовать, куда укажет красная рука. «Если зовут, надо идти», — говорит один из них…
Эти две пьесы и одноактные пьесы «Мучения Петра Охея», «Чарли», «Колдовская ночь» — острые политические аллегории. «Забава» (1963) претендует на большее. Трое мужчин приглашены на вечеринку или так считают. Они приходят на пустое место в поисках развлечений. Никакой вечеринки нет и в помине. Желая развлечься, они уговаривают одного из них повеситься, чтобы всё же что-то произошло. Они уже близки к осуществлению своей забавы, когда в отдалении раздаются звуки музыки. Вероятно, вечеринка все же состоялась. Пьеса заканчивается обращением одного из персонажей с вопросом к публике: «Леди и джентльмены! Где всё-таки вечеринка?» Явствены отзвуки «В ожидании Годо», но атмосфера насыщена польским фольклором и фолк-культурой с деревенским оркестром и странными танцующими масками.
Самой известной пьесой Мрожека и по сей день остается «Танго». Премьера состоялась в январе 1965 года в Белграде, в Польше — в июне 1965 года в Будгоще; 7 июля 1965 года с триумфальным успехом — в Варшаве, в театре Эрвина Аксера Wspolczesny, и этот спектакль стал самым выдающимся событием в истории польского театра середины века.
«Танго» — сложная пьеса, пародия или парафраз «Гамлета». Герой — молодой человек, ужасающий своим поведением родителей. Он испытывает глубокий стыд за мать, изменяющую отцу, и за самодовольного отца. Понятны и горькие нападки молодого человека на поколение, допустившее войну, оккупацию и опустошение страны. Артур вырос в мире, лишённом ценностей. Его отец, безалаберный, претендующий на звание художника человек, тратит время на бесполезные авангардистские эксперименты. Мать спит с хамом-пролетарием Эдди, слоняющимся по неприбранной квартире, которую семейство называет домом. Бабушку кто-то случайно распорядился положить в гроб её последнего мужа, и она лежит в гробу, который так и не собрались вынести. Здесь же обитает и дядюшка с аристократическими манерами и мозгами набекрень. Артур жаждет нормальной жизни с соблюдением порядка и приличий. Он пытается убедить свою кузину Алю выйти за него замуж, как это было принято прежде. Аля не понимает, к чему церемонии. Если он хочет с ней спать, она согласна без всяких церемоний. Но Артур настаивает на их соблюдении. Он хватает отцовское ружьё и устраивает революцию, заставив семейство прилично одеться, привести в порядок захламлённую, грязную квартиру и приготовиться к его свадьбе. Но он не в состоянии со всем этим совладать. Осознав, что старый порядок не может быть восстановлен силой, он напивается. Старые ценности разрушены и не могут быть восстановлены силой. Что остаётся? Голая сила. «Я вас спрашиваю, когда уже ничего не осталось, и даже бунт уже невозможен, что мы можем взять в жизнь из ничего?.. Одну силу! Из ничего можно создать только силу. Она всегда есть, даже если ничего нет. …Только одно и остается — быть сильным и решительным. Я сильный. …В конце концов, сила — тоже протест. Протест в форме порядка…»
Ради доказательства своей точки зрения Артур готов убить старого дядю. Аля пытается переключить внимание Артура и кричит, что она, его невеста, накануне свадьбы переспала с Эдди. Артур потрясён. Он слишком гуманен, чтобы осуществить на деле доктрину абсолютной власти. Эдди придерживается иной точки зрения. С дикой силой он набрасывается на Артура. Сила восторжествовала. Семейство подчиняется Эдди. Пьеса заканчивается танго, которое танцуют Эдди и старый дядя-аристократ вокруг мёртвого тела Артура.
Танго — символ толчка к бунту. Когда танго было вызывающим новшеством, поколение родителей Артура сражалось за право его танцевать. Когда бунт против традиционных ценностей уничтожил все ценности, ничего не осталось, кроме голой силы — силы Эдди, силы безмозглой массы, танго танцуют на руинах цивилизации.
Смысл этого упражнения в революционной диалектике достаточно ясен: культурная революция ведёт к разрушению всех ценностей и, как следствие, к попытке интеллектуалов-идеалистов их восстановить; однако следование этим ценностям, однажды разрушенным, невозможно и потому остаётся только голая сила. В итоге, из-за того, что интеллектуалы не могут быть жестокими в нужной мере и проявить силу, её проявляют Эдди, которых в мире предостаточно. «Танго» актуально не только для коммунистических стран. Разрушение ценностей, восхождение к власти вульгарного человека массы знакомо и Западу. «Танго» — пьеса широких смыслов. Она блестяще выстроена, в ней много изобретательности, и она очень смешная.
Тадеуш Ружевич
Мрожек начинал как карикатурист и автор литературных гротесков. Ружевич начинал и остался лирическим поэтом. В его пьесах господствует атмосфера снов и кошмаров, действие прерывают строфы сардонических стихов. Во время войны он сражался в партизанском отряде. Местожительством он избрал Гливице, сердце унылой Верхней Силезии, средоточии индустриальной промышленности. Для Ружевича характерно постоянное осознание ненадежности жизни в «нормальные» времена. Премьера его первой пьесы «Картотека» состоялась 25 марта 1960 года. У героя множество имен, меняющихся от строки к строке. Одновременно он пребывает в постели и в различных жизненных ситуациях, беспрестанно сливающихся. В какой-то момент он — семнадцатилетний школьник, в следующий момент ему около сорока лет, затем он снова школьник. В его сознании сосуществуют воспоминания разных моментов его жизни:
Думал что место моё здесь ожидает меня но вижу что не было места думал пустое место после меня осталось но жизнь как вода его здесь захватила и я словно камень брошенный в глубины я на дне есмь и таков словно меня не бывало[43]Пьеса начинается стихотворением «Блудный сын», навеянным картиной Иеронима Босха; эти элегические строки подчеркивают гротеск «Картотеки».
В «Группе Лаокоона» (1962) Ружевич больше, чем сатирик. Пьеса высмеивает лихорадочную страсть к путешествиям, охватившую Восточную Европу во время оттепели, когда возникла возможность поездок за границу на праздники. В третьей пьесе «Свидетели, или Мы почти нормальные» (1963) Ружевич возвратился к лирическим сновидческим настроениям. Пьеса написана в трёхчастной сонатной форме. Каждая часть самостоятельна, но все три представляют вариации на одну, главную тему. Первая часть — стихотворение, которое читают женщина и мужчина, — вереница зыбких образов только что обретённого мира. Во второй части супруги, производящие впечатление счастливой пары, общаются пошлыми клише, как у Ионеско. Они обеспокоены переездом к ним матери жены. Их диалог беспрестанно перемежается тем, что они видят в окно. Дети гоняются за котёнком, ловят его, мучают и заживо сжигают. В третьей части два человека сидят в креслах, повернутых спинками; разговаривая, они пытаются увидеть друг друга хотя бы мельком, но им это не удается; они не в состоянии покинуть свои кресла; очевидно, что они заполучили их в упорной борьбе, и ничто на свете не заставит их освободить места для других. Они обсуждают, что валяется на дороге; один из них это видел. Был ли это узел с тряпьем, дохлая собака, а может быть, попавший в беду человек? Рядом с ними случилось что-то страшное, и они предполагают, что это умирающий человек. Но прийти к нему на помощь — значит расстаться со своими креслами, и в этом суть. «Свидетели» — маленький шедевр, лирическая драма; мощная, конкретизированная метафора человеческой жестокости и чёрствости, нормы послевоенной действительности.
Ружевича раздражает условность театра, в том числе и современного авангардистского, и он без устали экспериментирует. Герой «Смешного старика» (1964), обвиняемый в приставании к маленькой девочке, обращается к судебному трибуналу из манекенов. В это же время дети играют около сцены, не замечая старика и его трибунала. Короткая пьеса «Прерванное действие» с подзаголовком «комедия не для сцены», то есть не предназначенная для постановки, была поставлена в Ульме в 1965 году. В ней представлен автор, пытающийся закончить пьесу, которую он несколько раз начинал. В результате мозг автора превращается в место действия.
В Чехословакии оттепель наступила позже, чем в Польше. Но когда она наступила, Чехословакия пошла дальше, по крайней мере, в театре. Авангардистский театр в Праге Divadlo па Zabradli поставил «В ожидании Годо» и «Король Убю».
Вацлав Гавел
Вацлав Гавел и помощник художественного руководителя этого театра, блестящий критик и режиссёр Ян Гроссман постепенно создали сплочённую маленькую труппу. Ян Гроссман возглавил литературную часть, Вацлав Гавел занял место драматурга-резидента театра. Первый успех Гавелу принесла постановка его пьесы «Вечеринка в саду» (1963). Она сочетает в себе сильную политическую сатиру, швейковский юмор и глубины Кафки, характерные черты творчества Гавела. Действие происходит в стране, в которой власти решили упразднить министерство ликвидации и возложить эту задачу на более приспособленное к этому министерство инаугурации. Но министерство ликвидации настаивает на невозможности этого. При любой ликвидации лишь министерство ликвидации может быть компетентно. Герой, молодой карьерист, достигает высокого положения благодаря аргументированным выступлениям и интригам, вызванным этой дилеммой.
Успех ему принесла и вторая пьеса «Меморандум» (1965), в которой так же изображен запутанный бюрократический мир. Организация неопределённого назначения, но очень сложного устройства, неожиданно сталкивается с фактом введения нового официального языка, на котором с этого времени должны вестись все дела. Этот язык (тайдеп) немыслимо сложен, понять его невозможно. Управляющий Гросс не в состоянии прочесть первый же меморандум, написанный на этом языке. Хотя департамент перевода уже основан, инструкции, которым должно следовать, чтобы сделать перевод, настолько сложны, что им практически невозможно следовать. Очевидно, что Балас, его помощник-недоброжелатель, — инициатор введения нового языка, смещает его и переводит на самую низкую должность. Машинистка из департамента перевода, которой нравится Гросс, жалеет его и, нарушив правило, делает ему перевод. Новый язык неудобоварим и невозможен для использования. Получив перевод, Гросс возвращается на свою должность. Балас смещён, продолжая оставаться его помощником, покаявшись в своих грехах. Хотя Гросс вернулся к власти, он глубоко деморализован. Введён новый язык, на этот раз настолько простой, что одно слово имеет бесчисленное количество значений, и его испытания заканчиваются. Машинистка Мария, уволенная за нарушение правила, переведя меморандум для Гросса, приходит к нему с просьбой помочь ей: он произносит страстную речь в защиту человеческих ценностей и отказывается помочь ей. В конце концов, она нарушила правило, помогая ему…
Теория нового языка, дискутируемая в пьесе, блестяще обыграна. Прага — родина современной структурной лингвистики, и Гавел очень эффектно использует терминологию плеоназма (избыточности), информативной теории, и её смысл как метафоры ситуации в стране, где жизнь и смерть в прошлом зависели от точности интерпретации сакральных текстов марксизма. Структура действия симметрична: каждая сцена понижения Гросса по служебной лестнице корреспондируется с его восхождением. Гавел — мастер иронического, перевёрнутого повторения, почти идентичных фраз в различных контекстах. За издевательством над бюрократической процедурой, за языковой игрой Виттгенштейна стоит третий уровень значения: Гросс — всякий и каждый, запутавшийся в бесконечной, тщетной борьбе за положение, власть и самоутверждение.
Пьесы Гавела и Divadlo па Zabradli сыграли большую роль в утверждении атмосферы Пражской весны, предшествовавшей оккупации Чехословакии советскими войсками в августе 1968 года. Для Гавела и Гроссмана это означало конец их театральной деятельности. К тому же Гавел был лишён права публиковать свои книги. Гавел и чешские драматурги Павел Когоут, Иван Клима, Франтишек Павличек и ряд других были в первых рядах борцов против неосталинского режима, установленного СССР. Гавел — один из самых активных участников движения за права человека, провозглашенных Хельсинским соглашением. Его сатирические пьесы о ситуации в Чехословакии ставились в Германии, Скандинавии, Англии.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ТРАДИЦИЯ АБСУРДА
Может показаться странным, что глава, содержащая попытку представить контур традиции, на которую опирается театр абсурда, предшествует более важной главе оценки его создателей. Но история, как и большинство историй идей, — поиск исходных точек настоящего, и, следовательно, изменений как конфигураций современного перелома. Невозможно исследовать происхождение современного феномена, подобного театру абсурда, не зная первоначальных моментов, определивших его природу, игнорируя предшествущие элементы, соединяющиеся и распадающиеся в калейдоскопе структур меняющихся стилей и мировоззрений, совместившихся в нём. Авангардные движения едва ли можно всецело считать новыми, прежде не существовавшими. Театр абсурда возвращает к старым, даже архаическим традициям. В какой-то степени его новизна заключается в их необычной комбинации; неподготовленный зритель может быть оглушён таким соединением; между тем новаторство, кажущееся непонятным и опровергающим традиции, — расширение, повторение и развитие известных, признанных приёмов в несколько измененных контекстах.
Лишь привыкший к натуралистической и повествовательной театральной условности зритель сочтёт «Лысую певицу» Ионеско непонятной. Посади такого человека в мюзик-холле, и он поймёт абсурдную словесную бессюжетную перепалку комиков. Отправьте его с детьми на инсценировку «Алисы в стране чудес», которая всегда идёт в каком-нибудь театре, и он столкнется с освящённым веками образцом традиционного театра абсурда, очаровательного и понятного. И только потому, что привычка и закоснелая условность сузили способность публики понимать истинный театр, всякая попытка расширить пределы понимания встречает гневные протесты тех зрителей, которые пришли смотреть определённый тип спектакля и которым недостаёт непосредственности, чтобы по-другому подойти к спектаклю. Вековые традиции, которые театр абсурда воспринял в новых оригинальных комбинациях, чтобы отразить современные проблемы и навязчивые идеи, вероятно, можно классифицировать следующим образом.
«Чистый» театр, то есть абстрактные сценические эффекты, схожие с эффектами цирка или ревю, используемые жонглёрами, акробатами, матадорами и мимами.
Клоунада, буффонада, сцены сумасшествия.
Вербальная бессмыслица.
Литература снов и фантазий, часто включающая мощные аллегорические компоненты.
Эти рубрики частично совпадают: в клоунаде используются и вербальная бессмыслица, и абстрактные сценические эффекты, и такие бессюжетные, абстрактные театральные представления, как trionfi, и процессии, зачастую насыщеные аллегорическим смыслом. Их различие в том, что они разъясняют проблему на множестве примеров и способны к обособлению различных сюжетных линий.
Элемент «чистого», абстрактного театра в театре абсурда свидетельствует об его принадлежности к антилитературе, отказе от языка как инструмента для выражения глубинных уровней смысла. В ритуале и чистом стилизованном действии у Жене, количественном росте предметов у Ионеско, в мюзик-холльных трюках со шляпами в «В ожидании Годо», в овеществлении позиций персонажей в ранних пьесах Адамова, в попытках Тардьё создать театр только из движения и звука, в балетах и пантомимах Беккета и Ионеско мы видим возвращение к ранним невербальным формам театра.
Театр всегда нечто большее, чем язык. Язык можно прочесть, истинный театр становится реальностью лишь в спектакле. Выход тореадоров на арену, процессия участников на открытии Олимпийских игр, передвижение по столичным улицам глав государства, обряд, совершаемый священником во время литургии, — всё это содержит веские элементы театральных эффектов в чистом виде. Они обладают глубоким, часто метафизическим смыслом и выражают больше, чем может выразить язык. Эти качества отличают сценическое представление от прочтения пьесы. Они существуют независимо от слов, как представления индийских фокусников, которые восхищали Хэзлитта и помогли ему понять возможности человека: «Видим ли мы в этих представлениях некую энергетику или же почти чудо? Такое владение телом, начиная с нежного младенчества, и постоянное стремление к совершенствованию и достижению его в зрелости за пределами человеческих возможностей и превыше разума. Человек, ты чудо из чудес, и неисповедимы пути твои! Ты можешь творить чудеса, но как же мало используешь ты свои возможности!»1. Об этой удивительной метафизической силе говорит Ницше в «Рождении трагедии»: «Миф не воплощается в произнесенном слове. Структура сцен и визуальные образы открывают более глубокую мудрость, чем мудрость, которую поэт смог облечь в слова и идеи»2.
Между артистами бессловесных искусств, жонглерами, акробатами, канатоходцами, воздушными гимнастами и клоуном всегда устанавливаются тесные отношения. Из этой мощной и глубокой второстепенной традиции подлинный драматический театр снова и снова черпает силы и жизнеспособность. Эта традиция восходит к mimus, или античной пантомиме, форме народного театра, сосуществовавшего наряду с трагедией и комедией, часто более популярного и значимого. Пантомима была зрелищем с танцем, пением, жонглированием, но в большей степени опиралась на откровенно реалистическое изображение характерных типажей в наполовину импровизированной спонтанной клоунаде.
Герман Райх, крупный учёный, объективно изучив малоизвестные источники, пытался прочертить линию преемственности от латинских mimus через комические персонажи средневековой драмы к итальянской сотmedia dell ’arte и шутам Шекспира. В середине XX века его изыскания о прямой преемственности традиции были дискредитированы, но после публикации его монументального исследования глубинная внутренняя связь этих форм стала самоочевидной.
В античной пантомиме клоун предстает как moros или как stupidos[44] его абсурдное поведение возникает из-за неспособности понять простейшие логические отношения. Райх цитирует персонажа, который хочет продать свой дом и таскает с собой кирпич в качестве образца; подобный гэг характерен и для Арлекина. Ещё один такой персонаж хочет научить своего осла искусству обходиться без еды. Когда осёл все же подыхает от голода, он говорит: «Это тяжёлая потеря; мой осёл учился искусству обходиться без еды и сдох»3. И ещё один пример. Персонажу приснилось, что он наступил на гвоздь и поранил ногу. Он наложил на неё повязку. Приятель спрашивает его, что произошло и в ответ слышит, что во сне ему приснилось, что он наступил на гвоздь: «Как глупо! Почему мы ложимся спать босыми?»4
Подобные гротескные персонажи возникли в mimus в рамках грубой реалистической нормы, однако характерно, что в этих пьесах, часто наполовину сымпровизированных, нет строгих правил трагедии или комедии. Количество персонажей не ограничено; в них участвуют женщины и даже играют главные роли; не соблюдены единство времени и места. Помимо пьес с заранее заготовленными сюжетами (hypothesis) встречались и более короткие бессюжетные представления, включающие имитации животных, танцы или забавные трюки (раеgnia). В поздней античности превалировали фантастические сюжеты со сновидческими темами. Райх цитирует Апулея, упоминающего mimus hallucinatur, и добавляет: «Нам должно помнить не только о низком смысле hallucinari как «говорящего наобум, болтающего вздор», но также о более высоком смысле «сновидческих, странных явлений». При всем реализме mimus нередко содержал любопытные сны и галлюцинации, как, например, в пьесах Аристофана. Ювенал интерпретирует пантомимы, как paradoxi. Фактически, всё фантастическое парадоксально так же, как и mimicae ineptiae,[45] клоунада и шутовство. Возможно, интерпретация Ювенала включает оба аспекта. В mimus высокое и низкое, серьёзное и даже вызывающее ужас чудесным образом смешаны с бурлеском и юмором; плоский реализм соседствует с фантастическими и магическими элементами»5.
От mimus мало что сохранилось. Большинство этих пьес импровизировалось, но и записанные не считались достойными, чтобы их копировать и передавать дальше. В античной драматургии, дошедшей до нас, только в театре Аристофана есть свобода воображения, и фантазия соседствует с комедией, что характерно для не имеющей норм и простонародной пантомимы. Однако при всей великолепной изобретательности пьесы Аристофана мало повлияли на развитие литературной драматургии, соответствующей нормам. Если дух его пьес и сохранился, то в другой театральной традиции — в антилитературном, импровизированном народном театре с его ничем не ограниченными условностями, комментариями на злобу дня, дерзкими и экстравагантными. Эти традиции сохранились в Средние века благодаря бродячим ioculatores и клоунам, прямым потомкам римских мимов; тогда же учёные переписывали комедии Плавта и Теренция. Клоунада и шутовство возрождались в комических персонажах — Дьяволе и персонифицированных пороках — во французских и английских мистериях, в бесчисленных средневековых французских фарсах и в немецких Fastnachtsspiele.
Другим потомком античного mimus был придворный шут: «Как у античных комических актёров, у него была длинная палка, изображающая деревянный меч»6. Клоуны и придворные шуты — комические персонажи в театре Шекспира. Нет нужды останавливаться на детальном анализе шекспировских клоунов, шутов, неотёсанной деревенщины как предтечи персонажей театра абсурда. Шекспир слишком известен, и нельзя не заметить, насколько его пьесы изобилуют типажами, опрокидывающими вверх дном логику, прибегающими к ложным силлогизмам, свободным ассоциациям. В пьесах Ионеско, Беккета и Пинтера мы сталкиваемся с поэзией подлинного или притворного безумия. Не надо сравнивать этих современных драматургов с Шекспиром, но традиция фантастики и абсурда у них присутствует.
Подобные элементы у Шекспира лишь части целого, вкраплённые в богатую амальгаму поэзии и народной литературы; они присутствуют в простецкой грубости низшей разновидности дурака, подобного Бернардину в «Мере за мерой», пытающегося избежать казни по причине, что он с похмелья; в наивной глупости Лонса в «Двух веронцах»; в ребячливости Ланселота Гоббо, в меланхолическом безумии Фесте или Шуте в «Короле Лире». Подсознательное в человеке у Шекспира персонифицируется в таких великолепных архетипах, как Фальстаф или Калибан, в возвышенном безумии Офелии, Ричарда II и Лира, реальных воплощениях иррационального. «Сон в летнюю ночь» — беспощадная пародия на традиционную стихотворную пьесу, которую разыгрывают ремесленники, а превращение Основы в осла разоблачает его скотскую натуру. Но главное у Шекспира — сильнейшее чувство тщеты и абсурдности жизни. Частично это проступает в трагикомедиях, подобных «Троилу и Крессиде», где любовь и героизм самым жестоким образом принижены, подчёркивая его концепцию жизни:
Мы для богов, что мухи для мальчишек Себе в забаву давят нас они.[46]Если в театре Шекспира элементы грубой, стихийной и, во многих случаях, иррациональной народной традиции прорывались (именно эти элементы долгое время препятствовали считать Шекспира серьёзным, соответствующим литературным нормам поэтом), традиция стихийной драмы за пределами литературы продолжалась и расцветала в Италии в commedia dell’arte. Прав Райх или нет в том, что есть прямая связь между mimus и импровизированной commedia dell’arte, в которой римский sannio стал дзанни (в английской народной драме — шутом) и Скапеном, сходство между этими жанрами очевидно. В них ощущается та же потребность в буффонаде, в освобождении стихийного смеха от запретов. Множество традиционных lazzi, вербальных и невербальных комических трюков commedia dell ’arte обладают сходством с буффонадой mimus. Здесь мы снова встречаем глупого простофилю, который не может понять значения самых простых слов и попадает в ловушку бесчисленных семантических домыслов и недоразумений. Повторяются и типы: пронырливый, распутный слуга; хвастун; обжора; дряхлый старик; лжеучёный, воплощающие на сцене в мощных, грубых образах побудительные мотивы подсознания. Этот простой театр во многом зависит от профессионализма актёров. Как замечает Джозеф Грегор: «Идея этого театра может быть понята только при условии, если мы можем вообразить эти избитые сюжеты, представленные в почти баснословной путанице; эти глупые шутки, произносимые со сверхъестественной быстротой; акробатов, работающих с непостижимым искусством»7.
Притягательность commedia dell ’arte настолько сильна, что она существует в разных обличиях и сегодня. Во Франции Мольер и Мариво привили её к драматическому театру. Но она сохраняется в нелитературных формах — в пантомимах канатоходцев, в которых Дебюро создал свой архетипический образ молчаливого, бледного, снедаемого любовью Пьеро. В Англии традиции commedia dell ’arte сохранялись живыми в XIX веке в арлекинаде благодаря вдохновенной клоунаде Гримальди. Арлекинада сформировала основы поздней английской пантомимы, модифицированная форма которой существует и сегодня в не знающем меры грубом народном театре.
Другие элементы арлекинады слились с традициями английского мюзик-холла и американского водевиля со словесными перепалками комиков, чечеточниками и забавными песенками. Величайшие представители этого жанра достигали высот трагикомического страдания, оставив далеко позади многие современные драматические театры. Одним из них был Дэн Лено, о котором Макс Бирбом писал: «Это лицо, изрезанное морщинами от множества забот…это лицо трагично; вселенская трагедия на физиономии маленькой обезьянки, которая всегда может, сощурив глазки до крошечных щёлок, неожиданно усмехнуться своей маленькой победе над Тираном-Судьбой; этот бедный, затюканный человечек с писклявым голосом и стремительной жестикуляцией отважен; его согнули, но не сломили; он слаб, но не сворачивает с пути, весь олицетворение воли к жизни в мире, не заслуживающем, чтобы жить в нём. Конечно, все сердца всегда тянулись к нему»8. Временами в скороговорке Дэна Лено возникали пассажи почти философского абсурда, как в театре абсурда, когда, например, он вопрошал: «Что есть человек? Зачем он явился? Откуда? Камо грядеши?»9
Так прослеживается родословная традиций, унаследованных XX веком от античных мимов через клоунов и придворных шутов средневековья, дзанни и Арлекинов commelia dell’arte, подхваченных мюзик-холльными и водевильными комиками, что подтверждает популярное искусство немого кинематографа комедийными фильмами «Кейстон Копе», Чарли Чаплина, Бастера Китона и многих других артистов, чья слава бессмертна. Комические трюки и быстрота реакции в гротескной комедии немого кинематографа возникли из клоунады и мюзик-холльных и водевильных акробатических танцев. Непостижимое мастерство владения эффектами commedia dell’arte, о котором говорит Грегор, усиливается магией экрана.
Немая кинокомедия, несомненно, оказала влияние на театр абсурда. В ней проступает фантастическая странность мира, увиденная глазами человека, оторванного от реальности. В немой комедии есть элемент кошмара: мир явлен в непрерывных бесцельных действиях. В ней неоднократно возникает глубинная поэтическая мощь бессловесного и бесцельного действия. Великие актёры кино Чаплин и Бастер Китон — совершенное воплощение стоицизма человека, сталкивающегося лицом к лицу с миром механизмов, выходящих из подчинения.
Звуковое кино уничтожило темп и фантазии героического века комедии, открыв путь другим аспектам старой водевильной традиции. Лорел и Харди, У. С. Филдз и братья Маркс также оказали влияние на театр абсурда. В «Стульях» Ионеско старик «почёсывает голову, как Стэн Лорел»10. Перед американской премьерой «Хамелеона и Пастуха» Ионеско сказал, что его «питали» французские сюрреалисты, но самое большое влияние на него оказали Граучо, Чико и Харпо Маркс»11.
Стремительность их реакций, искусство музыкальной клоунады, безмолвие Харпо и нелепый сюрреалистический диалог, — мост, который навели братья Маркс между традицией commedia dell ’ arte, водевиля и театром абсурда. В известной сцене «Вечера в опере», в которой множество людей стремятся проникнуть в крошечную каюту океанского лайнера, то же безумное увеличение количественного роста и неистовства, как у Ионеско. Уже братья Маркс прекрасно понимали эталоны профессионализма античных шутов и племени бродячих клоунов. Они из того же разряда, что и великий У. С. Филдз, блистательный сюрреалистический клоун, замечательный жонглёр, и великий Грок, акробат и потрясающий музыкант
Сегодня в кинематографе только один Жак Тати достойно представляет это искусство и, возможно даже, как сознательный и умудренный опытом художник, он несколько ограничивает восхитительную наивность и грубость своих предшественников. По сей день мсье Юло Жака Тати олицеторяет беспомощного, запутавшегося в бессердечной механической цивилизации человека нашего времени. Метод Тати приближается к театру абсурда, в частности, в использовании языка, неотчетливого фонового бормотанья и высокой символической образности, как это имеет место в потрясающей финальной сцене «Моего дядюшки», где его отправление из безумного мира аэропорта перерастает в образ смерти.
Традиция commedia dell'arte возрождается в других формах. Её персонажи ожили в кукольном театре и представлениях Джуди и Панча, которые так же повлияли на театр абсурда.
В Центральной Европе традиция commedia dell’arte слилась с традицией шутов и негодяев в елизаветинской Англии и длинным рядом Пикельхеррингов, Гансвурстов и прочих фольклорных персонажей в народном театре XII–XVIII веков. В австрийском народном театре эта традиция слилась с традицией барочной, зрелищной пьесы и иезуитской драмы, объединив клоунаду с аллегорическими образами, предтечей многих элементов театра абсурда. В таком жанре Шиканедер написал посредственное либретто «Волшебной флейты» Моцарта. Величайшим мастером этого жанра был венский актёр-драматург Фердинанд Раймунд (1790–1836). В его театре, мало известном за пределами Австрии из-за сильного местного колорита, есть сцены, в которых грубая комедия сливается с наивной поэтической аллегорией. В «Крестьянине-миллионере» комичный новоиспечённый миллионер Вюрцель противопоставлен самому себе в детстве, возникая в образе прелестного мальчика, церемонно прощающегося с ним перед тем, как в дверь стучится Старость; её не впускают, и она взламывает дверь. Раймунд, как в лучших образцах театра абсурда, воплощает состояние человека в конкретном поэтическом образе, облечённом в плоть, одновременно комическом и трагичном.
Наследник Раймунда, доминирующая фигура венского народного театра, Йоганн Нестрой (1801–1862), также писал аллегорические трагикомедии в этом стиле, но он превзошёл своего предшественника как мастер языкового абсурда и беспощадной пародии на претенциозную драму, предвосхитив некоторые характерные черты театра абсурда. Большинство диалогов Нестроя непереводимо, он писал на диалекте с множеством локальных аллюзий, построенных на сложной игре слов. Однако в коротком пассаже в «Юдифи и Олоферне» (1849), пародии на «Юдифь» Геббеля, можно заметить проблески сюрреализма: «Я самый могучий во всей вселенной (похваляется великий воин Олоферн); но я должен проиграть сражение; я первейший из первых генералов. Придёт день, и я пожелаю сразиться с самим с собой, чтобы увидеть, кто сильнее, я или я?»12
На более литературном уровне традиции commedia dell ’arte и шекспировских шутов соединяются в предшественнике театра абсурда Георге Бюхнере (1813–1837), одном из великих немецкоязычных драматургов. В его очаровательной комедии «Леоне и Лена» использован лейтмотив «Как вам это понравится»:
О, стать бы мне шутом! Тщеславью моему так мил колпак дурацкий! (II, 7)[47]Вдохнуть жизнь в пустое существование может только любовь и способность смотреть на себя как на шута. Валерио говорит как шекспировский шут: «Солнце, что твоя вывеска на постоялом дворе, а огненные небеса и сверкающие облака над ними ни дать, ни взять вывеска «Таверна под золотым солнцем». Земли и реки — стол, залитый вином, и мы — игральные карты, в которые от скуки играют Бог и Дьявол; вы — король, я — валет, и нет лишь прекрасной дамы с чёрным пряничным сердцем на груди»13.
Бюхнер, написавший эту лёгкую комедию на закате клоунады, — один из первопроходцев другого типа театра абсурда; его незаконченная пьеса «Войцек» — яростная, брутальная драма о помрачении рассудка и навязчивых идеях. Бюхнер умер двадцати трёх лет в 1837 году. Его незаконченная пьеса — одна из первых в мировой литературе, воссоздающая страдающего человека почти на грани слабоумия, одержимого галлюцинациями, героя трагедии. В гротескных, кошмарных персонажах, мучителях беззащитного Войцека, главный — Доктор, производящий над ним научные эксперименты. По исступленности и экстравагантности языка — это одна из первых современных пьес, содержащая зачатки многого из того, что мы находим у Брехта, у немецких экспрессионистов, в мрачном трагизме театра абсурда, пример которого — ранние пьесы Адамова.
Современник Бюхнера, Христиан Дитрих Граббе (1801–1836), не обладавшй его гением, принадлежит к «проклятым поэтам», так же повлиявшим на театр абсурда. В комедии «Шутка, сатира, ирония и более глубокий смысл», шедевре чёрного юмора, Дьявола, спустившегося на землю, ошибочно принимают за старую деву-романистку. Пьесу перевёл на французский язык Альфред Жарри под названием «Силены».
От Граббе и Бюхнера эволюция идёт напрямую к Ведекинду, дадаистам, немецкому экспрессионизму и раннему Брехту.
Но прежде, чем перейти к этим и другим предшественниками театра абсурда, обратимся к истории литературы другого рода, специфическую особенность которой унаследовал театр абсурда — литературе вербальных нелепиц.
Исследуя источники комического, Фрейд отмечает: «Прелесть нелепиц в свободе, которая дарит нам радость: мы скидываем смирительную рубашку логики»14. Но тут же он спешит добавить: «В обычной жизни эта прелесть почти сведена к нулю», и приводит примеры детского восторга от набора слов, не имеющих смысла и логики, и дурачеств пьяных студентов. Показательно, что в наше время, когда необходимость быть рациональным в «серьёзной взрослой жизни» постоянно возрастает, литература и театр всё в большей степени освобождают через абсурд, который ни под каким видом не допускало омертвелое буржуазное общество Вены до Первой мировой войны.
Литература и поэзия бессмыслиц несли вожделенное освобождение от пут логики в течение многих веков. Роберт Беньян открывает очаровательную «Антологию бессмыслиц» французской схоластической поэзией нелепиц XIII века. Мы читаем в «Ворохах хлама» Филиппа де Реми, сира де Бьемона (1250–1296), рассказ о протухшей селёдке, осаждавшей город Гизор, и о старой рубашке, пожелавшей выступить в суде:
Старая рубашка Поставила перед собой задачу Подать иск, Но вишня Встала на её пути И грубо вмешалась. Без старой ложки Пришло второе дыхание, И все воды Темзы Вместились в корзину.15 (Перевод подстрочный.)Возможно, это один из самых ранних сохранившихся примеров бессмыслиц; нелепицы распевались детьми и взрослыми с древнейших времен. В этом магия бессмыслиц; магические стереотипы часто обладают рифмами или ритмом, но всякий смысл, возможно первоначально содержащийся в них, утерян.
У большинства народов рифмованные детские стихи включали множество бессмысленных строк. Оксфордский словарь детских рифм Айона и Питера Опи изобилует огромным количеством вариантов известной рифмы — бессмыслицы Хампти-Дампти, встречающейся в Германии, Дании, Швеции, Франции, Швейцарии и Финляндии. В исследовании «Практические знания и язык школьников» эти авторы собрали рифмованные бессмыслицы английских школьников, доказательство необходимости освобождения от сковывающей логики, столь же могущественной, как во времена Фрейда или в XIII веке. Литература вербальных бессмыслиц больше, чем игра. Стремясь прорваться сквозь границы логики и языка, она разрушает стены между людьми. Для Франсуа Рабле, величайшего из мастеров прозы бессмыслиц, она была стимулом для создания гипертрофированных образов. Он сотворил мир гигантов со сверхчеловеческим аппетитом, с богатым, экстравагантным языком, выводившим за пределы скудости реального мира, дававшим возможность представить бесконечность. Рабле противопоставляет бедности и ограниченности чувств образ бесконечной свободы, выходящей далеко за пределы его гуманистического Телемского аббатства с лозунгом «Делай, что хочешь», предоставляя свободу создавать новые концепции и воображаемые миры.
Вербальная бессмыслица — метафизическая попытка борьбы за расширение и выход за пределы материального мира и диктуемой им логики. Вот как пел Ричард Корбет (1582–1635), друг Бена Джонсона, бывший некоторое время епископом в Оксфорде:
Как подавленные звуки невысказанных речей, Как пара лангустов в бриджах, Или же серый ворс малиновой шляпы, Или как праздный мечтатель в стоптанной шляпе; Или как тень на восходе солнца, Или как мысль, которая не придёт: Таков человек, который не был рождён, Пока его дети не умерли и не сгнили в земле…16 (Перевод подстрочный.)Это желание постичь тень на восходе солнца или услышать невысказанные речи, возникающие раньше импульса сказать бессмыслицу. И неслучайно совпадение, что величайшими мастерами английской нелепицы были логик и математик Льюис Кэрролл и естествоиспытатель Эдвард Лир. Два интереснейших писателя дали безграничный материал для эстетических, философских и психологических исследований. В нашем контексте достаточно обратить внимание на связи в их творчестве языка и жизни.
И Лир, и Кэрролл — великие изобретатели неслыханных существ, которых нет в природе, рождённых из их имён или названий. В Nonsense Botany есть цветы Tickia Orologica в форме карманных часов; или Shoebootia Utilis, на которых растут туфли и сапоги; или Nasticreeechif Krorluppia, по стволу которой ползают мерзкие твари. Но эти выдумки бледнеют перед такими потрясающими песенками-бессмыслицами Лира, как «Дон, у которого светился нос». Он жил рядом с Громбулианской равниной, однажды его посетил Джамблиз, который отправился в море в решете. Или Янги-Бонги-Бо, обитавший «на берегу Кормандела, где рано дуют тыквы», или Поббл, у которого не было ног — все это спонтанные создания фантазии, свободной от пут реальности; надо лишь дать им имя, чтобы они ожили.
Разумеется, это деструктивная, грубая черта поэтики Лира. В его лимериках несть числа персонажам, которые разбиты вдребезги, сожраны, убиты, сожжены или каким-либо другим способом уничтожены:
Один чудак из славной древней Буды Был очень невоспитанным и грубым. Но с помощью большого молотка Его пристукнули слегка. И сразу стал скромней чудак из Буды.[48]В универсуме, свободном от пут логики, где осуществимы подсознательные желания, нет места доброте. Здесь судьба персонажей определяется названиями их местожительства. Старик из Буды должен умереть из-за своей грубости исключительно по причине географической случайности. А Старик из Кадиса, чрезвычайно вежливый с дамами, несмотря на свои прекрасные манеры, случайно утонул. Как в театре абсурда и в огромном мире подсознания, в универсуме Эдварда Лира тесно связаны поэзия и жестокость, спонтанная нежность и деструктивность.
Но разве произвол мира, определяемый ассонансом имён, менее жесток, чем реальный мир, определяющий судьбу своих обитателей случайностью рождения, расы или среды?
На мысе Горн жил человек, и он Жалел о том, что был на свет рождён. На стул однажды он забрался И от отчаяния скончался, — Такой несчастный жил на мысе Горн.[49]Вот почему мир бессмыслиц Льюиса Кэрролла населяют существа, пытающиеся разрушить детерминизм значения и смысла, которые невозможно разрушить в реальности:
— Когда я произношу слово, — произнес Хампти-Дампти слегка презрительно, — оно означает, что я выбрал его, потому что оно это означает, и не более и не менее.
— Вопрос в том, — сказала Алиса, — можешь ли ты употреблять слова, означающие такое множество различных вещей.
— Вопрос в том, — ответил Хампти-Дампти, — какое из них считать главным.
Власть над смыслом слова может быть потеряна при встрече с тем, что выразить невозможно. Вот что случилось в «Охоте на снарка» с Banker (Банкир), когда он повстречался с Bander snatch (Чудище):
К ужасу всех, кто был в тот день, Он явился в вечернем костюме, И с дурацкими гримасами пытался сказать, Что не может вымолвить ни слова. Он сел на стул и вцепился в волосы И пытался выразить жестами, Гремя парой костей.[50]«Охота на снарка» — путешествие в неизвестное, к границам бытия. Когда персонаж поэмы Baker (Булочник) неожиданно повстречался со Снарком, он оказался Буджумом, а контакт с Буджумом означает переход в небытие. У Кэрролла странная жажда пустоты, в которой не существует ни жизни, ни языка.
Элизабет Сьюелл в своём великолепном исследовании «Страна бессмыслиц» о Лире и Кэрролле считает одной из самых важных сцен и в «Алисе в стране Чудес», и в «Алисе в Зазеркалье» приключение в лесу, в котором ни у кого нет имен и у ничего нет названий. В этом лесу Алиса забывает и своё имя: «Что, в конце концов, произошло! Кто я теперь? Я вспомню, если смогу! Я должна вспомнить!» Но она забыла своё имя и, следовательно, потеряла идентичность. Она встречает молодого оленя, тоже потерявшего идентичность, и «так они шли вместе через лес: Алиса нежно обнимала мягкую шею оленя, но когда они вышли в поле, олень вдруг подпрыгнул в воздухе и высвободился от объятия Алисы. «Я олень!», — крикнул он в восторге. «А ты человеческое дитя!» Внезапно в прекрасных чёрных глазах оленя блеснула тревога, и в следующую минуту он помчался со всех ног».
Э. Сьюелл комментирует: «Можно предположить, что до известной степени потеря имени означает обретение свободы, поскольку не имеющий имени не контролируем… Можно предположить, что потеря языка несёт с собой любовь всего живого»17. Другими словами, личная идентификация, определяемая языком, именем — источник изолированности и несвободы действий, навязываемых нашей принадлежностью к обществу. Следовательно, через разрушение языка, через абсурдные, скорее случайные, чем зависящие от обстоятельств имена, возникает эта мистическая жажда свободы во имя единения с универсумом в Льюисе Кэрролле.
Ещё более явственен этот метафизический импульс у немецкого поэта бессмыслиц Кристиана Моргенштерна (1871–1914). Его поэзия бессмыслиц более философская, чем поэзия Лира и Кэрролла, и зачастую основывается на реальных понятиях. Например, в «Дощатом заборе» архитектор забирает все колья между столбами забора и использует их для строительства дома:
Забор был ошарашен: Забор стоять остался так, Без ничего, ну как дурак. Сей вид был мерзок и дурён. Сенат решил — забор снесён18.[51]Характерная черта его «Песен висельника» — черный юмор с гротескным соединением игры слов и космического страха: колено человека, погибшего на войне, бредёт само по себе; рубище висельника, рыдая, носится в воздухе; или обрывок бумаги, в которую был завёрнут сэндвич, застрявший в одиночестве в занесённом снегом лесу,
…Без сомнения, с испугу, начавший думать, Думать начавший, начал заставлять себя Думать, чтобы думать, что здесь соединилось, Получился (со страху) — думающий разум…19 (Перевод подстрочный.)Так Моргенштерн предвосхитил философию бытия Хайдеггера, но в финале птичка съела этот обрывок бумаги. Стихотворение было написано в 1916 году.
Как и Эдвард Лир, Моргенштерн был заядлым выдумщиком новых пород животных; как Льюис Кэрролл, пробовал писать стихи на собственном языке:
Kroklowafzi? Sememi! Seiokronto — prafriplo: Bifzi, bafzi; hulalemi: Quasti, basit bo… Lalu lalu lalu la!20Эдвард Лир, Льюис Кэрролл и Кристиан Моргенштерн — самые значительные поэты, нашедшие отдушину в поэзии бессмыслиц. Многие серьёзные поэты первого ряда время от времени обращались к поэзии бессмыслиц — от Сэмюэля Джонсона и Чарлза Лэма до Китса и Виктора Гюго. Границы этой поэзии подвижны. Относить ли к поэзии бессмыслиц потрясающе остроумные рифмы «Дон Жуана» Байрона или фантастические каламбуры и ассонансы Томаса Худа? Или блистательно иллюстрированные стихотворные истории Вильгельма Буша, статичные предшественники мультипликационных фильмов? Или жестокие стихотворные строки, сопутствующие Struwwelpeter?[52] Или же «Назидательные истории» Хилэра Беллока? У них встречаются элементы подлинного универсума бессмыслиц — чрезмерность или жестокость, характерные и для «Жестоких ритмов» Гарри Грэхема или Kuttel-Daddeldu[53] и Kinder-Verwirr-Buch Иоахима Рингельнатца.[54]
Велика и сфера прозы бессмыслиц — от Лоуренса Стерна до афоризмов Лихтенберга; от Шарля Нодье до Марка Твена и Амброуза Бирса. Восхитительны бессмыслицы в маленьких пьесках Ринга Ларднера (1885–1933). Эдмунд Уилсон сравнивал их с творчеством дадаистов, однако эти пьесы относятся к англо-саксонской традиции бессмыслиц. Они написаны в драматической форме, иногда их ставят в театре, но эти миниатюрные шедевры тонкого non sequitur по сути не пьесы. Некоторые самые смешные моменты содержатся в ремарках, и потому эти маленькие пьески больше впечатляют при чтении, нежели на сцене. Как, например, сыграть такую ремарку в «Водяных лилиях»?» Mama enters from an exclusive as if waffle parlour. She exits she had had waffles.[55] Несмотря на симпатичные алогизмы, диалог этих маленьких пьесок, как и большинство произведений, построенных на свободной ассоциации, обладает психологической значимостью, возвращая к основам человеческих отношений. В The Tridget of Griva двое в шлюпке воображают, что ловят рыбу. Один спрашивает другого: «Какая девичья фамилия твоей матери?» и получает в ответ: «Я её тогда ещё не знал». В «Обеденном бридже» один из персонажей открывает, что его первая жена умерла. Его спрашивают: «Сколько лет вы были женаты на ней?» Его ответ и остроумен, и резок: «Всё время, пока она не умерла». В «Обойщиках» один гость спрашивает другого: «Где вы родились?» — и получает ответ: «В законном браке». Далее первый гость комментирует: «Какое прелестное место». Когда собеседник, в свою очередь задаёт вопрос, женат ли он, тот отвечает: «Не знаю. Со мной живёт женщина, но я не знаю, кто она».
Бессмыслицы Ринга Ларднера родственны монологам Роберта Бенчли. Ещё один блестящий американский создатель прозы бессмыслиц — С. Дж. Перелман, автор лучших диалогов в фильмах братьев Маркс, оказал влияние на театр абсурда.
Преобладающее большинство поэзии и прозы бессмыслиц достигает свободы, расширяя границы смысла и освобождая от логики и узкой условности. Однако существует другой род бессмыслиц, опирающийся на сужение, а не на расширение языковых границ. Этот приём, наиболее использованный в театре абсурда, основывается на сатирических и деструктивных клише, превратившихся в обломки мёртвого языка.
Выдающийся первопроходец этого рода бессмыслиц — Гюстав Флобер. Его занимала проблема человеческой глупости, и он составил «Лексикон прописных истин», словарь клише и автоматических ответов, приложение к его посмертно опубликованному роману «Бувар и Пекюше». С тех пор словарь постоянно пополняется новыми статьями, и сейчас в нём больше тысячи статей, в которых в алфавитном порядке приведены самые общие клише, неверные представления и признанные ассоциации идей французских буржуа XIX века: «Деньги — корень зла», или «Д’Аламбер всегда следует за Дидро», или «Никто не имеет понятия о янсенизме, но говорить о нём считается высшим шиком».
За Флобером идёт Джойс, создавший энциклопедию английских клише в эпизоде «Улисса» с Герти Макдауэл — Навсикаей. И театр абсурда, от Ионеско до Пинтера, продолжает черпать неистощимые запасы комического из кладезя клише и готовых языковых форм, открытых Флобером и Джойсом.
Театр абсурда использует традиции, складывающиеся веками: мифологические, аллегорические и фантастические способы мышления, как проекции психологических реалий. Между мифом и фантастикой тесная связь; мифы — коллективная фантазия человечества. Мир мифа почти полностью исчез, обретя силу на коллективном уровне в самых рационально организованных обществах Запада, особенно он был эффективен в фашистской Германии. Таковым он остался в странах тоталитарного коммунизма. Но как замечает Мирча Элиаде: «На уровне индивидуального опыта миф никогда полностью не исчезал; он проявляется в снах, фантазиях и устремлениях современного человека»21. Театр абсурда выражает устремления к мифу. Об этом говорит Ионеско в одном из своих самых страстных воззваний в защиту театра абсурда: «Ценность «Конца игры» Беккета… в том, что она ближе к Книге Иова, чем бульварный театр или chansonniers. Сквозь бездну веков, эфемерный феномен истории, менее эфемерную архетипическую ситуацию, эта пьеса обнаруживает первоначальный объект, с которого всё начиналось. …Самые новейшие, самые современные произведения искусства останутся в веках, о них будут говорить во все эпохи. Да, царь Соломон, вождь движения, к которому я принадлежу; и Иов — современник Беккета»22.
Литература сновидений всегда связана с аллегорическими элементами; более того, символическое мышление — одна из характерных черт сновидений. Питер-пахарь, «Божественная комедия» Данте, «Путь паломника» Беньяна, пророческие образы Уильяма Блейка — аллегорические сновидения. Этот элемент бывает формально интеллектуальным, педантичным, как в некоторых autos sacramentales в испанском барочном театре, или же сохраняет поэтическое свойство тщательно разработанными аналогиями, как в «Королеве фей» Спенсера.
В театре не всегда удаётся разграничить поэтическую реальность и мир сновидений. В шекспировском «Сне в летнюю ночь» есть сны и иллюзии, метаморфозы Основы и любовные чары, но и вся пьеса — сновидение. Сюжет «Зимней сказки» кажется невероятно натянутым и вычурным, если воспринимать его как реальность, но всё становится на свои места и обретает трогательную поэтичность, если видеть в пьесе сновидение об осознании вины, преображённое в чудесную фантазию осуществленных желаний. Елизаветинский театр иногда близок к концепции зала зеркал Жене: мир воспринимается как театр, а жизнь как сон. Если Просперо говорит:
Мы созданы из вещества того же, Что наши сны. И сном окружена Вся наша маленькая жизнь. (IV, 1).[56]Эта же идеей пронизан театр Кальдерона, и не только в пьесе «Жизнь есть сон», в которой жизнь приравнивается к сновидению, но и в возвышенном аллегорическом представлении «Великий театр мира», где мир явлен как театр, и каждый персонаж играет роль, предназначенную ему Творцом, создателем мира. Персонажи разыгрывают свои жизни во сне, от которого их пробуждает смерть, и они переходят в реальность вечного спасения или проклятия. Пьеса Кальдерона основывается на тексте Сенеки (Epistolae LXXVI, LXXVII), в котором дан образ сильных мира сего, но их жребий не лучше жребия актёра, складывающего после спектакля атрибуты власти.
В прекрасной аллегорической драме эпохи барокко Cenodoxus[57] немецкого иезуита Якоба Бидермана (1635), в которой дьяволы и ангелы сражаются за душу героя, хор поёт в час смерти:
Vita enim hominum, Nihil est, nisi somnium. (Воистину жизнь человеческая /есть ничто, только сон.)Самые известные непомерно жестокие барочные пьесы — трагедии Джона Уэбстера и «Трагедия мстителя» Сирила Тернера; в них сновидения другого рода — жестокие кошмары, страдания, месть.
Со спадом моды на аллегории начинает преобладать фантастический элемент, как в сатирических фантазиях «Путешествия Гулливера» Свифта или в готических романах в духе «Замок Отранто» Уолпола, где таинственный шлем вторгается в замок, подобно растущему трупу в «Амедее» Ионеско. Если сновидческий мир барочной аллегории был символический, но строго рационалистический, то в сновидческой литературе XVIII — начала XIX века увеличивается количество текучих идентичностей, неожиданных трансформаций персонажей и кошмарных сдвигов времени и места. Э. Т. А. Гофман, Жерар де Нерваль и Барбье д’Орвильи — мастера этого жанра. Для современников их фантастические сказки представлялись научной фантастикой; сегодня они воспринимаются, как сновидения и фантазии, проекции агрессии, вины, желаний. Экстравагантные оргиастические фантазии маркиза де Сада — ещё более понятные проекции психологической реальности в форме литературной фантазии.
В драматической литературе мотив сновидений проявляется, как реальные события, как сон простака: таково приключение Слая, обрамляющее сюжет «Укрощения строптивой». В замечательной, варварски жестокой комедии Людвига Хольберга «Йеппе с горы» (1722) пьяного крестьянина Йеппе, проснувшегося в замке барона, убеждают, что он в раю, но во второй раз он просыпается на виселице. Гёте отважился показать мир сновидений в двух сценах Вальпургиевой ночи в первой и во второй частях «Фауста». В «Пер Гюнте» Ибсена есть сцены сновидческой фантазии; в одном из шедевров венгерской драмы «Трагедия человека» Мадача действие сконцентрировано на сне Адама о будущем человечества и его гибели. Первым, представившим на сцене мир сновидений в духе современных психологических концепций, был Август Стриндберг. Триптих «На пути в Дамаск» (1898–1904), «Игра снов» (1902) и «Соната призраков» (1907) — мастерская адаптация снов и наваждений, источник театра абсурда. В этих пьесах перемещение из объективной реальности внешнего, правдоподобного мира к субъективной реальности внутренних состояний сознания завершено окончательно и самым блистательным образом. Это перемещение показывает водораздел между традиционной и современной, репрезентативной и экспрессионистской проекцией ментальных реальностей. Центральный персонаж «На пути в Дамаск» окружен архетипическими фигурами: Дама олицетворяет его восприятие женской половины рода человеческого; Неизвестный — его вечный, исконный враг и в то же время эманация его личности, искуситель, олицетворение его пороков; Исповедник и Нищий — персонификация его лучших черт. В том же ключе решается и сценическое пространство вокруг этих фигур, представляя эманацию ментальных состояний героя или автора. Пышный банкет, на котором он представлен правительству как великий изобретатель, внезапно превращается в сборище сомнительных личностей, издевающихся над ним, потому что он не в состоянии уплатить по счёту. Как говорит Стриндберг в предисловии к «Игре снов»: «В этой игре снов, как и в предыдущей пьесе «На пути в Дамаск», автор стремился представить бессвязную, но логическую форму сновидения. Всё возможно; всё вероятно. Времени и пространства не существует. На хрупкой основе реальности воображение плетёт и ткёт новые образы, рожденные памятью, опытом, высвобожденными фантазиями, абсурдом и импровизациями. Персонажи расщеплены, двойствены, сложны; они испаряются, кристаллизуются, рассеиваются и соединяются. И только сознание сновидца властвует над ними. Для него нет тайн, нет абсурда, нет сомнений и законов…»23
Если «Путь в Дамаск» ведёт к гармонии с религией и утешению, то в «Игре снов» и «Сонате призраков» представлен мир жестокой безысходности и отчаяния. Дочь Индры в «Игре снов» узнаёт, что жить — значит творить зло; мир в «Сонате призраков» — склеп вины, наваждений, безумия и абсурда.
Знаменательно и в какой-то мере парадоксально, что развитие психологического субъективизма в экспрессионистских сновидческих пьесах Стриндберга было логическим развитием движения к натурализму. Стремление представить реальность во всей её полноте, сначала проявляющуюся в безжалостно правдивом описании внешних сторон, затем к осознанию, что внешняя сторона объективной реальности всего лишь незначительная часть реального мира. Это стадия, на которой роман делает скачок от тщательных описаний Золя к более тщательному и микроскопическому описанию мира, как отражения в сознании одного человека в творчестве Пруста. Таким путём идёт Стриндберг от ранних исторических пьес к романтическим драмам 80-х и к жестокому натурализму изображения навязчивых идей в «Отце» и затем к экспрессионистским сновидческим пьесам первого десятилетия XX века.
Аналогичен путь Джеймса Джойса, но на другом уровне. В юности он выучил норвежский язык, чтобы читать Ибсена в оригинале. И в ранней пьесе «Изгнанники», и в тщательных описаниях «Дублинцев» он пытался передать внешние стороны реального мира, пока не решил в «Улиссе», что ему необходимо фиксировать абсолютную реальность. Эпизод «Ночной город» в «Улиссе», написанный в форме сновидческой пьесы, один из великих образцов раннего театра абсурда. Сон Блума о величии и упадке и сон Стивена о его вине сливаются в быстро сменяющиеся сцены гротескного юмора и страданий, разбивающих сердце.
Неслучайно, что почти через сорок лет после завершения «Улисса» были предприняты небезуспешные попытки постановки «Улисса» в театре, в частности, — «Ночного города»24. К этому времени успех Беккета и Ионеско позволил ставить сцены из Джойса — не только предвидения театра абсурда, но во многом превосходящие его в смелости концепции и оригинальной изобретательности.
«Поминки по Финнегану» Джойса так же предвосхитили завоевания театра абсурда в сфере языка, попытках постигнуть глубинный пласт сознания, подсознательную матрицу мысли. Но и в этой области Джойс во многих отношениях пошёл дальше и исследовал глубже, чем следующее поколение.
Если сновидческие аллегории средневековья и барокко выражали устойчивые и в большинстве случаев одобренные принципы веры, таким образом конкретизировали общепризнанные мифы своей эпохи, то Достоевский, Стриндберг и Джойс, углубляясь в своё подсознание, открыли универсальное, коллективное значение личных наваждений. Это относится и к Францу Кафке, который, как Стриндберг и Джойс, оказал сильное воздействие на театр абсурда.
В новеллах и неоконченных романах Кафки даны тщательные и точные описания ночных кошмаров и навязчивых идей — страхов и ощущения вины чувствительной личности, потерявшейся в мире общепринятых норм и рутины. Кошмар К, обвиненного в преступлении против закона, так никогда и не узнавшего, в чём его преступление; трудности другого К, землемера, приглашённого в замок, в который ему нет доступа, — воплощения потери контакта с реальностью самого Кафки, предельное выражение ситуации современного человека. В кратком, проливающем свет эссе о Кафке Ионеско пишет: «Тема человека, затерявшегося в лабиринте, не имеющего путеводной нити, — основная… в творчества Кафки. Однако если у человека больше нет путеводной нити, значит, что он не хочет, чтобы она была. Отсюда чувство вины, страха, абсурдность истории»25.
Известно, что Кафка очень увлекался театром, однако остался только небольшой драматический фрагмент, первая сцена неоконченной пьесы «Страж склепа». В ней юный принц призывает старого стража мавзолея, где похоронены предки принца, и старик рассказывает ему, что каждую ночь он ведёт страшные битвы с духами усопших, которые хотят покинуть темницу могилы и завладеть миром живых.
Хотя скромная попытка Кафки написать пьесу ничем не кончилась, непосредственность его художественной прозы, конкретная ясность её образов, её тайна и напряжение постоянно порождают искушение у понимающих, что это идеальный материал для театра, воплотить её на сцене. Возможно, самой удачной из всех адаптаций романов и рассказов Кафки стал «Процесс», адаптированный Андре Жидом и Жаном-Луи Барро. Этим спектаклем 10 октября 1947 года открылся Theatre de Marigny.
Спектакль глубоко воздействовал на публику. Он был поставлен в благоприятный момент, вскоре после кошмара немецкой оккупации. Сновидение Кафки о вине и произволе властей для французской публики 1947 года не было только фантазией. Личные страхи автора обрели плоть, превратившись в коллективный страх нации; картина абсурдного, деспотичного, иррационального мира оказалась в высшей степени реалистической.
«Процесс» был первой пьесой театра абсурда в эстетике середины XX века. Он предшествовал спектаклям по пьесам Ионеско, Адамова и Беккета; режиссёр Жан-Луи Барро уже предвидел их многие сценические открытия, соединив традиции клоунады, поэзии нелепиц со сновидческой и аллегорической литературой. Сбитый с толку критик тех лет писал: «Это не пьеса, это лишь ряд образов, фантомов, галлюцинаций». Или как писал другой критик: «Это кинематограф, балет, пантомима, всё сразу. Спектакль напоминает киномонтаж или иллюстрации в книжке с картинками»26. Жан-Луи Барро нашел свободный, меняющийся, гротескно-фантастический стиль спектакля, соединив поэтику Кафки со школой, которую он прошёл сам. Найденный им стиль впрямую продолжил литературные и сценические традиции театра абсурда; традиции бунтарей Жарри, Аполлинера, дадаистов, немецких экспрессионистов и пророков неистового, жестокого театра — Арто и Витрака.
Отправной точкой этого движения стал памятный вечер 19 декабря 1896 года премьеры «Короля Убю» Жарри в постановке Люнье-По в Theatre de I’CEuvre. Спектакль спровоцировал скандал столь же яростный, как знаменитая баталия в день премьеры «Эрнани» Виктора Гюго, положившая начало во французском театре грандиозному диспуту о романтизме.
Альфред Жарри (1873–1907) — один из самых экстраординарных и эксцентричных французских «проклятых поэтов». Его смерть восприняли ненамного серьёзнее, чем смерть одного из эксцентричных типов парижской богемы, слившегося с гротескным персонажем, им созданным и канувшим в вечность подобно Жарри, погибшего от злоупотребления абсентом и разгульного образа жизни. Однако Жарри оставил шедевр, значение которого после его смерти возросло.
Необузданный, экстравагантный, не стесненный условностями язык Жарри говорит об его принадлежности к школе Рабле, но его образность многим обязана порочному, погруженному в раздумья, терзаемому сновидениями, извращённому, несчастному «проклятому поэту» Изидору Дюкассу, именующему себя графом Лотреамоном (1846–1870), автора шедевра романтической агонии «Песни Мальдодора», которые позже вдохновляли сюрреалистов. Жарри так же многим обязан Верлену, Рембо и более всех Малларме, в чьих статьях о театре встречаются призывы к бунту против рациональной, хорошо сделанной пьесы fin de siecle. В 1885 году Малларме требовал создать театр мифа с несвойственной французскому театру иррациональностью сюжета, «свободного от места и времени действия, известных характеров», ибо «наш век или наша страна, превозносящая подобное искусство, разрушила мифы идеями. Так возродим же мифы!»27
Король Убю — фигура мифическая, один из гротескных архетипических образов. Пьеса родилась, как школьная проделка против одного из учителей лицея Рене, где учился Жарри. Учитель Эбер, по кличке Папаша Эб, или папаша Эбе, затем Убю, был посмешищем и мишенью для издевательств. В 1888 году пятнадцатилетний Жарри сочинил пьесу для кукольного театра о подвигах папаши Убю и показывал её друзьям.
Убю — не только жестокая карикатура на глупого, эгоистичного буржуа, увиденного глазами безжалостного школьника, но и раблезианский тип; трусливый и важный, как Фальстаф. Тип Убю выходит за пределы социальной сатиры. Это страшный образ животного начала в человеке, жестокости и злобы. Убю восходит на польский престол, убивает и мучает народ и, в конце концов, его изгоняют из страны. Жалкий, вульгарный, грубый монстр казался преувеличением, но он был превзойден реальностью, длившейся до 1945 года. И снова образ, созданный поэтом для сцены по наитию из тёмных сторон человеческой природы, оказался пророческим.
Жарри сознательно намеревался столкнуть буржуазную публику со своей монструозной пьесой для кукол, которую актёры играли бы в стилизованных костюмах, как будто сделанных из дерева, и в детски наивных декорациях; публику должно ужасать собственное самодовольство и безобразия: «Я хотел, чтобы публика, как только поднимется занавес, оказалась бы перед зеркалом из волшебных сказок мадам Лепринс де Бомон, в которых мерзкий негодяй видит себя с бычьими рогами и туловищем дракона, подчеркивающими мерзопакостность его натуры. И чтобы это зрелище не развлекало публику, но ошеломляло бы её двукратным увеличением человеческой низости, никогда прежде не представавшей с такой полнотой, соединяющей, как превосходно сформулировал М. Катюлль Мендес, «вечную человеческую глупость, похоть, обжорство, низменные инстинкты, поднявшиеся до статуса тирании; скромность, добродетель, патриотизм и идеалы отлично пообедавших людей»28.
Публика действительно была ошеломлена. Едва Жемье, игравший Убю, произнёс первую реплику «Дерьмо!», разразилась буря. Она продолжалась пятнадцать минут, прежде чем воцарилась тишина. Весь спектакль шла демонстрация за и против. На нем присутствовали Артур Симонз, Жюль Ренар, У. Б. Йейтс и Малларме. Артур Симонз оставил описание спектакля: «Декорации напоминали детский рисунок: дом, улица и даже жаркие тропики и арктическая зона были на сцене одновременно. На заднем плане под голубыми небесами цвели яблони, на фоне голубого неба было закрытое окно и очаг… В этом пространстве действовали шумные, кровожадные персонажи драмы. Слева была нарисована кровать, в её ногах стояло оголенное дерево, шёл снег. Справа возвышались пальмы… на фоне неба открывалась дверь, рядом с ней висел скелет. Почтенный господин в вечернем костюме семенил на цыпочках по сцене и перед каждым эпизодом вешал на гвоздь новый плакат с указанием места действия»29.
Йейтс безошибочно почувствовал, что скандальный спектакль знаменовал конец эпохи в искусстве. В автобиографии «Дрожащие завесы» он описал свои ощущения, столкнувшись с гротескной драмой Жарри, её окостенелыми эмблемами и намеренным отказом от нюансов: «Предполагалось, что актёры — куклы, игрушки, марионетки, скачущие, как деревянные лягушки; главный персонаж, король, использует щётку для чистки туалета вместо скипетра. Считая своим долгом оказать поддержку, мы громкими выкриками одобряли пьесу, но вечером на банкете в отеле «Корнель» мне было грустно: комедия показала ещё раз объективную реальность, в которой возрастает власть. Я сказал: «После Стефана Малларме, Поля Верлена, Гюстава Моро, Пюви де Шаванна, после наших собственных стихов, после всех наших тонких оттенков и нервных ритмов, бледных, смешанных тонов Конде, что ещё может быть? После нас — свирепый идол»30.
Даже Малларме, которого Йейтс считал мастером тонких нюансов, поздравил Жарри: «С исключительной точностью, как скульптор, вы представили нам чудовищный персонаж и его шайку. Ваш герой высшей пробы, его образ преследует меня»31.
Ещё одним свидетелем памятной премьеры был французский драматург Анри Геон. Спустя полвека он обобщил значение этого события: «…на мой взгляд, основная претензия к Theatre de L’CEuvre благодарных поклонников его искусства была в том, что «Король Убю» шёл под какофонию птичьих звуков, свиста, протестов и смеха… Школьник Жарри, издеваясь над учителем, не знал, что создал шедевр, сравнимый с живописью; в мрачных излишествах карикатур этого полотна есть мазки, достойные кисти Шекспира, сочетающиеся с элементами кукольного театра. Спектакль восприняли как эпическую сатиру на жадного, жестокого буржуа, провозгласившего себя вождём человечества. Но что бы ни приписывалось пьесе, «Король Убю»… «стопроцентный театр», который сегодня мы назвали бы «чистым театром», синтетическим, созданным на грани реальности, основанной на символах»32.
Пьеса, сыгранная дважды за весь сезон, впоследствии была признана вехой и предтечей дальнейшего развития театра.
В последующих сочинениях Жарри все больше и больше использовал лексику Убю. Разумеется, эта лексика была и в ранних сочинениях — «Минуты в песочном мемориале» и «Царь-антихрист», странной космической фантазии с мистическими и геральдическими элементами, соединенными с царствованием Убю в Польше в третьем, земном акте. В 1899, 1901 и 1902 годах Жарри издаёт альманах «Папаша Убю». В 1900 году заканчивает продолжение «Короля Убю» — «Убю прикованный». В этой пьесе Убю в изгнании во Франции; желая отличаться от свободных граждан, он становится рабом.
Некоторые значительные сочинения Жарри стали известны только после его смерти, в частности, «Деяния и мнения доктора Фостролля» (Gestes et Opinions du Docteur Faustroll, 1911), фрагменты романа в духе Рабле. Суть героя раскрывает его имя — он наполовину Фауст, наполовину тролль. Скандинавскую природу духа Жарри почерпнул из «Пер Гюнта» Ибсена. Доктор Фостролль — главный представитель науки патафизики. Первоначально доктором патафизики был Убю, поскольку его прототип Эбер был учителем физики. Впервые Убю появляется в «Минутах в песочном мемориале». И если всё начиналось с бурлеска о науке, то позже это стало основой эстетики Жарри. Вот как в «Фостролле» определяется патафизика: «…это наука воображаемых решений, символически объясняющих свойства объектов, их характерные черты, записанные виртуально»33.
Субъективистские и экспрессионистские дефиниции сближаются, предвосхищая тенденцию театра абсурда вещественно воплощать психологические состояния на сцене. Коллеж патафизиков, важнейшую роль в котором играли Ионеско, Рене Клер, Раймон Кено и Жак Превер, позже Борис Виан, свято чтил память о Жарри, признав его одним из создателей концепций современного искусства, а не только литературы и театра.
В известной степени яркость и экстравагантность «Убю» свойственны пьесе Гийома Аполлинера «Груди Тиресия», вызвавшей двадцатью годами позже почти такой же скандал, как «Король Убю». Премьера состоялась 24 июня 1917 года в Theatre Maubel на Монмартре. В предисловии Аполлинер пишет, что пьеса была написана в 1903 году. Аполлинер хорошо знал Жарри, был другом молодых талантливых художников-кубистов и одним из самых влиятельных критиков и теоретиков кубизма. Он определил пьесу «Груди Тиресия» как сюрреалистическую драму, первым введя это словосочетание, позднее ставшее названием одного из важнейших эстетических течений века.
Однако Аполлинер вкладывал в него другой смысл, чем впоследствии Андре Бретон: «Чтобы охарактеризовать свою драму, я использовал неологизм, за который, надеюсь, меня простят, поскольку я не столь часто в этом замечен. Я создал новое прилагательное — «сюрреалистический», не имеющее ничего общего со словом «символический»… целесообразно определяющее тенденцию искусства; хотя нет ничего нового под луной, но оно прежде не использовалось для формулирования художественного или литературного кредо. Идеализм драматургов, вслед за Гюго искавших сходство с природой в традиционном локальном направлении, подобно хоботу, втягивает натурализм комедий нравов. …Необходимо стремиться если не к обновлению театра, то хотя бы к возврату к его истинной природе, не прибегая к фотографии. Когда человек захотел воспроизвести ходьбу, он изобрел колесо, не похожее на ногу. Он прибег к сюрреализму, не подозревая об этом…»34
Для Аполлинера сюрреализм был реальнее, чем действительность, выражая сущность в большей степени, чем внешнее правдоподобие жизни. Он стремился сделать театр «современным, простым, стремительным, с гиперболами и литотами,[58] шокирующим зрителей»35.
«Груди Тиресия» — гротескный водевиль, с серьёзной политической идей — увеличение народонаселения Франции, истреблённого войной и женской эмансипацией. Имя Тиресий произведено от женского имени Тереза. Она хочет заниматься политикой, искусством и прочими мужскими видами деятельности; решив стать мужчиной, делает операцию, лишившую её грудей, взлетевших в воздух, как детские цветные шарики. Её муж берёт на себя функции Терезы, став Тиресием. Во втором акте он производит на свет сорок тысяч сорок девять детей, потому что он так захотел. В финале жена возвращается к нему. Действие разыгрывается в Занзибаре перед народом в лице единственного актёра, который не произносит ни слова. Он восседает за столом, уставленным множеством предметов, производящих шум — от оружейных выстрелов, барабанного стука и кастаньет до с треском разбивающихся горшков и кастрюль. Пьеса открывается прологом, в котором режиссёр излагает кредо Аполлинера:
Театр не копирует реальность Драматург вправе использовать Все миражи по своему усмотрению… Он вправе говорить и о неодушевленных предметах И не обязан считаться со временем Или пространством Его вселенная — пьеса Он Бог-Создатель Распоряжаясь по своей воле Звуками жестами мизансценами актёрами светом Не ради Фотографирования так называемых кусков жизни Но ради того чтобы явить жизнь во всей её полноте…3 (Перевод подстрочный.)Пьеса Аполлинера «Цвет времени», во время репетиций которой он умер от гриппа-испанки в день Примирения 9 ноября 1918 года, во многом отличается от пьесы «Груди Тиресия», создавая свою вселенную. Это любопытная пьеса в стихах о том, как авиаторы бегут от войны на Южный полюс, где хотят установить вечный мир. Во льдах они находят замерзшую прекрасную женщину. Сражаясь за неё, они убивают друг друга. Ещё одно аллегорическое сновидение, подтверждающее близость между гротескным абсурдом «Тиресия» и атмосферой мифа этой пьесы.
Парижская богема Жарри и Аполлинера — планета, на которой живопись, поэзия и театр сливались, их устремления создать современное искусство частично совпадали. Декорации для «Короля Убю» создавались самим Жарри с помощью Пьера Боннара, Вюйяра, Тулуз-Лотрека и Серюзье37. Аполлинер был защитник и пропагандист кубизма, друг и спутник Матисса, Брака и Пикассо. Борьба за искусство без подражания, имитации правдоподобия шла широким фронтом, и театр абсурда обязан коллажам Пикассо или Хуана Гриса и живописи Клее (названия его картин часто представляли короткие абсурдные стихи) не меньше, чем своим литературным предшественникам.
Во время Первой мировой войны в Цюрихе началось движение дадаистов. Его участники отказались от воинской повинности. Парижская традиция слилась с традицией Центральной Европы, объединив писателей, художников, скульпторов. 5 февраля 1916 года цюрихские газеты возвестили об открытии «Кабаре Вольтер». На первом вечернем представлении читали свои стихи молодой румынский поэт Тристан Тцара (1896–1963); Хуго Балль (1886–1927) и его жена Эмми Хеннингз (1885–1948); Рихард Хюльзенбек (1892–1974); скульптор и поэт Ганс Арп (1887–1966) и ещё один румын, художник Марсель Янко (1895–1984). Они стали основателями движения, получившего название благодаря счастливому обращению к французскому словарю. Хюльзенбек и Балль в поисках имени для певицы кабаре натолкнулись на слово «дада» — (любимый конёк, сесть на любимого конька). Дадаисты ставили цель разрушить искусство, или хотя бы традиционное искусство буржуазной эры, приведшей к войне.
«Кабаре Вольтер» располагалось в старой части Цюриха по Шпигельтрассе, 1, напротив дома 6, где жил Ленин, которому, вероятно, досаждал ежевечерний шум посетителей кабаре. Программа была скромная — песни, выступления со стихами, короткими скетчами, время от времени пьеса. Традиция литературных кабаре Мюнхена, в которых Ведекинд и его круг культивировали грубые, остроумные песенки, соединилась с французскими популярными песенками, которые пели Иветт Гилбер и Аристид Брюан. Гуго Балль упоминает в дневнике, что исполнялись стихи Кандинского, песенки Ведекинда и Брюана, звучала музыка Регера и Дебюсси. Арп читал фрагменты из «Короля Убю»; Хюльзенбек, Тцара и Янко исполняли «Симультанную поэму», одновременно декламируя три разных стихотворений, и их невнятное, нечленораздельное бормотание «являло борьбу vox humana с грозным, вовлекающим в ловушку, разрушительным универсумом, чьих ритмов и шума невозможно избежать»38. В июне 1916 года дадаисты выпустили журнал «Кабаре Вольтера», в котором были опубликованы Аполлинер, Пикассо, Кандинский, Маринетти, Блез Сандрар и Модильяни. От издания сохранился только один номер. Первой пьесой, представленной на вечере дадаистов в новом большем помещении, «Сфинкс и соломенное чучело» австрийского художника Оскара Кокошки (1886–1980).
Марсель Янко отвечал за режиссуру, он же создал маски. Гуго Балль, игравший одну из главных ролей, описал этот странный спектакль в дневнике 14 апреля 1917 года: «Пьесу играли… в трагических, закрывающих фигуры масках; в моей огромной маске было удобно читать роль. В маске было электрическое устройство, и светившиеся глаза производили в темноте зрительного зала необычный эффект. Тцара за кулисами создавал шумовые и световые эффекты и произносил реплики за попугая: «Anima, сладчайшая Anima». Он же отвечал за выходы и уходы со сцены, производил гром и молнию не там, где было нужно, однако создал впечатление, что это режиссёрский приём, задуманное шумовое оформление»39.
Пьеса Кокошки «Сфинкс и соломенное чучело», обозначенная автором «курьёз», — блестящий пример раннего экспрессионизма. (Импровизированный спектакль по пьесе сыграли в Венской школе искусств и ремесел в 1907 году.) Мистер Фирдуси влюблён в Anima, женскую душу. Каучуковый «человек-змея», олицетворение зла, выдаёт себя за доктора и вызывается вылечить Фирдуси от любви. От любви у него буквально идёт кругом голова. Даже когда он оказывается лицом к лицу с Anima, он не видит её. Избавить от любви его может только смерть. Каучуковый человек вызывает ревность Фирдуси к попугаю, называющему Anima сладчайшей, и так как герой не может повернуть голову и увидеть, что происходит в действительности, он умирает от горя. Мужской хор в цилиндрах с дырами вместо лиц выпаливает абсурдные афоризмы, и Смерть, единственный персонаж в человеческом обличии, уходит с Anima, «пытаясь утешить её благополучным исходом»40.
Тцара отмечал в дневнике: «Этим спектаклем театр покончил с изысканной изобретательностью ради взрыва стихийности (спонтанности); визуальный, гротескный дадаистский театр перенёс действие в зрительный зал»41. Но вопреки большим надеждам дадаистов, они не оказали влияния на театр, что неудивительно. Дадаизм был разрушителен и радикален в своём нигилизме, и от него вряд ли можно было ждать чего-то созидательного в художественной форме, всегда основывающейся на конструктивном взаимодействии. Один из ведущих французских дадаистов Жорж Рибмон-Дессень в автобиографии признал: «Дадаизм состоял из противоположных, несовместимых, взрывных тенденций. Фактически девиз дадаистов — разрушить мир, чтобы на его месте возник другой, в котором ничего нет»42.
Большинство пьес дадаистов представляли абсурдные стихи в форме диалога с бессмысленными действиями и декоративными эксцентричными масками и костюмами. Они сами ставили и играли. После окончания войны Theatre de I’CEuvre стал центром дадаизма. 27 марта 1920 года состоялась манифестация дадаистов, показавших фрагменты пьес. В «Первом небесном приключении М. Антипирина» Тцара «парабола» излагается стихами такого рода:
Эта птица прилетела белая и взбудораженная как будто из стаи, откуда приходит время от той музыки влажной как М. Крикри после того как его навестила невеста в больнице на еврейском кладбище могилы вздымаются как змеи мсье Поэт был архангел — действительно он сказал, что аптекарь похож на бабочку и наш Господь и эта жизнь просты как бум-бум как бум-бум его сердца43.В тот же вечер была показана «Немая певица» Рибмона-Дессеня, в которой играли Андре Бретон, Филипп Супо и мадемуазель А. Валер. Один из персонажей пьесы сидел на верхней ступеньке лестницы, другой, негр, воображал себя композитором Гуно и учил исполнять свои сочинения немую канарейку, которая превосходно их пела, не издавая ни звука. Были представлены такие же эксцентричные, в большинстве, импровизированные пьесы: «Будьте любезны» Бретона и Супо, «Неудачливый чревовещатель» Поля Дерми. Режиссёр CEuvre Люнье-По, четверть века назад поставивший «Убю», был в восторге от скандального успеха представления и просил дать ему дадаистские пьесы. Единственный, кто откликнулся на его предложение, был Рибмон-Дессень. Он сочинил пьесу «Zizi de Dada», рукопись которой утеряна. В пьесе Папа, замкнутый в меловом круге, не мог из него выбраться… но что происходило? Память об этом не сохранилась!»44 Люнье-По отнесся к пьесе с вниманием, но отказался ставить, сочтя её непригодной.
Вторая манифестация дадаистов проходила в Саль Гаво 26 мая 1920 года. Программа включала пьесу Тцара «Второе небесное приключение М. Антипирина», скетч Бретона и Супо «Вы забудете меня», пьесу Арагона «Система ДД» и «Вазелиновую симфонию» Тцара, какофонию нечленораздельных звуков, которую исполнял ансамбль из двадцати человек, изображающих силачей. Это вызвало протест Бретона, не пожелавшего снизойти до роли музыкального инструмента. Участниками этого вечера были Пикабиа и Элюар.
Наибольший успех среди дадаистских пьес имела трехактная пьеса Тцара «Газовое сердце», премьера которой состоялась 10 июня 1921 года в Studio des Champs-Elysees, странная декламация персонажей, представляющих части тела — ухо, шею, рот, нос и бровь. Рибмон-Дессень признавался, что был не в состоянии запомнить спектакль; это было естественно, поскольку он с Супо, Арагоном и Бенжамином Пере играл рот. Тцара играл бровь. «Газовое сердце» — образец «чистого театра» — едва различимые ритмы абсурдного контрастного диалога из клише благовоспитанных людей. Тцара предвосхитил Ионеско.
Он назвал пьесу «величайшим надувательством в трёх актах», которая «осчастливит лишь индустриализированных дураков, верящих в существование гениев. Просьба к актёрам — обратить внимание на пьесу, поскольку это шедевр, обладающей мощью «Макбета» или «Шантеклера», но отнестись к автору, который не гений, с некоторым уважением и принять к сведению отсутствие серьёзности текста, ничего нового не прибавившего технике театра»45. Возобновление «Газового сердца» 6 июля 1923 года в Theatree Michel привело к одной из самых памятных баталий периода упадка дадаизма, когда Бретон и Элюар, выйдя из себя после рукопашной схватки, прыгнули на сцену.
Наиболее значительными из этих коротких пьес, главная цель которых шокировать буржуазную публику, были две пьесы Рибмона-Дессеня, действительно, пытавшегося создать поэтический универсум на сцене, — «Император Китая» (1916) и «Палач Перу», опубликованный в 1928 году.
Тема первой пьесы — секс, насилие и война. Героиня, китайская принцесса Онейн, — своенравная, жестокая, сексуальная кошечка; её отец Эсфер, ставший императором Китая, — тиран-садист. Онейн сопровождают два раба, Ироник и Экинокс, подаренные императором Филиппин, пребывают в первой сцене в клетках. Их наряд эксцентричен — цилиндры, шотландские юбки, пиджаки от смокинга. У Ироника повязка на левом глазу, у Экинокса — на правом. Они должны смотреть одновременно. В центре пьесы война и пытки. Министр Мира изучает стратегию и превращается в министра Войны. Солдаты насилуют женщин, обходя только пьющих кровь убитых. В финале бюрократ Вердикт убивает свою любовницу принцессу. В последней сцене дуэт рабов ведёт абсурдный диалог:
ИРОНИК. Когда умирает любовь…
ЭКИНОКС. Моча.
ГОЛОС ВЕРДИКТА (вблизи). Бог.
ИРОНИК. Константинополь.
ЭКИНОКС. Вчера в Сен-Дени от голода умерла старуха.46
«Император Китая» — яркая пьеса с элементами абсурда и жестокости. Её слабость в недостаточном органичном соединении этих элементов, длиннотах и хаотичности.
«Палач Перу» содержит идеи его ранних пьес. Правительство отрекается от власти и передаёт священные полномочия власти палачу. Начинаются убийства и казни. И снова странное, свободное течение воображения и высвобождение подсознательных фантазий поэта, ощущающего себя пророком. В «Китайском императоре» и в «Палаче Перу» — предвидение взрыва насилия в эпоху Второй мировой войны. Как будто разрушительная сила дадаистов была сублимированным освобождением извечного импульса насилия и агрессии, нашедшего выражение в массовых убийствах тоталитарных систем.
После окончания войны центр дадаизма переместился в Париж, остальные члены Цюрихской группы вернулись в Германию, в Берлин и Мюнхен, где дадаисты объединились с мощным движением немецкого экспрессионизма. В целом, драматические опыты экспрессионистов были слишком идеалистическими и политически сознательными, чтобы их можно было отнести к предшественникам театра абсурда, хотя они, как и абсурдисты, стремились проецировать внутреннюю реальность, воплощая мысль и чувство. Иван Голль (1891–1950) — единственный из ведущих экспрессионистов — предшественник театра абсурда. Он родился на оспариваемой территории Эльзас-Лотарингия, в начале войны перебрался в Швейцарию, где встретился с Арпом и другими дадаистами. Позже он переехал в Париж. Себя Голль считал безродным: «Еврей, волею судеб случайно появившийся на свет во Франции, на клочке казённой бумаги записанный немцем»47. Он поэт-билингв, писавший по-французски и по-немецки.
Его драматические сочинения, созданные в экспрессионистско-дадаистский период, написаны по-немецки. Голль находился под влиянием Жарри и Аполлинера, а также кинематографа. «Чаплиниада» (1920), названная им кинематографической поэмой, высоко художественный сплав поэзии и образов кинематографа. Её герой — маленький бродяга Чарли Чаплина — оживает, сойдя с плаката. Он убегает от расклейщика афиш, пытающегося вернуть беглеца обратно; переживает череду приключений, подобных снам или фильмам; его сопровождает лань, превращающаяся в прекрасную девушку, которую убивает охотник. Он принимает участие в революциях и восстаниях и, в конце концов, возвращается на плакат. Возможно, в этом прекрасном сочинении, впервые соединились поэзия и потенциал кинематографа.
В 1920 году Голль опубликовал две пьесы под названием «Бессмертные» с подзаголовком Uberdramen, сверхдрама, вложив в это понятие смысл, который вкладывал Аполлинер в жанр пьесы «Груди Тиресия» — «сюрреалистическая драма». В предисловии Голль объясняет свою концепцию нового театра. В греческой драме боги соизмерялись с людьми; театр был колоссальным преувеличением реальности сверхчеловеческого масштаба. Но в XIX веке в пьесах не ставилось никаких задач, кроме как «быть интересными, в известной мере, мотивированными или просто описательными, имитирующими, но не воссоздающими жизнь».48 Драматург новой эры должен вновь искать путь за пределы реальности: «Поэт должен постичь, что есть сферы, совершенно другие, чем познаваемые пятью чувствами — сверхмир (Uberwelt). Поэт должен овладеть им. Это ни в коей мере не повторение мистического, романтического мира или мюзик-холльной клоунады, хотя что-то есть общее и с ними; исследование мира за пределами чувств… Забыто, что сцена — только увеличительное стекло. Великая драма это знала всегда: греки ходили на котурнах, Шекспир разговаривал с исполинскими духами мёртвых. Забыт первый символ театра — маска… В маске таится обман, и это закон театра: воображаемое становится фактом. На какой-то миг самое обычное могло быть нереальным и «божественным», и в этом — величайшая истина. Истину, не умещающуюся в разумные пределы; изыскивает поэт, а не философ. …На сцене не должна быть только «реальная» жизнь; она станет «сверхреальной», когда приходит осознание того, что за пределами известного. Чистый реализм был величайшим отклонением во всей литературе»49.
Театр не должен создавать комфорт для буржуа, он должен пугать его, превращать вновь в ребёнка. «Простейший способ — гротеск, не вызывающий смех. Монотонность жизни и глупость людей велика и может быть адекватно представлена в грандиозных образах. Пусть новая драма будет грандиозной»50. Для создания эффекта масок в наш технический век необходимо использовать записывающую технику, световую рекламу, мегафоны. Персонажи должны быть карикатурами в масках и на ходулях.
Этот впечатляющий манифест безошибочно запечатлел многие черты театра абсурда. Но две пьесы, в которых Голль искал возможность воплотить эти идеи, не оправдали надежд. В двух актах пьесы «Бессмертные» гениальный музыкант уступает свою возлюбленную магнату и за большие деньги продаёт ему душу. Во время фотосъёмки его душа отделяется от него, и он становится бессмертным. Во втором акте возлюбленная музыканта отчаянно его ищет, но флиртует с новобрачным, который вместе с супругой пришёл фотографироваться к её мужу-магнату. В финале музыкант Себастьян вновь возвращается к жизни в фильме, оплакивая возлюбленную, но она уходит с офицером. Хотя пьеса предполагает использование техники проецирования фотографий и киносъёмки, и некоторые персонажи играют в гротескных масках, пьеса — старое романтическое, сентиментальному клише о художнике, продавшем душу и о любимой женщине, не устоявшей перед богатством или силой.
Во второй части Uberdrama «Ещё не умер» та же дилемма: философ хочет усовершенствовать общество и читает лекции о вечном мире. Его жену, продающую билеты, соблазняет журналист. Чтобы получить дивиденды за счёт мыслителя, он убеждает его публично умереть, доказав этим, что борется за прогресс. Его публичная смерть разрекламирована, газета сообщает о его смерти, но философ не оправдал ожиданий. В финале жена возвращается к нему, и он начинает новый цикл лекций, на сей раз «Гигиенические условия клопов в отелях». Снова для воплощения своих идей на сцене Голль предполагает использовать множество технических приёмов: сумасшедший танец, олицетворяющий современную рекламу, представлен пляшущими строчками газетных колонок; публика на лекциях героя — фигурами чудовищных размеров; студент бросает свой мозг на пол, поднимает его и вкладывает в голову. Сюрреалистические схемы не скрывают отсутствие оригинальной идеи — коммерциализация идеализма прессой.
То же несоответствие между современными способами выражения и пресным содержанием и в самой смелой попытке Голля в жанре «сатирической драмы» «Мафусаил, или Вечный буржуа». И опять теоретическое предисловие намного оригинальнее, чем сама пьеса: «Современный сатирик должен искать новые способы провокации. Он найдёт их в сюрреализме (Uberrealismus) и в «алогичном». Сюрреализм — сильнейшее отрицание реализма. Реальность чувственного восприятия не маскируется во имя правды жизни. «Маски» — грубые, гротескные, как и чувства, которые они выражают… Алогичное — самая духовная форма юмора и потому наилучшее оружие против клише, господствующих в нашей жизни. …Чтобы не превратиться в слезливого пацифиста или евангельсого проповедника, поэт должен проделать несколько сальто, превратив вас снова в детей. Для этого он должен дать вам кукол, научить играть с ними, а потом вытряхнуть опилки из сломанной куклы на ветер»51.
Остроумный и обаятельный «Мафусаил» не столь действен, чем традиционная сатира, направленная против обывателей (Spiessburger). В пьесе изображён владелец обувной фабрики, его жадный сын-делец, у которого вместо рта телефонная трубка, вместо глаз — купюры достоинством пять марок, а вместо лба и шляпы — пишущая машинка, которую венчает радиоантенна. И снова студент-идеалист, поэт и революционер, соблазнивший дочь Мафусаила. В одной из сцен он распадается на три части — его «я», его «ты», его «он». Студента убивает на дуэли сын Мафусаила, но в последней сцене студент оживает и женится на дочери Мафусаила. У них рождается ребёнок, который становится буржуа. Ибо революции заканчиваются, «когда другие не владеют особняками», а новые революции начинаются, «когда мы их уже получили». Исход всей романтической любви в восклицании молодой матери: «Если бы только наш сын так много не писал!»
Вновь Голлю необходимо кино, чтобы показать сны Мафусаила. Но они отличаются от снов предыдущей пьесы. Мафусаилу снятся животные, живые и чучела, украшающие его жилище. Они хотят совершить революцию, чтобы свергнуть тиранию человека. Оживают мёртвые персонажи, доказывая, что жизнь продолжается всегда, и театр никогда не сможет решить все проблемы. Самые удачные сцены этой смелой пьесы, опубликованной с иллюстрациями ведущего немецкого художника-дадаиста Георга Гросса и в 1924 году поставленной в масках его работы, — диалоги буржуа и его гостей из клише, предвосхищающие пьесу Ионеско. Голль совершил ошибку: прекрасный, тонко чувствующий лирический поэт, мастер языка пал жертвой новой техники; увлекшись масками и кинопроекциями, он потерпел неудачу, хотя выразительно сформулировал теоретически новую поэзию абсурда. Возможно, Голль был слишком хрупок и нежен душой, чтобы жить в соответствии со своими сатирическими задачами.
Среди немцев, современников Голля, самым близким ему по претворению в жизнь театра жестокости и гротеска в постулировавшихся им моделях был Бертольт Брехт. В декабрьском номере обозрения за 1920 год Брехт привлек внимание к первым публикациям пьес Голля, назвав его Куртелином экспрессионизма. В эволюции от анархической поэтической драмы в духе Бюхнера и Ведекинда к простоте марксистского дидактизма Брехт написал несколько пьес, близких театру абсурда — с клоунадой, мюзик-холльным фарсовым юмором и проблемами самоидентификации и мимикрии.
Глубокое влияние на Брехта оказал блистательный мюнхенский комик Карл Валентин, истинный наследник арлекинов commedia dell’arte, выступающий в пивных. В одноактном фарсе «Мещанская свадьба» (ок. 1923 года) мебель, распадающаяся на части, олицетворяет нравственное разложение семьи, празднующей свадьбу. Так вещи выражают внутреннюю реальность в пьесах Адамова и Ионеско, свободно использующих мюзик-холльные гэги.
Ещё более серьёзный источник — самая загадочная и одна из лучших пьес Брехта «В джунглях городов» (1921–1923), предвосхищающая театр абсурда сознательным отрицанием мотивации. В пьесе идёт борьба не на жизнь, а на смерть Гарги и Слинка, связанных странными отношениями любви — ненависти. Пьеса начинается с попытки Слинка купить мнение Гарги о книге. Гарга служит в библиотеке, выдающей книги под денежный залог. Слинк предлагает Гарге большую сумму, чтобы он отказался от отрицательного мнения о книге и высказался бы о ней положительно. С этого момента начинается битва, которая всякий раз приводит к тому, что один из них признает преимущество оппонента, но признание выливается либо агрессией, либо благодарностью. Действие происходит в Чикаго среди гангстеров и тупой толпы.
В «Джунглях городов» невозможно понять мотивацию поступков людей, что предшествует технике Пинтера. В пьесе поставлена проблема коммуникации людей, решением которой были заняты Беккет, Адамов и Ионеско. Битва между Гаргой и Слинком — попытка достигнуть контакта. В финале они понимают невозможность общения даже через конфликт. «Если набить корабль до отказа людьми, одиночество их будет настолько велико, что они будут общаться со льдом. …наша изоляция безбрежна, она исключает даже конфликт»52.
Комедия «Человек есть человек»[59] (1924–1925) показывает трансформацию тихого маленького человека в жестокого солдата. Брехт снова использует технику мюзик-холла. Сцена трансформации, в которой жертве внушают, что им совершено преступление, решается, как номер варьете — трюк фокусника. Человека приговаривают к смерти, он уверен, что его расстреляли, он воскресает другим человеком. В спектакле Брехт использовал ходули и прочие приспособления, превращающие солдат британской армии в огромных монстров. «Человек есть человек» предвосхищает идею театра абсурда о непостоянстве природы человека, его способности трансформироваться в другую личность.
Публикация неизвестного стихотворения Брехта проливает свет на связь «Человек есть человек» и «В джунглях городов». Это стихотворение родилось из раннего наброска пьесы «Зелёная Карагга», в которой гражданин Галгей превращается в другого человека. Гэли Гэй первоначально идентифицировался с Гаргой, жертвой агрессии «В джунглях городов». Попытка Слинка купить мнение Гарги может лишить его личности, как был её лишен Гэли Гэй. Обе пьесы о замене личности более сильной, похищении чьей-то идентичности как форме насилия — тема театра абсурда. Яркий пример тому — «Жак, или Подчинение» Ионеско.
Брехт написал короткую интермедию «Слонёнок» для представления в антракте спектакля «Человек есть человек» в сезон 1924/25 года. Приём автоматического письма сюрреализма предшествовал театру абсурда, как и проблема изменяющейся идентификации. Слонёнка обвиняют в убийстве матери, и, в любом случае, он должен доказать, что его мать не мертва и это не его мать. Аргументация нашлась. Слонёнок признан виновным. Это чистый антитеатр, проливающий свет на подсознательную жестокость автора, как выявляются в ранних пьесах Адамова его неврозы.
Позднее, как и Адамов, Брехт отказался от этого периода своего творчества. Как Адамов, он обратился к театру социальных обязательств; по крайней мере, — внешне к рациональному театру. Однако случай Брехта показывает, что иррациональный театр абсурда и пьеса высоких политических обязательств не так уж непримиримы; скорее это две стороны одной медали. В случае Брехта невроз и отчаяние, не контролируемые в его гротескно-анархический период, действенны и за фасадом его политического театра, рождая мощный поэтический импульс.
Кеннет Тайнен в дискуссии с Ионеско приводил как пример театра социальных обязательств пьесы Брехта. Ионеско нападал на Брехта, воплощающего, по его мнению, сухой идеологический театр. Оба в равной степени далеки от истины. Брехт одним из первых мастеров театра абсурда показал, что piece a these (пьеса идей) выигрывает или проигрывает не от политической, но от поэтической правды, находящейся внутри политической, исходя из глубинных слоёв. В Брехте таился сильный элемент анархии и отчаяния. Поэтому даже в период социальных обязательств изображаемая им картина капиталистического мира была в своей сути негативной и абсурдной: универсум «Доброго человека из Сычуани» направлен против глупых богов; «Пунтила» смоделирован по образцу чаплинских фарсов, а в «Кавказском меловом круге» справедливость торжествует только случайно.
В середине 20-х в Германии на смену дадаизму и экспрессионизму пришла Neue Sachlichkeit (Новая деловитость), а в 30-е современное искусство погрязло в топком интеллектуальном болоте фашизма; во Франции же дадаизм продолжал развиваться. Его деструктивность очистила атмосферу. Дада возродился в изменённой форме сюрреализма. Если дадаизм представлял отрицание в чистом виде, то сюрреализм признавал позитивную, оздоровляющую силу подсознания. Андре Бретон дал свое знаменитое определение термина в Первом манифесте сюрреализма 1924 года: «Чистый психический автоматизм, который мог бы выразить вербально или другим способом реальную функцию мысли».
Нет необходимости детально описывать увлекательную историю борьбы и внутренних конфликтов сюрреализма в поэзии или живописи. Плоды сюрреализма в театре скудны. Сцена — слишком специфическая форма искусства, чтобы допустить полный автоматизм в композиции пьес. Самое невероятное, что композиция некоторых пьес, созданных методом Бретона, которые сегодня можно отнести к сюрреализму, идеальна.
Две таких пьесы в сборнике «Вольнодумство» (1924) принадлежат перу Луи Арагона. «Зеркальный гардероб в один прекрасный вечер» — очаровательный скетч. В прологе представлены фантастические персонажи. Солдат встречает обнаженную женщину; президента республики сопровождает генерал-негр; сиамские сестры-близнецы обращаются с просьбой к президенту позволить им выйти замуж каждой отдельно; на трёхколесном велосипеде едет человек с таким длинным носом, что, разговаривая, он вынужден его приподнимать; сюрреалист Теодор Френкель представляет сказку. Пьеса открывается интимной сценой возвращения мужа домой. Жена нервничает, не спускает глаз с гардероба, умоляя мужа не подходить к нему, одновременно давая указания любовнику спрятаться в шкафу. Неопределённость ситуации и подозрения их сексуально возбуждают. Супруги исчезают в соседней комнате. В финале, после долгой напряжённой паузы, возвращается муж, его одежда не в порядке; он открывает гардероб. Торжественным маршем проходят фантастические персонажи пролога. Президент республики поёт абсурдную песню.
Во второй пьесе сборника «У подножия стены» Арагон использует тот же метод — традиционное действие, прерываемое сюрреалистическими интерлюдиями. Основной сюжет романтический, почти нелепый. Молодой человек, покинутый возлюбленной, подбивает служанку деревенской гостиницы, где он искал убежище, покончить с собой из-за любви к нему. Во втором действии молодой герой Фредерик бродит с возлюбленной по Альпам. Он встречает рассказчика вставных сцен, своего двойника. Появление волшебниц, парижских рабочих в комбинезонах не может скрыть романтизма в духе Мюссе или Гюго, проглядывающего сквозь модернистские прерывания сюжета. Неотъемлемый от Арагона традиционализм позднее проявился в его прекрасных военных стихах и монументальных социальных романах.
Арагон и Бретон совместно написали пьесу «Сокровище иезуитов», от которой оба отказались после того, как Арагон порвал с сюрреализмом. Поэтому пьеса никогда не переиздавалась. Одной из самых примечательных её особенностей было предсказание Второй мировой войны более чем за за десять лет до её начала в 1939 году. Бретон был убеждён, что сюрреалистический метод автоматического письма пробуждает дар пророчества и ясновидения.
Значительно важнее, чем большинство пьес, была деятельность участников сюрреалистического движения после того, как они отмежевались от него или были исключены. Антонен Арто (1896–1948) — один из самых замечательных поэтов сюрреализма, профессиональный актёр и режиссёр, оказал самое сильное и плодотворное влияние на современный французский театр, как и Роже Витрак (1899–1952), талантливейший драматург, вышедший из сюрреалистического движения. В конце 1926 года оба были изгнаны из окружения Бретона за недостойные коммерческие инстинкты — желание ставить пьесы в профессиональном театре. Они стали партнёрами, создав театр Альфреда Жарри (Theatre Alfred Jarry), открывшийся 1 июня 1927 года двумя одноактными пьесами — «Расстройство желудка, или Безумная мать» Арто и «Мистерии любви» Витрака.
«Мистерии любви» в трёх актах, пяти сценах, вероятно, самая затянувшаяся попытка создать истинно сюрреалистическую пьесу. Её можно считать результатом автоматического письма, с добавлением сентиментальности и садистских фантазий любовников. В конце первой сцены появлялся автор. Он стрелялся, пытаясь покончить с собой и, окровавленный, корчился от бессильного смеха. В финале он появлялся в полном здравии. Ллойд Джордж и Муссолини — так же персонажи пьесы. Ллойд Джордж — настоящее чудовище: он отпиливает головы и пытается съесть остатки трупов. Декорации выполнены в манере сюрреалистической живописи. В четвёртой сцене одновременно предстают железнодорожный вокзал, вагон-ресторан, морское побережье, холл отеля, магазин тканей и центральная площадь провинциального городка. Прошлое, настоящее, будущее сливаются, подобно сновидению. В этом хаосе таится мощная поэтическая сила. Характерно, что в диалоге героя, Патрика, и автора возникает основная проблема театра абсурда — языковая:
АВТОР. Мой друг, ваши слова делают все невозможным.
ПАТРИК. Тогда создайте театр без слов.
АВТОР. Но, дорогой мой, разве я не стремился к этому?
ПАТРИК. Вы вложили в меня слова любви.
АВТОР. Ну, так выплюньте их.
ПАТРИК. Я пытался, но они превращались в дробь, и у меня начиналось головокружение.
АВТОР. Я не виноват. Такова жизнь53.
Премьера второй сюрреалистической пьесы Витрака «Виктор, или Власть детей» в постановке Арто состоялась 24 декабря 1924 года. В ней уже не было хаоса чистого автоматизма. Это традиционная фарсовая, фантастическая салонная комедия, с которой мы снова встретимся в пьесах Ионеско. Виктор — девятилетний мальчик ростом семи футов, наделённый интеллектом взрослого. Он и его шестилетняя подружка Эстер — единственно разумные среди сумасшедших взрослых, похожих на марионетки. Отец Виктора — любовник матери Эстер; дети разоблачают их, и отец Эстер вешается. У женщины поразительной красоты недержание газов в желудке. В финале Виктор умирает от приступа, его родители кончают самоубийством. Последнюю реплику в пьесе произносит служанка: «Это настоящая драма!»54
«Виктор» во многом предвосхищает Ионеско. Витрак пародирует банальность избитых языковых клише: один из персонажей читает подлинные выдержки из Le Matin от 12 сентября 1909 года; как и у Ионеско, у Витрака соединение традиционного театра и чистого абсурда. Однако его пьесе недостает формы и поэзии, придающей безумию Ионеско шарм. У Витрака нет полного соединения элементов: ночные кошмары чередуются со студенческими розыгрышами.
В последующих пьесах Витрак возвращается к традиционной форме, но некоторые из них ещё несут на себе отпечаток его сюрреалистического опыта. Даже такая социологическая политическая пьеса, как «Кубок Трафальгара», рисующая слой парижского общества до, в течение и по окончании Первой мировой войны (премьера в 1934 году), содержит потрясающий безумный юмор. В комедии «Человек-волк», действие которой происходит в фешенебельной психиатрической клинике, опыт автора обнаруживается в мастерски сделанной технике безумных диалогов.
Антонен Арто — режиссёр сюрреалистических пьес Витрака и автор одного или двух драматических скетчей. Его истинное значение для театра абсурда в теоретических трудах и в практике режиссёрских экспериментов. Арто — один из самых неординарных людей своей эпохи, актёр, режиссёр, пророк, богохульник, святой, безумец и великий поэт, чья фантазия выходила за пределы его театральной практики. Его видение сцены магической красоты и мистической силы по сей день остается одним из самых мощных театральных стимулов. Хотя Арто работал у Дюллена и ставил спектакли в театре Альфреда Жарри, его революционная концепция выкристаллизовалась после того, как он увидел балийскую танцевальную труппу на Колониальной выставке 1931 года. Он сформулировал свои идеи в ряде страстных манифестов, впоследствии вошедших в книгу «Театр и его двойник» (1938).
Диагноз, поставленный им эпохе — потеря ориентации вследствие «разрыва между явлениями и словами, явлениями и идеями, представленными на сцене»55. Отвергая психологический и нарративный театр с его «поглощенностью личными проблемами»56, Арто страстно взывал к возвращению мифа и магии во имя беспощадного разоблачения глубочайших конфликтов сознания, ратуя за «театр жестокости». «Воздействует только жестокость. Театр должен быть возрождён жестокостью, на которой зиждется идея экстремального действия, сметания всех препон»57. Сталкивая зрителей с воплощением их внутренних конфликтов, поэтический, магический театр принесёт свободу и избавление. «Театр заново восстанавливает все спящие в нас конфликты во всей их силе, раскрывая их, мы приветствуем их как символы — будьте только внимательны! Разворачивается битва символов. …ибо театр может быть театром только с момента, когда начинается невозможное, творимая на сцене поэзия питает и согревает образы»58.
Это равносильно полному отрицанию реализма и стремлению воплощать коллективные архетипы: «Театр может вновь стать театром, …если даст зрителю правдивое изображение сновидений, в которых его тяга к преступлению, эротическим наваждениям, жестокости, химерам, утопическому восприятию жизни и человека, даже к каннибализму, представлена не как обман и иллюзия, но глубинно. Другими словами, театр должен воссоздавать не только все аспекты внешнего мира, но метафорически — внутренний мир человека»59. Под сильным впечатлением от балийской танцевальной труппы с её утонченной магической поэзией Арто стремился возродить язык жеста и движения, задействовать предметы, оттеснив диалог на второй план, ибо он «достояние книг, но не сцены»60. Соединяя элементы мюзик-холла, искусства братьев Маркс и балийских танцовщиков, он стремился выработать истинный язык театра, — бессловесный язык теней, света, движения и жеста: «Сфера театра не психологическая, но пластическая и телесная. Суть не в том, способен ли язык тела в театре достигнуть такого же психологизма, способен ли он выразить чувства и страсти в той же степени, что и слова; может ли он постичь и выразить жестами… пространство мысли, не подвластное словам»61.
«Это не подавление слова, но изменение его роли в театре, ослабление его позиции»62.
«Внутри текста скрывается истинная поэзия без формы и слов63. … Для меня принципиально, что слова ничего не означают, фиксируя реальность раз и навсегда, останавливая и парализуя мысль вместо того, чтобы способствовать её развитию… Я добавляю к речи другой язык и стремлюсь вернуть ей древнюю магию, завораживающую силу»64.
В начале 30-х годов Арто теоретически сформулировал ряд основных положений театра абсурда. Но у него не было возможности ни как у драматурга, ни как у режиссёра воплотить идеи на практике. Единственный шанс ему представился в 1935 году, когда он нашёл финансирование своего theatre de la cruaute. Он сделал адаптацию кровавого сюжета о Ченчи, легшего в основу рассказа Стендаля и трагедии Шелли. Несмотря на некоторые потрясающие моменты, спектакль провалился. Арто играл графа Ченчи. Ритуальное напевное звучание текста заинтересовало, но не убедило публику. Последовавший финансовый крах вверг Арто в нищету, отчаяние и длительное психическое расстройство. Двадцатипятилетний Жан-Луи Барро исполнял обязанности секретаря спектакля, а Роже Блен, ставший одним из самых значительных режиссёров театра абсурда, был ассистентом Арто и играл одного из наёмных убийц.
Арто дебютировал как актёр в Theatre de L’CEevre; он знал Жемье, первого создателя короля Убю, и играл с ним; в 1924 году был занят в парижском спектакле «Мафусаил» Ивана Голля; поддержанный дружеским участием Адамова в период психического расстройства, он построил мост между первопроходцами и современным театром абсурда. Внешне его усилия кончились крахом и расстройством психики. Но в определённом смысле он победил.
Робер Деснос (1900–1945) — ещё один значительный поэт, вышедший из сюрреалистического движения, автор элегических и абсурдистских стихов, написанных на основе жутких, изысканных снов, создатель множества сценариев сюрреалистических фильмов, которые не были воплощены. Он написал пьесу «Площадь Этуаль» (1927), отредактировал её незадолго до ареста и депортации в 1944 году. Она была опубликована после его трагической смерти в концлагере Терезенштадт, где в конце войны его нашли до предела истощённым и умирающим.
В названии пьесы содержится скрытый смысл, игра слов, каламбур. Речь идёт не о площади в Париже, но о морской звезде, поэтическом символе сновидений и желаний героя Максима. Люди просят его отдать им морскую звезду, но он отказывается. Когда же он дарит её любимой женщине, является полицейский и возвращает ему звезду, найденную на улице под его окном. Женщина выбросила её. К нему несут и несут морские звёзды разные люди. Двенадцать официантов подносят ему двенадцать морских звёзд на серебряных блюдах. Улицы городка заполняются морскими звёздами в таком количестве, что невозможно пройти.
«Площадь Этуаль» также романтическая, любовная история Максима и двух женщин, Фабрис и Атенаис, протекающая в сновидческой атмосфере; реплики пьяниц в баре образуют своеобразный греческий хор. Пьеса во многом предшествует театру абсурда. Деснос дал ей подзаголовок «антипоэма», предвосхитив Ионеско, называвшего свои пьесы антипьесами.
Тенденции времени, в частности, влияние абстрактной живописи и скульптуры были настолько сильны, что художники, не принадлежавшие к сюрреалистическому направлению, ломали условности натурализма. Жан Кокто экспериментировал с театром чистого движения. Он сочинил «Парад» в декорациях Пикассо и с музыкой Сати, мастером humour noir. Поставленный Русским балетом Дягилева в 1917 году спектакль возвращал к цирку и мюзик-холлу. «Бык на крыше» Кокто с декорациями Дюфи и музыкой Мийо играли известные актёры мюзик-холла — трио Фрателлини. «Новобрачные на Эйфелевой башне» (1921) — пантомима-балет, сопровождалась рассказом актёров, изображающих гигантские фонографы.
Хотя большинство последующих сочинений Кокто вибрировало между романтизмом и игрой, на них лежит отпечаток его увлечения элементами абстрактного и сновидческого театра. Это ярко проявилось в его поэтичных, врезающихся в память фильмах «Кровь поэта», «Красавица и чудовище», «Орфей» с блистательно воссозданной страной мёртвых, и в последнем фильме «Завещание Орфея». Ионеско отдавал должное чувству игры и барочному вкусу Кокто: «Напрасно упрекали Жана Кокто за легковесное отношение к серьёзным проблемам. Это неверно; он поднимает эти проблемы в залитых лунным светом волшебных декорациях. Ему ставили в упрёк нечистоту стиля, сказочные картонные декорации. Я люблю его за конфетти, серпантин, за барочных ярмарочных сфинксов. Всё это есть, но мираж и жизнь — ярмарочная площадь, и совсем неплохо, что есть сфинксы и сказка. Лучше, чем эти кочующие сомнительные празднества, не передать мимолетность жизни, хрупкость красоты, недолговечность»65.
Пьеса, опередившая яростные нападки Ионеско на буржуазную семью, принадлежит перу рано сформировавшегося гения Раймона Радигье (1903–1923), входившего в круг Кокто. Герои небольшой двухактной пьесы «Пеликаны» (1921) до такой степени жаждут совершать великие дела, чтобы прославить своё имя, что это даже несмешно. Хозяйка дома ездит верхом на своём любовнике, тренере по плаванию, не умеющему плавать. Сын пытается стать жокеем. Дочь, желая покончить самоубийством, выигрывает приз на катке замерзшей Сены. Пьеса заканчивается гротескной семейной группой.
Примерно в тот же период Арман Салакру, впоследствии известный драматург со своеобразной стилистикой, написал несколько тонких, близких к сюрреализму пьес скорее для чтения, чем для сцены. Большинство из них утеряно, но «Тридцать могил Иуды» и «Цирковая история» избежали этой участи и опубликованы в 1960 году. Действие происходит в танцхолле и цирке. В этих маленьких пьесах традиции клоунады соединяются со сновидениями: из апельсинов сочится кровь, возникают странные растения, исчезает цирковой шатёр, из-за чего погибает в снежном буране страдающий от любви юноша.
В 1924 году, ещё школьниками, Рене Дюмель (1908–1944) и Роже Гилбер-Лекомт (1907–1943) сочинили серию драматических миниатюр в духе Жарри и опубликовали в College de Pataphysique под названием «Маленький театр». Их восхищал абсурд, не поддающийся интерпретации. Оба стали значительными поэтами. Дюмель исследовал тёмные стороны души, ведущие к самоубийству, и неоднократно сам доходил до последней черты, нюхая токсические яды. Он считается одним из самых верных последователей Жарри, и его память культивируется College de Pataphysique.
Среди героев-патафизиков наиболее значительным драматургом-абсурдистом был Жюльен Торма (1902–1933), ещё один скиталец и проклятый поэт, беззаботно плывший по жизни, пока не исчез в Австрийских Альпах, выйдя из отеля и не вернувшись. Торма, презиравший сюрреалистов за саморекламу и приверженность к личным выпадам, создал несколько экстраординарных абсурдистских пьес. Трагедия в девяти сценах «Купюры» и одноактная пьеса «Лаума Ламер» были опубликованы при жизни Торма тиражом в 200 экземпляров. Его самая смелая пьеса «Бетру» была посмертно опубликована в College de Pataphysique.
В «Купюрах» интересен главный персонаж, некое божество, дающее сценические указания, деспотически управляющее действием. Его зовут Осмар и, он, вероятно, олицетворяет судьбу во всей её абсурдности. В финале Осмара выкатывают из-за кулис на платформе, на колёсиках, и выясняется, что это всего-навсего автомат. Действие, продиктованное бездушным автоматом, не может иметь смысла, за исключением эротических образов и насилия.
Абсурдистская «Лаума Ламер» написана в жанре так называемых морских пьес.
Герой «Бетру»[60] на протяжении всех четырех действий занят счётом от минус трёх до нуля. Это странное создание внушает ужас своим многочисленным женам. Он нечленораздельно говорит, заикается, его речь переводит астроном. В финале второго акта, точнее акта минус два, Бетру убивает всех персонажей, но в следующем акте, акте минус один, они воскресают, чтобы быть снова убитыми. Затем вновь оживают и умирают в финале акта нуль, в котором действие достигает своего заранее известного финала — нулевой величины, заканчиваясь ничем.
В пьесе есть элемент suspense: Бетру учат говорить, и он начинает воспроизводить животные звуки. Но это приводит к ослаблению его власти. У него начинается психическое расстройство, и пьеса завершается хаосом. Как объясняли мудрые редакторы-патафизики: «Существенный элемент пьесы — психологический паралич, господствующий над всем и над «phraseolalie», иначе говоря, если сформулировать это вербально, паралич доминирует над всем, он и есть судьба»66. Это аналогично доминированию языка над судьбой в абсурдистской поэзии Льюиса Кэрролла, Эдварда Лира и Христиана Моргенштерна.
Торма объяснил свои идеи более понятно в небольшом томике афоризмов Euphorismes (1926). Экземпляр этой замечательной книги хранится в Национальной библиотеке с посвящением Максу Жакобу, написанному рукой Торма: «Если бы Бог существовал, ты не смог бы его выдумать!» В некоторых афоризмах отражена этика гомосексуализма, в других провозглашается решительный отказ от языка. «Стоит только открыть рот, сразу начинает вонять социальностью»67, использованы даже более сильные выражения: «Самовыражение… слово это заключает в себе сортирно-порнографически-социологический смысл и выдаётся за фигуру риторики», превращая язык «в какофонию». В результате усилие Торма «вернуть мысли фундаментальную и неосуществимую неоднозначность, которая и есть реальность, означает освободить язык от окостенелости, оставив в покое литературу»68.
Торма был знаком и состоял в переписке с Дюмелем и Десносом. Он писатель для писателей, и, возможно, его никогда не будут читать, кроме узкого круга фанатичных знатоков поэтического абсурда. Он не собирался ни на что и ни на кого оказывать влияние, не стремился, чтобы его серьёзно воспринимали: «Я не литератор и не поэт, я не претендую на интерес к себе, я всего лишь развлекаюсь. …Для меня признать трагическое молчание уже слишком много. У меня нет символа веры, в сущности, я ничего не делаю, только с лёгкостью сочиняю стихи»69. Он был одним из немногих, имевших мужество до конца осознать абсурдность человеческого удела, отказывался что-либо воспринимать серьёзно, во всяком случае, самого себя. Случайность его смерти подтверждает, что это его позиция, а не поза.
Столь же странный и эксцентричный, как Торма, но в своём роде, и столь же повлиявший на современную литературу, был Раймон Руссель (1877–1933). Он был очень богат и путешествовал по всему миру, не беря на себя труд его видеть. Прибыв в Пекин, он один раз проехался по городу, затем заперся в номере отеля. Когда корабль, на котором он путешествовал, прибыл в гавань на Таити, он оставался в каюте, продолжая писать, и даже не выглянул в иллюминатор. В творчестве Руссель стремился полностью отойти от реальности. Он хотел создавать только свой мир и основывался, как Торма или абсурдистские поэты, на логике ассонансов и вербальной ассоциации.
Некоторые романы Русселя построены на двух краеугольных предложениях, одинаковых по звучанию, но различных по смыслу. Этими фразами начинался и заканчивался роман; далее он пытался соединить их цепью предлогов, поддерживающих непрерывную последовательность такой логики — логики метафор, каламбуров, омонимов, ассоциативных идей и анаграмм. На таких же внутренних логических механизмах построены его пьесы «Звезда на лбу» (1924) и «Солнечная пыль» (1926).
Длинные, сложные для понимания пьесы, в постановку которых он вкладывал свои средства, вызывали ироническую улыбку; это самые несценичные из всех когда-либо написанных пьес. Они состоят из цепи сложных фантастических историй, которые персонажи рассказывают друг другу на очень статичном, высокопарном языке. Театр Русселя более «эпичен», чем театр Брехта, и неизмеримо более антитеатрален, чем всё, что написал Ионеско. В то же время поразительная фантазия изобретений Русселя и ненадуманный примитивизм делают его Таможенником Руссо театра, придавая его сочинениям почти гипнотическую власть. Он — идол сюрреалистов и патафизиков. Руссель покончил самоубийством в 1933 году во Флоренции.
От Аполлинера к сюрреалистам и далее прослеживает тесная связь между пионерами живописи и скульптуры и авангардистскими поэтами и драматургами. Беккет написал тонкое исследование о художнике-абстракционисте Браме Ван Велде, Ионеско был другом Макса Эрнста и Дюбюффе. Влияние ряда ведущих художников эпохи на театр абсурда заметно в образности и обманчивом обличье пьес абсурда. Например, девушка с тремя носами в «Жаке» Ионеско.
Более того, многие художники и скульпторы XX века отваживались заниматься авангардистской поэзией или драмой. Уже шла речь о Кокошке, проложившем путь дадаистской пьесе и доведшем до конца другие драматические эксперименты. Великий немецкий скульптор-экспрессионист Эрнст Барлах (1870–1938) так же написал серию пьес, предвосхитивших некоторые сновидческие, мифические черты театра абсурда. Пикассо — автор двух авангардистских пьес «Пойманный за хвост» (1941) и «Четыре маленькие девочки» (1952).
19 марта 1944 года состоялось публичное чтение первой пьесы. Режиссёром выступил Альбер Камю, среди участников были Симона де Бовуар, Жан-Поль Сартр, Мишель Лейрис, Раймон Кено и другие известные деятели литературы и искусства. Как и «Газовое сердце» Тцара, пьеса Пикассо состояла из диалогов между освобождёнными от телесной оболочки ногами и столь же безличными персонажами. Некоторые диалоги представляли монотонные жалобы на озноб. Маленькая пьеса отражает тревоги военного времени в образах холода и голода. В ней соединяются юмор и жестокость. Она рассказывает о том, о чём рассказало бы одно из полотен Пикассо, если бы оно тогда было написано и могло бы говорить. Пьеса эта игровая, сценичная, чувственная, обладающая всеми признаками его мастерского стиля.
Это относится и ко второй пьесе Пикассо. Ролан Пенроуз, автор биографии Пикассо, цитирует ремарки из пьесы: «Входит громадная, крылатая, белая лошадь, волоча свои внутренности, с совой на голове; она останавливается на мгновение перед маленькой девочкой и исчезает на другом конце сцены»71.
Современное направление живописи и театр абсурда пересекаются, отказываясь от дискурсивных повествовательных элементов, концентрируя поэтический образ, как воплощение сознания, подсознания и архетипов, пробудивших их к жизни.
Творчество Станислава Игнация Виткевича (1885–1939) так же подтверждает связи между современным направлением живописи и новыми экспериментальными тенденциями в драме. Виткевич — одна из самых блестящих личностей европейского авангарда той эпохи. За пределами его родной Польши он стал известен сравнительно недавно. Многое он публиковал под псевдонимом Виткаци. Он начинал как художник и работал в эстетике «чистой формы», теоретически допускавшей полную независимость художника от природы и внешних реалий. При жизни его драматические сочинения привлекали мало внимания. Он исследовал миры сновидений, безумия; в его поле зрения были пародия и политическая сатира. Гротескные кошмары выплёскивались в образы безумцев, политические параболы оборачивались смешными пародиями на польских классиков. Восприятие его сочинений зависит от знания политической подоплёки его эпохи и польской литературы. Тем не менее, ряд его пьес переведён на немецкий и английский языки. Они говорят об его колоссальной изобретательности, подтверждая масштабность его фигуры. В 1962 году в Варшаве вышли два тома пьес Виткевича. Эти двадцать пьес — богатый материал для исследования и нового взгляда на его творчество. Гордая, одинокая, эксцентрическая личность, Виткевич покончил самоубийством 18 сентября 1939 года, в день вторжения советских войск в Польшу, решившего судьбу независимости его страны.
Витольд Гомбрович (1904–1969) — польский писатель мирового значения, но он более романист, чем драматург. Предшественник и в то же время зрелый мастер театра абсурда. Гомбрович покинул Польшу в 1939 году, обосновался в Аргентине и провёл всю жизнь в изгнании. Действие его пьесы «Ивонна, принцесса Бургундская» (1935) происходит в гротескном романтическом, сказочном мире при дворе короля. Этот мир напоминает атмосферу «Леонса и Лены» Бюхнера или сказок Ганса Христиана Андерсена. Скучающего, предающегося разгулу принца представляют уродливой, глупой принцессе, которая всегда молчит. Её безмолвие, позволяющее ему фантазировать об её духовном мире, приводит к тому, что он в неё влюбляется. Когда она ему наскучила, её убивают, подав ей костлявую рыбу. Вторая пьеса Гомбровича «Венчание» написана в 1945 году, опубликована в 1950, премьера состоялась в 1963 году в Париже. Это сновидческая пьеса колоссального воздействия. Её герой Хенрик смутно осознает, что он — солдат и воюет где-то на севере Франции. Он представляет, что вместе с другом Владзио он в родной деревне. Но его дом превратился в подозрительную таверну, которую держат его родители, а его невеста стала шлюхой. Родители превращаются в королевскую чету, а он в принца, собирающегося жениться на принцессе. Каким-то неведомым путём он узнает, что его невеста — шлюха, и два мира сливаются воедино. Хенрик часто говорит стихами. Он знает о неестественной торжественной манере своей речи, но ничего не может поделать. Это блистательный перенос сновидения.
Ну, я это сказал. И снова эта речь Звучала напыщенно и превратилась в объяснение. Слова падают камнем В этой тишине. …И теперь я понимаю, почему Я не говорю, но объясняю. Вас здесь нет И я один, один, один. …Слова, Сказанные в пустоту, фальшивы, Ибо, ни к кому не обращенные, но произнесённые, Превращают меня в фикцию.[61]Кошмар отражает страх Хенрика перед женитьбой. Он должен пройти через это, но не может. Вовлечённый в заговоры и революцию, он бросает отца в тюрьму, а сам становится диктатором. До него доходят слухи, что невеста обманывает его с Владзио, вызывая у него ревность, и он просит Владзио во имя дружбы покончить самоубийством. Во время венчания Владзио кончает с собой, вонзив в себя нож, данный ему Хенриком. Свадьба превращается в похороны.
Гомбрович блистательно показал разные уровни сознания мечтателя. Для него реальность проблематична, и человек подчинен ситуации, в которую он попадает; он её следствие, как и его язык:
…мы говорим не то, что хотим сказать, но что надо сказать. Слова Предательски устраивают за нашими спинами заговор И не мы говорим слова, но слова говорят нас. И предают наши мысли, которые также Предают наши предательские чувства…[62]Как в абсурдном мире Льюиса Кэрролла и Эдварда Лира, у Гомбровича язык автономен. В мире, потерявшем объективные критерии, мысль становится всемогущей, но в свою очередь, она превращается в рабыню языка и его условностей.
Молодое поколение польских драматургов-абсурдистов 1960-х многим обязано традиции сюрреалистической драмы Виткевича и Гомбровича, продолжателями которой они стали.
В Испании, родине Пикассо и Гойи, стране аллегорических autos sacramentales и барочной поэзии Кеведо и Гонгоры, литературные параллели некоторых тенденций сюрреализма проявились в творчестве двух драматургов.
Рамон дель Валье-Инклан (1866–1936), великий романист и драматург, практически не известный за пределами Испании, около 1920 года разработал направление драматургии, названное им esperento (гротесковый или смехотворный), суть его в том, что мир населен трагикомическими, почти механически действующими марионетками. Валье-Инклан считает, что художник может видеть мир с трёх позиций: глядя снизу вверх, как бы стоя перед ним на коленях, и тогда мир представляется идеализированной, благопристойной реальностью; находясь с ним на одном уровне, воспринимая его реалистически; или же смотреть на мир сверху, и с этой удалённой, удобной точки мир предстает смехотворным и абсурдным, ибо он будет увиден глазами мертвеца, оглядывающегося на жизнь. Esperentos Валье-Инклана особенно проявился в «Празднестве смерти» и в «Рогах дона Фриолера». Обе пьесы написаны около 1925 года и представляют горькую карикатуру на жизнь, в которой уродливые извращенцы-любовники преследуются безмозглыми, смешными мужьями; нормы и обычаи общества механистичны и бесчеловечны, как обезумевшие машины, работающие вхолостую. Из драматургов молодого поколения Аррабаль признает, что Валье-Инклан оказал на него большое влияние.
Воздействие французского сюрреализма в смягченной поэтической форме заметно в некоторых пьесах Федерико Гарсиа Лорки, написанных ранее великих реалистических трагедий. Это прелестные короткие сценки, вошедшие в Teatro Breve (1928): «Прогулка Бастера Китона» с явным влиянием американского немого кино, подобно «Чаплиниаде» Голля; пьеса для кукольного театра «Балаганчик дона Кристобаля» (1931), в которой очаровательная фарсовость и искренность сочетаются с традициями андалузских фольклорных представлений; «Когда минет пять лет» (1931) — легенда о времени, сновидческая идиома с философскими сюрреалистическими элементами; две сцены из неоконченной пьесы «Публика» (1933), приближащиеся к театру абсурда, особенно близка первая сцена, в которой римский император сталкивается с двумя странными персонажами. Один из них весь в виноградных лозах, другой — с ног до головы в золотых колокольчиках.
В англоязычном театре влияние дадаизма и сюрреализма было слабее. Гертруда Стайн называла пьесами свои короткие абстрактные стихи в прозе из одного предложения или нескольких коротких абзацев, пронумерованных, как действие первое, действие второе и так далее. Даже её «Четверо святых в трёх действиях», с успехом поставленные как балет-опера (хореограф Фредерик Аштон, композитор Вирджил Томсон) — абстрактное стихотворение в прозе с элементами «чистого театра», которое можно облечь в произвольную форму. К концу жизни Гертруда Стайн написала пьесу с сюжетом и диалогом, — «Да для очень молодого человека». Это очаровательная, но совершенно традиционная пьеса о французском Сопротивлении: американка-экспатриантка таит страсть к молодому французу. Пьеса написана в не совсем характерной для Стайн манере.
Пьесу Ф. Скотта Фицджеральда «The Vegetable»[63] можно отнести к раннему образцу театра абсурда, особенно её среднюю часть, в которой изображена гротескная, бессмысленная версия жизни Белого дома. Но сатирический эффект первого акта вымученный, представленный, как алкогольный кошмар героя пьесы Джерри Фроста, который напивается, раздобыв у бутлеггеров ликер; в третьем акте действие происходит в реальности. Пьеса была поставлена в ноябре 1922 года и потерпела катастрофический провал. «The Vegetable» — неудачная попытка отказаться от натуралистической условности, которой пронизана пьеса.
Этой ошибки блестяще избежал Э. Э. Каммингс в пьесе «Он» (1927), одной из самых удачных и художественно целостных в отличие от большинства французских сюрреалистических пьес этого периода. В ней дана духовная одиссея мужчины и женщины, вплетённая в призрачные ярмарочные сцены и фантастические происшествия. Эрик Бентли тонко интерпретирует пьесу, как фантазию героини, именуемую Я; «она находится под анестезией во время родов». Пьеса сосредоточена на истории Me and Him — «молодой американской пары в поисках реальности». Хор таинственных сестёр, разговаривающих на абсурдном языке; водевильные сцены ярмарочных зазывал; кричащие торговцы; пародии на гангстерские фильмы, народные баллады, американцы в Европе, Италия Муссолини, — всё это блистательно смонтировано. Бентли приводит диалог Автора и Публики; Автор говорит: «…До сих пор «жизнь» давала вам о себе знать двумя голосами, активным и пассивным: активный звал к действию, пассивный — к сновидениям; есть голоса, считающие, что действовать — видеть сны. Другие голоса видят в зеркалах, окруженных зеркалами, нечто более страшное, чем безмолвие, но не в такой степени, как смерть: третий голос «жизни» верит только себе, не зная почему»73.
Это изложение философии театра абсурда, в котором мир явлен, как зал отражающих зеркал, и реальность незаметно сливается с фантазией.
Театр абсурда — часть богатой, развивающейся традиции. Его новации в исключительном способе, соединяющем близкие позиции мысли и литературные идиомы. Впервые такое соединение встретило живой отклик у широкой публики. Но это более характеризует эпоху, чем театр абсурда. Конечно, сюрреализму недоставало качеств, необходимых для создания подлинной драмы; это объясняется и тем, что публика не нуждалась в таком театре. Писатели-сюрреалисты не проявляли интереса к такому театру. Они шли впереди времени; теперь время нагнало авангард 20-30-х годов, и театр Жарри и Каммингса обрёл свою публику.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ЗНАЧЕНИЕ АБСУРДА
Когда Заратустра спустился с гор, чтобы проповедовать, он повстречал святого отшельника. Старик призывал его остаться в лесу с ним вместо того, чем идти в города к людям. Когда Заратустра спросил отшельника, что делает он в полном одиночестве, тот ответил; «Слагаю песни и пою их; слагая песни, я смеюсь, плачу, бормочу; так я прославляю Бога».
Заратустра отказался от предложения старца и продолжил путь. Но, оставшись один, он обратился к своему сердцу: «Возможно ли это? Святой старец в лесах ещё не слышал, что Бог умер!»1
«Так говорил Заратустра» Ницше впервые опубликован в 1883 году. С тех пор количество людей, для которых Бог умер, неисчислимо увеличилось, и человечество познало горький урок лжи и зло вульгарных суррогатов, заменивших Бога. После двух катастрофических войн прибавилось множество людей, пытающихся принять послание Заратустры в поисках пути, чтобы с достоинством противостоять универсуму, лишившему их стержня и живой цели, которые у них некогда были, и миру, отнявшему общую, интегрирующую основу, которая сместилась, стала бесполезной, абсурдной.
Театр абсурда — одно из проявлений этих поисков. Он смело встречает факт, что мир, лишившийся главного истолкования и смысла, не может более выражаться в художественных формах, основанных на стандартах и концепциях, потерявших действенность; он даёт возможность познать законы жизни и истинные ценности, вытекающие из точного понимания цели человека во вселенной.
Выражая трагическое чувство потери определённости, театр абсурда парадоксальным образом утверждает близость к религиозным исканиям века. Он делает попытку, какой бы она ни была робкой и гипотетической, петь, смеяться, плакать и бормотать, если не во славу Господнюю, чьё имя, как считает Адамов, долго было унижено обращениями, потерявшими всякий смысл, то, по крайней мере, во имя поисков Святого. Это попытка помочь человеку осознать истинную реальность условий своего существования, вернуть ему утерянное чувство удивления и первозданного страдания, потрясти выходом за пределы банального, механического, самодовольного, недостойного существования, то есть дать знание. Бог умер, в основном, для масс, существующих изо дня в день, потеряв все контакты с главными явлениями и тайнами жизни, с которыми в прошлом люди сохраняли связь через живой ритуал религии, делавший их частью реального сообщества, а не только атомами разъединённого общества.
Театр абсурда — непрерывная попытка истинных художников нашего времени пробить брешь в глухой стене самодовольства и автоматизма и восстановить знание о реальных условиях жизни. Будучи таким, театр абсурда ставит двойную цель и преподносит её публике с удвоенной абсурдностью.
Один из его аспектов — жестокая, сатирическая критика абсурдности жизни без понимания и осознания реальности. Это безразличие и бессмысленность полубессознательного существования, ощущение от «людей, скрывающих бесчеловечность», описывает Камю в «Мифе о Сизифе»: «В определённые часы ясности ума механические жесты людей, их бессмысленная пантомима предстают во всей своей глупости. Человек говорит по телефону за стеклянной перегородкой; его не слышно, но видна его тривиальная жестикуляция. Возникает вопрос, зачем он живёт? Это чувство неудовлетворенности, порождённое собственной бесчеловечностью, это бездна, в которую мы низвергаемся, видя себя, это «тошнота», как определяет это состояние современный писатель, и абсурд»2.
Этот опыт отражён в пьесах «Лысая певица» и «Стулья» Ионеско, «Пародии» Адамова, «Оглушительное бренчанье» Н. Ф. Симпсона через сатирический, пародийный аспект, благодаря которому проявляется социальная критика, стремление пригвоздить к позорному столбу неаутентичное, ограниченное общество. Это доступное и потому самое признанное послание театра абсурда, но не самая существенная и значительная его особенность.
Более важно то, что вслед за сатирическим разоблачением абсурдности неаутентичных способов жизни театр абсурда без страха всматривается в глубинные пласты абсурдности мира, в котором упадок религии лишил человека уверенности. Когда трудно принимать абсолютные, истинные системы ценностей и религиозные откровения, необходимо обратить взор к предельной реальности. Поэтому драматурги абсурда рассматривают человека, стоящего перед выбором, — основной ситуацией своего существования, вне случайных обстоятельств социального положения или исторического контекста. В пьесах Беккета и Гелбера человек повёрнут лицом ко времени и находится в ожидании между рождением и смертью; в пьесе Виана человек убегает от смерти, поднимаясь по этажам всё выше и выше; пассивно угасает в ожидании смерти у Буццати; восстаёт против неё, противостоит ей и допускает её в «Бескорыстном убийце» Ионеско; в пьесах Жене безнадежно запутавшийся в миражах иллюзий, в зеркалах, отражающих зеркала, человек навсегда закрылся от реальности; в параболе Мануэля де Педроло человек вырвался на свободу лишь для того, чтобы лишиться её; в пьесах Пинтера он пытается найти скромное место в окружающих его холоде и тьме; у Аррабаля человек тщетно борется с моралью, недоступной его пониманию; в ранних пьесах Адамова стоит перед неотвратимой дилеммой, и усилия разрешить её приводят к исходной ситуации — пассивной праздности, абсолютной бесполезности и смерти. В большинстве этих пьес человек всегда одинок, заключён в тюрьму своего индивидуализма и не в состоянии понять ближнего.
Обеспокоенный основными реалиями жизни, занятый сравнительно немногими фундаментальными проблемами жизни и смерти, вопросами изоляции и коммуникации, театр абсурда может проявляться гротескно, поверхностно и непочтительно, возвращаясь к первоначальной, религиозной функции театра — противопоставлению человека сфере мифа и религиозной истины. Подобно древнегреческой трагедии, средневековым мистериям и барочным аллегориям, театр абсурда ставит целью рассказывать публике о непрочном, таинственном положении человека во вселенной.
Разница между греческой трагедией или комедией, между средневековыми мистериями, барочным auto sacramental и театром абсурда в том, что в прошедшие эпохи основные реалии были общеизвестными и повсеместно признанными метафизическими системами; театр абсурда констатирует отсутствие какой-либо общепринятой всеобъемлющей системы ценностей. Поэтому его цели скромнее: он не претендует на объяснение путей Бога к человеку. Он может только выражать страх или осмеивать интуитивные знания человека, основанные на реалиях, постигнутых на собственном опыте — результате погружения в глубины своей личности, снов, фантазий и кошмаров.
Если предшествующие попытки конфронтации человека с условиями существования воплощали понятную, общепризнанную версию истины, то театр абсурда говорит о самом сокровенном и личном знании ситуации, опирающегося на интуицию поэта, чувство бытия, видение мира. Это составляет содержание театра абсурда и определяет его форму, которая по необходимости должна быть условной, отличающейся от «реалистического» театра нашего времени.
Театр абсурда не даёт информации, не ставит проблем, не занимается судьбами персонажей за пределами духовного мира автора, не комментирует тезисы или спорные идеологическими положения, события, судьбы или приключений персонажей. Всё это заменяется воссозданием основной ситуации личности. Это театр ситуации, отличный от театра, представляющего последовательные события, поэтому он использует конкретные образы, избегая аргументов и дискурсивной речи. Не стремясь передать ощущение бытия, он не исследует и не разрешает проблемы нормы или морали.
Поскольку театр абсурда проецирует сугубо авторский мир, нет необходимости в объективно созданных характерах, столкновении противостоящих характеров, исследовании человеческих страстей, спрессованных в конфликте, и потому театр абсурда не театрален в общепринятом смысле. Он не рассказывает истории, дабы преподнести моральный или социальный урок. Такую цель ставит повествовательный, «эпический» театр Брехта. В пьесах театра абсурда под действием подразумевается не фабула, но передача поэтических образов. Один из примеров — «В ожидании Годо». Обстоятельства пьесы не выстраивают ни сюжета, ни фабулы; они — образ интуитивного знания Беккета о том, что в жизни никогда ничего не происходит. Пьеса — сложный поэтический образ, головоломная модель из второстепенных образов и тем, вплетённых подобно темам музыкального сочинения, не как в «хорошо сделанных пьесах» — ради развития, но для того, чтобы в сознании зрителей в полном объёме возникло комплексное представление об основной статической ситуации. Можно провести аналогию между театром абсурда и символистской или имажинистской поэмой, так же представляющей модель образов и ассоциаций в обоюдно взаимозависимой структуре.
Если эпический театр Брехта пытается расширить пространство драмы, вводя повествовательные, эпические элементы, то театр абсурда стремится к концентрации и глубине поэтического образа. Разумеется, драматические, повествовательные и лирические элементы присутствуют во всякой драме. Театр Брехта, как и театр Шекспира, лирические элементы выражает в форме зонтов; даже у склонных к дидактике Ибсена и Шоу множество чисто поэтических моментов. Однако театр абсурда, отказавшись от психологии, от тонкости словесных образов и сюжета в традиционном понимании, создаёт поэтический образ неизмеримо большей выразительности. Если события в пьесе с линейным сюжетом разворачиваются во времени, то в драматической форме, представляющей концентрированный поэтический образ, протяженность пьесы во времени не имеет значения. Выраженный на уровне интуиции образ теоретически можно постичь в одно мгновение, и только потому, что физически немыслимо представить в одно мгновение столь сложный образ, его постижение растягивается на какое-то время. Поэтому формальная структура такой пьесы — лишь способ выражения сложного тотального образа, раскрытие его в последовательно взаимодействующих элементах.
Стремление коммуницировать тотальное чувство бытия — попытка представить более правдивую картину реальности как таковой. Это реальность, постигнутая индивидуумом. Театр абсурда — последнее звено в цепи эволюций, начатых натурализмом. Идеалистическая платоническая вера в неизменные субстанции (художник должен создавать идеальные формы в чистом виде, не существующие в природе) была сокрушена философией Локка и Канта, базирующей реальность на восприятии и внутренней структуре сознания. Искусство превратилось в имитацию внешней природы. Однако имитация не удовлетворяла, что вело к следующему шагу — исследованию реальности сознания. Ибсен и Стриндберг — пример этой эволюции. Исследуя реальность на протяжении всей жизни, Джеймс Джойс начал с подробных реалистических рассказов и закончил грандиозно сложной структурой «Поминок по Финнегану». Творчество драматургов абсурда продолжает эту эволюцию. Каждая пьеса есть ответ на вопросы: «Что чувствует личность, противостоя ситуации? При каких условиях человек без страха смотрит на мир? Что значит быть самим собой?» Ответ даётся общий, это сложный и противоречивый поэтический образ — в отдельной пьесе или в череде дополняющих друг друга образов в творчестве драматурга.
Постигая мир в какой-то один миг, мы получаем одновременно весь комплекс различных ощущений и чувств. Мы можем понять этот мгновенный образ, разбив его на разные элементы, которые затем будут последовательно соединены в предложение или ряд предложений. Чтобы модифицировать восприятие в концептуальные термины, в логическую мысль и язык, мы проделываем операцию, аналогичную сканеру, анализирующему картину в телевизионной камере в таблицах обособленных импульсов. Поэтический образ с его неопределенностью и симультанным воплощением многочисленных элементов чувственной ассоциации — один из способов, при помощи которого можем, хотя и не в полном объёме, представить реальность интуитивного знания о мире.
Чрезвычайно эксцентричный немецкий философ Людвиг Клагес, почти совсем неизвестный в англоязычных странах, что несправедливо, — автор психологии восприятия, базирующейся на осознании того, что наши чувства порождают образы, составленные из множества симультанных впечатлений, которые затем анализируются и дезинтегрируются в процессе перевода в концептуальное размышление. Для Клагеса это часть предательского воздействия сознания на творческий элемент, описанный в его философском magnum opus «Интеллект как антагонист духа» (Der Geist als Widersacher der Seele). Хотя вводящая в заблуждение попытка превратить это противостояние в космическую битву творческого и аналитического начал возможна, всё же основная идея о том, что концептуальная и дискурсивная мысль лишает выразительности непередаваемую полноту постигнутого образа, плодотворна как иллюстрация проблемы создания поэтической образности.
В стремлении передать основную совокупность восприятия, интуитивного знания бытия мы можем найти ключ девальвации и дезинтеграции языка в театре абсурда. Ибо, если это перевод общего интуитивного знания бытия в логическую и временную последовательность концептуального мышления, лишающего его первоначальной сложности и поэтической правды, то художник должен искать пути, чтобы спровоцировать воздействие дискурсивной речи и логики. В этом главное отличие поэзии от прозы: поэзия неопределённа, ассоциативна и стремится приблизиться к неконцептуальному языку музыки. Театр абсурда, создавая поэзию конкретной образностью сцены, идёт дальше чистой поэзии, освобождаясь от логического мышления и языка. Сцена, обладая множеством выразительных средств, позволяет одновременно использовать визуальные элементы, движение, свет, язык и приспособлена к передаче сложных образов, совмещающих контрапунктное взаимодействие всех этих элементов.
В «литературном» театре язык — превалирующий компонент. В антилитературном, цирковом или мюзик-холльном театре язык низведён до подчиненной роли. Театр абсурда обрёл свободу использования языка как такового, временами доминирующего, временами подчинённого, как компонент многомерной поэтической образности. Используя язык сцены по контрасту с действием, низводя его до бессмысленной скороговорки или отказываясь от дискурсивной логики ради поэтической логики ассоциации или ассонанса, театр абсурда открыл новые возможности сцены.
Девальвируя язык, театр идёт в ногу со временем. Джордж Стайнер в двух радиопередачах «Отречение от слова» подчёркивал, что девальвация языка характерна не только для эволюционирующей современной поэзии или философии, но ещё в большей степени для современной математики и естественных наук. По мнению Стайнера, «отнюдь не парадокс, что многое в реальности начинается теперь вне языка3. …Многие сферы осмысленного опыта теперь принадлежат невербальным языкам, как например, математике, формуле и логическому символизму. Другой тип эксперимента — часть «антиязыка», как например, беспредметное искусство или атональная музыка. Сфера слова сжалась»4. Более того, отказ от языка как наилучшего инструмента в системе обозначений в математике и символической логике идёт параллельно с явным ослаблением веры в его практическое применение. Язык всё более и более противоречит реальности. Общее направление мышления, имеющее огромное влияние на распространенные ныне концепции, подтверждает эту тенденцию.
Пример тому — марксизм. Между общеизвестными социальными отношениями и социальной реальностью, стоящей за ними, существует различие. С объективной точки зрения наниматель является эксплуататором и, следовательно, врагом рабочего класса. Он может искренне говорить рабочему, что сочувствует его взглядам, но объективно его слова лишены смысла. Однако о каком бы сочувствии рабочему он ни заявлял, он остается его врагом. Язык в этом случае проявляется чисто субъективно и потому лишён объективной реальности.
Эта тенденция распространяется и на современную фундаментальную психологию и психоанализ. Сегодня даже дети знают, сколь велика пропасть между осознанной и высказанной мыслью, той психологической реальностью, которая стоит за произнесенными словами. Сын говорит о любви и уважении к отцу, и объективно это не вызывает сомнения, но фактически под этим скрывается Эдипов комплекс ненависти к отцу. Он может не понимать этого, но он имеет в виду противоположное сказанному.
Относительность, девальвация и критика языка — основные тенденции современной философии, и это иллюстрируют умозаключения Витгенштейна в его последний период жизни. Он полагал, что философ должен стремиться к высвобождению мысли от принятых норм и грамматических правил, ошибочных с точки зрения логики.
«Мысленный образ держал нас в плену. Мы не могли от него освободиться, поскольку он входит в наш языковой ресурс, и кажется, что язык неизменно повторяет его нам. …На какой стадии мы пришли к тому, что интересно только разрушение; что именно оно значительно и важно? (Это можно уподобить сооружениям, от которых остались одни развалины.) Но мы разрушили всего лишь карточные домики и теперь расчищаем фундамент языка, на котором они возвышаются»5. Подвергая язык суровой критике, последователи Витгенштейна объявили многие формулировки лишёнными объективного смысла. В «словесных играх» Витгенштейна много общего с театром абсурда.
Но ещё значительнее тенденций марксизма, психологии и философии в наше время рядовой человек в повседневном мире. Подвергающийся беспрерывному натиску болтовни прессы и рекламы, он относится всё более скептически к атакующему его языку. Граждане тоталитарных стран хорошо знают: большая часть из информации, которую они получают, двусмысленна и необъективна. Они прекрасно овладевают искусством читать между строк; при необходимости разгадывать язык больше скрывает, чем раскрывает. На Западе пресса и проповеди, произносимые с кафедр, полны эвфемизмов. Реклама из-за постоянного использования превосходных степеней содействует девальвации языка, так что большинство слов на рекламных плакатах и цветных страницах журналов лишены смысла, как и телевизионная реклама, сочиненная рифмоплетами. Между языком и реальностью разверзлась зияющая пропасть.
Помимо общей девальвации языка возрастающая специализация привела к тому, что обмен мыслями между представителями разных сфер стал невозможен из-за возникшего профессионального жаргона. Об этом говорит Ионеско, суммируя и расширяя взгляды Антонена Арто: «Поскольку наши знания отделены от жизни, наша культура уже нас не сдерживает, или сдерживает немногих, формируя «социальный» контекст, в котором мы не являемся единым целым. Необходимо вновь вступить в контакт с культурой, вновь сделать её живой.
Чтобы достигнуть этого, сначала мы должны убить в себе «пиетет перед написанным чёрным по белому»… разрушить язык до такой степени, чтобы он мог восстановить контакт с «абсолютом», или, как я бы предпочел выразиться, «с многосложной реальностью»; необходимо подтолкнуть людей к тому, чтобы они снова увидели себя такими, какие они есть»6.
Поэтому в театре абсурда связь между людьми часто предстает как полный распад. Это всего лишь сатирическое преувеличение. В эпоху массовой коммуникации язык взбунтовался. Необходимо вернуть свойственную ему функцию — выражать аутентичное содержание, а не скрывать его. Но это станет возможно, если уважение к сказанному или написанному слову как способу коммуникации вернётся, и окостеневшие клише, доминирующие в мышлении, будут заменены живым языком, пригодным для этого, как в лимериках Эдварда Лира или в Хампти-Дампти. Это может быть достигнуто, если признают и примут отступления от логики и дискурсивного языка, и будет использоваться поэтический язык.
Приёмы, с помощью которых драматурги абсурда критикуют наше дезинтегрированное общество, по большей части инстинктивно и непреднамеренно, основываются на внезапной конфронтации публики против гротескно преувеличенной и искаженной картины мира, ставшего безумным. Этой шоковой терапией достигается эффект, именуемый в теории Брехта остранением, но в его театре он нерезультативен. Публике возбраняется идентифицироваться с персонажами (веками проверенный и эффективный метод традиционного театра), замещая идентификацию беспристрастной, критической позицией. Идентифицируясь с героем, мы автоматически принимаем его точку зрения, смотрим на мир, в котором он существует, его глазами, испытываем его эмоции. С позиции дидактического, социального театра Брехт доказывает, что веками освященная психологическая связь между актёром и публикой должна быть разорвана. Каким образом можно воздействовать на публику, чтобы она критически воспринимала поступки персонажей, если она готова принять их точку зрения? Брехт в свой марксистский период пытался предложить несколько приёмов, чтобы разрушить эти чары. Но он никогда полностью не достигал цели. Публика, несмотря на зонги, лозунги, абстрактную декорацию и прочие запрещенные приёмы, продолжает идентифицироваться с незаурядными, привлекательными персонажами Брехта и часто уклоняется от критической позиции, навязываемой ей драматургом. Старая магия театра прочна; тяга к идентификации, лежащая в основе человеческой природы, ошеломляет. Видя мамашу Кураж, оплакивающую сына, мы не можем подавить сочувствие к её горю и не можем осуждать её за то, что война для неё — средство к существованию, и она заинтересована в ней, вопреки тому, что война неизбежно губит её детей. Чем более привлекателен сценический персонаж, тем сильнее процесс идентификации.
С другой стороны, в театре абсурда публика сталкивается с персонажами, чьи мотивы и поступки по большей части непонятны. С подобными персонажами идентифицироваться почти невозможно; чем таинственнее их действия и характер, тем менее они человечны и тем труднее видеть мир их глазами. Персонажи, с которыми публика не хочет идентифицироваться, всегда комичны. Узнав себя в клоуне, теряющем штаны, мы ощутили бы смущение и стыд. Но если нашему стремлению к идентификации мешает гротескность персонажа, мы смеёмся над тем, что он попал в неприятную ситуацию, и смотрим на него со стороны, не ставя себя на его место. Необъяснимость мотивов поступков и зачастую непостижимая, таинственная природа действий персонажей театра абсурда мешает идентификации, и вопреки мрачному, жестокому и горькому содержанию театр абсурда — театр комический. Он выходит за пределы жанров — и комедии, и трагедии, соединяя смех с ужасом.
По своей природе он не может привести к беспристрастной социальной критике, цели, которую преследовал Брехт. Театр абсурда не предлагает публике набор социальных фактов и политических руководств. Он даёт картину распавшегося мира, утратившего объединяющую первооснову, смысл и цель, превратившегося в абсурдный универсум. Что должна делать публика с этим озадачивающим столкновением с чуждым миром, потерявшим разумные нормы, буквально превратившимся в безумный?
Здесь мы встречаемся с основной проблемой — эстетическим воздействием и доказательностью театра абсурда. Эмпирический факт — вопреки большинству общепризнанных правил драмы театр абсурда эффективен; условность абсурда срабатывает. Но почему она срабатывает? В значительной степени ответ кроется в упомянутой выше природе комических и фарсовых эффектов. Несчастья персонажей, на которые мы взираем холодным, критическим, нетождественным взглядом, смешны. В цирке, мюзик-холле и театре глупые персонажи, совершающие в какой-то степени безумные поступки, всегда мишень для издевательского смеха. Такие комические типы обычно возникали в рациональных пределах и оттенялись положительными персонажами, с которыми публика могла идентифицироваться. В театре абсурда все поступки таинственны, не мотивированны и, на первый взгляд, бессмысленны.
В театре Брехта эффект остранения должен активизировать критическую, интеллектуальную позицию публики. Театр абсурда воздействует на более глубокий уровень сознания публики. Он активизирует психологическую действенность, избавляет от скрытых страхов и подавленных агрессий. Показывая публике картину распада, он пробуждает интегрирующие силы в зрительском сознании.
В великолепном эссе о Беккете Ева Метман пишет: «В эпохи религиозной герметичности человек в драматическом искусстве был защищён, имел ориентиры, иногда подвергался ударам со стороны архетипических сил. В другие же времена искусство изображало видимый, материальный мир, в котором человек реализует свою судьбу, проходя сквозь невидимый, нематериальный мир. В современной драме сформировалась новая, третья, возможность — разобраться в окружающей действительности. Человек показан не в мире, состоящем из божественных или демонических сил, но один на один с этими силами. Эта новая форма драмы вытесняет из публики привычные ориентиры, создавая вакуумное пространство между пьесой и публикой, заставляя пережить это лично, пробудив в себе знания об архетипических силах, или переориентировать свое ego, или испытать то и другое»7.
Не надо быть последователем Юнга или прибегать к его категориям, чтобы увидеть действенность этого диагноза. В повседневной жизни люди сталкиваются с миром, распавшимся на части, потерявшим цель; не осознавая до конца эту ситуацию, её разрушительное воздействие на личность, в театре абсурда сталкиваются с увеличенным образом шизофренического универсума. «Вакуум между сценой и зрителем становится настолько непереносимым, что у зрителя не остаётся иной альтернативы, кроме как не признать и отторгнуть этот мир или же погрузиться в тайну далёких от его целей и восприятия жизни пьес»8. Как только зритель погружается в тайну пьесы, он принуждён примириться со своим существованием. Сцена даёт ему несколько бессвязных источников к разгадке, которые он пытается применить к образу, исполненному множеством смыслов. Он должен приложить творческие усилия, чтобы интерпретировать многие смыслы ради цельности восприятия образа. «Распалась связь времён»; публика эпохи театра абсурда должна это признать, точнее, увидеть, что мир превратился в абсурд, и, признав это, она сделает первый шаг к примирению с действительностью. Безумие жизни в том, что бок о бок существует огромное количество непримиримых убеждений и позиций: с одной стороны, общепринятая мораль, с другой — реклама; противоречие науки и религии; громогласно прокламируемая борьба за общие интересы, в то время как на деле преследуются узкие, эгоистические цели. На каждой газетной станице рядовой человек сталкивается с противоречащими друг другу образцами ценностей. Нет ничего удивительного, что у искусства подобной эпохи заметны симптомы шизофрении. Как отмечает Юнг в эссе об «Улиссе» Джойса, это не означает, что художник — шизофреник: «Клиническая картина шизофрении — только аналогия, основанная на том, что шизофреник представляет реальность абсолютно для себя чуждой или же, наоборот, считает себя в ней посторонним. В современном художнике это не результат заболевания, но воздействие нашей эпохи».9 Попытка понять смысл бессмысленного и бессвязного процесса, осознание факта, что современный мир потерял свою единую основу — источник душевного расстройства и тупикового состояния, и потому это не просто интеллектуальные упражнения; это даёт терапевтический эффект. Греческая трагедия помогала зрителям понять их заброшенность в мире, но и давала образцы героического противостояния неумолимой силе судьбы и воле богов, что вело к катарсису и помогало лучше постичь их время. Такова же природа юмора висельника, чёрного юмора в литературе, и театр абсурда — тому новейший пример. Он выражает тревогу, в унисон времени порождённую уничтоженными иллюзиями через освободительный смех, дающий осознание фундаментальной абсурдности универсума. Больше беспокойства и искушения вызывает потворство иллюзиям; намного полезнее терапевтический эффект; в этом причина успеха «В ожидании Годо» в тюрьме Сан-Квентин. Спектакль помог заключённым, осознавшим трагикомическую ситуацию бродяг, понять бесполезность ожидания чуда. Они получили возможность посмеяться над бродягами и над собой.
Поскольку театр абсурда имеет дело с психологической реальностью, выраженной в образах, зримо проецирующих состояние сознания, страхов, снов, кошмаров и внутренних конфликтов автора, то драматическое напряжение (dramatic tension) в таких пьесах капитально отличается от тревоги, вызванной ожиданием (suspense), театра, в котором характеры раскрываются через повествовательный сюжет. В таком театре экспозиция, конфликт, развязка отражают восприятие мира, под дающегося объяснению, оценка которого основана на узнаваемой и в большинстве случаев допустимой модели объективной реальности, позволяющей делать выводы о цели и нормах поведения, приведших к этому конфликту.
Это имеет прямое отношению даже к самому лёгкому типу салонной комедии, действие в которой развивается на сознательном лишении свободы оценки мира. Единственная цель персонажей в том, чтобы все молодые люди соединились со своими девушками. Даже самые пессимистические трагедии натурализма и экспрессионизма заканчивались тем, что публика расходилась по домам с чётко сформулированной идеей, или же философией: проблема решалась непросто, но окончательный вывод чётко сформулирован. Эта точка зрения, как уже говорилось в предисловии, применима и к театру Сартра и Камю, опирающегося на идею абсурдности жизни. Даже такие пьесы, как «За закрытыми дверями», «Дьявол и Господь Бог» («Люцифер и Бог») Сартра и «Калигула» Камю, дают возможность публике уйти домой, получив интеллектуальный, философский урок.
Театр абсурда, основывающийся не на интеллектуальных концепциях, а на поэтических образах, не ставит в экспозиции интеллектуальной проблемы, не даёт четкого разрешения, которое бы стало уроком или наставлением.
Многим его пьесам свойственна круговая структура: они заканчивают тем же, чем начинались. Некоторые строятся на возрастании напряжения исходной ситуации. Поскольку театр абсурда не приемлет идеи мотивированного поведения и статичности характера, в нём невозможна тревога, вызванная ожиданием (suspense), возникающая в других драматических условиях в предвкушении решения драматического уравнения, основанного на проблеме, заявленной в начальных сценах. В самых драматических моментах публика задаёт себе вопрос, что же будет дальше?
В театре абсурда публика сталкивается с действиями, которым недостает мотивации, с постоянно изменяющимися характерами и событиями, часто не подающимися рациональному объяснению. Но и тогда публика может задаваться вопросом, что же будет дальше? Здесь может произойти всё. Вопрос не в том, что произойдёт дальше, но что происходит сейчас. В чём смысл действия пьесы?
Это другой, но не менее действенный род драматического напряжённого ожидания (suspense). Взамен готового решения зрителю предлагается сформулировать вопросы, которые должны у него возникнуть, если он хочет приблизиться к пониманию пьесы. В отличие от других видов драмы, в которых действие движется из точки А в точку Б, в театре абсурда тотальное действие постепенно создаёт сложную модель поэтического образа пьесы. Suspense возникает в результате ожидания в процессе постепенного формирования модели, позволяющей увидеть образ как целое. Только когда этот образ возникнет во всей целостности — после того, как опустится занавес, — зритель сможет начать исследовать не столько его смысл, сколько структуру, текстуру и воздействие.
Новый род напряжения suspense представляет более высокий уровень драматического напряжения (tension) и даёт публике эстетический опыт, доставляющий больше удовлетворения, поскольку сильнее стимулирует. Конечно, поэтические достоинства великих драм Шекспира, Ибсена и Чехова всегда давали сложный сплав поэтических ассоциаций и смыслов; какими бы простыми ни казались на первый взгляд мотивации, авторская интуиция, с которой созданы характеры, множество стадий, через которые проходит действие, сложный поэтический язык соединяются в образ, выходящий за пределы простого, рационального восприятия действия или его разрешения. Suspense «Гамлета» или «Трёх сестер» создаётся не только тревожным ожиданием, чем закончатся эти пьесы. Их вечная новизна и сила в неисчерпаемом, неоднозначном выражении поэтического образа удела человеческого. В «Гамлете» мы вопрошаем, что происходит? Ответ ясен: дело не только в династическом конфликте или череде убийств и дуэлей. Мы сталкиваемся с проекцией психологической реальности и архетипами, покрытыми вечной тайной.
Этот элемент для драматургов абсурда — суть драматической условности и, не притязая на высоты величайших художников, они применяют его благодаря интуиции и таланту. Если Ионеско, следуя традиции, которую он продолжает, акцентирует внимание на сценах одиночества и деградации Ричарда II, то это происходит потому, что в них содержатся замечательные поэтические образы людского удела: «Все умирают в одиночестве; когда человек обречён на страдание, никакие ценности ничего не значат — об этом говорит мне Шекспир… Возможно, Шекспир хотел рассказать историю Ричарда II: если бы он просто поведал её, историю другого человека, она бы меня не тронула. Но тюрьма Ричарда II выходит за пределы исторического факта. Её невидимые стены ещё стоят, а множество философий и идеологий сгинули навсегда. Изображённое Шекспиром остаётся, потому что это язык живого свидетельства, а не дискурсивная иллюстрация. Это театр вечно живого присутствия; безусловно, он соответствует обязательной структуре трагической правды, сценической реальности. …В этом суть архетипов и содержания театра, театрального языка»10.
В языке сценических образов заключается истина за пределами дискурсивной мысли, и эта истина — фундамент, на котором театр абсурда создаёт новую драматическую ситуацию, подчиняющую себе все другие законы сцены. Если театр абсурда сосредотачивается на сценической образности, на проекции видения мира, возникающего из глубин подсознания; если он пренебрегает рациональными составными ингредиентами театра — отшлифованной конструкцией сюжета и фабулы хорошо сделанной пьесы, имитации реальности, сравнимой с самой реальностью, искусной мотивации характера, — можно ли рационально анализировать, применяя критерии объективной критики? Если это чисто субъективное выражение авторского видения и эмоций, как публике отделить истинное, глубоко прочувствованное искусство от подделки?
Эти старые вопросы возникают на каждой стадии развития современного искусства и литературы. Это насущные вопросы, и нельзя не видеть устарелые приёмы профессиональной критики, применяемые к новым явлениям; художественные критики не признают «классической красоты» в беспощадных полотнах Пикассо, театральные критики отвергают Ионеско и Беккета, потому что их персонажам недостает достоверности, они переходят границы правил хорошего тона салонных комедий.
Но искусство субъективно, и критерии, коими измеряется успех или провал, всегда вырабатываются а posteriori (на основании данных) анализа признанных и эмпирически имеющих успех работ. Феномен театра абсурда — не результат сознательного поиска коллективно созданной программы или теории (как например, романтизм), но лишённый демонстративности отклик независимых авторов на тенденции генерального развития мысли переходного периода. Необходимо проанализировать их творчество и найти идеи и способы выражения ими мысли, чтобы понять художественную цель. Как только мы получим представление об их генеральной идее и цели, возникнут эффективные критерии оценки.
Если в этой книге мы пришли к выводу, что театр абсурда воплощает конкретные поэтические образы, чтобы передать публике растерянность, которую чувствует автор, сталкиваясь с условиями бытия, мы должны оценивать их успех или провал на основании достижения цели — слияния поэзии и гротеска, трагикомического страха. Оценка, в свою очередь, зависит от качества и силы поэтических образов.
Как, однако, оценить поэтический образ или сложную структуру таких образов? Разумеется, как и в критике поэзии, всегда будет присутствовать элемент субъективного вкуса или личный отклик на определённые ассоциации, но в целом объективные критерии оценки возможны. Эти критерии основываются на суггестивности, оригинальности замысла и психологической правде образов; их глубине и универсальности; степени мастерства, с которым они транслированы в сценические условия. Превосходство таких сложных образов, как бродяги, ожидающие Годо, или стулья в шедевре Ионеско над детскими игрушками раннего дадаистского театра столь же очевидно, как достоинства «Четырех квартетов» Элиота по сравнению со скверными стишками рождественских открыток. Столь же очевидна их многозначность, глубина, изобретательность и мощь мастерства. Адамов справедливо ставит свою пьесу «Профессор Таранн» выше «Обретений»: образ в «Профессоре Таранне» возник из подлинного сна; во второй пьесе он был искусственно создан. В данном случае критерий — психологическая правда; без признания автора, исходя из анализа образности пьес мы приходим к тому же выводу: психологическая правда и, следовательно, эффективность в большей степени присущи «Профессору Таранну». По сравнению с пьесой «Обретения» она органичнее, не столь симметрична и механически сконструирована и намного глубже и логичнее.
Такие критерии, как глубина, оригинальность замысла, психологическая правда не могут быть сведены только к количеству, но они не менее объективны, чем критерии, по которым отличают Рембрандта от маньеристов или стихотворение Поупа от стихотворения Сеттла.
Эффективный критерий оценки произведений внутри категории театра абсурда есть. Сложнее определить лучшие из них в общей иерархии драматического искусства; это задача невыполнимая. Разве Рафаэль выше Брейгеля, а Миро выше Мурильо? Несмотря на бесполезность этого спора, как и спора об абстрактном искусстве и театре абсурда, являются ли они плодом фантазии, имеют ли право называться искусством, потому что им недостаёт лёгкости и оригинальности в создании группового портрета или хорошо сделанной пьесы, спор результативен и опровергает некоторые из бытующих неверных представлений.
Отнюдь не истина, что намного труднее создать рациональный сюжет, чем вызвать иррациональную образность пьес театра абсурда, как и не вполне справедливо, что ребёнок может рисовать так же, как Клее или Пикассо. Между действенным абсурдом живописи и драмы и просто абсурдом большая разница. Это подтвердят все, кто серьёзно брался за создание абсурдного стихотворения или пьесы. Подлинная реальность всегда отступает перед опытом и наблюдательностью художника, придумывающего реалистическую фабулу или рисующего с натуры — ему известны персонажи, он был очевидцем событий. Полная свобода вымысла и талант создавать образы и ситуации, не имевшие до сих пор аналогов в природе, позволяют сотворить мир, логика и содержание которого будут безотлагательно восприняты публикой. Обыкновенные комбинации абсурдных ситуаций оборачиваются заурядной банальностью. Каждый пытающийся ограничиться простой регистрацией того, что пришло на ум, поймёт: воображаемые полёты спонтанных вымыслов никогда не оторвутся от земли, они способны породить только бессвязные обрывки реальности, которым никогда не стать целым. Неудачные опусы театра абсурда, как и абстрактной живописи, отличаются примитивностью перенесения фрагментов реальности, откуда они почерпнуты. Их создатели не смогли трансформировать отрицательное качество отсутствия логики или достоверности в позитивное качество создания нового художественного мира, явленного личностью творца.
В этом одно из преимуществ театра абсурда. Лишь когда замысел возникает на глубинных уровнях эмоции, рождённой опытом, когда в подсознании автора отражаются навязчивые идеи, сны и образы, возникает истинное искусство, мгновенно узнаваемая, не субъективная, но общая для всех правда, видение поэта, отличающееся от иллюзий, мысленно приводящих в отчаяние. Глубина и единство картины немедленно, без обмана распознаются. Ни совершенство техники, ни интеллект, как в репрезентативном искусстве или драме, не смогут скрыть скудость внутренней основы и не вызвать сомнений.
Написать хорошо сделанную проблемную пьесу или остроумную комедию положений можно, обладая трудолюбием и достаточно высокой степенью изобретательности или интеллекта. Но в большинстве случаев, чтобы создать эффективный образ условий человеческого существования, требуется исключительная глубина чувств, сила эмоций и подлинное, искреннее творческое воображение, короче, вдохновение. Широко распространено вульгарное заблуждение, будто бы иерархия художественного успеха зависит от трудности создания или трудолюбия автора. Споры о месте на шкале ценностей бесполезны, но если бы такая шкала существовала, место на ней зависело бы только от качества, универсальности, глубины воображения и способности проникновения художника в суть, независимо оттого, потрачены ли десятилетия упорного труда или же произведение создано в порыве вдохновения.
Мерило успеха театра абсурда не только в своеобразии замысла, сложности поэтических образов и искусстве их соединения, но и, что существеннее, в реальности и правдивости воображения, с которыми воплощены образы. Несмотря на полную свободу вымысла и спонтанность, цель театра абсурда — передать жизненный опыт и бескомпромиссное, честное, бесстрашное изображение реальных условий человеческого существования.
Дебаты между Кеннетом Тайненом и Ионеско могут служить отправной точкой, позволяющей разрешить противоречие между «реалистическим» театром и театром абсурда. Кеннет Тайнен справедливо утверждал, что он ждёт от художника правды. Однако Ионеско, утверждая, что его интересует его собственное видение, не опровергает постулат Тайнена. Ионеско так же стремится сказать правду, но полученную интуитивным путём познания условий человеческого существования. Точное исследование психологической внутренней реальности ничуть не менее правдиво, чем исследование внешней, объективной реальности. Реальность воображения непосредственнее и ближе к сущности опыта, чем воссоздание объективной реальности. Разве подсолнух Ван Гога менее реален, чем подсолнух на страницах учебника ботаники? Живопись Ван Гога обладает большей правдой, чем научная иллюстрация, даже если у его подсолнуха неправильное количество лепестков.
Подлинность воображения и ощущения столь же реальна, как и внешние факты, поддающиеся исчислению. Нет прямого противоречия между требованиями, предъявляемыми к театру объективной реальности и театру субъективной реальности. Они оба реалистичны, но рассматривают разные аспекты реальности во всей её сложности.
Эти же дебаты расставили точки над i по поводу кажущегося конфликта между идеологическим, политически ориентированным театром и, на первый взгляд, аполитичным, антиидеологическим театром абсурда. Для программной пьесы (a piece a these) одинаково важны субъект и представленные для приговора к смертной казни аргументы и обстоятельства, иллюстрирующие этот случай. Если обстоятельства правдивы, пьеса убедительна. Если они не убедительны, подтасованы, пьеса обречена на провал. Но тест на правдивость пьесы, в конечном счете, должен заключаться в правде переживаний персонажей, вовлечённых в действие. Тогда тест на правдивость и реализм совпадёт с внутренней реальностью. В пьесе могут быть точные статистические данные и детали, однако драматическая правда зависит от способности автора выразить страх жертвы перед смертью, социальную подлинность сложной ситуации. Тогда тест на правдивость зависит от творческих возможностей, поэтического воображения автора. Это критерий, по которому мы сможем оценить в целом субъективные творения театра, не связанного с социальными реалиями.
Между реалистическим и нереалистическим, объективным и субъективным театром нет противоречия; оно существует между поэтическим видением, поэтической правдой и воображаемой реальностью, с одной стороны, и сухим, механистическим, безжизненным, непоэтичным сочинением, с другой. A piece a these великого поэта Брехта — правда и одновременно исследование личных кошмаров, как и в «Стульях» Ионеско. Парадокс в том, что пьеса Брехта, в которой поэтическая правда превышает политический тезис, может быть в политическом плане менее действенной, чем пьеса Ионеско, высмеивающая абсурдность разговоров благовоспитанного буржуазного общества.
Театр абсурда касается религиозной сферы, рассматривая условия человеческого существования не ради интеллектуального объяснения, но для передачи метафизической правды через живой опыт. Между знанием, переведённым в концептуальную сферу, и его выражением как живой реальности большая разница. Высшее достижение всех великих религий не только в том, что они несут в себе огромные знания и могут передавать их в форме космологической информации или этических норм, но и в том, что они проводили свое учение в жизнь через ритуал, исполненный поэтической образности. Эта возможность утеряна, а между тем она отвечает глубокой внутренней потребности всех людей, и упадок религии порождает ощущение дефицита в нашей цивилизации. Во всяком случае, мы приближаемся к логически последовательной философии в научном методе, но нуждаемся в способе, который сделал бы его живой реальностью, подлинным центром жизни человека. Поэтому на театр, куда приходят люди, чтобы получить поэтическое или художественное впечатление, можно возложить функцию церкви, заменив им её. Тоталитарные системы придают театру огромное значение, поскольку им необходимо превратить доктрины для последователей в живую, основанную на опыте реальность.
На первый взгляд кажется парадоксальным, что театр абсурда можно рассматривать, как попытку транслировать метафизический опыт, подтверждающий научную позицию, и в то же время расширить его, преобразив неполное представление о мире в объёмную картину жизни с её тайнами.
Театр абсурда представляет мир бессмысленным и беспринципным, исходя из философий, отправной точкой которых является идея, что человеческая мысль может привести всю совокупность универсума к законченной, унифицированной, логически последовательной системе. Это точка зрения тех, кто отказывается нести тяжесть мира, в котором невозможно понять, зачем он создан, каково в нём назначение человека и как распознать верные и неверные действия; вселенная, ограниченная этими чёткими дефинициями, лишена чувства, здравого смысла и трагически абсурдна. Современная наука полностью отвергает постулат логически последовательного, рационального объяснения, которое должно детерминировать все явления, цели и моральные нормы мира. Сосредоточившись на медленном, тщательном исследовании ограниченных сфер реальности, методом проб и ошибок, конструируя, проверяя, отвергая ненужные гипотезы, наука с готовностью признаёт, что мы должны жить, осознавая, что большие сегменты опыта останутся на долгие времена, возможно навсегда, за пределами познания; конечные цели определить невозможно, и это тоже навсегда, поэтому мы должны признать, что многие ранние метафизические системы, мифические, религиозные и философские, искавшие объяснение, никогда не найдут ответа. Исходя из этого, придерживаться систем мышлений, дающих возможность или претендующих на возможность дать полное объяснение мира и места человека в нём, — детское, незрелое бегство от реальности в иллюзию и самообман.
Театр абсурда выражает страх и отчаяние, возникающие из осознания, что человек окружён непроницаемой тьмой и никогда не сможет понять свою истинную природу и цели, и никто не предложит ему готовых рецептов. Камю в «Мифе о Сизифе» говорит: «Вера в Бога, который бы придавал смысл жизни, намного притягательнее, чем осознание, что без него можно безнаказанно творить зло. Выбрать между этими альтернативами не составило бы труда. Но выбора нет, и это порождает отчаяние»11.
Однако преодолеть страх, отчаяние, отсутствие богооткровенных альтернатив можно, если быть готовым смело их встретить. Ощущение потери из-за легко рушащихся объяснений и исчезновение милых сердцу иллюзий причиняет боль до тех пор, пока сознание цепляется за сохранившиеся иллюзии. Однажды вера в них проходит, и мы должны измениться во имя новой ситуации и смело посмотреть в лицо реальности. Иллюзии заставляли нас страдать, нам трудно иметь дело с реальностью, но их утрата даёт прилив сил. Как говорил Демокрит, которого Беккет любил цитировать: «Ничто реальнее Ничего».
Противостояние трагическим условиям человеческого существования не только эквивалент философских основ науки, но и глубокий мистический опыт. Именно этот опыт, не поддающийся выражению, пустота, небытие — основа универсума, суть восточного и христианского мистического опыта. Если Лао-цзы говорит: «Нет имени тому, из чего возникли Небеса и Земля, но названа мать, которая рождает десять тысяч живых творений, каждое принадлежащее своему роду»12, то Иоанн Креститель утверждает, что духовная интуиция «не может постигнуть Бога до конца»13. То же говорит и Майстер Экхарт: «Бог жалок, наг и пуст, как будто его вовсе нет; он ничем не владеет, ничего не желает, не хочет, не делает, не понимает. …От него нет толку, словно его и нет»14. Иначе говоря, в признании невозможности понять смысл универсума, осознании тотальной трансцендентности Бога и его глобального отличия от всего, что мы можем постигнуть чувствами, кроется великая тайна обретения веселья и свободы. Это веселье возникает и от осознания, что язык и логика научной мысли не могут объективно судить о природе реальности. Поэтому такая глубокая, мистическая философия, как дзен-буддизм, отказывается от концептуальной мысли:
Отрицать реальность — значит её утверждать,
И утверждать пустоту — значит её отрицать.
Сегодня рост интереса к дзен-буддизму на Западе говорит о тех же тенденциях, которыми объясняется успех театра абсурда — поглощённость непознаваемой реальностью и признание её непостижимости только через концептуальную мысль. Проводя параллели между дзен-буддизмом и театром абсурда, цитируют Ионеско15. Методы обучения наставников дзен-буддизма, использующих такие понятий, как энергия и удары судьбы в вопросах о природе познания и сфере абсурдных проблем, соответствуют некоторым положениям театра абсурда. Такой подход к развенчиванию языка и логических форм существенно приближается к мистическому восприятию реальности, слишком сложной и унифицированной, слишком цельной части непомерно большого целого, чтобы её обоснованно выразить аналитическим методом организованного синтаксиса и концептуальной мысли. Как и мистики, театр абсурда обращается к поэтическим образам. Но если методы и образы театра абсурда аналогичны методам и образам мистицизма, можно ли рассматривать его как выражение скептицизма, раболепного отказа от объяснения абсолютных ценностей, характеризующих науку?
Ответ прост: осознание ограниченности способности человека заключить всю реальность в единую систему ценностей и осознание непостижимой и невыразимой идентичности не противоречат друг другу. За пределами рационального понимания однажды постигнутое на опыте даёт душевное равновесие и силы смело смотреть в лицо жизни. Фактически это две стороны медали: мистический опыт абсолютного различия и невозможность выразить предельную реальность есть религиозный, поэтический эквивалент рационального понимания ограниченности чувств и интеллекта человека, что заставляет его познавать мир медленно, путём проб и ошибок. Оба эти взгляда — основа противоречия в системах религиозного и идеологического мышления (марксизма), требующих исчерпывающих ответов на все вопросы о конечной цели и повседневном руководстве.
Перевод этих концепций в поэтические образы обоснован, как и концептуальная мысль, и настойчивое стремление ясно осознать функцию и возможности каждого способа не означает возврат к иррационализму; напротив, открывает путь к рациональной позиции.
Феномен театра абсурда отражает не отчаяние или возврат к тёмным иррациональным силам, но стремление современного человека принять условия мира, в котором он живёт. Театр абсурда пытается повернуть человека лицом к реальности, освободить его от иллюзий, причины слабой адаптации и разочарования. Человек испытывает чудовищный гнёт, принуждающий его смириться с потерей веры и моральных норм; ему постоянно подмешивают яд забвения через массовые представления, маленькие материальные радости, лживые оправдания жизни и дешёвую идеологию. Итог этого — «О дивный новый мир» бесчувственных, пребывающих в эйфории роботов в романе Хаксли. Сегодня, когда такие понятия, как смерть и старость, пытаются прикрыть эвфемизмами и успокоительным детским лепетом, и человеку грозит вероятность задохнуться от массового потребления гипнотической механистической вульгарности, необходимость противостоять реальности возросла, как никогда прежде. Достоинство человека в способности смело смотреть в лицо реальности во всей её бессмысленности; принимать её свободно, без страха, без иллюзий и смеяться над ней.
Поэтому драматурги абсурда, каждый сообразно своей индивидуальности, в одиночку, как Дон-Кихот, посвящают себя театру абсурда.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ПОСЛЕ АБСУРДА
Драматурги, о которых шла речь в этой книге, пришли в театр в конце 1940-х — начале 1950-х; в конце 50-х — начале 60-х они стали известны, имели успех, прочно вошли в репертуар и оказывали большое влияние на молодых драматургов.
В середине 60-х ситуация изменилась. Означало ли это, что театр абсурда изжил себя, став модой вчерашнего дня?
Несомненно, он оставался в моде. Столь же несомненно, что любые новые веяния генерируют моду среди публики, критиков и, в сущности, среди писателей. В каждую эпоху рукописи, дошедшие до издателя или театра, свидетельствуют о признании, которое кладёт начало моде. В этом нет ничего предосудительного: продвижение моды в искусстве, как и в одежде, — один из общественных механизмов, способствующих переменам. В каком-то смысле каждое художественное движение или стиль в ту или иную эпоху были признанной модой. Если это было только модой, то бесследно исчезало. Даже если оно было подлинным, расширяло восприятие, создавало новые способы выражения, порождало новый опыт, всё равно поглощалось основным течением в развитии искусства.
Так произошло с театром абсурда, который, если отбросить возникшую моду на него, бесспорно, внёс подлинный вклад в неизменный лексикон драматических правил.
Чтобы вдохнуть новую жизнь в театр, необходимы новые театральные приёмы, новые подходы к языку, характеру, сюжету, конструированию пьесы. Удивление, шок, непонимание до остановки дыхания — сильнейшие средства арсенала сцены. Но что более удивляет и поражает, насколько быстро начинают это использовать. Уже на втором спектакле «В ожидании Годо» публика не была столь шокирована, как на премьере, потому что зрители, пришедшие на второй спектакль, уже слышали о пьесе или прочли о ней в газетах. (Недаром с момента возникновения театра премьеры воспринимаются, как явление особенное.) Естественно, многие приёмы и новации драматургов абсурда уже так не поражали и не шокировали. В большинстве случаев они вошли в постоянный лексикон драматургии. Джон Осборн, работающий в другом ключе, начинает пьесу «Неподсудное дело» (1964) сценами сновидений, и публика не удивлена и не шокирована: новации театра абсурда интегрировались в мейнстрим драматургической техники. Драматурги середины 60-х научились понимать и использовать этот лексикон, как и язык эпического театра Брехта, на раннем этапе непривычного и шокировавшего.
Театр Брехта, сосредоточенный на превращении сцены в трибуну социальных исследований и экспериментов, выработал для изображения внешней реальности эффективный, фотографический иллюзионизм постнатуралистического театра; с другой стороны, абсурдисты создали лексикон и сценические условия, способные воплотить на сцене внутреннюю психологическую реальность сознания. Для знающих по опыту, что сны, грёзы наяву, фантазии, кошмары и галлюцинации — убедительная, знаменательная, внушающая страх рельность, но внешняя. Способность проникать в сновидения и фантазии другого может дать эмоциональное удовлетворение, даже катарсис.
Драматурги постбрехтовской и постабсурдистской эры имеют в распоряжении единственный в своём роде, расширенный лексикон драматургической техники. Они могут свободно использовать эти приёмы, комбинируя их по своему усмотрению наряду с традиционными
Театр абсурда не канул в Лету, не исчерпал себя, влившись в основную традицию, которую он не прерывал (что я пытался показать в этой книге) и из которой возник в особой форме и в особый, благоприятный момент.
Признанные мастера абсурда Беккет, Ионеско и Пинтер продолжают работать и исследовать новые сферы образности и содержания. Жене молчит,[64] Адамов умер. Трудно предполагать, что кто-то из драматургов, начинавших в 50-е годы, всецело подойдёт под категорию театра абсурда, как и представить, что ни один из них не испытал его влияния; однако никто из этого поколения не избежал воздействия теории или практики Брехта. В пьесе Петера Вайса «Марат/Сад» (1964) множество тонких примеров эффекта остранения, даже превзошедших Брехта. Историческая пьеса, разыгрываемая в психиатрической больнице сумасшедшими, со сценами почти романтической любви; герой этих сцен, сексуальный маньяк, которого приводят в чувство, облив холодной водой, — высшее выражение брехтовского эффекта остранения. Но в то же время в пьесе использованы фантазии и поступки психически нездоровых людей — как метафоры условий человеческого существования. Автор многим обязан Беккету, Ионеско и Жене. Стилистика пьесы восходит и к театру жестокости Арто, одного из главных вдохновителей театра абсурда. Более того, содержание «Марата/Сада» представляет спор между брехтовским и абсурдистским взглядом на мир. Революционер Марат полагает, насилие и террор необходимы, чтобы человек стал добрым, а общество справедливым. Маркиз де Сад, автор жестоких фантазий о пытках, извлёк из глубин своей личности мысль, что лишь признав собственную жестокость, человек сможет понять свою развращённость, и тогда возникнет справедливый мир без насилия. Этот путь интроспекции, скорее, путь Ионеско, чем Брехта.
О влиянии Брехта говорит и творчество Джона Ардена. Его элементы драматургии, фантазии и интроспекции восходят к театру абсурда. Ритуал изгнания политикана-преступника, превратившегося в городского козла отпущения в «Осле из работного дома» (1963), напоминает о приёмах Жене; дерево с висящим на нём трупом Армстронга в пьесе «Последнее прости Армстронга» (1965) отсылает к суровой простоте образов Беккета, а фантастическая трактовка сложной ситуации в «Лоточнике» (1975) позволяет провести интересные параллели с творчеством Ионеско.
Подобное соединение элементов эпического театра и театра абсурда характерно и для другого признанного английского постабсурдиста, Эдварда Бонда. Его «Лир» (1971) обладает эпическим охватом брехтовских пьес- парабол, но безумие Лира через материализацию его мыслей в образе сопровождающего его мёртвого мальчика — из арсенала театра абсурда.
Пьесы Тома Стоппарда явственно говорят о влиянии театра абсурда, несмотря на наличие других традиций, в частности, английской высокой комедии. В пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1966) использованы структурные элементы «В ожидании Годо». «Прыгуны» (1972) — блестящая абсурдистская клоунада, исследование добра и зла с прямым парафразом известных строк из «В ожидании Годо»: «На этом свете владелец похоронного бюро снимает цилиндр и брюхатит самых хорошеньких из присутствующих на похоронах». К этому персонаж по имени Арчи и соответственно автор пьесы добавляет: “ Wham, bam, thank you Sam” (Одним махом, спасибо, Сэм). Несомненно, пьеса многим обязана Сэмюэлю Беккету.
В Соединенных Штатах влияние театра абсурда ощущается у лучших представителей молодого поколения, из них наиболее заметны Израэл Горовиц и Сэм Шепард.
Во Франции в период относительного затишья в развитии драмы традиции абсурда продолжают два известных драматурга — Ромен Вайнгартен и Ролан Дюбилар. В немецкоязычном мире австрийский театральный авангард наследует эксперименты и новации Беккета, Ионеско и Жене. Пьеса Петера Хандке «Каспар» (1968) — один из главнейших вкладов Центральной Европы в драматургию нашего времени. Хандке — блестящий представитель критики языка, начатой абсурдистами; Вольфганг Бауэр в пьесах «Волшебный полдень» (1968), «Перемена» (1969) использует основную ситуацию «В ожидании Годо» в гротескно-сатирической сфере экзистенциальной тоски; в пьесах Томаса Бернхардта влияние Беккета проявляется в изображении уродств, смерти, болезни.
Если одни аспекты театра абсурда естественно и с упехом вошли в основную традицию, то другие способствовали негативным и деструктивным тенденциям, разрушающим традиции, и подмене её новыми и ещё неизвестными формами. Отказ от традиционных концепций сюжета и характера в театре абсурда, девальвация диалога и языка, безусловно, сыграли отрицательную роль в создании радикальных фикций или таких революционных концепций искусства за пределами театра, как хэппенинг. Ещё не наступило время окончательного вынесения приговора этим разнообразным усилиям с их потенциалом для создания новых форм искусства. Было бы глупо отвергать их сразу лишь потому, что некоторые, не все, в первых экспериментах демонстрируют наивность или непрофессионализм.
На мой взгляд, в поисках новых методов и техники в экспериментах с новыми способами выражения в наше время театр абсурда далёк от декадентства или глупого оригинальниченья, демонстрируя жизнеспособность, безграничные возможности в быстро меняющемся мире под воздействием новых технологий. В таких условиях искусство, услужливо отказывающееся от традиций и норм, выжить не может; театр как самое социальное из всех искусств немедленно откликается на перемены. Театр абсурда был выражением этих импульсов, откликом на культурные и общественные перемены эпохи. Он не мог развиваться в других жёстких условиях, и пришедшие на смену новые силы продолжают проявлять себя в многоликом, подобно Протею, авангарде.
ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА
ВВЕДЕНИЕ
1 San Quentin News, San Quentin, Calif., November 28, 1957.
2 Ibid.
3 Theatre Arts, New York, July, 1958.
4 Ibid.
5 San Quentin News, November 28, 1957.
6 Albert Camus. Le Mythe de Sisyphe. Paris: Gallimard, 1942. P. 18.
7 Eugene Ionesco. Dans les armes de la ville. Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud — Jean-Louis Barrault, Paris, No. 20, October 1957.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1 Samuel Beckett. Murphy. N.Y., Grove Press, no date. P. 269.
2 Beckett, Proust. N.Y., Grove Press, no date. P. 57.
3 Beckett, quoted by Harold Hobson. Samuel Beckett, dramatist of the year. International Theatre Annual. No. 1. London. John Calder, 1956.
4 Peggy Guggenheim. Confessions of Art Addict. London, Andre Deutsch, 1960. P. 50.
5 Beckett. Dante… Bruno. Vico… Joyce. In: Our Exagmination round his Factification for Incamination of Work in Progress. Paris, Shakespeare Co., 1929. P. 13.
6 Letters of James Joyce. Ed. Stuart Gilbert. London, Faber Faber,
1957. Pp. 280–281.
7 Proust. P. 46.
8 Ibid. P. 47.
9 Beckett. More Pricks than Kicks. London, Chatto Windus, 1934. P. 43.
10 Richard Ellmann. James Joyce. New York, Oxford University Press, 1959. P. 661.
11 Ibidem. P. 662.
12 Guggenheim. Op. cit. P. 50.
13 Ibid.
14 More Pricks than Kicks. P. 32.
15 Guggenheim. Op. cit. P. 50.
16 Niklaus Gessner. Die Unzulanglichkeit der Sprache. Zurich, Juris Verlag, 1957. P. 32.
17 Letter from Herbert Blau to members of San Francisko Actors’ Workshop, dated London, October 28, 1959.
18 Claude Mauriak. L’Litterature Contemporaine. Paris, Albin Michel,
1958. P. 83.
19 Alan Schneider. Waiting for Beckett. Chelsea Review, New York, Autumn, 1958.
20 Beckett. Waiting for Godot. London, Faber Faber, 1959. P. 41.
21 Ibid, P. 37.
22 Ibid. P. 34.
23 Gessner. Op. Cit. P. 37.
24 Waiting for Godot. P. 33.
25 Eric Bentley. What is Theatre? Boston, Beacon Press, 1956. P. 158.
26 Бальзак О. Собр. соч. в 15-ти томах. Т.14. М., ГИХЛ, 1955. С. 589. Пер. Е. Гунста.
27 Proust. Р. 2, 3.
28 Ibid. Р. 4, 5.
29 Ibid. Р. 13.
30 Waiting for Godot. P. 48.
31 Ibid. P. 88.
32 Ibid. P. 32.
33 Ibid. P. 89.
34 Ibid. P. 91.
35 Beckett. En Attendant Godot. Paris, Les Editions de Minuit, 1952. P. 30.
36 Waiting for Godot. P. 18.
37 Beckett, quoted by Harold Hobson, op. cit., and Alan Schneider, op. cit.
38 Waiting for Godot. P. 11.
39 Ibid. P. 12, 13.
40 Ibid.
41 Ibid. P. 31.
42 Ibid. P. 73, 74.
43 Ibid. P. 83, 84.
44 Ibid. P. 42.
45 Ibid. P. 10.
46 Ibid. P. 18.
47 Ibid. P. 20.
48 Ibid. P. 80.
49 Ibid. P. 34.
50 Eva Metman. Reflections on Samuel Beckett’s plays. Journal of Analytical Psychology. London, January, 1960. P. 51.
51 Waiting for Godot. P. 91.
52 Proust. P. 8 (курсив М.Э.).
53 Ibid. P. 9
54 Waiting for Godot. P. 64.
55 Ibid. P. 62, 63.
56 Jean-Paul Sartre. L’Etre etNeant. Paris, Gallimard, 1943. P. 111.
57 Beckett. Watt. Paris, Olympia Press, 1958. P. 144–145.
58 Ibid. P. 146.
59 Beckett. Endgame. N.Y., Grove Press, 1958. P. 43.
60 Ibid. P. 38.
61 Ibid. P. 14.
62 Ibid. P. 68.
63 Ibid. P. 75.
64 Ibid. P. 13.
65 Ibid. P. 56.
66 Ibid. P. 69.
68 Ibid. P. 79.
69 Ibid. P. 81.
70 Nicolai Evreinov. The Theatre of the Soul. Monodrama. Trans. M. Potapenko and C. St. John. London, 1915.
71 Endgame. P. 44.
72 Ibid. P. 1.
73 Lionel Abel. Joyce the father, Beckett the son. The New Leader. N.Y., December 14, 1959.
74 Endgame. P. 78.
75 Beckett. Fin de Partie. Paris, Les Editions de Minuit, 1957. P. 103–105.
76 Endgame. P. 79.
77 Beckett. Malone Dies. In: Molloy. Malone Dies. The Unnamable. London, John Calder, 1959. P. 193.
78 Murphy. P. 246.
79 Methman. Op. cit. P. 58.
80 Beckett. Act Without Words. In: Krapp’s Last Tape and Other Dramatic Pieces. N.Y., Grove Press, 1960.
81 Endgame. P. 57.
82 Beckett. All That Fall. In: Krapp’s Last Tape. P. 53.
83 Ibid. P. 74.
84 Ibid. P. 88.
85 Ibid. Beckett. Krapp’s Last Tape. In: Op. cit. P. 25.
86 Ibid. P. 28.
87 Beckett. Embers. In: Krapp’s Last Tape. P. 115.
88 Ibid. P. 121.
89 Ibid. P. 111.
90 Beckett. Molloy. In: Molloy / Malone Dies. The Unnamable. P. 50.
91 Beckett. Murphy. P. 40.
92 Beckett. Molloy. P. 28.
93 Beckett. The Unnamable. In: Molloy / Malone Dies. The Unnamable. P. 316.
94 Beckett. Endgame. P. 32, 33.
95 Beckett. Waiting for Godot. P. 61.
96 Becket. Endgame. P. 70.
97 Beckett. Molloy. P. 64.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1 Arthur Adamov. L’Aveu. Paris, Editions du Sagittaire, 1946. P. 19.
2 Ibid. P. 23.
3 Ibid. P. 25, 26.
4 Ibid. P. 28.
5 Ibid. P. 42.
6 Ibid. P. 45.
7 Ibid. P. 45.
8 Adamov. The endless humiliation. Evergreen Review, N.Y., II, 8,
1959. P. 64–95.
9 L’Aveu. P. 69; The endless humiliation. P. 75.
10 Carl Gustav Jung. Le Moi et L’lnconscient. Trans. Adamov. Paris, 1938.
11 L’Aveu. P. 57; The endless humiliation. P. 67.
12 L’Aveu. P. 58; The endless humiliation. P. 67.
13 L’Aveu. P. 106.
14 Ibid. P. 110.
15 Ibid. P. 114.
16 Ibid. P. 115.
17 Adamov. Une fin et un commencement. L’ Heure Nouvelle. No. II. Paris, Editions du Sagittare, 1946. P. 17.
18 Adamov. Assignation. L’Heure Nouvelle. No. I. P. 3.
19 Ibid., footnote. P. 6.
20 Une Fin et un commencement. P. 16.
21 Le Refus. L’Heure Nouvelle, No. II, footnote. P. 6.
22 Ibid.
23 Adamov. Theatre II. Paris, Gallimard, 1955. Note Preliminaire. P. 8.
24 Ibid.
25 Ibid. P. 9.
26 Adamov. La Parodie. L’Invasion. Paris, Chariot, 1950. P. 22.
27 L’Aveu. P.85; The endless humiliation. P. 85.
28 Adamov. Theatre I. Paris, Gallimard, 1953. P. 86.
29 Ibid. P. 94.
30 La Parodie. L’Invasion. P. 16.
31 Ibid.
32 Adamov. In: Carlos Lynes, Jr. Adamov or le “sens litteral” in the theatre. Yale French Studies, No.14, Winter 1954, 1955.
33 Theatre I. P. 107.
34 La Parodie. L’Invasion. P. 22.
35 Ibid. P. 23.
36 Theatre II. P. 11.
37 Ibid. P. 12.
38 Ibid. P. 13.
39 Ibid. P. 12
40 Maurice Regnaut. Arthur Adamov et le sens du fetichisme. Cahiers Renaud-Barrault. Paris. Nos. 22, 23. May, 1958.
41 Theatre II. P. 14.
42 Adamov. As We Were. Trans. R. Howard. Evergreen Review, I, 4,
1957.
43 Theatre II. P. 15.
44 Ibid. P. 15.
45 Ibid. P. 17.
46 Theatre I. P. 136.
47 Qui Stes-vous Arthur Adamov? Cite Panorama. (Programme bulletin of Planchon’s Theatre de la Cit6), Villeurbanne, No. 9, 1960.
48 Theatre de Societe. Scenes d’Actualite. Paris, Les Editeurs Francais Reunis, 1958.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1 Kenneth Tynan. Ionesco, man of destiny? The Observer, London, June 22, 1958.
2 Ionesco. The playwright’s role. The Observer, June 29, 1958.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Tynan. Ionesco and the phantom. The Observer, July 6, 1958.
6 Ionesco. Le coeur n’est pas sur la main. Cahiers des Saisons. Paris, No. 15, Winter 1959.
7 Ibid.
8 Ionesco. Lorsque j’ecris… Cahiers des Saisons. Paris, No. 15.
9 Ionesco. Experience du theatre. Nouvelle Revue Fran^aiose, Paris, Febriary 1, 1958. P. 253.
10 Ionesco. Printemps 1939. Les debris du souvenir. Pages de jounal. Cahiers Renaud-Barrault, No. 29, 1960. P. 104.
11 Ibid. P. 108.
12 Lorsque j’ecris…
13 Printemps 1939. Op. cit. P.98.
14 Ibid. P. 103.
15 Experience du theatre. Op. cit. P. 247.
16 Ibid. P. 253.
17 Lutembi. Contribution a une etude des sources de la Cantatrice Chauve. Cahiers du College de Pataphysique, 8–9, 1953.
18 Ionesco. La tragedie du langage. Spectacles, Paris, No. 2, July,
1958.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Nicolas Bataille. La bataille de la Cantatrice. Cahiers des Saisons, No. 15.
22 Experience du theatre. Op. cit. P. 258.
23 Ibid. P. 258, 259.
24 The Observer, July 14, 1958.
25 Experience du theatre. Op. cit.. P. 268.
26 Ionesco. The world of Ionesco. International Theatre Annual. No. 2. London, Calder, 1957.
27 Ionesco. The tragedy of language. The Tulane Drama Review, Spring, 1960.
28 Ionesco. Le point du depart. Cahiers des Quatre Saisons. Paris, No. 1. August 1955.
29 Ionesco. Preface to Les Possddes, adapted from Dostoevski by Akakia Viala and Nicolas Bataille. Paris, Editions Emile-Paul, 1959.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Jacques Lemarchand. Preface to Ionesco. Theatre I. Paris, 1954.
33 Touchard P. A. La loi du theatre. Cahiers des Saisons, No. 15.
34 Letter from Ionesco to Sylvain Dhomme, quoted by F. Towamicki. Des Chaises vides… a Broadway. Spectacles, Paris, No. 2, July, 1958.
35 J. Anouilh. Du chapitre des Chaises, Figaro, Paris, April 23, 1956.
36 Ionesco. Victims of Duty. In: Plays, vol. II, London, Calder; N.Y., Grove Press, 1958. P. 119.
37 Ibid. P. 158, 159.
38 Ibid. P. 162.
39 Ibid. P. 159.
40 Sartre. L’Etre et le Neant. Paris: Gallimard, 1943. P. 60.
41 Ibid. P. 85.
42 S. Doubrovsky. Le rire d’Eugene Ionesco. Nouvelle Revue Franijaise. Febriary, 1960.
43 Ibid.
44 Le point du depart.
45 Ibid.
46 Ionesco. Theatre I. Paris: Arcanes. 1953. Trans. Sasha Moorsom. The Motor Show. In: 3 Arts Quarterly. London, No. 2, Summer, 1960.
47 Ionesco. La Jeune Fille a Marier. In: Theatre II. Trans. Donald Watson. In: Plays, vol. III. London, Calder; N.Y., Grove Press, 1960. P. 158.
48 Ionesco. Le Maitre. In: Theatre II. Trans. Derek Prouse. The Leader. In: Plays, vol. IV. London, Calder; N.Y., Grove Press, 1960.
49 Ionesco. Interview. L’Express. January 28, 1960.
50 Ionesco. Amcdee. Trans. Donald Watson. In: Plays, vol. II. London, Calder: N.E., Grove Press, 1958. P. 8.
51 Ibid. P. 48.
52 Ibid. P. 52, 53.
53 Ibid. P. 62.
54 lonesko. Oriflamme. Nouvelle Revue Francaise, Febriary, 1954.
55 Ibid.
56 Ionesco. Le Tableau. Dossiers Acenonctes du College de Pata- physique, No.l, 1958. P. 44.
57 Ibid. P. 5.
58 Ibid.
59 Eugene Ionesco ouvre le feu. World Theatre, Paris, VIII, 3, Autumn, 1960.
60 Ionesco. Pages de journal. Nouvelle Revue Frangese, February, 1960.
61 Eugene Ionesco ouvre le feu.
62 Ionesco. Improvisation. Trans. Donald Watson. In: Plays, vol. III. London, Calder; N.Y., Grove Press, 1960. P. 112, 113
63 Ibid. P. 113, 114.
64 Ibid. P. 149, 150.
65 Theatre Populaire, Paris, No. 17, March 1, 1956. P. 77.
66 Sam White. Paris Newsletter. Evening Standard, London, May 24,
1957.
67 Ionesco. Impromptu pour la Duchesse de Windsor. Manuscript. P. 6, 7.
68 Trans. Stanley Read. Evergreen Review, I, 3, 1957.
69 The Killer. Op. cit. P. 9.
70 New York Times, April 3, 1960.
71 Cahiers du College de Pataphysique, Dossier 7, 1959.
72 Ionesco. Interview with Claude Sarraute. Le Mond, Janiary 17, 1960.
73 The Times. London, April 29, 1960.
74 Cahiers du College de Pataphysique, Dossiers 10,11, 1960.
75 Cahiers du College de Pataphysique, Dossier 7, 1959; also in: L’Avant-Scene, December 15, 1959. Trans. Donald Allen, Foursome, Evergreen Review, No. 13, May, June, 1960.
76 Printems 1939. Op.cit. P. 98.
77 Preface to Les Possedes.
78 Experience du theatre. Op. cit P. 268.
79 Ionesco. La demistification par l’humour noir. L’Avant-Scene. February 15, 1959.
80 Experience du theatre. Op. cit. P. 270.
81 The world of Ionesco.
82 Interview in L’Express. January 28, 1960.
83 Ibid.
84 Ionesco. Theatre et anti-theatre. Cahiers des Saisons, No. 2, October, 1955.
85 Pages de journal. Op.cit. P. 231.
86 Experience du theatre. Op. cit. P. 262.
87 Ibid.
88 Ibid.
89 Ibid. P. 260.
90 La demystification par l’humour noir.
91 Alain Bosquet. Le theatre d’Eugene Ionesco, ou les 36 recettes du comique. Combat, Paris, Febriary 17, 1955.
92 Ехрёпепсе du theatre. Op. cit. P.264.
93 Ionesco, quoted by Towamicki. Spectacles.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1 Jean Genet. Journal du Voleur. Paris, Gallimard, 1949. P. 282.
2 Ibid. P. 47.
3 Ibid. P. 48.
4 Ibid. P. 92.
5 Ibid. P. 131.
6 Sartre. Saint Genet, Comddien et Martyr. Paris, Gallimard, 1952. P. 397.
7 Ibid. P. 421.
8 Journal du Voleur. P. 283.
9 Saint Genet. P. 501.
10 Journal du Voleur. P. 47.
11 Ibid. P. 93.
12 Genet. Deathwatch. In: The Maids-Deathwatch. Trans. Bernard Frechtman. N.Y., Grove Press, 1954. P. 128.
13 Ibid. P. 103, 104.
14 The Maids. P. 61.
15 Ibid. P. 86.
16 Genet. Notre-Dame-des-Fleurs. In: (Euvres Completes. Vol. II. Paris, Gallimard, 1951. P. 119.
17 Genet. Letter to Pauvert. In: Genet. Les Bonnes — L’Atelier d'Alberto Giacometti. Decines [Isere], L’Arbalete, 1958. P. 145, 146.
18 Ibid. P. 147.
19 Saint Genet. P. 9.
20 Sartre. Introduction to The Maids-Deathwatch. P. 30.
21 Genet. Letter to Pauvert. P. 144.
22 Ibid.
23 Ibid. P. 142.
24 The News Chronicle. London, April 23, 1957.
25 The News Chronicle. London, April 24, 1957.
26 The New Statesman. London, May 4, 1957.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Picture Post. London, May 11, 1957.
30 Genet. The Blacks. Trans. Bernard Frechtman. N.Y., Grove Press,
1960. P. 11.
31 Ibid. P. 39.
32 Ibid. P. 127.
33 Ibid. P. 22.
34 Ibid. P. 10.
35 Ibid. P. 47.
36 Ibid. P. 44.
37 Saint Genet. P. 535.
38 Ibid. P. 388.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1 Harold Pinter. Interview with Kenneth Tynan. BBC, Home Service,
28 October 1960.
2 Pinter. Interview with Hallam Tennyson. BBC, General Overseas Service, 7 August 1960.
3 Pinter. Interview with Tynan.
4 Pinter. The Room. In: The Birthday Party and Other Plays. London, Methuen, 1960. P. 102.
5 Ibid. P. 103.
6 Ibid. P. 118.
7 Pinter. The Dumb Waiter. In: The Birthday Party and Other Plays. P. 150.
8 Ibid.
9 Ibid. P. 23.
10 Ibid. P. 54, 55.
11 Pinter. Interview with Tynan.
12 Pinter. Interview with Tennyson.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Programme note for performance of The Room and The Dumb Waiter. Royal Court Theatre, London, March 1960.
16 Pinter. Interview with Tynan.
17 Pinter. A Slight Ache. In: Tomorrow, Oxford. No. 4, 1960. Also in: A Slight Ache and Other Plays. London, Methuen, 1961.
18 Pinter. The Caretaker. London, Methuen, 1960. P. 77.
19 Pinter. Interview with Tynan.
20 Sunday Times, London, 14 August, 1960.
21 The Caretaker. P. 63.
21 Ibid. P. 25.
22 Ibid. P. 60.
23 Pinter. The Dwarfs. In: A Slight Ache and Other Plays. London, Methuen, 1961. P. 116.
24 Ibid. P. 99.
25 Ibid. P. 111.
26 Pinter. Interview with Tynan.
27 Ibid.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1 Jean Tardieu. Theatre de Chambre. Paris, Gallimard, 1955. P. 10.
2 Ibid. P. 14.
3 Ibid. P. 23.
4 Tardieu. Theatre II. Poemes a Jouer. Paris, Gallimard, 1960. P. 163.
5 Ibid. P. 240–241.
6 Ibid.
7 Boris Vian. Les Batisseurs d'Empire. Paris, L'Arche, 1959. P. 8.
8 Dino Buzzati. Un Caso Clinico. Milan, Mondadori, 1953. P. 182.
9 Ezio d'Errico. La Foresta. In: II Dramma, Turin, no. 278, November.
1959. P. 9.
10 See Pallottino. The Etruscans. Penguin Books, 1953. P. 246.
11 Manuel de Pedrolo. Cruma. In: Premi Joan Santamaria 1957. Barcelona, Editorial Nereida, 1958. P. 14.
12 De Pedrolo. Homes i No. In: Quadems de Teatre A.D.B. Barselona, No.2, 1960. P. 24.
13 Fernando Arrabal. Theatre. Paris, Julliard, 1958. P. 13, 14.
14 Ibid. P. 152.
15 Max Frisch. Biedermann und die Brandstifter. Berlin and Frankfurt, Suhrkamp, 1958. P. 78.
16 Ibid. P. 20.
17 Wolfgang Hildesheimer. Erlanger Rede iiber das absurde Theater. Akzentle, Munich, No. 6, 1960.
18 Ibid.
19 Gunter Grass. Die Bosen Koche. Stage ms. P. 101.
20 N. F. Simpson. A Resounding Tinkle. In: New English Dramatists 2. Penguin Books, 1960. P. 81.
21 A Resounding Tinkle (short version). In: The Hole and Other Plays and Sketches. London, Faber and Faber, 1964. P. 88.
22 A Resounding Tinkle. In: New English Dramatists 2, P. 99.
23 Ibid. P. 100.
24 Ibid.
25 Ibid. P. 130.
26 Ibid. P. 140.
27 Simpson, quoted by Penelope Gilliatt. Schoolmaster from Battersea. Manchester Guardian, 14 April 1960.
28 Simpson, quoted in Daily Mail, 25 February 1960.
29 A Resounding Tinkle (short version). P. 87, 88.
30 Simpson. The Hole and Other Plays and Sketches. P. 11.
31 Simpson. Interview BBC. General Overseas Service, 6 March 1960.
32 Simpson. One Way Pendulum. London, Faber and Faber, 1960. P. 50.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1 William Hazlitt. The Indian Jugglers. Table Talk. London and New York, Everyman’s Library. P. 78.
2 Friedrich Nietzsche. Die Geburt der Tragodie. In: Werke, vol. 1, ed. Schlechta. Munich, Hanser, 1955. P. 94.
3 Hermann Reich. Der Mimus. Vol. 1. Berlin, 1903. P. 459.
4 Ibid.
5 Ibid. P. 595, 596.
6 E. Tietze-Conrat. Dwarfs and Jesters in Art. London, Phaidon, 1957. P. 7.
7 Joseph Gregor. Weltgeschichte des Theaters. Vienna, Phaidon, 1933. P. 212.
8 Max Beerbohm. Around Theatres. London, Rupert Hart-Davis, 1953. P. 350.
9 Quoted by Colin Mclnnes. Spectator. London, 23 December 1960.
10 Ionesco. The Chairs. P. 115.
11 Time. N.Y., 12 December 1960.
12 Johann Nestroy. Judith und Holofemes, scene 3. Sammliche Werke, vol. IV, ed. Brukner and Rommel. Vienna, Schroll. P. 167.
13 Georg Buchner. Leonce und Lena. Act II, scene 2.
14 Freud. Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (1905), paperback edition. Frankfurt, Fisher, 1958. P. 101.
15 Robert Benayoun. Anthologie du Nonsense. Paris, Pauvert, 1957. P. 36.
16 Richard Corbet. Epilogus incerti authoris. In: Comic and Curious Verse, ed. J. M. Cohen. Pehguin Books, 1952. P. 217.
17 Elizabeth Sewell. The Field of Nonsense. London, Chatto and Windus, 1952. P. 128.
18 Christian Morgenstern. Der Lattenzaun. Trans. R.F.C. Hull. In: More Comic and Curious Verse. Ed. J. M. Cohen. Penguin Books, 1956. P. 49.
19 Morgenstern. Das Butterbrotpapier. Trans. A. E. Eitzen. Das Mondschaft. Wiesbaden, Insel, 1953. P. 19.
20 Morgenstern. Das Grosse Lalula. Alle Galgenlieder. Wiesbaden, Insel, 1950. P. 23.
21 Mircea Eliade. Myths, Dreams and Mysteries. London, Harvill Press, 1960. P. 27.
22 Ionesco. Lorsque j’ecrid. Cahiers des Saisons, Paris, no.15, Winter
1959. P. 211.
23 August Strindberg. A Dream Play. In: Six Plays of Strindberg. Trans. Sylvia Sprigge. N.Y., Doubleday Anchor Books, 1955. P. 193.
24 James Joys. Ulysses in Nighttown. Adapted by Marjorie Barkentin under supervision of Padraic Colum; first perf. New York, 5 June 1958 (N.Y., Random House Modem Library Paperbacks, 1958. Also Bloomsday, another dramatization of Ulysses, by Alan MacClelland.
25 Ionesco. Dans les armes de la ville. Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud — Jean-Louis Barrault. Paris, No. 20, October 1957. P. 4.
26 Quoted by Andre Franck. II у a dixans… Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault. No. 20, October 1957. P. 35.
27 Stephane Mallarme. Richard Wagner, reverie d’un poete frangais. In: CEuvres. Paris, Pleiade, 1945. P. 544–545
28 Alfred Jarry. Questions de theatre. In: Ubu Roi. Lausanne, Henri Kaeser, 1948. P. 158.
29 Arthur Symons. Studies in Seven Arts. Quoted in Roger Shattuck. The Banquet Years. London, Faber and Faber, 1959. P. 161.
30 W. B. Yeats. Autobiographies. London, Macmillan, 1955. P. 348, 349.
31 Mallarme. Undated letter to Jarry. In: Mallarme. Propos sur la Poesie. Ed. H. Mondor, quoted in J. Robichez. Le Symbolisme au Theatre. Paris, L’Arche, 1957. P. 359, 360.
32 Henri Gheon. L’Art du Theatre. Montreal, Editions Serge, 1944. P. 149.
33 Jarry. Gestes et Opinions du Docteur Faustroll. Paris, Fasquelle,
1955. P. 32. Trans. In: Evergreen Review, N.Y., no. 13, 1960. P. 131
34 Guillaume Apollinaire. Preface to Les Mamelles de Tiresias. In: CEuvres Poetiques. Paris, Pleiade, 1956. P. 865, 866.
35 Ibid. P. 868.
36 Ibid. P. 882.
37 Shattuck. Op. cit. P. 161.
38 Hugo Ball. Dada Tagebuch. In: Arp/Huelsenbeck/Tzara. Die Geburt des Dada. Zurich, Arche, 1957. P. 117.
39 Ibid. P. 139.
40 Oskar Kokoschka. Sphinx und Strohmann. In: Schriften 1907–1955. Munich, Albert Langen, 1956. P. 167.
41 Tristan Tzara. Chronique Zurichoise. In: Die Geburt des Dada. P. 173.
42 Georges Ribemont-Dessaignes. Deja Jadis. Paris, Julliard, 1958.
43 Tzara. Premiere Aventure Celeste de M. Antipyrine. Collection Dada. Ziirich, 1916. Extract in Tzara. Morceaux Choisis. Paris, Bordas, 1947.
44 Ribemont-Dessaignes. Op.cit. P. 73.
45 Tzara. Le Coeur a Gaz. Paris, GLM, 1946. P. 8.
46 Ribemont-Dessaignes. L’Empereur de Chine, suivi de Le Serin Muet. Paris, Sans Pareil, Collection Dada, 1971. P. 127.
47 Yvan Goll. Autobiographical Note. In: K. Pinthus. Menschhe- itsdammerung. Berlin, Rowohlt, 1920. P. 292.
48 Goll. Preface to Die Unsterblichen. In: Dichtungen. Neuwied, Luchterhand, 1960. P. 64.
49 Ibid. P. 64, 65.
50 Ibid. P. 65.
51 Goll. Methusalem. In: Schrei und Bekenntnis. Ed. K. Otten. Neuwied, Luchterhand, 1959. P. 426, 427.
52 Bertolt Brechr. In Dickicht der Stadte. In: Stiicke I. Frankfurt, Suhrkamp, 1953. P. 291, 292.
53 Roger Vitrac. Les Mystferes de Г Amour. In: Theatre II. Paris, Gallimard, 1948. P. 56.
54 Vitrac. Victor, ou Les Enfants au Pouvoir. In: Theatre I. Paris, Gallimard, 1946. P. 90.
55 Antonin Artaud. The Theatre and its Double. Trans. Mary Caroline Richards. N.Y., Grove Press, 1958. P. 7.
56 Ibid. P. 42.
57 Ibid. P. 85.
58 Ibid. P. 28.
59 Ibid. P. 93.
60 Ibid. P. 37.
61 Ibid. P. 71.
62 Ibid. P. 73.
63 Ibid. P. 78.
64 Ibid. P. 110, 111.
65 Ionesco. Pour Cocteau. Cahiers des Saisons. No. 12, October 1957.
66 J. H. Sainmont, H. Robillot,A. Templenul. Introduction to J. Torma. Le Betrou. Paris. College de Pataphysique, year 83 of the pataphysical era
1956. P. 14.
67 Torma. Euphorismes. Paris, 1926. P. 37.
68 Ibid. P. 39.
69 Ibid.
70 Beckett/Georges Duthuit/Jacques Putman. Bram van Velde. N.Y., Grove Press, 1960.
71 R. Penrose. Picasso: His Life and Work. London, Gollancz, 1955. P. 335.
Bentley E. Notes to him. In: From the Modem Repertoire, series II. Indian University Press, 1957. P. 478.
73 E. E. Cummings, quoted by Bentley. Op. cit. P. 487.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1 Nietzsche. Also Sprach Zarathustra. In: Werke, vol. II. Munich, Hanser, 1955. P. 279.
2 Camus. Le Mythe de Sisyphe. Paris, Gallimard, 1942. P. 29.
3 George Steiner. The retreat from the word. I, Listener, London,
14 July 196o.
4 Ibid. II, op. cit., 21 July 1960.
5 Ludwig Wittgenstein. Philosophical Investigations. I. Oxford, Blackwell, 1958. P. 48, 48-e.
6 Ionesco. Ni un dieu, ni un demon. Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud — Jean-Louis Barrault, Paris, nos. 22, 23, May 1958. P. 131.
7 Eva Metman. Reflections on Samuel Beckett’s plays. Journal of Analitical Psychology. London, Janiary 1960. P. 43.
8 Ibid.
9 Jung. Ulysses. Quoted by Metman. Op. cit. P. 53.
10 Ionesco. Experience du theatre. Nouvelle Revue Frangaise. Paris, 1. February 1958. P. 226.
11 Le Mythe de Sisyphe. P. 94.
12 Lao-tzu, quoted in Aldous Huxley. The Perennial Philosophy. London, Chatto and Windus, 1946. P. 33.
13 St. John of the Cross, quoted in Huxley. Op. cit.
14 Meister Eckhart, quoted, in Huxley. Op. cit.
15 Ionesco, quoted in Towanicki. Spectacles, Paris, No. 2, July 1958.
BIBLIOGRAPHY
I. THE DRAMATISTS OF THE ABSURD
ADAMOV, ARTHUR PLAYS
Thiatre, 4 vok, Paris: Gallimard, vol. I, 1953, vol. П, 1955, voL Ш, 1966, vol. IV, 1968.
Vol. I contains: La Parodie, L’Invasion, La Grande et la Petite Manxuvre, Le Projesseur Taranne, Tous Contre Tous. (Le Pro- fesseur Taranne tram, by A. Bermel in Four Modem French Comedies, New York: Capricorn Press, i960; by Peter Meyer in Absurd Drama, Harmondsworth: Penguin Boob, 1965)
Vol. П contains: Le Sens de la Marche, Les Retrouvailles, Le Ping- Pong. (Le Ping-Pong trans. by Richard Howard, New York: Grove Press, 1959)
Vol. Ш contains: Paolo Paoli, La Politique des Restes, Sainte Europe Vol. IV contains: M. le MSdtrt, Le Printemps '71
Separately published plays
La Parodie, L’Invasion, pricidies d’une lettre d’Andri Gide, et de tfmoign- ages de Rent Char, Jacques Privert, Henri Thomas, Jacques Lemar- chand,Jean Vilar, Roger Blin, Paris: Chariot, 1950 Paolo Paoli, Paris: Gallimard 1957 (English trans. by Geoffrey Brereton, London: Calder, 1959)
Les Ames Mortes, d’aprh le роете de Nicolas Gogol, Paris: Gallimard,
i960
Comme Nous AvonsEM, Paris: Nouvelle Revue Franfaise, March 1953 (trans. by Richard Howard, As We Were, New York: Evergreen Review, I, 4, 1957)
Theatre de Sociiti. Seines d'Actualiti, Paris: Les Editeurs Franpiis Reunis, 1958, contains three short sketches by Adamov: IntimiU, Je ne Sub pas Francois, La Complainte du Ridicule.
En Fiacre (radio play), unpublished ms., 1939 Le Printemps ’71, Paris: Gallimard, 1961
Si ГЁ1ё Revenait, Paris: Gallimard, 1970
BIBLIOGRAPHY
OTHER WRITINGS
L’Aveu, Paris: Sagittaire, 1946 (one section of this autobiographical confession tram, by Richard Howard, ‘The endless humiliation New York: Evergreen Review, П, 8, 1959)
'Assignation', Paris: L’Heure Nouvelle, no. П, 1945 ‘Le Rejus’, Paris: L’Heure Nouvelle, no. П, 1946 Auguste Strindberg, Dramaturge, Paris: VArche, 1955
* Thiatre, argent et politique’, Paris: Thitre Populaire, no. 17, 1956 ‘Parce que je I’ai beaucoup aimi. (on Artaud), Paris: Cahiers de la Compagnie M. Renaud — J.-L Barrault, nos. 22-3, May 1958 Anthologie de la Commune (ed. Adamov), Paris: Editions Sodales, 1959 Id et Maintenant (collected essays), Paris: Gallimard, 1964 L’Homme et I’Enfant (diaries), Paris: Gallimard, 1968 Je … Ils (reissue of L’Aveu and new memoirs), Paris: Gallimard,
1969
TRANSLATIONS BY ADAMOV
rilke, LeLivre de la Pauvretdet de la Mart, Algiers: 1941 buchner, Thitre Complet, trans. by Adamov and Marthe Robert dostoevsky, Crime et ChStiment JUNG, Le Moi et Tlnconsdent, Paris: 1938 GOGOL, Les Ames Mortes, Lausanne: La Guilde du Livre chekhov, L’Esprit des Bois, Paris: Gallimard (in the series ‘Le Manteau d’Arlequin’) chekhov, Thtre, Paris: Club Franpiis da Livre Strindberg, Le Pelican, Paris: ThiStre Populaire, no. 17,1956 Strindberg, Pbe, Paris: VArche, 1958 kleist, La Cruche Cassie, Paris: Thiatre Populaire, no. 6,1954 Gorki, ThiStre, Paris: L’Arche
ON ADAMOV
gaudy, RENi, Arthur Adamov, Paris: Stock, 1971 lynes, carlos, jr, ‘Adamov or “le sens httdral” in the theatre’, Yak French Studies, no. 14, Winter 1954-5 regnaut, maurice, ‘Arthur Adamov et le sens du fitichisme', Paris: Cahiers de la Compagnie M. Renaud — J.-L. Barrault, nos. 22-3, May
1958
BIBLIOGRAPHY
ALBEE, EDWARD The Zoo Story (written 1958), New York: Evergreen Review, no. 12, March-April i960; also in Absurd Drama, Harmondsworth: Penguin Boob, 1965 The American Dream, A play, New York: Coward-McCann, 1961; London: Cape, 1962; also in New American Drama, Harmondsworth: Penguin Books, 1966 The Zoo Story, The Sandbox, The Death of Bessie Smith, published in one volume, New York: Co war d-McCann, i960 Who’s Afraid of Virginia Woolfi A play, New York: Atheneum, 1963; London: Cape, 1964; Harmondsworth: Penguin Books,
1965
Tiny Alice, London: Cape, 1966 A Delicate Balance, London: Cape, 1968
Box and Quotations from Chairman Mao Tse-tung, New York: Atheneum, 1969 All Over, New York, Atheneum, 1971 Seascape, London: Cape, 1976
ON ALBBB
bigsby, c. w. e., Albee, Edinburgh: Oliver Boyd. 1969 cohn, ruby, Edward Albee, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1969
kbrjean, LILIANS, Albee, Paris: Seghers, 1971 kerjean, lilianb, Le Thtre d’Edward Albee, Paris: lCttnrfafoA,
1978
ARRABAL, FERNANDO ThiStre, Paris: Christian Bourgois, 12 vols.
VoL I contains: Oraison, Les Deux Bourreaux, Fando et Lis, Le Cimetihe des Voitures VoL П contains: Guernica, Le Labyrinthe, Le Tricycle, Pique-nique en Campagne, La Bicyclette du Condamni VoL Ш contains: Le Grand CMmonial, Cirimonie pom un Not Assassini
VoL IV contains: Le Couronnement, Concert dans un CEuf VoL V (Theatre Panique) contains: ThiStre Panique, L’Architecte et L’Empeteur d’Assyrie
БИБЛИОГРАФИЯ
BIBLIOGRAPHY
VoL VI contains: Le Jardin des Dilices, BestialiU trotique, Une Tortue Nommie Dostoievski VoL VII (Theatre de guerilla) contains: Et Us Passbent des Menottes aux Fleurs, L’Attrore Rouge et Noire Vol. VTn (Deux opas paniques) contains: Ars Amandi, Dieu TenU par les Mathbnatiques Vol. IX contains: Le Ciel et la Merde, La Grande Revue du XXe Stick
VoL X contains: Bella Ciao, La Guerre de Mille Arts VoL XIcontains: Ld Tour de Babel, La Marche Royak, Une Orange sur к Mont de Vfaus, La Gloire en Images Vol. ХП contains: Vole-moi un Petit Millard, Le Pastaga des Loups ou Ouverture Orang-Outan, Punk et Punk et CoUgram Plays not included in the collected Theatre: Sur к Fil, Jeunes Bar- bares d’Aujourd’hui
ON ARRABAL
Gille, Bernard, Fernando Arrabal, Paris: Seghers, 1970 morrissbtt, ann, ‘Dialogue with Arrabal’, New York: Evergreen Review, no. ij, November-December i960 schiirbs, alaih, Entretiens avec Arrabal, Paris: Pierre Belfond, 1969 sbrreau, Genevieve, ‘Un nouveau style comique: Arrabal’, Paris: Les Lettres Nouvelks, no. 65, November 1958 (trans. New York: Evergreen Review, no. 15, November-December i960)
BECKETT, SAMUEL PLAYS
En Attendant Godot, Paris: Editions de Minuit, 195a (trans. by author, Waiting for Godot — U.S. edition, New York: Grove Press, 1954; English edition, London: Faber Faber, 1955)
Fin de Partie, suivi de Acte Sans Paroles, Paris: Editions de Minuit, 1957 (trans. by author, Endgame, followed by Act Without Words — U.S. edition, New York: Grove Press, 1958; English edition, London: Faber Faber, 1958)
All That Fall, London: Faber Faber, 1957 [U.S. edition, see below]
BIBLIOGRAPHY
Krapp’s Last Tape and Embers, London: Faber Faber, 19J9 Krapp’s Last Tape and Other Dramatic Pieces, New York: Grove Press, i960, contains Krapp’s Last Tape, All That Fall, Embers, Act Without Words I, Act Without Words II Happy Days, New York: Grove Press, 1961 (trans. by author, Oh les Beaux Jours, Paris: Editions de Minuit, 1963)
Play and Two Short Pieces for Radio, London: Faber Faber, 1964, contains: Play, Words and Music, Cascando (trans. by author) Comidie et Actes Divers, Paris: Editions de Minuit, 1966, contains: Comidie (Play trans. by author); Va et Vient, Dramaticule (Come and Go trans. by author); Cascando, Piice radiophoniquepour musique et voix; Paroles et Musique, Piece radiophonique (Words and Music trans. by author); Dis Joe, Piece pour la tiUvision (Eh Joe trans. by author); Acte Sans Paroles II, pour deux personnages et un aiguillon (Act Without Words II trans. by author)
Come and Go (English original) first published in Samuel Beckett, Aus einem aufgegebenen Werk und kurze Spiele (a collection of short prose works and plays in the original language and German trans.), Frankfurt: Suhrkamp, 1966 (no. 145 in ‘Edition Suhrkamp'); separate publication, London: Calder Boyars, 1967 Eh Joe and Other Writings, London: Faber Faber, 1967, contains Eh Joe, Act Without Words II, Film Breath and Other Shorts, London: Faber Faber, 1971, contains: Breath, Come and Go, Act Without Words I, Act Without Words II, From an Abandoned Work Not I, London: Faber Faber, 197З Footfalls, London: Faber Faber, 1976 That Time, London: Faber Faber, 1976
End and Odds. Plays and Sketches, London: Faber Faber, 1977. contains: Not I, That Time, Footfalls, Ghost Trio,… but the clouds …, Theatre I, Theatre II, Radio I, Radio II Film. Complete Scenario; Illustrations; Production shots, New York: Grove Press, 1969
NARRATIVE PROSE
More Pricks than Kicks, London: Chatto Windus, 1934; one story, ‘Dante and the lobster’, New York: Evergreen Review, I, I
BIBLIOGRAPHY
Murphy, London: Roudedge, 1938; new edition, New York: Grove Press, n.d.
Watt, Paris: Olympia Press, 1958 Molby, Paris: Editions de Minuit, 1951 Malone Meurt, Paris: Editions de Minuit, 1951 L’Innommable, Paris: Editions de Minuit, 1953 Three Novels, London: Calder, 1959. contains: Molloy, trans. by Patrick Bowles, Malone Dies and The Uniumable, trans. by author Nouvelles et Textes pour Riot, Paris: Editions de Minuit, 1955 (a story trans. by Richard Seaver and author, ‘The end’, New York: Evergreen Review, no. 15, November-December i960)
Text for Nothing I, trans. by author, New York: Evergreen Review, no. 9, Summer 1959 From an Abandoned Work, London: Faber Faber, 1957; New York: Evergreen Review, I, 3, 1957 Comment C’Est, Paris: Editions de Minuit, 1961 (trans. by author, How It Is, New York: Grove Press, 1964; London: Calder, 1964); an extract from an earlier version of this novel, ‘L’image’, London: X, no. 1, November 1959 (another extract trans. by author, ‘From an unabandoned work’, New York: Evergreen Review, no.
14, September-October i960)
Imagination Morte Imaginez, Paris: Editions de Minuit, 196J (trans.
by author, Imagination Dead Imagine, London: Calder, 1965) assez, Paris: Editions de Minuit, 1966 bing, Paris: Editions de Minuit, 1966
No's Knife, Collected Shorter Prose 1947–1966, London: Calder Boyars, 1967, contains: Stories, Texts fir Nothing, From an Abandoned Work, Enough, Imagination Dead Imagine, Ping Premier Amour, Paris: Editions de Minuit, 1970 Le Dipeupleur, Paris: Editions de Minuit, 1970 (trans. by author, The Lost Ones, London: Calder Boyars, 1972)
VERSE
Whoroscope, Paris: The Hours Press, 1930 Echo’s Bones, Paris: Europe Press, 1935 ‘ Trois poemes’, Paris: Cahiers des Saisons, no. 2, October 1955 Poems in English, London: Calder, 1961
BIBLIOGRAPHY
Gedichte (bilingual edition of Echo’s Bones followed by other poems in English and French, with German parallel translation), Wiesbaden: Limes, 1959
ESSAYS
Proust, London: Chatto Windus, 1931 (Dolphin series); reprinted New York: Grove Press, n.d.
Proust, Three Dialogues, London: Calder, 1965 ‘Dante … Bruno. Vico … Joyce’, in Our Exagmination round his Factification for Incamination of Work in Progress, Paris: Shakespeare
Co., 1929 Bram van Velde, New York: Grove Press, i960
ON BECKETT
abel, lionel, ‘Joyce the father, Beckett the son’, New York: The New Leader, 14 December 1959 BENXLBY, eric, What is Theatre? Boston: Beacon Press, 1956 calder, john (ed.), Beckett at Sixty (essays by 24 contributors), London: Calder Boyars, 1967 COE, richard n., Beckett, Edinburgh and London: Oliver Boyd, 1964 (in the series ‘ Writers and Critics’) cohn, ruby, Samuel Beckett: The Comic Gamut, New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1962
— Back to Beckett, Princeton, N. J.: Princeton University Press,
1973
— (ed.), Samuel Beckett. A Collection of Criticism, New York:
McGraw-Hill, 1975
— Play Beckett, Princeton, N.J.: Princeton University Press,
1979
ellman, richard, James Joyce, New York and London: Oxford University Press, 1959 esslin, martin, ‘Samuel Beckett’, in The Novelist as Philosopher, ed. John Cruickshank, London: Oxford University Press, 1962 esslin, martin (ed.), Samuel Beckett, A Collection of Critical Essays, Englewood Clifis, N.J.: Prentice-Hall, 1965 (in the series ‘Twentieth-Century Views ’) pederman, Raymond, Journey to Chaos, Samuel Beckett’s Early
BIBLIOGRAPHY
Fiction, Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
1965
federman, Raymond and FLETCHER, john, Samuel Beckett: His Work and His Critics, An Essay in Bibliography, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1970 fletcher, john, T "he Novels of Samuel Beckett, London: Cbatto Windus, 1964
— Samuel Beckett’s Art, London: Cbatto Windus, 1967
fletcher, john and SPURLiNG, john, Beckett. A Study of his Plays, London: Eyre Methuen, 1972
FLETCHER, JOHN; FLETCHER, BERYL S.; SMITH, BARRY; ВАСНЕМ,
Walter, A Student’s Guide to the Plays of Samuel Beckett, London: Faber Faber, 1978 friedman, M. j. (ed.), Samuel Beckett, Paris: Minard, 1964 (‘Configuration Critique’ no. 8) gessner, n., Die Unzulanglidikeit der Sprache, Zurich: Juris, 1957 ‘Godot gets around’, New York: Theatre Arts, July 1958 guggenheim, peggy, out of this century, the informal memoirs of peggy guggenheim, New York: the dials press, 1946
— Confessions of an Art Addict, London: Andrd Deutsch, i960
harvey, lawrencb в., Samuel Beckett. Poet and Critic, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970 hobson, harold, ‘Samuel Beckett, dramatist of the year’, International Theatre Annual, no. 1, London: Calder, 1956 jacobsen, josbphinb and muller, william r., The Testament of Samuel Beckett, New York: Hill Wang, 1964 janvier, ludovic, Pour Samuel Beckett, Paris: Editions de Minuit,
1966
JOYCE, JAMES, Letters (ed. Stuart Gilbert), London: Faber Faber, 1957
KENNER, HUGH, Samuel Beckett, A Critical Study, New York: Grove Press, 1961; London: Calder, 1962
— The Stoic Comedians: Flaubert, Joyce and Beckett, London: W. H.
Allen, 1964
kern, edith, ‘Drama stripped for inaction: Beckett’s Godot’, Yale French Studies, no. 14, Winter 1954-5 levy, alan, ‘The long wait for Godot’, New York: Theatre Arts, August 1956
BIBLIOGRAPHY
мarissel, andre, Beckett, Paris: Editions Universitaires, 1963 mauriac, Claude, La Litthature Contemporaine, Paris: Albin Michel, 1958
melese, pierre, Beckett, Paris: Seghers, 1966 (in the series ‘Thtre de Tous les Temps’) mercier, vivian, BeckettIBeckett, New York: Oxford University Press, 1977
- ‘Messenger of Gloom’ (profile), London: Observer, 9 November
1958
metman, eva, ‘Reflections on Samuel Beckett’s plays’, London: Journal of Analytical Psychology, January i960
— San Quentin News, San Quentin, Cal., vol. XVII, no. 24, 28
November 1957
schneider, alan, ‘Waiting for Beckett’, New York: Chelsea Review, Autumn 1958 SCHOELL, konrad, Das Theater Samuel Becketts, Munich: Wilhelm Fink, 1967
scott, nathan a, Samuel Beckett, London: Bowes Bowes, 1^65 (in the series ‘Studies in Modern European Thought and Literature’)
BUZZATI, DINO
Un Caso Clinico, Commedia in 2 tempi e 13 quadri, Milan: Mondadori, 1953 (no. 85 in the series ‘La Medusa degli Italiani’)
Un Verne al Ministero, Turin: II Dramma, no. 283
D’ERRICO, EZIO
La Foresta, Turin: II Dramma, no. 278 1Tempo di Cavalette, Turin: II Dramma, no. 261
II Formicaio, stage ms.
ON d’bHRICO
trilling, ossia, ‘Ezio d’Errico — a new Pirandello?’, London: Theatre World, April 1958
BIBLIOGRAPHY
FRISCH, MAX
Biedemumn und die Brandstifter, Berlin and Frankfurt: Suhrkamp,
1958. This is the stage version, based on an earlier radio play, Herr Biedemumn und die Brandstifier, first broadcast by Bayrischer Rundfunk, Munich, 1953; published Hamburg: Hans Bredow Institut, sixth edition, 1959. (Stage version trans. by Michael Bullock, The Fire Raisers, in Three Plays, London: Methuen, 1962)
ON FRISCH
bXnziger, hans, Frisch und Diirrenmatt, Berne: Francke, i960 ziskoven, Wilhelm, ‘Max Frisch’, in Zur Interpretation des modemen Dramas (ed Rolf Geissler), Frankfurt: Diesterweg, i960 These two exhaustive studies also contain bibliographical data on Frisch’s numerous other plays which do not fall into the category of the Theatre of the Absurd.
GELBER, JACK
The Connection (with Introduction by Kenneth Tynan), New York: Grove Press, i960 The Apple, New York: Grove Press, 1961
GENET, JEAN PLAYS
Haute Surveillance, Paris: Gallimard, 1949 (trans. by B. Frechtman, Deathwatch, in The Maids/Deathwatch, New York: Grove Press, 1954; English edition, Deathwatch, London: Faber Faber, 1961) Les Bonnes, D6cines: L’Arbalfcte, 1948; a new edition, Les Bonnes, Les deux versions pricidies d’une lettre de Г auteur, containing the first version (as performed at the Аёпбе in 1946) and the revised version (as performed at the Theatre de la Huchette in 1954); the second version also reprinted in Les Bonnes-L’Atelier d’Alberto Giacometti, Dines: L’Arbalfete, 1958, further containing ‘L’enfant criminel’
BIBLIOGRAPHY GRASS, GONTER PLAYS
Die Bosen Koche, in Modemes deutsches Theater I, Neuwied: Luchterhand, 1961 Onkel, Onkel, Berlin: Wagenbach, 1965 Nodi zehn Minuten bis Buffalo, stage ms.
Zweiunddreissig Zahtte, Frankfurt: Suhrkamp, 1963 Hochwasser, stage ms.
Die Plebejer proben den Aufstand, Neuwied: Luchterhand, 1966
English translations
Four Plays, trans. Ralph Manhcim, London: Seeker Warburg, 1968, contains: Still Ten Minutes to Buffalo; Uncle, Uncle; The Flood; The Wicked Cooks.
The Plebeians Rehearse the Uprising, A German Tragedy, trans. by Ralph Manhcim, London: Seeker Warburg, 1967
OTHBB WRITINGS
Die Vorziige der WindUhner (poems and prose sketches), Neuwied: Luchterhand, 1956 Die Blechtrommel (novel), Neuwied: Luchterhand, 1959 (trans. by Ralph Manheim, The Tin Drum, London: Seeker Warburg, 1962*, Harmondsworth: Penguin Books, 1965)
Gleisdreieck (poems), Neuwied: Luchterhand, i960 Katz und Maus (novel), Neuwied: Luchterhand, 1961 (trans. by Ralph Manheim, Cat and Mouse, London: Seeker Warburg, 1963; Harmondsworth: Penguin Books, 1966)
Hundejahre (novel), Neuwied: Luchterhand, 1963 (trans. by Ralph Manheim, Dog Years, Lbndon: Seeker Warburg, 1965; Harr mondsworth: Penguin Books 1969)
Ausgefiagt (poems), Neuwied: Luchterhand, 1967 Selected Poems, trans. by Michael Hamburger and Christopher Middleton, have been published by Seeker Warburg, 1966; Harmondsworth: Penguin Books, 1969 Der Butt (novel) Neuwied: Luchterhand, 1977 (trans. by Ralph Manheim, The Flounder, London: Seeker Warburg, 1978)
BIBLIOGRAPHY GRASS, GONTER PLAYS
Die Bosen KSche, in Modemes deutsches Theater I, Neuwied: Luchterhand, 1961 Onkel, Onkel, Berlin: Wagenbach, 1965 Nock zehn Minuten bis Buffalo, stage ms.
Zweiunddreissig Zahne, Frankfurt: Suhrkamp, 1963 Hochwasser, stage ms.
Die Plebejer proben den AufsUmd, Neuwied: Luchterhand, 1966
English translations
Four Plays, trans. Ralph Manheim, London: Seeker Warburg, 1968, contains: Still Ten Minutes to Buffalo; Uncle, Uncle; The Flood; The Wicked Cooks.
The Plebeians Rehearse the Uprising, A German Tragedy, trans. by Ralph Manheim, London: Seeker Warburg, 1967
OTHER WRITINGS
Die Vorziige der Wmdahner (poems and prose sketches), Neuwied: Luchterhand, 1956 Die Blechtrommel (novel), Neuwied: Luchterhand, 1959 (trans. by Ralph Manheim, The Tin Drum, London: Seeker Warburg, 1962; Harmondsworth: Penguin Books, 196s)
Gleisdreieck (poems), Neuwied: Luchterhand, i960 Katz und Mans (novel), Neuwied: Luchterhand, 1961 (trans. by Ralph Manheim, Cat and Mouse, London: Seeker Warburg, 1963; Harajondsworth: Penguin Books, 1966)
Hmdejahre (novel), Neuwied: Luchterhand, 1963 (trans. by Ralph Manheim, Dog Years, London: Seeker Warburg, 1965; Harr mondsworth: Penguin Books 1969)
Ausgфagt (poems), Neuwied: Luchterhand, 1967 Selected Poems, trans. by Michael Hamburger and Christopher Middleton, have been published by Seeker Warburg, 1966; Harmondsworth: Penguin Books, 1969 Der Butt (novel) Neuwied: Luchterhand, 1977 (trans. by Ralph Manheim, The Flounder, London: Seeker Warburg, 15)78)
BIBLIOGRAPHY ON GRASS
tank, kurth lothar, Gunter Grass, Berlin: Colloquium, 1963
HAVEL, VACLAV
Protokoly (collected writings, including the two plays The Garden Party and The Memorandum), Prague: Mlada Fronta, 1966 (The Memorandum, trans. by Vera Blackwell, London: Cape, 1967)
HILDESHEIMER, WOLFGANG PLAYS
Spiele in denen es dunkel wird, Pfullingen: Neske, 1958, contains: Pastorale oder Die Zeit fiir Kakao, Landschaft mit Figuren, Die Uhren. Hildesheimer’s radio plays include: Das Ende kommt nie, Begegnung im Balleanexpress, Prinzessin Turandot (stage version, Der Drachenthron), An den Ufem der Plotinitza, Das Atelieifest, Die Bartschedelidee, Herm Walsers Raben.
OTHER WRITINGSS ‘Erlanger Rede iiber das absurde Theater’, Munich: Akzente, no. 6, i960
IONESCO, EUGENE
PLAYS
[for collected editions see p. 452]
La Cantatrice Chauve (written 1948, first performance 1950), in Thidtre I [Arcanes]; also in Thidtre I [Gallimard] (trans. by Donald M. Allen, The Bald Soprano, in Plays, vol. I [New York: Grove Press]; trans. by Donald Watson, The Bald Prima Donna, in Plays, vol. I [London: Calder])
LaLefon (written 1950, first performance 1951), in Theatre I [Arcanes]; also in ThiStre I [Gallimard] (trans. The Lesson, by Donald M.
BIBLIOGRAPHY
Allen in Plays, voL I [New Yode: Grove Press]; by Donald Watson in Plays, voL I [London: Calder], and in Penguin Plays, 1962) Jacques, ou La Soumission (written 1950, first performance 1955), in Thidtre I [Ar canes]; also in TheStre I [Gallimard] (trans. by Donald M. Allen, Jack or the Submission, in Plays, voL I [New York: Grove Press]; trans. by Donald Watson, Jacques or Obedience, in Plays, voL I [London: Calder])
Les Chaises (written 1951, first performance 1952), in Thidtre I [Gallimard] (trans., The Chairs, by Donald M. Allen in Plays, vol.
I [New York: Grove Press]; by Donald Watson in Plays, vol. I [London: Calder], and in Penguin Plays, 1962)
Le Salon de Г Automobile (first performance 1953), in Thidtre I [Arcanes]; also in Thidtre TV (trans. by Sasha Moorsom, The Motor Show, London: 3 Arts Quarterly, no. 2, Summer i960)
L’Avenir est dans les CEufs ou П faut de tout pour fake un monde (written 1951, first performance 1937)» m Thidtre II (trans. by Derek Prouse, The Future is in Eggs or It takes all sorts to make a world, in Plays, voLIV)
Vktimes du Devoir (written 1932, first performance 1953), in Thidtre I [Gallimard] (trans. by Donald Watson, Victims of Duty, in Plays, voL IQ
Amtdk ou Comment s’en dAarrasser (written 1953, first performance 1934), in Thidtre I [Gallimard] (trans. by Donald Watson, Amidei or How to get rid of it, in Plays, vol. II, and in Absurd Drama, Har- mondsworth: Penguin Books, 1963)
Le Nouveau Locataire (written 1933, first performance 1933), pi Thidtre
II (trans. by Donald Watson, The New Tenant, in Plays, voL II) Les Grandes Chaleurs (first performance 1953), based on a play by
Caragiale, unpublished La Jeune Fille i Marier (first performance 1953), in Thidtre II (trans.
by Donald Watson, Maid to Marry, in Plays, voL III)
Le Maitre (first performance 1953), in Thidtre II (trans. by Derek Prouse, The Leader, in Plays, vol. IV)
Le Connaissez-Vous? (first performance I9J3). unpublished La Niice-Epou*e (first performance 1933), unpublished Le Rhume Onirique (first performance 1953), unpublished Le Tableau (first performance 1955), Dossiers Acinonites de College de Pataphysique, no. 1, 1958; also in Thidtre III (trans. by Donald
BIBLIOGRAPHY
Watson, The Picture, broadcast in B.B.C. Third Programme, и March 1957; in Plays, vol. VII)
L'Impromptu de ГAlma ou Le Camilion du Berger (written 1955, first performance 1956), in Thidtre II (trans. by Donald Watson, Improvisation or The Shepherd's Chameleon, in Plays, vol. Ill) Impromptu pour la Duchesse de Windsor (written 1957, first performance
1957), unpublished (trans. by Donald Watson, unpublished)
Tueur Sans Gages (written 1937, first performance 1959), in Thidtre II (trans. by Donald Watson, The Killer, in Plays, voL IIQ [Le] Rhinocbos [the definite article on the tide page is an error by the publishers] (written 1938, first performance 1959), Paris: Gallimard, 1959 (in the series ‘Le Manteau d’Arlequin’); also in Thidtre III (trans. by Derek Prouse, Rhinoceros, in Plays, vol. IV, and in Penguin Plays, 1962)
Seine h Quatre (written 1939, first performance 1959), Cahiers du College de Pataphysique, Dossier 7, 1959; also Paris: Avant-Sckne no. 210,
15 December 1959; also in Thidtre III (trans. by Donald M. Allen, Foursome, New York: Evergreen Review, no. 13, May-June i960) Apprendre i Marcher, Ballet (first performance i960), in Thidtre IV Les Salutations (opening scene of an as yet uncompleted play, Scene a Sept), Paris: LesLettres Francises, no. 805, 31 December i960; also in Thidtre III
Le Roi se Moot (written 1962, first performance 1962), Paris: Gallimard, 1963; also in Thidtre IV (trans. by Donald Watson, Exit the King, in Plays, vol. V)
Le Piiton de Г Air (written 1962, first performance 1963), in Thidtre
III (trans. by Donald Watson, A Stroll in the Air, in Plays, voL VI) Dilire et Deux… h tant qu on veut (written 1962, first performed 1962), in Thidtre III (trans. by Donald Watson, Frenzy for Two, in Plays, vol. VI)
La Soif et la Faim (written 1965, first performance 1966), in Thidtre IV (trans. by Donald Watson, Hunger and Thirst, in Plays, voL VII) Jeux de Massacre, Paris: Gallimard 1970 Macbett, Paris: Gallimard, 1972
VHomme aux Valises suivi de Ce Formidable Bordel, Paris: Gallimard, 1973 (trans. adapted by Israel Horovitz, Man with Bags, New York: Grove Press, 1977)
ТЕАТР АБСУРДА BIBLIOGRAPHY
Collected editions
Thidtre I, Paris: Arcanes, 1953 (in the series ‘Locus Soltis’), contains: La СапШгке Chauve, La Lefon, Jacques ou La Soumission, Le Salon de Г Automobile
[A second volume of the above edition, announced as being in preparation in 1953, did not appear. It was to contain: Les Chaises, Victimes du Devoir, La Niice-Epouse, La Jeune Fille h Marier]
ThMltre I, Paris: Gallimard, 1954, contains: Preface by Jacques Lemarchand, La Cantatrice Chauve, La Legon, Jacques, ou La Sou- mission, Les Chaises, Victimes du Devoir, Amidii ThMtre II, Paris: Gallimard, 1958, contains: L'Impromptu de TAlma, Tueur Sans Gages, Le Nouveau Locataire, L'Avenir est dans les CBufs, Le Maitre, La Jeune Fille A Marier ThMltre III, Paris: Gallimard. 1963, contains: Rhinoceros, Le Ptiton de Г Air, Dilire i Deux, Le Tableau, Scene h Quatre, Les Salutations, La Colire
Thitre IV, Paris: Gallimard, 1966, contains: Le Roi se Meurt, La Soif et la Faim, La Laame, Le Salon de Г Automobile, L’CEuf Dur, Le Jeune Homme i Marier, Apprendre i Marcher ThiHtre V, Paris: Gallimard, 1974, contains: Jeux de Massacre, Mac- belt. La Vase, Exercices de conversation et de diction Francoises pour itudiants Ambicains
English translations
[Ionesco’s plays have been published by Grove Press, New York, and John Calder, London. The first volume of these editions differs; the others are identical]
Vol. I [U.S. edition], trans. by Donald M. Allen, contains: The Bald Soprano, The Lesson, Jack or The Submission, The Chairs Vol. I [English edition], trans. by Donald Watson, contains: The Lesson, The Chairs, The Bald Prima Donna, Jacques or Obedience Vol. II, trans. by Donald Watson, contains: AmitUe or How to get rid of it. The New Tenant, Victims of Duty Vol. Ill, trans. by Donald Watson, contains: The Killer, Improvisation or The Shepherd’s Chameleon, Maid to Marry
БИБЛИОГРАФИЯ
BIBLIOGRAPHY
Vol. IV, trans. by Derek Prouse, contains: Rhinoceros, The Leader, The Future is in Eggs Vol. V, trans. by Donald Watson, contains: Exit the King, The Motor Show, Foursome
Vol. VI, trans. by Donald Watson, contains: A Stroll in the Air, Frenzy for Two
Vol. VII, trans. by Donald Watson, contains: Hunger and Thirst, The Picture, Greetings, Anger Vol. VIII, trans. by Donald Watson, contains: Here Comes a Chopper (Jeux de massacre), The Oversight (La Lacune), The Foot of the Wall Vol. IX, trans. by Donald Watson, contains: Macbett, The Mire, Learning to Walk
Vol. X, trans. by Donald Watson, contains: Oh What a Bloody Circus, The Hardboiled Egg
NARRATIVE PROSB
Une Victime du Devoir (written 1952), Paris: Medium, January 1955; Paris: Cahiers des Saisons, no. 24, Winter 1961 [basis of Victimes de Devoir]
Oriflamme, Paris: Nouvelle Revue Franfais, February 1964 [basis of AmddSe] (trans., Flying High, New York: Mademoiselle, 1957)
La Photo du Colonel, Paris: Nouvelle Revue Frangaise, November 1955 [basis of Tueur Sans Gages] (trans. by Stanley Read, The Photograph of the Colonel, Evergreen Review, I, 3, 1957)
Rhinoceros, Paris: LesLettres Nouvelles, September 1957; Paris: Cahiers de la Compagnie M. Renaud — J.-L. Barrault, no. 29, February i960 (trans. by Donald M. Allen, New York: Mademoiselle, March i960) La Photo du Colonel, RJcits (collected short stories), Paris: Gallimard, 1962
The ColoneFs Photograph (collected stories in English), trans. by Jean Stewart and John Russell, London: Faber Faber, 1967 Le Solitaire. Roman, Paris: Mercure de France, 1973
ESSAYS AND OTHER PROSE WRITINGS
‘L’invraisemblable, Гinsolite, mon univers…’, Paris: Arts, 14 August I9J3; also Paris: Cahiers des Saisons, no. 15, Winter 1959, under the title 'Je n’ai jamais riussi…’
BIBLIOGRAPHY
'Le point du depart', Paris: Cahiers des Quatre Saisons, do. i, August
1955 [this periodical changed its tide to Cahiers des Saisons from no. 2, October 1955] (trans. by L.C. Pronko, New York: Theatre Arts, June 1958; by Donald Watson in Plays, vol. I [London: Calder])
‘ Thiitre et anti-thidtre’, Paris: Cahiers des Saisons, no. 2, October 1955 (trans. by L. C. Pronko, New York: Theatre Arts, June 1958)
‘Mes piices ne pritendent pas sauver le monde', Paris: L'Express, 15–16 October 1955 LMes critiques et moi’, Paris: Arts, 22 February 1956 ‘Gammes’ (nonsense aphorisms), Paris: Cahiers des Saisons, no. 7, September 1956
‘There is no avant-garde theatre’, trans. by Richard Howard, New York: Evergreen Review, I, 4,1957 ‘The world of Ionesco’, International Theatre Annual, no. 2, ed. Harold Hobson, London: Calder, 1957; Tulane Drama Review, October 19S8
‘Olympie’ (prose poem), Paris: Cahiers des Saisons, no. 10, April-May
1957
‘Pour Cocteau', Paris: Cahiers des Saisons, no. 12, October 1957 ‘The theatre’, talk on Б.В.С. Third Programme, July 1957 [an early version oЈ‘Experience du thi tre — see below]
‘Dans les ames de la ville' (on Kafka), Paris: Cahiers de la Compagnie M. Renaud — J.-L Barrault, no. 20, October 1957 ‘Qu’est-ce que Г avant-garde en 1958?', Paris: Les Lettres Francoises, itf April 1958; also Paris: Cahiers des Saisons, no. 15, Winter 1959, under the tide ‘Lorsque j’icris — '
‘Experience du thidtre’, Paris: Nouvelle Revue Fran$aise, February 1958 (trans. by L. C. Pronko, ‘Discovering the theatre’, Tulane Drama Review, September 1959)
'Ni un dieu ni un dimon’ (on Artaud), Paris: Cahiers de la Compagnie M. Renaud-J.-L Barrault, nos. 22-3, May 1958 ‘Reality in depth’, London: Encore, May-June 1958 ‘The playwright’s role’, London: Observer, 29 June 1958 (The entire controversy with Kenneth Tynan is reproduced as ‘Controverse londonienne' in Cahiers des Saisons, no. 15, Winter 1959)
‘La tragidie du langage’, Paris: Spectacles, no. 2, July 1958 (trans. by Jack Unclank, ‘The tragedy of language*, Tulane Drama Review, Spring i960)
BIBLIOGRAPHY
‘Preface' to Les Possidis, adapted from the novel by Dostoevsky by Akakia Viala and Nicolas Bataille, Paris: Emile-Paul,
1959
‘Le cceur nest pas sur la main’ (reply to Kenneth Tynan not published by the Observer), Paris: Cahiers des Saisons, no. 15, Winter 1959 ‘Naissance de La Cantatrice’, Paris: Cahiers des Saisons, no. 15, Winter 1959
‘La demystification par Г humour noir’, Paris: Avant-Scene, 15 February
1959
‘Eugbie Ionesco ouvre le feu’ (with parallel English translation), Paris: World Theatre, voL VIII, no. 3, Autumn 1959 Interview with Claude Sarraute, Paris: Le Monde, 17 January i960 Interview with himself, Paris: France-Ohservateur, 21 January i960;
reprinted Cahiers du College de Pataphysique, Dossiers 10–11, i960 Interview, Paris: L’Express, 28 January i960 ‘Pages de journal’, Paris: Nouvelle Revue Franfaise, February i960 'Printemps 1939. Les dSris du souvenir. Pages de journal’, Cahiers de la Compagnie M. Renaud — J.-L. Barrault, no. 29, February i960 ‘Propos sur mem thidtre et sur les propos des autres’, Brussels: L’ VII, no. 3. i960
‘Le Rhinocos i New York’, Paris: Arts, February 1961 ‘Some recollections of Brancusi’, trans. by John Russell, London Magazine, April 1961 Notes et Contre-notes (collected critical writings), Paris: Gallimard, 1962 (trans. by Donald Watson, Notes and Counter-Notes, London: Calder, 1965)
Journal en miettes, Paris: Mercure de France, 1967 Present passi, Passi prisent, Paris: Mercure de France, 1968 Dicouvertes, Geneva: Skira, 1969 Antidotes, Paris: Gallimard, 1977
ON IONESCO
Das Abenteuer Ionesco. Beitrage zum Theater von Heute (with contributions by Ionesco, A. Schulze Vellinghausen and Rudolf Sellner), Zurich: Verlag H. R. Stauffacher, 1958 Anouilh, jban, ‘Du chapitre des Chaises’, Paris: Le Figaro, 23 April
1956
BIBLIOGRAPHY
bataille, NicotAS, ‘La bataille de La Cantatrice’, Paris: Cahiers des Saisons, no. ij, Winter 1969 benmusa, siMONiB, Eugene Ionesco, Paris: Seghers, 1956 (in the series ‘Theatre de Tous les Temps) bentlby, eric, ‘llonesco, playwright of the fifties’, New York: Columbia Daily Spectator, 11 March 1958 BONNEfOY, claude, Entretiens avec Eugene Ionesco, Paris: Belfond,
1966
bosquet, alain, ‘Le thidtre d’Eugbte Ionesco, ou les 36 recettes du comique’, Paris: Combat, 17 February 1955 coe, richard, Iomesco, Edinburgh and London: Oliver Boyd, 1961 (no. 5 in the series ‘Writers Critics’) doubro vsky, sebge, ‘Ionesco and the comedy of the absurd’, Yale French Studies, no. 23, Summer 1959; also Paris: Nouvelle Revue Franfaise, February i960, under the title ‘Le rire d’Eugbu Ionesco’ duvignaud, jean, ‘La dirision', Paris: Cahiers de la Compagnie M.
Renaud — J.-L. Barrault, no. 29, February i960 francueil, berniard, ‘Digression automobile Dilectus quemad- modum jilius unictomiunt (review of Rhinocbos), Cahiers du College de Pataphysique, Dossiers 10–11,1960 laubrbaux, r., ‘Situation de Ionesco’, Paris: Thidtre d’Aujourd’hui, January-February 1959 laubreaux, r. (ed.), Les Critiques de notre temps et Ionesco, Paris: Gamier, 1973
lerminier, geor ges, * CUs pour Ionesco’, Paris: Thidtre d’Aujourd’ hui, September-October 1957 lutbmbi, ‘Contribution ck une itude de La Cantatrice Chauve’, Cahiers du College de Pataphysique, nos. 8–9,1953 marcel, gabriel, 'La crise du thidtre et le cripuscule de Fhumanisme’, Paris: Revue Thfdtrale, no. 39 robbe-grillet, alaiw, ‘Notes’, Paris: Critique, January 1953 roud, richard, ‘The opposite of sameness’, London '.Encore,June- July 1957
saroyan, william, ‘Ionesco’, New York: Theatre Arts, July 1958 saurel, ben6e, ‘ Ionesco ou Les blandices de la culpabiliti’, Paris: Les Temps Modemes, no. CIII, 1954 ‘A school of vigilance’, London: The Times Literary Supplement, 4 March i960
BIBLIOGRAPHY
senart, philippe, Ionesco, Paris: Editions Universitaires, 1964 tobi, saint, Eugbte Ionesco ou La Recherche du paradis perdu, Paris: Gallimard, 1973
TOUCHARD, p. A., ‘La loi du thidtre’, Paris: Cahiers des Saisons, no.
15, Winter 1959
- ‘ Un nouveau favuliste’, Paris: Cahiers de laCompagnieM. Renaud-
J.-L. Barrault, no. 29, February i960 towarnicki, f., 'DesChaises vides… Broadway’, Paris: Spectacles, no. 2, July 1958
vernois, paul, La Dynamique thiatrale d’Eugene Ionesco, Paris: Klingsieck, 1972
KOPIT, ARTHUR L.
Oh Dad, Poor Dad, Mamma’s Hung You in the Closet and I’m Feeling
So Sad. A pseudo-classical tragifarce in a bastard French tradition, New York: Hill Wang, i960; London: Methuen, 1961
MROZEK, SLAWOMIR
The original texts of Mrozek’s plays can be found in the monthly journal Dialog, published in Warsaw, passim 1958-67.
A collection in german
Stiicke, voL I, Berlin: Henssel, 1963, contains: Die Polizei, Aufhoher See, Striptease, Karol, Das Martyrium des Peter Obey, Racket Baby, Der Hirsch
Stiicke, vol. П, Berlin: Henssel, 1965, contains: Eine wundersame Nacht, Zabawa, Tango
ENGLISH TRANSLATIONS
Six Plays, trans. by Nicholas Bethell, London: Cape, 1967, contains: The Police, The Martyrdom of Peter Ohey, Out at Sea, Charlie, The Party, Enchanted Night Tango, trans. by Nicholas Bethell, London: Cape, 1968
BIBLIOGRAPHY
PEDROLO, MANUEL DE Cruma, in Premi Joan Santamaria 1957, Barcelona: Editorial Nereida,
1958
Homes i No, Barcelona: Quadems de Teatre A.DЈ., no. 2, i960
PINGET, ROBERT Lettre Morte, Paris: Editions de Minuit, 1959
La Manivelle, Piice radiophonique (with parallel trans. by Samuel Beckett, The Old Tune), Paris: Editions de Minuit, i960 Id ou Ailleurs, suivi de Architruc et de L’Hypothese, Paris: Editions de Minuit, 1961
PINTER, HAROLD
The Birthday Party and Other Plays, London: Methuen, i960, contains: The Room, The Dumb Waiter, The Birthday Party. The Dumb Waiter also in Penguin New English Dramatists 2 and Penguin Plays, Har- mondsworth: Penguin Books, 1961 and 1964 The Caretaker, London: Methuen i960
A Slight Ache and Other Plays, London: Methuen, 1961, contains: A Slight Ache, A Night Out, The Dwarfs, and some revue sketches The Collection and The Lover, London: Methuen, 1963 The Homecoming, London: Methuen, 1965
Tea Party and Other Plays, London: Methuen, 1967, contains the three television plays Tea Party, The Basement, Night School Landscape and Silence, London: Methuen, 1969 Old Times, London: Methuen, 1971 Five Screen Plays, London: Methuen, 1971 No Man’s Land, London: Eyre Methuen, 1975 Poems and Prose, London: Eyre Methuen, 1978 The Proust Screenplay, London: Eyre Methuen, 1978 Betrayal, London: Eyre Methuen, 1978
BIBLIOGRAPHY ON PINTEK
dukore, Bernard f., Where Laughter Stops. Pinter’s Tragicomedy, Columbia: University of Missouri Press, 1976 esslin, martin, Pinter. A Study of his Plays, 3rd expanded edition, London: Eyre Methuen, 1977 ganz, Arthur, (ed.), Pinter. A Collection of Critical Essays, in the series ‘Twentieth-Century Views’, Englewood СШБ, N.J.: Prenticc-Hall, 1972 hinchcliffe, Arnold P., Harold Pinter, New York: Twayne, 1967 imhof, rddiger, Pinter. A Bibliography, 2nd revised edition, London: TQ Publications, 1976 kerr, Walter, Harold Pinter, New York: Columbia University Press, 1967
SIMPSON, NORMAN FREDERICK
PLAYS
A Resounding Tinkle, in The Observer Plays (anthology of prize- winning entries in a playwriting competition), London: Faber Faber, 1958; also in New English Dramatists 2, Harmondsworth: Penguin Books, i960, and in Penguin Plays 1, 1964; shorter stage version as performed at the Royal Court Theatre, London, 1 December 19J7, in The Hole and Other Plays and Sketches, London: Faber Faber, 1964 One Way Pendulum, A farce in a new dimension, London: Faber Faber, i960
The Hole and Other Plays and Sketches, London: Faber Faber, 1964, contains: The Hole, A Resounding Tinkle (shorter version), The Form, Gladly Otherwise, Oh, One Blast and Have Done The Cresta Run, London: Faber Faber, 1966
OTHBR WRITINGS The Overcoat (short story), London: Man About Town, December i960
БИБЛИОГРАФИЯ
BIBLIOGRAPHY
TARDIEU, JEAN
Thidtre de Chambre I, Gallimard, 1955, contains: Qui Est Li? La Politesse Inutile, Le Sacre de la Nuit, Le Meuhle, La Serrure, Le Guichet, Monsieur Moi, Faust et Yorick, La Sonate et les Trois Messieurs ou Comment Parler Musique, La Sociiti d' Apollon ou Comment Parler des Arts, Oswald et Zenaide ou Les Apartis, Ce Que Parler Veut Dire ou Le Patois des Families, II у Avait Foule au Manoir ou Les Monologues, Eux Seuls le Savent, Un Geste pour un Autre, Conversa- tion-Sinfonietta
Theatre II: Pobnes Ajouer, Paris: Gallimard, i960, contains: L’AJS.C. de Notre Vie, Rhythme a Trois Temps ou Le Temple de Sigeste, Une Voix Sans Personne, Les Temps du Verbe ou Le Pouvoir de la Parole, Les Amants du Mitro, Tonnerre Sans Orage ou Les Dieux Inutiles
Thidtre III: Une Soiree en Province, Paris: Gallimard, 1975, contains: Une Soirie en Province ou le mot et le cri, Cinq Divertissements, Candide, Livrets d’operas de chambre
ON TARDIBU
jacottet, philippe, 'Note A propos de Jean Tardieu’, Paris: Nouvelle Revue Franfaise, July i960
VIAN, BORIS
For a full bibliography of Vian’s numerous writings, sec Cahiers du
College de Pataphysique, Dossier 12, i960
PLAYS
L’Equarrissage pour Tous (also containing extracts from notices of the performance, ‘ Salut i Boris Vian ’ by Cocteau, and a second short play, Le Dernier des Metiers, Saynetes pour Patronages), Paris: Toutain, 1950; L’Equarrissage pour Tous reprinted in Paris Theatre, no. 66,1952
Les Bdtisseurs d’Empire ou Le Schmurz, Cahiers du College de Pataphysique, Dossier 6,1959; Paris: VArche, 19J9 (in the series ‘Collection du R6pertoire du TNP’)
BIBLIOGRAPHY
Thidtre, Paris: Pauvert, 1965, contains: Les Bdtisseurs eTEmpire, Le GoAter des Giniraux, L’Equarrissage pour Tous
ON VIAN
Cahiers du Collige de Pataphysique, Dossier 12, i960, contains critical and biographical studies
2. BACKGROUND AND HISTORY OF THE THEATRE OF THE ABSURD
General Works
barnes, hazel, The Literature of Possibility, Lincoln, Nebraska: University Press, 1959 beigbeder, marc, Le Theatre en France depuis la Liberation, Paris: Bordas, 1959
bergeaud, jean, Je choisis … mon thidtre. Encyclopidie du Thidtre Contemporain, Paris: Odilis, 1956 bergson, henri, Le Rire. Essai sur la Signification du Comique, in CEuvres, Paris: Presses Universitaires de France, 1959 boisdeffre, pierre de, Une Histoire Vivante de la Literature d’Aujourd’hui, Paris: Le Livre Contemporain camus, albert, Le Mythe de Sisyphe, Paris: Gallimard, 1942 cruickshank, john, Albert Camus and the Literature of Revolt, London and New York: Oxford University Press, 1959 Dictionnaire des Hommes de ThiStre Francois Contemporains (tome I: Directeurs, Animateurs, Historiens, Critiques), Paris: Librairie Thtrale, 1957
eco, umberto, 'L'CEuvre ouverte ou La poitique de Г inditermination’, Paris: Nouvelle Revue Franfaise, July and August i960 evreinov, nikolai, The Theatre of the Soul, Monodrama, trans. by M. Potapenko and C. St John, London, 191 j fowlie, Wallace, Dionysus in Paris. A Guide to Contemporary French Theatre, New York: Meridian, i960; London: Gollancz,
1961
freud, sigmund, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (1905), paperback reprint, Frankfurt: S. Fischer, 1958
BIBLIOGRAPHY
GREGOR, JOSEPH, Weltgeschichte des Theaters, Vienna: Phaidon, 1932 grossvogel, david, The Selfconscious Stage in Modem French Drama, New York: Columbia University Press, 1958 huxley, aldous (ed.), The Perennial Philosophy, London: Chatto
Windus, 1946
mallarm6, st^phane, Crayonni au Thidtre, in CEuvres Completes, Paris: Plade, 1945 nietzsche, Die Geburt der Tragodie and Also sprach Zarathustra, in Werke, ed. Schlechta, Munich: Hanser, vok. I and П, 195j pound, ezra, Literary Essays, ed. T. S. Eliot, London: Faber Faber, 1954
sartre, jean-paul, L’Etre et le Niant, Paris: Gallimard, 1943 steiner, george, ‘The retreat from the word’, London: Listener,
14 and 21 July i960 Suzuki, D., Manual of Zen Buddhism, London: Rider, 1950 Thidtre Populaire, ‘Du cSti de Г avant-garde’ (special number on the avant-garde theatre), no. 18, May 1956 Wittgenstein, ludwig, Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell, 1958
Pure Thbatre, Clowning, Commedia dell’Arte, Music Hall, etc.
beerbohm, max, ‘Dan Leno’, in Around Theatres, London: Hart- Davis, 1953
buchner, GEORG, Werke undBriefe, Leipzig: Insel, 1958
— Woyzeck, trans. by John Holmstrom, in Three German Plays,
Harmondsworth: Penguin Books, 1963 CRICHTON, kyle, The Marx Brothers, London: Heinemann, 1951 disher, willson, Clowns and Pantomimes, London: Constable, 1925 #9632;
grabbe, Christian dietrich, Werke, ed. Wukadinowic, 2 vols., Berlin: Bong, n.d. hazlitt, william, ‘The Indian jugglers’, Table Talk, London and New York: Everyman’s Library holzer, rudolf, Die Wiener Vorstadtbiihnen, Vienna: 1951 lea, к. м., Italian Popular Comedy. A Study in the Commedia delГArte, London: Oxford University Press, 1934
BIBLIOGRAPHY
macinnes, colin, ‘Wherefore does he why?’ (on Dan Leno), London: Spectator, 23 December i960 mckechnie, samuel, Popular Entertainment through the Ag(s, London: Sampson Low, n.d. nestroy, johann, Samtliche Werke, ed. Bruckner and Rommel, Vienna: Schroll, 15 vok, 1924-30. raimund, Ferdinand, Werke, ed. Castle, Leipzig: Hesse Becker, n.d.
reich, Hermann, Der Mimus, voL I (in two tomes) [no further volumes appeared], Berlin: Weidmann, 1903 tietzb-conrat, e., Du /аф and Jesters in Art, London: Phaidon,
1957
wood, j. hickory, Dan Leno, London: Methuen, 1905
Nonsense Poetry and Nonsense Plays
belloc, hilaire, Cautionary Verses, London: Duckworth, 1940 benayoon, r., Anthologie du Nonsense, Paris: Pauvert, 1957 breton, andrЈ, Anthologie de Г Humour Noir, Paris: Sagittaire, 1950 busch, wilhelm, Samtliche Werke, Gutersloh: Bertelsmann, 2 vok., n.d.
carroll, lewis, Complete Works, London: Nonesuch; New York: Random House, 1939 Cohen, j. м., Comic and Curious Verse, Harmondsworth: Penguin Books, 1952
cohen, j. м., More Comic and Curious Verse, Harmondsworth: Penguin Books, 1956 flaubert, gustavb, Dictionnaire des idies Refues (augmented with newly discovered entries), Paris: Aubier, 1951 lardner, ring Nonsense Plays
The Tridget of Griva, unpublished (extract in eldbr [see below]) Dinner Bridge, New York: New Republic, 20 July 1927; also in First and Last, New York: Scribner, 1934 I Gaspiri (The Upholsterers), Chicago Literary Times, 15 February 1924; also in What of It? New York: Scribner, 1925 Clemo-Uti/The Water Lilies, in What (fit? New York: Scribner, 1925
BIBLIOGRAPHY
Cora or Fun at the Spa, New York: Vanity Fair, June 1925 Quadroon. A Play in Four Pelts which May All Be Attended in One Day or Missed in a Group, The New Yorker, 19 December 1931 AbenddiAnniNouveau, New York: The Morning Telegraph, 1928 OnLardner
elder, donald, Ring Lardner, New York: Doubleday, 1956 lear, edward, The Complete Nonsense of Edward Lear, ed. Holbrook Jackson, London: Faber Faber, 1947 morgenstern, Christian, Alle Galgenlieder, Wiesbaden: Insel, 1950
— Das Mondschaf, Deutsch und englisch (English versions by A. E.
W. Eitzen), Wiesbaden: Insel, 1953 opie, iona and peter, The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes, London: Oxford University Press, 1951
— The Lore and Language of Schoolchildren, London: Oxford
University Press, 1959 ringelnatz, joachim, Kinder-Verwirr-Buck, Berlin: Rowohlt, 1931
— Tumgedichte, Munich: Kurt Wolff, 1923
— KutteUDaddeldu, Berlin: Rowohlt, 1930
sewell, в., The Field of Nonsense, London: Chatto Windus, 1952
Dream Plays and Allegories
bidermann, jaeob, Cenodoxus der Doktor von Paris, in Deutsche Dichtung des Barock, ed. Edgar Hederer, Munich: Hanser, n.d. CAlder6n de la barca, pedro, Autos Sacramentales, voL III of Obras Completas, Madrid: Aguilar, 1945-52 eliade, mircea, Myths, Dreams and Mysteries, London: Harvill,
i960
gregor, Joseph, Das Spanische Welttheater, Vienna: Reichner, 1937 holberg, Comoediemt, ed. Bull, Kristiania: 1922-j honig, edwin, Dark Conceit. The Making of Allegory, Chicago: Northwestern University Press, 1959; London: Faber Faber,
i960
JOYCE, james, Stage adaptations of Ulysses
Ulysses in Nighttown, adapted by Maijorie Barkentin under the
BIBLIOGRAPHY
supervision of Padraic Colum, New York: Random House, Modem Library Paperbacks, 1958 Bloomsday, adapted by Alan MacClelland KAFKA, franz, Der Grujhvacher (dramatic fragment), in Beschreibung eines Kampfes, New York: Schocken, 1946 Kafka, Franz, adapted by gidb, andr6 and barrault, jban- louis, Le Proch, Paris: Gallimard, 1947 Franz Kafka du Procfcs au Chateau, special number of Cahiers de la Compagnie M. Renaud-J.-L. Barrault, no. 20, October 1957 lope de vbga, Obras Escogidas, 3 vols., Madrid: Aguilar, 1952-5, contains Lope’s principal Autos sacramentales madach, imre, Az Ember Tragidiija, Budapest: Franklin, n-d. Strindberg, august, Samlade Skrifier, 55 vols., Stockholm: Bonnier, 1911-21
— A Dream Play and The Ghost Sonata, in Six Plays of Strindberg,
trans. by E. Sprigge, New York: Doubleday (Anchor Books), 1955
Dadaism, Surrealism, Pataphysicians, and their Forerunners and Followers
APOLLINAIRE, GUILLAUMB
Les Mamelles de Tirdsias/Couleur du Temps, in CEuvres Poitiques, Paris: Pltiade, 1956 ARAGON, LOUIS L’Amoire it Glace un Beau Soir and Au Pied du Mur, in Le Libertinage, Paris: Gallimard, 1924 with brbton, andrЈ, Le Trisor des Jisuites, Brussels: Variitis, June 1929
ARTAUD, ANTONIN
CEuvres Completes, vols. I–XIV, Paris: Gallimard, 1956-^78 [further volumes in preparation]
Le TMAtre et son Double, Paris: Gallimard, 1938 (trans. by C. Richards, The Theatre and its Double, New York: Grove Press,
1958)
Lettres el Jean-Louis Barrault (with a study of Artaud’s theatre by Paul Arnold), Paris: Bordas, 1952 Arnold, PAUL study of Artaud’s theatre in Lettres A Jean- Louis Barrault [see above]
BIBLIOGRAPHY
Antonin Artaud et le Thidtre de Notre Temps, Paris: special issue of Cahiers de la Compagnie M. Renaud — J.-L. Barrault, nos. 22-3, May 1958 Antonin Artaud ou La Santi des Pontes, Jarnac: special number of La Tour du Feu, December 1959 bsslin, martin, Antonin Artaud, London: Fontana, 1976
BARLACH, ERNST
Das Dichterische Werk, Band I, Munich: Piper, 1956
BRECHT, BERTOLT
Stiicke, 14 vols., Frankfurt: Suhrkamp, 1954-67 COCTEAU, JBAN Les Mariis de la Tour Eiffel, in Theatre I, Paris: Gallimard, 1948 Parade and Le Bceuf surle Toit, in Nouveau Thidtre de Poche, Monaco: Editions du Rocher, i960 Orphie, Paris: Stock, 1927 Le Sang d’un Poite (film), Paris: Marin, 1948
CUMMINGS, E. E.
him in From the Modem Repertoire, Series Two, ed. Eric Bentley, Indiana University Press, 1957 bentley, eric, Notes to him, ibid. norman, Charles, The Magic Maker, New York: Macmillan, 1958
DADA
arp/huelsenbbck/tzara, Die Geburt des Dada, Zurich: Arche, 1957
mehring, walter, Berlin Dada, Zurich: Arche, 1959 huelsenbeck, richard, Mit Witz, Licht und Griitze, Wiesbaden: Limes, 1957 daumal, renЈ and gilbert-lecomte, roger, Petit Thidtre, Paris: College de Pataphysique, 1957
DESNOS, ROBERT
La Place de TEtoile, Antipobne, Rodez: Collection Humour, 1945 Domaine Publique (collected poems), Paris: Gallimard, 1953
berger, pierre, Robert Desnos (essay on Desnos with anthology of his work), Paris: Seghers, i960 (no. 16 in the series ‘Pofetes d’Aujourd’hui’)
Expressionismus. Literatur und Kunst, 1910–1923 (catalogue of an exhibition at the Schiller Museum, Marbach, West Germany, 8
BIBLIOGRAPHY
May-31 October 1961, ed. B. Zeller, containing a very full bibliography of Expressionism, with biographical notes on all important authors), Marbach: i960
FITZGERALD, F. SCOTT
The Vegetable or From President to Postman, New York: Scribner, 1923 mizener, Arthur, This Side of Paradise, London: Eyre Spottiswoode, 1951
GOLL, YVAN
Dichtungen, ed. Claire Goll, Neuwied: Luchterhand, i960, reprints Die Chaplinade, Die Unsterblichen, Zwei Uberdramen (1. Der Unsterbliche, 2. Der TJngestorbene), Melusine Methusalem, in Schrei und Bekenntnis. Expressionistisches Theater (anthology of Expressionist plays), ed. K. Otten, Neuwied: Luchterhand, 1959 romains, jules/brion, marcel/carmody, f./exner, r., Yuan Goll (anthology and critical essays), Paris: Seghers,
1956 (no. 50 in the series ‘PoStes d’Aujourd’hui *)
GOMBROWICZ, WITOLD
The Marriage, trans. by Louis Iribame, London: Calder Boyars, 1970
Princess Ivona, trans. by Krystyna Griffith and Catherine Robins, London: Calder Boyars, 1969 Operetta, trans. by Louis Iribame, London: Calder Boyars, 1971
JARRY, ALFRED
CEuvres Completes, Monte Carlo and Lausanne: 1948 Ubu Roi, Ubu Enchaini, Paralipombies d’LJbu, Questions de Thidtre, Les Minutes de Sable Memorial, Cisar-Antichrist, Poisies, L'Autre Alceste, Lausanne: Henri Kaeser, 1948 (colllection of all Ubuesque writings)
Tout Ubu (another collection of Ubuesque writings), Paris: Le Livre de Poche, 1962 Ubu Roi, trans. by Barbara Wright, in Four Modem French Comedies, New York: Capricorn Books, 1961 Ubu, Version pour la seine (acting edition of Ubu Roi and Ubu Enchaini adapted for performance as one play at the Theatre Nadonale Populaire), Paris: L’Arche, 1958 Gestes et Opinions du Docteur Faustroll, Paris: Fasquelle, 1955 (trans., New York: Evergreen Review, no. 13, i960, p. 131)
БИБЛИОГРАФИЯ
BIBLIOGRAPHY
KOKOSCHKA, OSKAR Schrijten 1907–1955, Munich: Langen, 1956
LAUTRiAMONT, COMTE DB (ISIDORE DUCASSe)
CEuvres Completes, Paris: Corti, 1946
LORCA, FBDBRICO GAHCfA
Obras Completas, Madrid: Aguilar, 1955
NADEAU, MAURICE Histoire du Surrialisme, Paris: Editions du Seuil, 1945 PICASSO, PABLO Le Disir Attrapi par la Queue, Paris: Messages П, 1944;also, in book form, Paris: Gallimard, 1949 (no. 23 of the collection ‘Metamorphoses’) (trans. by B. Frechtman, Desire Caught by the Tail, London: Rider, 1950) penrose, roland, Picasso, His Life and Work, London: Gollancz, 1955 pinthus, kurth Menschheitsdammerung (one of the first anthologies of Expressionist poetry), Berlin: Rowohlt, 1920; reissue (with new introduction and bibliographical material), Hamburg: Rowohlt, 1959
BADIGUET, RAYMOND
Les Pelicans, Piice en deux actes, in CEuvres Completes, vol. I, Paris: Club des Libraires de France, 1959
RIBEMONT-DESSAIGNES, GEORGES Thidtre, Paris: Gallimard, 1966 Diji Jadis (memoirs), Paris: Julliard, 1958
ROBICHEZ, J.
Le Symbolisme au Thidtre, Lugni — Роё et les Dibuts de FCEuvre, Paris: L’Arche, 1957
ROUSSEL, RAYMOND
L’Etoile au Front, Paris: Lemerre, 1925 La Poussibe de Soleils, Paris: Lemerre, 1927
rousselot, jean, Raymond Roussel et la Toute-Puissance du Langage, Paris: La Tour St Jacques, March-April 1957 heppenstall, rayner, Raymond Roussel, a critical guide, London: Calder Boyars, 1966
BIBLIOGRAPHY
SALACROU, ABMAND Surrealist playlets Pieces Lire: Les Trente TombesdeJudas, Histoire de Cirque, Paris: Les CEuvres Libres, no. 173, October i960
SHATTUCK, ROGER
The Banquet Years (containing outstanding studies of Apollinaire and Jarry), London: Faber Faber, 1959
SOEEL, WALTER H.
The Writer in Extremis: Expressionism in Twentieth-Century German Literature, Stanford University Press, 1959
STEIN, GERTRUDE
Four Saints in Three Acts, New York: Random House, 1934 Geography and Plays, Boston: Four Seas, 1922 Doctor Faustus Lights the Lights
In Savoy or Yes Is for a Very Young Man, London: Pushkin Press, 1946
TORMA, JULIBN
Coupures, Tragidie, sum de Lauma Lamer, Paris: Рёгои, 1926 Euphorismes, no publisher indicated, 1926
Le Bhrou, Drome en IVactes, Paris: College de Pataphysique, 1956 Hommage h Torma (biographical, bibliographical, and critical studies by various hands), Cahiers du College de Pataphysique, no. 7,1952
TZARA, TRISTAN La Premibe Aventure Cileste de M. Antipyrine, Zurich: Collection Dada, 1916
La Deuxibne Aventure Cileste de M. Antipyrine, Paris: RЈverbЈre, 1938
Le Cceur Gaz, Paris: GLM, 1946 La Fruite, Paris: Gallimard, 1947
valle-inclAn, ram6n del Martes de Camaval, Esperpentos, in Opera Omnia, vol. 24, Madrid: Editorial Rua Nueva, 1943, contains: Las Galas del Difunto, Los Cuemos de Don Friolera, La Hija del Capitan VITRAC, ROGER
Thidtre, 4 vols., Paris: Gallimard, 1946, 1964
WITKIJWICZ, STANISLAW
Dramaty, 2 vols. ed. Konstanty Puzyna, Warsaw: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1962 Plays available in English are contained in:
The Madman and the Nun and Other Plays, trans. and ed. by Daniel C. Gerould and C. S. Durer, Seattle: University of Washington Press, 1968, contains: The Madman and the Nun, The Water Hen, The Crazy Locomotive, The Mother, They, The Shoemakers and Tropical Madness. Four Plays, trans. by Daniel and Eleanor Gerould, New York: Winter House, 1972, contains: The Pragmatists, Mr Price or: Tropical Madness, Gyubal Wahazar, Metaphysics of a Two-Headed Calf YEATS, w. в.
Autobiographies, London: Macmillan, 1955
ИЗБРАННАЯ РУССКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Адамов Артюр. Весна семьдесят первого. Пер. Е. Ауэрбах. М.: Искусство. 1968.
Арто Антонен. Театр и его двойник. С приложением текста «Театр Серафима». Пер. и комм. С. Исаева. М.: Мартис. 1993.
Аррабаль Фернандо. Пикник. Пер. Ш. Мижи. // «Театр парадокса». М.: Искусство. 1991.
Беккет Сэмюэль. Изгнанник. Пьесы и рассказы. Библиотека журнала «Иностранная литература». М.: Известия, 1989.
Эндшпиль. Изгнанник. Первая любовь. Конец. Пер. с фр. Е. Су- риц. // Там же.
Про всех падающих. Общение. Пер. с англ. Е. Суриц. // Там же. Счастливые дни. Пер. с англ. Л. Беспаловой. // Там же.
Театр I. Пер. с англ. А. Куприна. // Там же.
Данте и лангусты. Пер. с англ. М. Кореневой. // Там же.
Беккет Сэмюэль. Театр I. Пер. А. Куприна. // «Театр парадокса». М.: Искусство. 1991.
Театр II. Игра. Звук шагов. Пер. А. Куприна. // Там же. Беккет Сэмюэль. Театр. СПб.: Азбука. Амфора. 1999.
В ожидании Годо. Пер. О.Тархановой. // Там же.
Эндшпиль. Про всех падающих. Последняя лента Крэппа. Зола.
Каскандо. А., Джо? Пер. Е. Суриц. // Там же Сцена без слов I. Сцена без слов II. Пер. О. Мейер и А. Куприна. // Там же.
Театр I. Театр II. Приходят и уходят. Пер. А. Куприна. // Там же. Счастливые дни. Пер. Л. Беспаловой. // Там же.
Игра. Пер. А.Дорошевича. // Там же.
Дыхание. Пер. В. Лапицкого. // Там же.
Беккет Сэмюэль. В ожидании Годо. Пьесы. М., Текст, 2009 В ожидании Годо. Элевтерия. Пер. О. Тархановой. //Там же. Эндшпиль. Каскандо. Пер. Е. Суриц. // Там же.
Катастрофа. Пер. Д. Мороз. // Там же.
Что где. Действие без слов I. Действие без слов II. Театральный осколок I. Театральный осколок II. Набросок для радио. Элегия для радио. Пер. А. Наумова. // Там же.
Беккет Сэмюэль. Никчемные тексты. Пер. Е. Баевской. СПб.: Наука. 2003.
WITKIEWICZ, STANISLAW
Dramaty, 2 vols. ed. Konstanty Puzyna, Warsaw: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1962 Plays available in English are contained in:
The Madman and the Nun and Other Plays, trans. and ed. by Daniel C. Gerould and C. S. Durer, Seattle: University of Washington Press, 1968, contains: The Madman and the Nun, The Water Hen, The Crazy Locomotive, The Mother, They, The Shoemakers
and
Tropical Madness. Four Plays, trans. by Daniel and Eleanor Gerould, New York: Winter House, 1972, contains: The Pragmatists, Mr Price or: Tropical Madness, Gyubal Wahazar, Metaphysics of a Tu/o-Headed Calf YEATS, w. в.
Autobiographies, London: Macmillan, 195J
Адамов Артюр. Весна семьдесят первого. Пер. Е. Ауэрбах. М.: Искусство. 1968.
Арто Антонен. Театр и его двойник. С приложением текста «Театр Серафима». Пер. и комм. С. Исаева. М.: Мартис. 1993.
Аррабаль Фернандо. Пикник. Пер. Ш. Мижи. // «Театр парадокса». М.: Искусство. 1991.
Беккет Сэмюэль. Изгнанник. Пьесы и рассказы. Библиотека журнала «Иностранная литература». М.: Известия, 1989.
Эндшпиль. Изгнанник. Первая любовь. Конец. Пер. с фр. Е. Суриц. // Там же.
Про всех падающих. Общение. Пер. с англ. Е. Суриц. // Там же. Счастливые дни. Пер. с англ. Л. Беспаловой. // Там же.
Театр I. Пер. с англ. А. Куприна. // Там же.
Данте и лангусты. Пер. с англ. М. Кореневой. // Там же.
Беккет Сэмюэль. Театр I. Пер. А. Куприна. // «Театр парадокса». М.: Искусство. 1991.
Театр II. Игра. Звук шагов. Пер. А. Куприна. // Там же. Беккет Сэмюэль. Театр. СПб.: Азбука. Амфора. 1999.
В ожидании Годо. Пер. О.Тархановой. // Там же.
Эндшпиль. Про всех падающих. Последняя лента Крэппа. Зола.
Каскандо. А., Джо? Пер. Е. Суриц. // Там же Сцена без слов I. Сцена без слов И. Пер. О. Мейер и А. Куприна. // Там же.
Театр I. Театр II. Приходят и уходят. Пер. А. Куприна. // Там же. Счастливые дни. Пер. Л. Беспаловой. // Там же.
Игра. Пер. А.Дорошевича. // Там же.
Дыхание. Пер. В. Лапицкого. // Там же.
Беккет Сэмюэль. В ожидании Годо. Пьесы. М., Текст, 2009 В ожидании Годо. Элевтерия. Пер. О. Тархановой. //Там же. Эндшпиль. Каскандо. Пер. Е. Суриц. // Там же.
Катастрофа. Пер. Д. Мороз. // Там же.
Что где. Действие без слов I. Действие без слов II. Театральный осколок I. Театральный осколок II. Набросок для радио. Элегия для радио. Пер. А. Наумова. // Там же.
Беккет Сэмюэль. Никчемные тексты. Пер. Е. Баевской. СПб.: Наука. 2003.
Мерсье и Камье. Никчемные тексты. Как есть. Опустошитель. Недовидено недосказано. // Там же.
Беккет Сэмюэль. Трилогия. Моллой. Мэлон умирает. Безымянный. Пер. В. Молотова под ред. А. Петровой. СПб.: Издательство Чернышева. 2004.
Беккет Сэмюэль. Уотт. Пер П. Молчанова. М.: Эксмо. 2004. Беккет Сэмюэль. Мечты о женщинах, красивых и так себе. Пер. М. Дадяна. М.: Текст. 2006.
Беккет Сэмюэль. Мерфи. Пер. М. Кореневой. М.: Текст. 2006. Беккет Сэмюэль. Осколки. М.: Текст. 2009.
Жене Жан. Служанки. Пер. Е. Наумовой. // «Театр парадокса». М.: Искусство. 1991.
Жене Жан. Театр Жана Жене. Пьесы. Статьи. Письма. СПб.: Гиперион. Гуманитарная академия, 2001.
Малолетний преступник. Мастерская Альберто Джакометти. Это странное слово о… Пер. Е. Бахтиной, О. Абрамович. // Там же.
Письмо Жан-Жаку Поверу. Как играть «Служанки». Вместо предисловия к «Балкону». Балкон. Чтобы играть «Негры». Канатоходец. Пер. Л. Долининой, О. Абрамович. // Там же. Служанки. Ширмы. Письма Роже Блену. Пер. А. Миролюбовой. // Там же.
Сартр Жан-Поль. «Служанки». Пер. JI. Долининой, О. Абрамович. // Там же.
Барт Ролан. «Балкон» Жана Жене. Пер. Е. Бахтиной, О. Абрамович. // Там же.
Блен Роже. «Балкон» Жана Жене. Пер. Е. Бахтиной, О. Абрамович. // Там же.
Жене Жан. Богоматерь цветов. Пер. Е. Гришиной, С. Табашкина. М.: Азазель. Эргон. 1993.
Жене Жан. Дневник вора. Пер. Н. Паниной. М.: Текст.1994. Жене Жан. Керель. Пер. Т. Кондратович. СПб.: Инапресс. 1995. Жене Жан. Чудо о розе. Смертник. Пер. А. Смирновой. СПб.: Инапресс. 1998.
Жене Жан. Торжество похорон. Пер. И. Родченко. М.: Текст. 2001.
Жене Жан. Франц, дружочек… (Письма 1943-44). Пер. Г. Зингер. М.: Текст. 2002.
Ионеско Эжен. Лысая певица. Пер. Л. Новиковой.// «Театр парадокса». М.: Искусство. 1991.
Бред вдвоём. Пер. Е. Дюшен. // Там же.
Жертва долга. Пер. Н. Сарникова. // Там же.
Ионеско Эжен. Носорог. Пьесы и рассказы. М., Текст, 1991. Носорог. Пер. Л. Завьяловой. // Там же.
Воздушный пешеход. Пер. Л. Каменской. // Там же.
Король умирает. Пер. О. Ильинской. // Там же.
Урок. Пер. Н. Мавлевич. // Там же.
Пробел. Пер. Т. Проскурниковой. // Там же.
Этюд для четверых. Пер. М. Зониной. // Там же.
Гнев. Пер. Ю. Яхниной. // Там же.
Орифламма. Фотография полковника. Пер. А. Гаврилова. // Там
же.
Ионеско Эжен. Театр. М., Искусство, 1994.
[Заметки Эжена Ионеско в связи с премьерой его пьесы «Жажда и голод» во Франции] // Там же.
Жак, или Подчинение. Стулья. Пер. Л. Скаловой. // Там же. Картина. Пер. В. Платэ. // Там же.
Новый жилец. Пер. К. Филоновой. // Там же.
Бред вдвоём. Пер. Е. Дюшен. // Там же.
Воздушный пешеход. Пер. В. Гайдамака. // Там же.
Жажда и голод. Пер. О. Тархановой. // Там же.
Макбет. Пер. Л. Новиковой. // Там же.
Пинтер Гарольд. Сторож. Пер. А. Дорошевича. // Семь английских пьес. М… Искусство. 1968.
Пинтер Гарольд. Сторож и другие драмы. М.: Радуга. 1988. Сторож. Пер. А. Дорошевича. // Там же.
Коллекция. Пейзаж. Пер. Р. Козаковой. // Там же.
На безлюдье. Пер. В. Муравьева. // Там же.
Предательство. Пер. Б. Носика и В. Харитонова. // Там же.
Пинтер Гарольд. Пейзаж. Пер. М. Кореневой. // «Театр парадокса». М.: Искусство. 1991
Пинтер Гарольд. Коллекция. СПб.: Амфора. 2006.
День рождения. Пер. А. Ливерганта. II Там же.
Кухонный лифт. Пер. В. Ряполовой. // Там же.
Сторож. Пер. А. Дорошевича. // Там же.
Коллекция. Пейзаж. Пер. Р. Козаковой. // Там же.
Любовник. Возвращение домой. Пер. В. Денисова. // Там же. На безлюдье. Пер. В. Муравьева. // Там же.
Предательство. Пер. Б. Носика и В. Харитонова. // Там же. Голоса семьи. Пер. П. Зарифова. // Там же.
Перед дорогой. Пер. Ю. Кацнельсона. // Там же.
Горский язык. Пер. А. Левкина. // Там же.
Пинтер Гарольд. Былые времена. Пер. А. Ливерганта. / Иностранная литература. 2006, № 5.
Пинтер Гарольд. Комната. Торжество. Пер. А. Ливерганта. / Современная драматургия. 2006, № 3.
Пинтер Гарольд. Карлики. Пер. В. Правосудова. СПб.: Амфора. 2006.
Пинтер Гарольд. Нобелевская речь. Пер. Г. Коваленко. / Балтийские сезоны, 2007, № 17.
Как всегда — об авангарде. Антология французского театрального авангарда. Вступление, перевод, комментарии Сергея Исаева. М.: ТПФ. Издательство «ГИТИС». 1992.
Жарри Альфред. О бесполезности театра для театра. // Там же.
Аполлинер Гийом. Предисловие к драме «Груди Тиресия». // Там же.
Тцара Тристан. Манифест Дада 1918 года. // Там же.
Голль Иван. Сверхдрама. // Там же.
Клодель Поль. Несколько мыслей о том, как следует играть мои драмы. // Там же.
Клодель Поль. Театр Бунраку.// Там же.
Клодель Поль. О театре. // Там же.
Арто Антонен. Театр восточный и театр западный. // Там же.
Арто Антонен. Театр и жестокость. // Там же.
Арто Антонен. Театр жестокости (Первый манифест). // Там же.
Марсель Габриэль. Театр и философия. Их соотношение в моём творчестве. Из книги «Театр и религия». // Там же.
Сартр Жан-Поль. К театру ситуаций. // Там же.
Сартр Жан-Поль. Миф и реальность театра. // Там же.
Камю Альбер. Из книги «Миф о Сизифе». Театр. // Там же.
Беккет Сэмюэль. Три диалога. // Там же.
Ионеско Эжен. Как всегда — об авангарде. // Там же.
Ионеско Эжен. Трагедия языка. // Там же.
Ионеско Эжен. Под-реальное как раз реалистично. // Там же.
Жене Жан. Это странное слово…// Там же.
Адамов Артюр. Театр или сновидение. Из книги «Здесь и Сейчас». // Там же.
Аррабаль Фернандо. Человек панический. // Там же.
Аррабаль Фернандо. Театр как «паническая церемония». //Там же.
Барт Ролан. Дидро, Брехт, Эйзенштейн. // Там же.
Винавер Мишель. Избыток режиссуры. // Там же.
Юберсфельд Анна. Введение. Из книги «Читать театр». // Там же.
Юберсфельд Анна. Наслаждение зрителя. Из книги «Школа зрителя (Читать театр-2)». // Там же.
Маннони Октав. Театр и безумие. // Там же.
Маннони Октав. Комическая иллюзия, или Театр с точки зрения воображаемого. // Там же.
Пави Патрис. Игра театрального авангарда и семиологии. // Там же.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин Блаженный {St. Augustine} (354–430), христианский богослов, философ-мистик. Его credo «Без веры нет знания, нет истины» — 56
Адамов Артюр {Adamov} (1908–1970), французский драматург — 7,
8, 9, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 95-103, 105–106, 108–129, 131, 156, 173, 175, 195, 203, 234, 238, 274, 276, 282, 298, 312, 323, 337, 347, 365, 385, 387, 394, 410–412, 430, 442 Аксер Эрвин {Ахег} (р. 1919), польский театральный режиссёр — 327
Алгрен Нельсон {Algren} (1909–1981), американский писатель, описывающий мир дна и политической коррупции — 283 Андерсен Ганс Христиан {Andersen} (1782–1816), датский писатель, поэт — 403
Андерсон Линдсей {Anderson} (1923–1994), английский режиссёр театра и кино, кинокритик, продюсер, писатель, отстаивающий социальный реализм — 134 Ануй Жан {Anouilh} (1910–1987), французский драматург, сценарист, режиссёр, один из создателей интеллектуальной драмы — 25, 42, 156
Аполлинер Гийом {Apollinaire} (1880–1918), французский поэт — 28, 283, 365, 370–374, 380, 401 Апулей Луций {Apuleius} (ок. 124 — ок. 180н. э.), римский писатель, философ-платоник, ритор — 339 Арагон Луи {Aragon} (1897–1982), французский поэт, романист, наряду с Бретоном теоретик сюрреализма, обосновавшего метод автоматического письма. В начале 30-х доказывал общность целей сюрреализма с целями пролетариата. В последних романах вернулся к технике сюрреализма, подтвердив его влияние на искусство XX века — 377, 388, 389 Аргези Тудор {Arghezi} (1880–1967), румынский поэт, прозаик, публицист. Тяготел к экспрессионизму. Внёс новации в поэтический язык — 139
Арден Джон {Arden} (р. 1930), английский драматург, прозаик, режиссёр, общественный деятель. Стоит у истоков движения «сердитых молодых людей» — 67, 443 Аристотель (384–322 до н. э.), древнегреческий философ — 159, 173
Аристофан {Aristophanes} (ок. 446–385 до н. э.), древнегреческий комедиограф, «отец комедии» — 339, 340 Арп Ганс (Жан) {Агр} (1886–1966) — французский скульптор, живописец, график, поэт, участник сюрреалистического движения. С 1916 один из лидеров дадаизма. Его творчество последовательно питали кубизм, футуризм, биоморфизм (идея циклических метаморфоз земной жизни) — 373, 374, 380 Аррабаль Фернандо {Arrabal} (р. 1932), испанский прозаик, драматург — 19, 294–300, 406, 412 Арто Антонен {Artaud} (1896–1948), французский режиссёр, актёр, художник, поэт -6, 8, 130, 172, 299, 365, 390, 391–396,419, 442, 443
Аткинсон Брукс {Atkinson} (1894–1984), американский театральный критик, обозреватель The New York Times — 182, 183 Ашар Марсель {Achard} (1899–1974), французский драматург, сценарист, режиссёр — 177 Аштон Фредерик {Ashton} (1906–1988), английский артист балета, балетмейстер, художественный руководитель Королевского балета — 407
Байрон Джордж Гордон {Byron} (1788–1824), английский поэт, драматург, политический деятель — 355 Балль Хуго {Ball} (1886–1927), немецкий поэт, драматург, прозаик, публицист, историк культуры. Содействовал утверждению экспрессионистской драмы. Родоначальник и вождь дадаизма. В 1917 отошёл от него, обратившись к традиционному искусству — 373-375
Бальзак Оноре де {Balzac} (1799–1850), французский писатель — 52, 95
Барбу Ион {Barbu} (1895–1925), румынский поэт, математик — 139 Барбье д’Орвильи Жюль {Barbey d’Aurevilly} (1808–1889), французский писатель, критик — 360 Барлах Эрнст {Barlach} (1870–1938), немецкий скульптор-экспрес- сионист, график, драматург, прозаик, эссеист — 401 Барро Жан-Луи {Barrault} (1910–1994), французский режиссёр, актёр театра и кино, мастер пантомимы. В 1946 основал Compagnie Madeleine Renaud — Jean-Lous Barrault, выступавшую во многих странах. Его творчество вобрало авангард 1930-х, интеллектуальный театр военного и послевоенного периода, театр абсурда, концептуализм 1970-1980-х — 8, 11, 28, 142, 184, 189, 235, 365, 394
Батай Николя {Bataille} (1926–2008), французский режиссёр, киноактёр. Поставленная им в 1950 «Лысая певица» Ионеско идёт по сей день — 11, 28, 142, 143, 147 Бауэр Вольфганг {Bauer}(1941–2005), австрийский драматург — 6, 444
Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975), русский литературовед, теоретик искусства — 5, 7 Беккет Джон Стюарт {Beckett} (1927–2007), ирландский композитор, дирижёр, двоюродный брат С. Беккета — 43, 45 Беккет Сэмюэль {Becket} (1906-89), ирландский драматург и писатель-6, 7,9, И, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 28, 189, 195, 203,240, 265, 269, 272–274, 298, 307, 308, 312, 319, 322, 324, 337, 340, 358, 363, 365, 385, 401, 411, 413, 423, 436, 442–444 Беллок Хилэр {Belloc} (1870–1953), англо-французский прозаик и поэт — 355
Бенеш Эдуард {Benes} (1884–1948), государственный и политический деятель Чехословакии — 302 Бентли Эрик {Bentley} (р. 1916), литературовед, критик, исследователь театра, автор книги «Жизнь драмы» — 19, 52, 407, 408 Бенцигер Ганс (7-2005), немецкий литературный критик — 302 Бенчли Роберт {Benchley} (1889–1945), американский писатель-юморист, колумнист крупнейших газет, киноактёр. Снимался у Хичкока — 357 Беньян Джон {Вепуап} (1628–1688), английский религиозный писатель, проповедник, автор сочинения «Путь паломника» — 358
Берар Кристиан {Berard} (1902–1949), французский художник, сценограф, теоретик декорационного искусства. Сотрудничал с Кокто — 218
Бергер Джон {Berger} (р. 1926), английский романист, художник, киносценарист, кинокритик — 19, 133 Бергсон Анри (1859–1941), французский философ — 311, 316 Бернар Сара (1844–1923), французская актриса — 21,187, 221,342 Бернхардт Томас {Bernhardt} (1931–1989), австрийский прозаик и драматург — 444 Бетховен Людвиг Ван {Beethoven} (1770–1827), немецкий композитор — 93
Бидерман Якоб {Bidermann} (1578–1639), драматург, писавший для театра иезуитов — 360 Бирбом Макс {Beerbohm} (1872–1956), английский критик, романист, пародист, карикатурист — 343
Бирс Амброуз{В1егсе} (1842–1914), американский писатель-роман- тик — 356
Бисмарк Отто фон {Bismarck} (1815-98), германский государственный деятель — 128 Блейк Уильям {Blake} (1757–1827), английский поэт, художник, почитаемый романтиками — 358 Блен Роже {Blin} (1907–1987), французский режиссёр и актёр. Сформировался в театре Арто. Первый постановщик пьес французского театра абсурда, в которых играл сам — 11, 28, 41, 42, 106, 107, 233, 235, 394
Бло Херберт {Blau} (р. 1926), американский режиссёр, теоретик performance, первый постановщик в США пьес С. Беккета, Ж. Жене, Г. Пинтера — 12, 19, 20, 40 Бодлер Шарль {Baudelaire} (1821–1867), французский поэт — 139, 238
Бовуар Симона де {Beauvoir} (1908–1986), французская писательница, философ, теоретик феминизма, супруга Сартра — 401 Бонд Эдвард {Bond} (р. 1934), английский драматург, режиссёр — 443
Боннар Пьер {Bonnard} (1867–1947), французский художник, сценограф, член группы наби (от древнееврейского navi — пророк), характеризующейся декоративностью, стилизацией, ориентализмом — 373
Боске Ален {Bosquet} (1919–1998), французский поэт-символист, критик, прозаик — 201 Босх Иероним {Bosch} (1460–1516), нидерландский художник, оказавший влияние на сюрреалистов — 138, 305, 330 Ботова Е., переводчик — 354
Брак Жорж {Braque} (1882–1963), французский художник, график, сценограф. Вместе с Пикассо — создатель кубизма — 373
Бранкузи Константин {Brancusi} (1876–1957), румынский скульптор-абстракционист — 28
Брейгель Старший, Питер {Bruegel, de Oude} (1525–1569), нидерландский художник — 138, 430 Бретон Андре {Breton} (1896–1966), французский поэт, прозаик, создатель парижской группы сюрреалистов. Автор Первого
(1924) и Второго (1929) манифеста сюрреализма — 180, 371, 376–378, 388, 389 Брехт Бертольт {Brecht} (1898–1956), немецкий поэт, прозаик, драматург, реформатор театра, создавший эпический театр — 6, 8, 120, 125, 132, 133, 145, 173–175, 190, 2266 301, 306, 324, 347, 348, 384–387, 389, 401, 413, 414, 420, 422, 434, 441-443
Брук Питер {Brook} (р. 1925), английский режиссёр театра и кино, теоретик, педагог. В 1964 экспериментировал в эстетике Арто — 11, 221, 235
Бруно Джордано (1548–1600), итальянский философ и поэт — 33 Брэдли Омар Н. {Bradley} (1893–1981), американский генерал, командующий армией в Европе во Вторую мировую войну — 283 Брюан Аристид {Bruant} (1851–1925), французский певец кабаре, композитор. Владелец ночного клуба — 374 Булез Пьер {Boulez} (р. 1925), французский композитор-авангардист, дирижёр, пианист, педагог — 176 Бурелиано Родика, жена Э. Ионеско — 139 Буццати Дино {Buzzati} (1906–1972), итальянский писатель — 286–288, 411
Буш Вильгельм {Busch} (1832–1908), немецкий поэт, живописец, рисовальщик, изобретатель комикса, где текст и рисунок, дополняя друг друга, составляют целое — 355 Бюхнер Георг {Buchner} (1813–1837), немецкий поэт, драматург, высоко ценимый экспрессионистами. Опера А. Берга «Воццек»
(1925) по пьесе Бюхнера «Войцек», центральное произведение музыкального экспрессионизма — 106, 120, 130, 204, 346–348, 403
Вагнер Рихард (1813–1883), немецкий композитор, дирижёр, реформатор оперного искусства — 17 Вайль Симона {Weil} (1909–1943), французская писательница, религиозный философ — 52 Вайнгартен Ромен {Weingarten} (1926–2006), французский драматург. Находился под влиянием Арто. Отрицал свою принадлежность к театру абсурда — 444 Вайс Петер {Weiss} (1916–1982), немецкий драматург, прозаик, режиссёр — 235, 442 Валер А. - 376
Валери Поль {Valery} (1871–1945), последний французский по- эт-символист, эссеист, критик — 33, 347 Валентин Карл {Valentin} (1882–1948) — немецкий комик, клоун, артист кабаре. Снимался в немых фильмах. Его юмор близок к дадаизму. Играл в пьесах Брехта — 385
Валье Инклан Рамон Мария дель {Valle-Inclan} (1866–1936), испанский писатель — 10, 405, 406
Ван Гог Винсент {Van Gogh} (1853–1890), голландский худож- ник-постимпрессионист — 8, 433 Вашингтон Джордж (1732–1799), американский государственный деятель, первый президент США — 13, 321 Вашингтон Марта, жена Дж. Вашингтона — 321 Веберн Антон фон {Vebem} (1883–1945), австрийский композитор и дирижёр — 280
Ведекинд Франк {Vedekind} (1864–1918), немецкий поэт, драматург, прозаик, участник кабаретного движения. Предвосхитил экспрессионистскую драму — 6, 348, 374, 384 Велде Брам Ван {Velde} (1895–1981) — нидерландский живописец и литограф. Начал как экспрессионист, затем обратился к абстрактной живописи — 401 Венгеров а Э., переводчик — 346
Верлен Поль {Verlaine} (1844–1896), французский поэт, один из основоположников символизма — 206, 366, 368 Верн Жюль {Verne} (1828–1905), французский писатель — 143 Виала Акакия {Viala} (?), французская актриса театра и кино, режиссёр — 147
Виан Борис {Vian} (1920–1959), французский писатель, драматург — 282, 283, 285–288, 370, 411 Вийон Франсуа {Villon} (ок. 1431 — после 1463), французский лирический поэт. Экспрессионисты видели в нём своего предшественника — 206
Вико Джамбаттиста {Vico} (1668–1744), итальянский философ — 33 Вилар Жан {Vilar} (1912–1971), французский актёр театра и кино, режиссёр, руководитель Авиньонского фестиваля (1947–1963) и с 1951 — TNP (Theatre National Populaire)- 11,28,106, 109,283 Виньи Альфред де {Vigny} (1797–1863), французский поэт-роман- тик, драматург, романист, теоретик искусства — 204 Витгенштейн Людвиг {Witgenstein} (1889–1951), австро-англий- ский философ, выдвинувший концепцию «логически совершенного», или «идеального» языка — 11, 418, 419 Виткевич Станислав Игнаций {Witkiewicz} (1885–1939), польский писатель, драматург, художник — 10, 402, 403, 405 Витрак Роже (1899–1952), французский драматург-сюрреалист -
365, 390-392
Вотье Жан {Vauhtier} (1910–1992), французский драматург — 26 Вюйяр Эдуар {Vuillard} (1868–1940), французский художник, сценограф, член группы наби — 373
Гавел Вацлав {Havel} (р. 1936), чешский драматург, писатель, государственный деятель — 10, 15, 332–334 Гарсия Лорка Федерико {Garcia Lorca} (1898–1936), испанский поэт, драматург — 406 Геббель Христиан Фридрих {Hebbel} (1813–1863), немецкий драматург, создатель буржуазной психологической драмы — 346,411
Гелбер Джек {Gelber} (1932–2003), американский драматург — 322
Гёльдерлин Фридрих {Holderlin} (1770–1843), немецкий поэт-романтик, драматург — 274 Гельдерод Мишель де {Ghelderode} (1898–1962) — бельгийский драматург фламандского происхождения. Писал на французском языке — 26
Геон Анри {Gheon} (1875–1944), французский драматург, поэт, критик — 369
Гесснер Никлаус {Gessner} (?-?), швейцарский ученый, автор первого исследования о Беккете на немецком языке — 50, 88, 90 Гёте Иоганн Вольфганг {Goethe} (1749–1832), немецкий поэт, прозаик, мыслитель — 361 Гилбер-Лекомт Роже (1907–1943), французский поэт и драматург — 397
Гильбер Иветт {Guilbert} (1867–1944), французская певица кабаре, создательница гротескно-эксцентрического стиля — «амплуа Иветт» — 374
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), русский писатель, драматург — 122, 130 Гойя Франсиско де (1746–1828) {Goya}, испанский живописец, гравёр, рисовальщик. Автор серии офортов «капричос» (1793–1799). Одна из работ — «Сон разума рождает чудовищ» — 305, 405
Голль Иван {Goll} (1891–1950), поэт-экспрессионист — 379–384,
394, 406
Голль Шарль де {Gaulle} (1890–1970), французский военный и государственный деятель — 100, 126, 128, 235 Гомбрович Витольд {Gombrovicz} (1904–1969), польский писатель — 10, 403–405 Гонгора Луис де {Gongora} (1561–1627), испанский поэт эпохи барокко — 405 Горовиц Израэл, американский драматург — 444 Горький Алексей Максимович (1868–1936), русский писатель, драматург — 42, 130, 132, 175 Готье Жан-Жак, французский критик, журналист — 156
Гофман Эрнст Теодор Амадей {Hoffmann} (1776–1822), немецкий писатель-романтик, музыкальный критик, композитор — 360 Граббе Христиан Дитрих {Grabbe} (1801–1836), немецкий драматург, карикатурист, романист, личность которого привлекала сюрреалистов — 347, 348 Грасс Гюнтер {Grass} (р. 1927), немецкий писатель — 305, 306 Грегор Джозеф, историк искусства — 342, 343 Гримальди Джозеф {Grimaldi} (1778–1837), английский клоун и мим. Мастер арлекинады — 342 Грис Хуан {Gris} (1887–1927), испанский художник, скульптор, «третий мушкетёр кубизма». Большую часть жизни прожил во Франции — 28, 373 Грок Шарль Андре {Grock} (1880–1959), швейцарский клоун, выступавший в цирке и мюзик-холле — 344 Гросс Георг {Gross} (1893–1959), немецкий художник-экспрессионист, затем дадаист, далее участник движения «новая объективность» — 332–334, 384 Гроссман Ян {Grossman}(1925-93), чешский режиссёр, театральный деятель — 332, 334 Грэхем Гарри {Graham} (1874–1936), английский журналист, поэт «черного юмора». Автор стихов оперетт и мюзиклов — 355 Гуггенхайм Пегги {Guggenheim} (1898–1979), крупнейшая американская галеристка, меценат и коллекционер современной живописи, ныне находящейся в музеях Венеции и Нью-Йорка — 37 Гюго Виктор {Hugo} (1802–1885), французский писатель — 204, 355, 366, 372, 389
Дали Сальвадор {Dali} (1904-89), испанский художник-сюрреалист, график, скульптор, режиссёр — 177 Данте Алигьери {Dante Alighieri} (1265–1321), итальянский поэт — 33, 358
Дебюро Жан-Гаспар {Deburau} (1796–1846), французский мим — 342
Дебюсси Клод {Debussy} (1862–1918), французский композитор-импрессионист — 374 Девин Джордж {Devine} (1910–1966), английский актёр, театральный и кинорежиссёр «новой волны», один из создателей English Arena Stage, где дебютировали «сердитые молодые люди» — 11, 44, 133
Делоне Робер {Delaunay} (1885–1941), французский живописец, график — 298
Демокрит из Абдер {Democritus the Abderit} (р. ок. 460/470 до н. э.), древнегреческий философ-материалист. Признавал два первоначала — атомы и пустоту — 76, 436 Дерми Поль {Dermee} (1886–1951), бельгийский поэт, прозаик, критик — 377
Деснос Робер {Desnos} (1900–1945), французский поэт-сюрреалист, интерпретатор идей сюрреализма — 395, 399 Дефо Даниэль {Defoe} (ок. 1660–1731), английский писатель, публицист, журналист — 190 Джойс Джеймс {Joyce} (1882–1941), ирландский писатель, стоявший у истоков модернизма — 8, 18, 28, 32–34, 36, 38, 46, 47, 53, 66, 71, 72, 272, 357, 363, 364, 415, 424 Джойс Лючия (1907–1982), дочь Д. Джойса, художница, танцовщица. Страдала шизофренией, была пациенткой К. Юнга. Умерла в клинике для душевнобольных — 36, 37 Джонсон Бен {Johnson} (1573–1637), английский драматург, поэт — 355
Джонсон Сэмюэль {Johnson} (1709–1784), английский поэт, критик, журналист — 135 Джонстоун Кит {Johnstone} (р. 1933), театральный педагог, режиссёр, актёр, автор книг по театральной педагогике — 134 Домм Сильван {Dhomme} (?-?), французский режиссёр театра и кино, постановщик пьес Ионеско — 11, 28, 155 Домье Оноре де {Daumier} (1808–1879), французский художник, карикатурист — 128 Доннер Клайв {Donner} (р. 1928), английский кинорежиссёр — 269 Донской М., переводчик — 359
Достоевский Фёдор Михайлович (1821–1881), русский писатель, мыслитель, публицист — 7, 96, 130, 147, 363 Дубровский Серж {Dubrovsky} (р. 1928) — французский литературный критик и теоретик. Ему принадлежит термин autofiction, жанр романтизированной автобиографии — 159, 160 Д’Эррико Эцио (1892–1972), драматург, киносценарист, художественный критик — 288–290 Дюбиллар Ролан французский кинорежиссёр и киноактёр — 444 Дюбюффе Жан (1901–1985) {Dubuffet}, французский художник- авангардист. Примыкал к сюрралистам — 401
Дюллен Шарль {Dullin} (1885–1940), французский режиссёр, актёр, театральный педагог, основатель театра Atelier. Первый интерпретатор экзистенциалистских драм Сартра — 11, 28, 392 Дюма-сын Александр {Dumas-fils} (1824–1895), французский писатель, драматург, публицист — 204 Дюмель Рене (1908–1944), французский поэт и драматург — 397, 399
Дюрренматт Фридрих {Durrenmatt} (1921–1990), швейцарский драматург, прозаик, художник-экспрессионист — 15, 301 Дюфи Рауль {Dufy} (1877–1953), французский художник, представитель фовизма и кубизма — 396 Дягилев Сергей Павлович (1872–1929), русский театральный и художественный деятель, один из основателей «Мира искусств», организатор «Русских сезонов» в Париже — 396
Евреинов Николай Николаевич (1879–1953), русский театральный деятель, драматург, режиссёр, историк и теоретик театра — 68, 69
Жакарт Эммануэль {Jacquart}, французский издатель — 16 Жакоб Макс {Jakob} (1876–1944), французский писатель, близкий к сюрреализму — 399 Жамм Франсис {Jammes} (1868–1938), французский поэт-символист и романист — 138 Жарри Альфред {Jarry} (1873–1907), французский писатель, поэт, драматург — 8, 168, 347, 365–373, 380, 390, 392, 397, 408
Жемье Фирмен {Gamier} (1869–1933), французский актёр и режиссёр, основатель Французского национального театра (1920). Первый исполнитель роли Убю в фарсе Жарри — 368, 394 Жене Жан {Genet} (1910-86), французский писатель — 1,9, 11, 15, 17, 25, 205–212, 214–221, 224–229, 232–274, 276, 282, 283, 319, 321, 336, 359, 411, 442–444 Жид Андре {Gide} (1869–1951), французский писатель — 8, 105, 106, 145, 365
Жироду Жан {Giraudoux} (1882–1944) — французский драматург и романист, создатель интеллектуальной драмы-притчи, осмысляющей на основе мифологических или библейских сюжетов современность — 25, 172, 204 Жуве Луи {Jouvet} (1887–1951), французский режиссёр, актёр, один из первых интерпретаторов интеллектуальной драмы — 11, 214, 218
Золя Эмиль {Zola} (1840–1902), французский писатель-натуралист, теоретик, создатель экспериментального романа — 362
Ибсен Генрик {Ibsen} (1828–1904), норвежский драматург, один из создателей национального театра, стоял у истоков новой драмы — 143, 204, 361, 362, 370, 414, 415, 427
Икар Тереза, мать Э. Ионеско — 136
Ильин Илья Петрович, современный российский философ, литературовед — 11
Иоанн Креститель {St. John of the Cross}, по евангельскому преданию, предтеча Христа, крестивший его в водах Иордана — 26, 437
Ионеско Эжен {Ionesco} (1912–1994), французский драматург — 8,
9, 11, 13–15, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 45, 131–204, 217, 238, 244, 248, 252, 273, 274, 276, 282, 283, 302, 312, 319, 320, 323, 324, 330, 335, 337, 340, 344, 357, 358, 360, 363–365, 370, 378, 384–387, 391,
395, 396, 401, 411, 419, 427, 429, 430, 432–434, 437, 442-444
Ионеско Родика, жена Э. Ионеско — 19
Ирш Робер {Hirch, Robert} (p. 1925), французский актёр театра и кино — 190
Йейтс Уильям Батлер {Yeats} (1865–1939), ирландский поэт-симво- лист, драматург. Создатель национального ирландского театра (Abbey Theatre) — 31, 94, 368, 369
Калдер Александр {Calder} (1898–1976), американский скульптор, создатель абстрактных кинетических композиций, художник, график — 298
Кальдерон де ла Барка Педро {Calderyn de la Barca} (1600–1681), испанский драматург и поэт эпохи барокко — 359
Каммингс Эдвард Эстин {Cummings} (1894–1962), американский поэт, романист, художник, критик, драматург- 10, 28, 407,408
Камю Апьбер {Camus} (1913–1960), французский писатель и философ — 24–26, 286, 401, 410, 426, 436
Кандинский Василий Васильевич {Kandinsky} (1866–1944), русский художник, теоретик изобразительного искусства; работал в Германии и Франции; стоял у истоков европейского художественного авангарда; прошёл путь от экспрессионизма к абстракционизму — 29, 180, 374
Кант Иммануил {Kant} (1724–1804), немецкий философ — 415
Караджале Йон Лука {Caragiale} (1852–1912), румынский писатель и драматург — 162 Кауард Ноэль {Coward} (1899–1973), английский драматург, актёр, певец, автор салонных комедий — 272 Кафка Франц {Kafka} (1883–1924), австрийский писатель, сочетавший в творчестве экспрессионизм, экзистенциализм, сюрреализм, «ни в одном из них не растворяясь» (Г. Ноцман). Важнейшая черта — развернутая метафора — 8, 18, 24, 161, 187, 212, 269, 272, 277, 287, 317, 324, 332, 364, 365 Кеведо Франсиско (Quevedo} (1580–1635), испанский поэт, прозаик, сатирик эпохи барокко, автор сборника повестей «Сновидения» (1627) — 405
Кейн Джеймс {Cain} (1892–1977), американский писатель и журналист, один из создателей roman noir и hardboild (крутого) детектива — 283
Кено Раймон {Queneau} (1903–1976), французский поэт и романист, многим обязанный сюрреализму. Пытался приблизить литературный язык к разговорной речи, к современному фольклору — 156, 168, 169, 274, 370, 401 Китон Бастер {Keaton} (1896–1966), американский актёр-комик, начинал в немых фильмах в амплуа стоика. «Микеланджело немого кино» — 8, 45, 343, 344, 346
Ките Джон {Keats} (1795–1821), английский поэт-романтик — 355 Клагес Людвиг {Klages} (1872–1956), немецкий философ, психолог, автор трудов о характерологии и графологии — 416 Клее Пауль {Klee} (1879–1940), швейцарский живописец и график, связанный с экспрессионизмом, сюрреализмом, дадаизмом — 298, 373, 431
Клейст Генрих фон {Kleist} (1777–1811), немецкий поэт-романтик, прозаик, драматург — 204 Клер Рене {Clair} (1898–1981), французский режиссёр, сценарист, актёр — 169, 212–214, 217, 227, 370 Клима Иван {Klima} (р. 1931), чешский драматург, прозаик, эссеист — 334
Клодель Поль {Claudel} (1868–1955), французский католический поэт, драматург, дипломат — 106, 109 Когоут Павел {Kohout} (р. 1928), чешский драматург, прозаик — 334
Кокто Жан {Cocteau} (1889–1963), французский поэт, драматург, режиссёр театра и кино, близкий эстетике сюрреализма — 8, 204, 219, 283, 396, 397
Кокошка Оскар {Kokoschka} (1886–1980), австрийский экспрессионист — живописец, график, литератор, драматург — 374, 375, 401
Колядко В. И., философ, переводчик — 64
Конгрив Уильям {Congreve} (1670–1729), английский комедиограф эпохи Реставрации — 272 Копит Артур {Kopit} (р. 1937), американский драматург — 323 Копо Жак {Сореаи} (1879–1949), французский режиссёр интеллектуального авангарда, основатель театра Vieux Colombier («Старая голубятня») — 11, 28 Корбет Ричард (1582–1635), поэт, архиепископ Оксфордский — 350 Корнель Пьер {Corneille} (1606–1684), французский драматург, родоначальник классицизма, «отец французской трагедии» — 204, 368
Кунар Нэнси Клара {Cunard} (1896–1985), английская писательница, политическая деятельница, подруга многих поэтов и художников эпохи модернизма — 34 Куртелин Жорж {Courteline} (1858–1928), французский романист, драматург — 384 Кэррол Льюис {Carroll} (1832–1898), английский писатель, математик, фотограф — 8, 310, 350, 352, 352–355, 399, 405 Кювелье Марсель {Cuvelier} (р. 1924), французский актёр и режиссёр — 150
Лабиш Эжен {Labiche} (1815–1888), французский комедиограф, автор водевилей — 194, 204 Лакан Жак {Lacan} (1901–1981), французский учёный-структура- лист — 9
Лао-цзы (604–531 до н. э.), древнекитайский философ, основоположник даосизма, учения о пути, призывающего следовать природе -
Лар Берт {Lahr} (1895–1967), американский комик, артист театра и кино — 437
Ларднер Ринг {Lardner} (1885–1933), американский писатель-сати- рик, фельетонист, спортивный обозреватель — 42 Лейрис Мишель {Leiris} (1901–1990), французский поэт-сюрреа- лист, прозаик, этнограф, теоретик джаза — 356, 357 Лемаршан Жак {Lemarchand} французский критик, автор предисловия к собранию сочинений Ионеско — 144, 148
Ленин Владимир Ильич (1870–1924), российский государственный и политический деятель — 375 Лено Дэн {Leno} (1860–1904), английский комик, мим мюзик-холла, использовавший юмор кокни — 343 Леон Поль {Leon} (?-?), секретарь Д. Джойса — 33, 36 Лир Эдвард {Lear} (1812–1888), английский художник и поэт, один из основоположников поэзии бессмыслицы (nonsensical poetry), автор абсурдистских лимериков — 8, 350, 351, 353–355, 399, 405, 420
Лихтенберг Георг Кристоф {Lichtenberg} (1742–1799), немецкий математик, профессор Гётеборгского университета, литературный критик, автор сборника афоризмов «Ненужные книги» (Apho- rismen). Его ставили в один ряд со Свифтом — 356 Ллойд Джордж Дэвид {Lloyd George} (1863–1945), английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании (1916–1922) — 390 Локк Джон {Locke} (1632–1704), английский философ — 415 Лорел Стэн {Laurel} (1890–1965), американский комический киноактёр. Звёзда американского кинематографа 30 50-х годов — 344
Лотреамон {Lautrdamont} (настоящее имя Дюкасс, Изидор-Люсьен) (1846–1870), французский поэт-имморалист эпохи раннего символизма. Автор «Песен Мальдорора» — мифологемы вселенского зла. Сюрреалисты считали его своим предшественником — 206, 366
Лоузи Джозеф {Losey} (1909–1984), американский кинорежиссёр — 269
Люнье-По Орельен-Мари {Lugn6-Poe} (1869–1940), французский режиссёр, актёр, антрепренёр, создатель Theatre L’CEuvre — 11, 28, 365, 377
Лэм Чарлз {Lamb} (1775–1834), английский поэт, эссеист. Сатирические эссе писал под именем Элиа — 355
Мадач Имре {Madach} (1823–1864), венгерский драматург-романтик — 361
Макгаун Джек (Джозеф) {Mcgowam} (р. 1918), ирландский актёр театра и кино. Работал с П. Бруком. Премия OBI (1971) как лучшему исполнителю в пьесах Беккета — 45 Макло Жак {Mauclair} (1919–2001), французский режиссёр, ученик Л. Жуве, известен постановками пьес Ионеско- 11, 28, 156, 189 Макуини Доналд {McWhinnie}, английский режиссёр и радиопродюсер — 43
Малларме Стефан {МаНагтё} (1842–1898), французский поэт-сим- волист, теоретик. В его сочинении Livre («Книга») понятия Слово, Книга, Театр слились в единое целое — 274,366, 368, 369
Мальро Клара {Malraux} (1897–1982), французская писательница, общественный деятель, жена Андре Мальро — 156
Манн Томас {Mann} (1875–1955), немецкий писатель, эссеист, публицист — 187, 212
Мариво Пьер де {Marivaux} (1688–1763), французский драматург, создатель стиля «мариводаж», сценического варианта рококо — 204, 342
Маринетти Филиппо Томмазо {Marinetti} (1876–1944), итальянский поэт, писатель, глава и теоретик футуризма — 374
Маркс, братья {Marx, brothers} — американские комики (Чико, Харпо, Граучо, Гуммо, Зеппо), выступавшие в мюзик-холле, снимавшиеся в фильмах немого и звукового кино — 297, 314, 344, 357, 393
Массон Андре {Masson} (1896–1987), французский живописец, график, сценограф, крупнейший представитель сюрреализма. Иллюстрировал маркиза де Сада, Лотреамона, позже Батая — 136
Матисс Анри {Matisse} (1869–1954), французский живописец, рисовальщик, гравёр, скульптор. Лидер фовизма (fauws — дикие) — 373
Мелвилл Герман {Melville} (1819–1891), американский писатель-романтик. Беккет упоминает героя его рассказа «Писец Бартлби», человека без прошлого и будущего, живущего в двоемирии — 40
Мендель Дерик {Mendel} (?), французский хореограф, танцовщик, педагог, актёр. Играл в пьесах Беккета — 43, 188
Мендес Катюлль {Mend6s} (1841–1909), французский поэт, критик, близкий к Парнасской школе — 367
Метерлинк Морис {Maeterlinck} (1862–1949), бельгийский драматург-символист, эссеист — 138
Метман Ева {Metman} (1895–1959), английский психолог, последовательница Юнга, автор работ о творчестве Беккета — 9, 61, 77, 423
Мийо Дариюс {Milhaud} (1892–1974), французский композитор, дирижёр, критик, педагог, участник группы «Шестёрка» — 396
Миллер Артур {Miller} (1915–2005), американский драматург, киносценарист, публицист — 132, 133
Миро Хоан (Хуан) {Miry} (1893–1983), испанский художник-сюрреалист, скульптор, график, керамист — 430
Михалович Марсель {Mihalovici} (1898–1985), французский композитор румынского происхождения, автор музыки к спектаклю
«Cascando» Беккета, оперы «Последняя лента Крэппа» (2003, Пражская Национальная опера). Автор симфоний — 45 Модильяни Амедео {Modigliani} (1884–1920), итальянский художник и скульптор — 374 Моклер Жак {Mocliere} (?-?), французский режиссёр, постановщик пьес Ионеско — 162
Мольер Жан Батист {Moliere} (1622–1673), французский драматург, актёр. Соединял буффонаду с лиризмом, создав образ «великого неудачника» (Т. Готье) — 8, 156, 161, 172, 342
Мондриан Пит {Mondrian} (1872–1944), нидерландский художник, один из мастеров беспредметного искусства, основатель школы неопластицизма — 298 Монье Адриена {Monnier} (1892–1955), французская поэтесса, издатель. Первая женщина во Франции, открывшая книжный магазин — 33
Моргенштерн Кристиан {Morgenstem} (1871–1914), немецкий поэт, драматург, автор афоризмов, переводчик Ибсена, Стриндберга, Гамсуна. Писал для кабаре «Шум и дым» — 354, 355, 399
Мориак Клод {Mauriac} (1914–1996), — французский литературный критик, теоретик кино, романист школы «нового романа» — 41 Моро Гюстав {Moreau} (1826–1898), французский художник-символист — 368
Моро Жанна {Moreau} (р. 1928), французская актриса театра и кино, киносценарист, режиссёр — 236 Мортимер Пенелопа {Mortimer} (1918–1999), английская писательница — 269
Мосли Николас {Mosley} (р. 1923), английский писатель, сын Освальда Мосли, создателя «Организации британского фашизма». Выступал с резкой критикой отца в романах и публицистике — 269
Мотнер Фриц {Mauthner} (1849–1923), немецкий философ, лингвист, рассматривавший язык, как социальную функцию. Исследователь литературных пародий — 36
Моцарт, Вольфганг Амадей {Mozart} (1756–1791), австрийский композитор, представитель Венской классической школы — 233, 345
Моэм Робин {Maugham} (1916–1981), английский романист, драматург, автор книг о путешествиях — 269 Мрожек Славомир {Mrozek} (р. 1930), польский драматург и писатель — 10, 325–329 Мурильо Бартоломе Эстебан {Murillo} (ок. 1618–1682), испанский живописец — 430
Муссолини Бенито {Mussolini} (1883–1945), глава фашистской партии и правительства Италии (1920-1940-е) — 390, 408 Мюссе Альфред де {Musset} (1810–1857), французский поэт-романтик, драматург, романист — 204, 276, 389
Невё Жорж {Neveu} (1900–1982), французский поэт, актёр, драматург. Секретарь JI. Жуве — 26 Нерваль Жерар де {Nerval} (1808–1855), французский поэт-роман- тик, переводчик Гёте («Фауст»). Для его поэзии характерны сно- видческие образы и эзотерические символы. Оказал влияние на Пруста, Бретона, Арто — 360 Нестрой Йоганн Непомук {Nestroy} (1802–1862) — австрийский актёр, драматург, «австрийский Шекспир». Автор более 80 комедий и фарсов. Его комедия «Сваха» в переводе Т. Уайлдера стала основой мюзикла «Хелло, Долли!» — 346 Ницше Фридрих {Nietzsche} (1844–1900), немецкий философ, один из основоположников философии иррационализма, «философии жизни». Связывал философию с критикой языка, не способного создать истинный образ мира — 338, 409 Нодье Шарль {Nodier} (1780–1844), французский поэт-романтик — 356
Ноэль Жак {Nouel} (р. 1924), французский сценограф, работавший в новых маленьких парижских театрах, оформлял спектакли Беккета, Ионеско, Брехта. Отличительная черта — трансформация сцены — 143, 272
Одиберти Жак {Audiberti} (1899–1965), французский драматург, поэт, романист — 26, 156 О’Кейси Шон {O’Casey} (1880–1964), ирландский писатель, драматург — 132
Олби Эдвард {Albee} (р. 1928), американский драматург — 318–322 Олдингтон Ричард {Aldington} (1892–1962), английский писатель — 34
Оливье Лоуренс {Olivier} (1907–1989), английский актёр и режиссёр театра и кино — 184 О’Нил Юджин {O’Neill} (1888–1953), американский драматург, основоположник и реформатор национального театра — 321 Оруэлл Джордж {Orwell} (1903–1950), английский писатель — 288 Осборн Джон {Osborne} (1929–1994), английский драматург. Его пьеса «Оглянись во гневе» (1957) положила начало драматургии «сердитых молодых людей» — 132, 133, 441
Оупи, Йона и Питер, составители оксфордского словаря детских рифм — 349
Павличек Франтишек {Pavlicek} (1923–2004), чешский драматург, сценарист — 334 Павлов Иван Петрович (1849–1936), российский физиолог — 315, 317, 318
Педроло Мануэль де {Pedrolo} (1918–1990), каталонский писатель, драматург — 19, 290–294, 412 Пере Бенжамин — 377
Перелман С. Дж. {Perelman} (1904–1979), американский юморист, автор гэгов для немых комедийных фильмов бр. Маркс — 357
Перо Альфред — 34
Петреску Камил {Petresku} (1894–1957), румынский романист и драматург, создатель пьесы-дискуссии в национальной драматургии — 139
Пикабиа Франсис {Picabia} (1879–1953), французский живописец — 377
Пикап Роналд {Pickup} (р. 1940), английский актёр театра и кино — 93
Пикассо Пабло {Picasso} (1881–1973), испанский художник, скульптор, график, живописец, керамист, дизайнер — 28, 180, 373, 374,
396, 401, 402, 405, 429, 431 Пинтер Гаролд {Pinter} (1930–2008), английский драматург, киносценарист, режиссёр и киноактёр. Лауреат Нобелевской премии-6, 9, 10,15, 19, 22,45,240–272,310,312,319, 320, 340, 357, 385, 412, 442
Пинье Робер (1919–1997), французский романист, художник и драматург — 307–310 Пиранделло Луиджи {Pirandello} (1867–1936), итальянский драматург, прозаик, теоретик театра — 42, 204, 323
Питоев Жорж {Р11оёГГ} (1884–1939), французский актёр и режиссёр русского происхождения, открывший Франции драматургию Чехова и Пиранделло — 42 Пише Анри {Pichette} (1924–2000), французский поэт и драматург — 26
Плавт {Plautus} (ок. 254–184 до н. э.), римский комедиограф — 340 Планшон Роже {Planchon} (1931–2009), французский режиссёр, создатель ThftBtre de la Cite (Лион). Блестящий постановщик Брехта, Адамова, спектаклей — игровых дискуссий — 120 Платон (ок. 428–348 до н. э.), древнегреческий философ — 26, 159
Поваркова А., переводчик — 351, 352 Повер Жан-Жак (р. 1926), издатель — 215, 219 Польери Жак {Polieri} (р. 1928), французский сценограф — 162, 298 Поп (Поуп), Александр {Pope} (1688–1744), английский поэт, автор сатирической поэмы «Дансиада» (dunce — тупица). Один из персонажей — английский поэт и драматург Э. Сеттл (1648–1724) — 430
Постек Робер {Postec}, французский режиссёр, постановщик пьес Ионеско — 168 Правосудов В. В., переводчик — 259
Превер Жан {Prevert} (1900–1977), французский поэт, драматург, киносценарист — 106, 169, 274, 370 Прус Дерек {Prouse}, английский переводчик — 184 Пруст Марсель {Proust} (1871–1922), французский писатель, один из основоположников модернизма — школы потока сознания — 8, 34, 35, 53, 62, 71, 73, 81, 269, 362 Пюви де Шаванн Пьер {Puvis de Chavannes} (1824–1898), французский художник-символист — 368
Рабле Франсуа {Rabelais} (1494–1553), французский писатель-гуманист — 349, 366, 370 Радигье Раймон {Radiguet} (1903–1923) — французский поэт, романист, драматург, входивший в круг Кокто — 397 Раймунд Фердинанд {Raimund} (1790–1836), австрийский актёр и драматург — 345, 346 Райх Герман, историк пантомимы — 338, 339, 341 Рафаэль Санти {Raffaello Santi} (1483–1520), итальянский живописец, график, архитектор — 430 Регер Макс {Reger} (1873–1916), немецкий композитор, органист, теоретик — 374
Регно Морис {Regnaut}, французский поэт, эссеист, драматург, переводчик — 112, 374, 375
Рейнхардт Макс {Reinhardt} (1873–1943), немецкий режиссёр и актёр — 6
Рембо Артюр {Rimbaud} (1854–1891), французский поэт-символист, предтеча сюрреалистов — 206, 366 Рембрандт Харменс ван Рейн {Rembrandt} (1606–1669), голландский художник, рисовальщик, гравёр — 48, 430
Реми Филипп де {Remi} (1250–1296), автор вербальных нелепиц — 348
Ренар Жюль {Renard} (1864–1910), французский поэт, прозаик, драматург — 348
Рено Мадлен {Renaud} (1890–1994), актриса Comedie Frangaise (1924–1946), затем Compagnie Madeleine Renaud — Jean-Lous Barraul. С 1990-х — крупнейшая актриса театра абсурда. Играла в пьесах Беккета и специально написанных им для неё скетчах, а так же в пьесах Жене — 44, 235 Рибмон-Дессень Жорж {Ribemont-Dessaigness} (1884–1974), французский писатель, драматург, музыкант, примыкавший к парижским дадаистам — 376–378 Рид Херберт {Reed} (1893–1968), английский поэт-анархист, литературный и художественный критик — 37 Рильке Райнер Мария {Rilke} (1875–1926), австрийский поэт- 130 Рингельнатц Иоахим {Ringelnatz} (1883–1934), немецкий поэт, прозаик, живописец и график, выступающий в литературных кабаре, в частности «Шум и дым» — 355 Ричардсон Тони {Richardson} (1928–1991) — английский кино- и театральный режиссёр «новой волны», один из создателей English Arena Stage, первый постановщик «Оглянись во гневе» Осборна — 11, 236
Роб-Грийе Ален {Robbe-Grillet} (1922–2008), французский писатель, киносценарист, основоположник «нового романа» — 307 Ромен Жюль {Remains} (1885–1972), французский писатель, драматург — 33
Ружевич Тадеуш {Rozewicz} (р. 1921), польский поэт, прозаик, драматург — 10, 329–334 Руссель Раймон {Roussel} (1877–1933), французский поэт, романист, драматург, кумир сюрреалистов — 400, 401 Руссо Анри {Rousseau} (1844–1910), французский художник-пост- импрессионист — 189, 401
Сад Донасьен Альфонс Франсуа де {Sade} (1740–1814), французский писатель-имморалист, драматург, философ-либертин, автор романов о сексуальных извращениях и жестокости. Сюрреалисты считали его одним из своих предшественников — 360, 443 Салакру Арман {Salacrou} (1899–1989), французский драматург, прозаик, сценарист — 25, 26, 144, 397
Самойлов Давид Самойлович (1920–1990), русский поэт, переводчик — 330
Сандрар Блез {Cendrars} (1887–1961), французский поэт-авангар- дист, писатель, предвосхитивший дадаизм и сюрреализм — 374 Сапервилль Жюль {Sapervielle} (1884–1960), французский поэт, прозаик — 156
Сарду Викторьен {Sardou} (1831–1908), французский комедиограф и водевилист — 143
Сароян Уильям {Saroyan} (1908–1981), американский драматург — 42
Сартр Жан-Поль {Sartre} (1905–1980), французский философ-экзи- стенциалист, романист, драматург — 25, 26, 64, 132, 159, 160, 173, 174, 206–209, 214–219, 238, 401, 426 Сати Эрик {Satie} (1866–1925), французский композитор, пианист, один из реформаторов европейской музыки первой четверти XX в. — 396
Свифт Джонатан {Swift} (1667–1745), английский писатель-сати- рик, памфлетист — 360 Сенека Люций Анний {Seneca} (4 в. до н. э. — 65 г. н. э.), римский философ-стоик, драматург, государственный деятель — 359 Сен-Ком Моник, {Saint-Come}, переводчица — 142 Сергеев Андрей Яковлевич (1933–1998) — переводчик англоязычной поэзии, поэт, прозаик93, 94 Серюзье Дени Поль {Serusier} (1863–1927) — французский художник группы наби — 373 Серро Жан-Мари {Serreau} (р. 1915), французский режиссёр-авангардист, постановщик пьес абсурда — 11, 28, 106, 167 Сеттл Э. {Settle} (1648–1724), английский поэт и драматург — 430
Сименон Жорж {Simenon} (1903–1989), французский писатель, автор детективов — 288 Симонз Артур {Symons} (1865–1945), английский поэт, критик, член «Клуба рифмачей», переводчик французской поэзии, автор работы «Символизм в литературе», посвящённой Йейтсу — 368
Симпсон Норман Фредерик {Simpson} (р. 1919), английский драматург -10, 19, 310–318, 411
Смит Бесси {Smith} (1894–1937), американская джазовая певица, «царица блюза» — 319
Сорока О., переводчик — 341
Софокл {Sophocles} (ок. 496–406 до н. э.), древнегреческий драматург, в трагедиях которого рок господствует над судьбой человека — 176, 204
Спенсер Эдмунд (Spenser} (1552–1599), английский поэт, автор аллегорической рыцарской поэмы «Королева фей» — 359 Спиноза Бенедикт {Spinoza} (1632–1677), нидерландский философ-материалист — 26
Стайн Гертруда {Stein} (1874–1946), американская писательни- ца-авангардистка, автор экспериментальных романов, коллекционер модернистской живописи — 10, 28, 406, 407, 417 Стайнер Джордж {Steiner} (р. 1929), профессор кафедры компаративной литературы в Оксфорде, Кембридже, Гарварде. Наиболее известные исследования «Толстой или Достоевский» (1960), «Смерть трагедии» (1961) — 417
Стендаль {Stendhal} (1783–1842), французский писатель — 394 Стерн Лоуренс {Sterne} (1713–1768), английский романист, давший романом «Сентиментальное путешествие» (1768) название литературному направлению «сентиментализм» — 356 Стоппард Том {Stoppard} (р. 1937), английский драматург — 443 Стриндберг Юхан Август {Strindberg} (1849–1912), шведский романист, драматург, историк, лингвист, ученый-естественник, художник, фотограф, один из зачинателей новой драмы — 8, 101, 130, 156, 204, 282, 321, 361–364, 415 Супо Филипп {Soupault} (1897–1990), французский поэт-сюрреалист, прозаик. Он и Бретон стоят у истоков автоматического письма — 33, 34, 376, 377 Суриц Елизавета, искусствовед, переводчица -
Сьюелл Элизабет {Sewell}, английская исследовательница категорий абсурда — 353
Тайнен Кеннет {Тупеп} (1927–1980) — английский театральный критик, адепт социальной драматургии («драматургии кухонной раковины») «сердитых молодых людей» — 131–134, 136, 174, 180, 270, 324, 387, 432, 433 Тардьё Жан {Tardieu} (1903-), французский поэт, драматург — 274–282, 337
Тати Жак {Tati} (1908–1982), французский киноактёр и кинорежиссёр — 345
Твен Марк (Клеменс, Сэмюэль Лэнгхорн) {Twain} (1835–1910), американский писатель, журналист, публицист — 356 Теренций {Terentius Publius Afer} (ок. 195–159 г. до н. э.), римский комедиограф — 340
Тернер Сирил {Tourneur} (1575–1626), английский драматург и поэт — 360
Тойнби Филип {Toynbee} (1916–1981), английский романист, автор экспериментальных романов — 133 Томсон Вёрджилл {Tomson} (1896–1989), американский композитор — 407
Торма Жюльен {Torma} (1902–1933), французский поэт и драматург — 397-400
Тулуз-Лотрек Анри де {Toulouse-Lautrec} (1864–1901), французский художник, близкий импрессионизму — 373 Тушар Пьер-Эме {Touchard}, французский критик — 150 Тцара Тристан ({Tzara} (1896–1963), французский поэт румынского происхождения, драматург, критик, один из основоположников дадаизма — 28, 373–378, 402 Тьер Адольф {Thiers} (1797–1877), французский государственный и политический деятель, президент Франции (1871–1873) — 128
Уайлдер Торнтон {Wilder} (1897–1975), американский романист и драматург — 42, 276, 301 Уайльд Оскар {Wilde} (1854–1900), английский поэт, драматург, прозаик, теоретик искусства — 31, 32, 204, 272 Уайт Рут {White} (1914–1969), американская актриса театра и кино — 44
Уилсон Эдмунд {Wilson} (1895–1972), американский критик, романист, драматург — 356 Уильямс Теннесси (Томас Ланье Уильямс) {Williams} (1911–1983), американский драматург, поэт, прозаик — 42 Уильямсон, Никол {Williamson} (р. 1938), английский актёр театра и кино — 132
Уолпол Хорас {Walpole} (1717–1797), английский писатель, родоначальник готического романа («Замок Отранто», 1765). Высоко ценился сюрреалистами — 360 Уотсон Доналд, английский переводчик — 151, 169, 201 Утрилло Морис {Utrillo} (1883–1955), французский живописец, пейзажист — 189 Уэбстер Джон {Webster} (ок. 1580–1634), английский драматург, автор «кровавых трагедий» — 360 Уэллс Джордж Орсон {Welles} (1915–1985), американский режиссёр театра и кино, сценарист, актёр — 134, 184
Фарг Леон-Поль {Fargue} (1876–1947), французский поэт — 33 Фейдо Жорж {Feydeau} (1862–1921), французский драматург — 194
Филдз У. С. {Fields W. С.} (1880–1946), американский комик, создатель образов симпатичных мизантропов. Жонглёр — 344
Фицджеральд, Ф. Скотт {Fitzgerald} (1896–1940), американский писатель — 269, 407
Флобер Гюстав {Flaubert} (1821–1880), французский писатель — 357 Фома Аквинский {Thomas Aquinas} (1225–1274), средневековый философ и теолог, основатель томизма; догматы веры разделял на рационально постижимые и рационально непостижимые. Канонизирован в 1323 — 26
Фош Фердинанд {Foch} (1851–1929), маршал Франции (1918), командующий французской армией в Первой мировой войне — 148 Франсуэль Бернар {Francueil} — 186
Фрателлини, бр., династия цирковых артистов, в 1920-х художественные руководители Парижского цирка — 396 Фрейд Зигмунд {Freud} (1856–1939), австрийский психиатр и психолог, основатель психоанализа — 9, 159, 160, 323, 348, 349 Френкель Теодор {Fraenkel} (1873–1930), французский врач российского происхождения, участник дадаистского движения, автор книги «Письма директора психиатрической больницы» — 388 Фрехтман, Бернард, американский переводчик — 220 Фриш, Макс {Frisch} (1911–1991), швейцарский писатель, драматург (нем. яз.) — 15, 300-303
Хайдеггер Мартин {Heidegger} (1889–1976), немецкий философ — 350
Хаксли Олдос {Huxley} (1894–1963), английский писатель, один из создателей интеллектуального романа — 439
Хандке Петер {Handke} (р. 1942), немецкий писатель и драматург австрийского происхождения. Авангардист, для которого характерны хаотичность, фрагментарность, игра со словесными конструкциями — 444
Харди Оливер {Hardy} (1892–1957), американский комический киноактёр, звезда немого кино 1930-х — 344
Хартли Лесли Поулс {Hartley} (1895–1972), английский писатель — 269
Хемингуэй Эрнест {Hemingway} (1899–1961), американский писатель и публицист — 28
Хеннингз Эмми {Hennings} (1885–1945), немецкая актриса и поэтесса, участница движения дадаистов, жена Балля — 373
Хетцель Пьер-Жюль {Hetzel} (1814-?), парижский издатель — 143
Хивнор Роберт {Hivnor} (р. 1916), американский драматург — 319 Хиггинс Эйден {Higgins} (р. 1927), ирландский писатель, публицист — 269
Хильдесхаймер Вольфганг {Hildesheimer} (1916–1991), немецкий драматург — 303–305 Хильзенбек Рихард {Huelsenbek, Richard} (1892–1974) — немецкий поэт, участник Цюрихской и Берлинской группы Дада — 373,
374
Холл Адам {Hall} (1920–1995), английский писатель — 269 Холл Питер {Hall} (р. 1930), английский режиссёр, один из создателей Королевского Шекспировского театра (1951) и Национального театра (1963) — 272 Хольберг Людвиг {Holberg} (1684–1754), датский драматург, комедиограф, содействовал становлению национального театра — 361
Хорват Эдён фон {Horvat} (1901–1938), австрийский писатель, драматург — 6
Худ Томас {Hood} (1799–1845), английский юморист и поэт — 355 Хэзлитт Уильям {Hazlitt} (1778–1830), английский писатель, эссеист, критик — 337 Хюльзенбек Рихард {Huelsenbeck} (1892–1974), немецкий поэт-дадаист — 373, 374
Цадек Петер {Zadek} (р. 1926), немецкий режиссёр-авангардист, осовременивающий классику в предельно агрессивной трактовке. Работал в Лондоне. Возглавлял немецкий Шекспировский театр в Гамбурге (1985–1989) и Berliner Ensamble — 219, 220
Чандлер Раймонд {Chandler} (1888–1959), американский писатель, автор детективов, критик — 283 Чаплин Чарли (сэр Чарльз Спенсер Чаплин) {Chaplin} (1889–1977), актёр, режиссёр, сценарист, композитор, продюсер — 8, 52, 295, 343, 344, 380
Чейни Питер {Cheeney} (1896–1951), английский писатель, автор детективов — 283 Чемберлен Артур Невилл {Chamberlain} (1869–1940), английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании (1937–1940) — 176, 219 Чехов Антон Павлович (1860–1904), русский писатель, драматург — 8, 105, 118, 120, 130, 132, 427
Шагал Марк Захарович {Shagall} (1887–1985) — русский живописец, график, иллюстратор, театральный художник — 28, 189
Шар Рене {Char} (1907–1988), французский поэт, близкий к кругу Бретона. Для его стиля характерна сложная ассоциативность, поэтические коды — 106
Шевалье Поль {Chevalier} (?) — французский актёр. Партнёр Шелтон в пьесах Ионеско — 155
Шекспир Уильям {Shakespeare} (1564–1616), английский драматург- 8, 120, 191, 204, 299, 338, 340–342, 347, 369, 381, 414, 427, 428
Шелли Перси Биши {Shelley} (1792–1822), английский поэт-романтик, драматург — 394
Шелтон Цилла {Chelton} (р. 1918), французская актриса театра и кино, театральный педагог. Известна ролями в пьесах Ионеско — 155, 156
Шепард Сэм {Shepard} (р. 1943), американский драматург, киноактёр, режиссёр — 444
Шехаде Жорж {Schehadfi} (1910–1989), французский поэт и драматург ливанского происхождения — 26, 282
Шиканедер Эмануэль {Schikaneder} (1751–1812), австрийский певец, либреттист, театральный деятель — 345
Шиллер Иоганн Фридрих {Schiller} (1759–1805), немецкий поэт и драматург — 45, 204
Шнайдер Алан {Schneider} (1917–1984), американский режиссёр, постановщик пьес французских абсурдистов и пьес Олби — 11, 44-46
Шопенгауэр Артур {Schopenhauer} (1788–1860), немецкий фило- соф-идеалист, сторонник волюнтаризма. Воля для него — первооснова сущего, высший принцип бытия. Главный труд «Мир как воля и представление» (1818–1844). Мир как представление обусловлен субъектом. Воля — космический принцип, лежащий в основе мироздания — 92
Шоу Джордж Бернард {Shaw} (1856–1950), английский драматург, музыкальный и театральный критик, теоретик искусства — 31, 301, 414
Шоу-Уивер Харриет {Shaw-Weaver} (1876–1961), французская журналистка, политический деятель, покровительница Джойса — 33
Эйбел, Лионел {Abel} (1910–2009), американский драматург, эссеист, романист — 71, 72
Эйнштейн Альберт {Einstein} (1879–1955), один из основоположников современной физики, автор теории относительности — 180
Экхарт Иоганн (Майстер Экхарт) {Eckhart, Meister} (1260–1327), монах доминиканец, немецкий философ-мистик, представитель т. н. апофатической (отрицательной) теологии: Бог не имеет атрибутов и не поддаётся определению — 26, 437 Элиаде Мирча {Eliade} (1907–1986), румынский писатель, историк религий и мифологий — 358 Элиот Томас Стернз {Eliot} (1888–1965), американо-английский по- эт-модернист, критик — 430, 431 Элюар Поль {Eluard} (1895–1952), французский поэт-сюрреалист, эссеист — 96, 377, 378 Эллманн Ричард {Ellmann} (1918–1987), англо-американский литературный критик. Биограф Джойса, Уайльда, Йейтса — 33, 36 Эрнст Макс {Ernst} (1891–1976), немецкий живописец, график, скульптор, романист, один из ведущих дадаистов и сюрреалистов — 401
Эстан Люк {Estang} (1911–1992), французский романист, поэт, критик, публицист — 156 Эсхил {Aeschylus} (525–456 г. до н. э.), древне-греческий драматург, «отец трагедии» — 204
Ювенал Децим Юний {Juvenalis} (ок. 55–60 — после 127 г. н. э.), римский сатирик — 339 Юм Дэвид {Hume} (1711–1776), английский философ, психолог, историк — 36
Юнг Карл Густав {Jung} (1875–1961), швейцарский психиатр, психолог. Последователь Фрейда, затем отошедший от него. Выдвинул понятие архетипа, совокупность которого составляет коллективное бессознательное — 9, 61, 77, 97, 130, 423, 424 Юуэл Том {Ewell} (1909–1994), американский актёр театра и кино — 42
Юэ Анри-Жак {Huet} (р. 1930), французский актёр театра и кино — 143
Яков Первый (1566–1625), шотландский король с 1567, английский король с 1603, сын Марии Стюарт — 32 Янко Марсель {Janco} (1895–1984), румынский художник-дадаист, участник «Кабаре Вольтер» — 374, 375 Ясное Михаил Давыдович, поэт, переводчик — 353
Примечания
1
Бахтин М. К вопросам самосознания и самооценки. // Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб.: 2000. С. 248.
(обратно)2
Бахтин М. М. К переработке книги о Достоевском. // Эстетика словесного творчества. М.: 1986. С. 343.
(обратно)3
Цит.: Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного метода. М.: 1998. С. 61.
(обратно)4
Бихевиоризм (англ. behavior — поведение) — направление психологии, рассматривающее психологию как физиологическую реакцию на стимулы, оказавшее влияние на ряд дисциплин, в частности, на лингвистику и семиотику.
(обратно)5
Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. С. 14.
(обратно)6
Организация экономического сотрудничества и развития.
(обратно)7
Эсслин, почему в новом издании про Беккета больше десяти страниц, а про меня только шесть? (Здесь и далее примечания переводчика.)
(обратно)8
Стиль эпохи Позднего Палеолита, созданный кроманьонцами.
(обратно)9
Книги имеют свою судьбу (лат.).
(обратно)10
Приблизительный смысл названия таков: «Наши изыскания вокруг его незавершенного творения». Речь идёт о работе Джойса над «Улиссом».
(обратно)11
Я не знаю, мсье (фр.).
(обратно)12
Потому что по-французски легче не соблюдать стиль.
(обратно)13
Чем больше изменяется, тем больше остается прежним (фр.).
(обратно)14
Мф. 25: 33.
(обратно)15
Верую, потому что это абсурд. Абсурд — это вера.
(обратно)16
Цитаты из труда Сартра «Бытие и ничто» даются в переводе с английского, сделанном М. Эсслином. Переводчик и автор предисловия В. И. Колядко вступает в полемику с российскими учеными, считая, что перевод на русский язык категории Сартра mauvaic foi как плохая вера (англ. — bad faith) «не раскрывает её смысла, так как совершенно непонятно, как вера может быть плохой, дурной». Он использует понятие «непреднамеренный самообман» или просто «самообман». См. Сартр Жан-Поль. Бытие и ничто. М., 2004. С. 8.
(обратно)17
Ни с тобой, ни без тебя (лат.).
(обратно)18
Не воспринимающего, но воспринимаемого (лат.).
(обратно)19
До бесконечности (лат.).
(обратно)20
Се чувствующий (лат.).
(обратно)21
Что вы хотите, мсье? Это слова, всего лишь слова, и не более того (фр.).
(обратно)22
Фокус, комбинация (фр.).
(обратно)23
В нижеприведённом переводе А. Сергеева: «бледней облачков».
(обратно)24
Проклятый поэт.
(обратно)25
Журнал коллежа патафизиков.
(обратно)26
Немые фильмы-комедии студии Keystone Film отличались фарсовой путаницей, недоразумениями, иногда с участием полицейских.
(обратно)27
Ненавистный (фр.).
(обратно)28
Программная пьеса.
(обратно)29
Образец совершенства (фр.).
(обратно)30
Можно предположить, что Жене под этим описанием имеет в виду тайную вечерю, тем более что обряд евхаристии, принятый с I в. н. э. — одно из основных таинств христианства.
(обратно)31
Сценический эффект.
(обратно)32
Об образе жизни Жене см. Jean Genet in Tangiers by Mohamed Choukrri, Ecco Press, N.Y., 1974 (примеч. М. Эсслина).
(обратно)33
Роман был закончен и издан в 1990 г.
(обратно)34
Театральный эффект (фр.).
(обратно)35
Pinter Н. The Dwarfs. London, 1990. На русском языке роман в переводе В. В. Правосудова. СПб., 2006.
(обратно)36
Любовь втроём (фр.).
(обратно)37
В 2000 г. состоялась премьера в Национальном театре (реж. Д. Трейвис).
(обратно)38
Здесь: непоследовательность (лат.).
(обратно)39
Вечер с кайфом и звёздами (сленг).
(обратно)40
Признавая влияние Беккета, Ионеско, Жене, Олби воздерживается от причисления себя к театру абсурда.
(обратно)41
До бесконечности (лат.).
(обратно)42
Разумное основание (фр.).
(обратно)43
Перевод Давида Самйолова.
(обратно)44
Мрачный или глупый (лат.).
(обратно)45
Мимический вздор (лат.).
(обратно)46
Цитата из «Короля Лира». Акт IV, сцена I. Перевод О. Сороки.
(обратно)47
Перевод Э. Венгеровой.
(обратно)48
Перевод А. Поварковой.
(обратно)49
Перевод А. Поварковой.
(обратно)50
Перевод М. Яснова.
(обратно)51
Перевод Е. Ботовой.
(обратно)52
Соответствует русскому выражению Стёпка-Растрёпка.
(обратно)53
Непереводимое буквосочетание, абракадабра.
(обратно)54
Детская книжка-путаница.
(обратно)55
Предложение основано на игре слова waffle (вафля и болтать, трепаться). Мама входит в аристократическую (исключительно вафельную) гостиную, где все треплются. Выходит, как будто она уже натрепалась (как будто она набралась вафель).
(обратно)56
Перевод М. Донского.
(обратно)57
Тщеславный. Любящий славу (лат.).
(обратно)58
Обратная гипербола.
(обратно)59
В русском переводе «Что тот солдат, что этот».
(обратно)60
В подлиннике название пьесы «Le Betrou».
(обратно)61
Перевод с английского подстрочный.
(обратно)62
Перевод с английского подстрочный.
(обратно)63
Vegetable (сленг) — «овощ»; в данном контексте — пьяница.
(обратно)64
Напоминаем, что издание вышло в 2001 году.
(обратно)
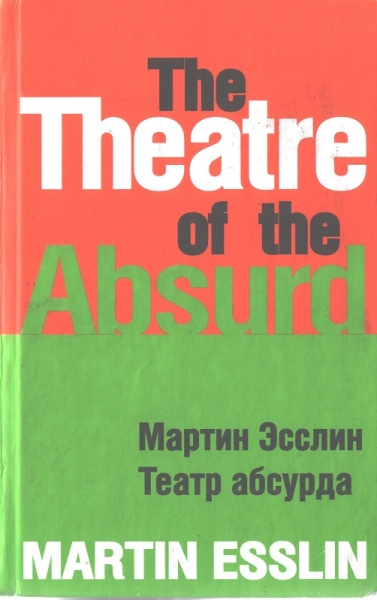


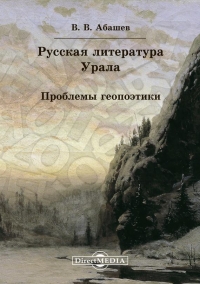


Комментарии к книге «Театр абсурда», Мартин Эсслин
Всего 0 комментариев