Андрей Борисович Есин Психологизм русской классической литературы Учебное пособие 3-е издание
ОТ АВТОРА
Одна из главных притягательных черт художественной литературы – ее способность раскрыть тайны внутреннего мира человека, выразить душевные движения так точно и ярко, как этого не сделать человеку в повседневной, обычной жизни. В психологизме один из секретов долгой исторической жизни литературы прошлого: говоря о душе человека, она говорит с каждым читателем о нем самом.
Русская классическая литература достигла в изображении внутреннего мира человека высочайших художественных вершин. Имена Лермонтова, Тургенева, Толстого, Достоевского – это имена крупнейших, гениальных писателей-психологов, равных которым не так уж много в мировой литературе.
Как правило, с этими и другими шедеврами русской психологической прозы человек впервые знакомится подростком, когда жизненный опыт и возрастные особенности восприятия еще не позволяют ему в полной мере постичь глубокий психологический смысл, заключенный в шедеврах русской классики. Старшекласснику здесь во многом может и должен помочь учитель-словесник, студенту – преподаватель вуза, а им, в свою очередь, хочет помочь автор этой книги.
В первом разделе читатель найдет общие сведения о психологизме как свойстве художественной литературы, здесь рассматриваются вопросы психологического мастерства писателя, ме́ста психологизма в литературном произведении, его особой содержательной роли; кратко освещаются основные этапы развития психологизма в мировой литературе. Второй раздел посвящен анализу своеобразия психологического стиля в произведениях крупнейших мастеров психологизма – Лермонтова, Тургенева, Чернышевского, Толстого, Достоевского, Чехова.
В книге речь идет только о психологизме в произведениях эпического, повествовательного рода. В лирике и драме психологизм, в силу родовой природы, имеет специфические особенности существования и развития и должен рассматриваться отдельно.
I ИНСТРУМЕНТ ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ
ЧТО ТАКОЕ «ПИСАТЕЛЬ-ПСИХОЛОГ»?
Ответить на этот вопрос не так просто, как кажется на первый взгляд. Быть психологом – значит понимать человеческую душу, проникать в скрытые мотивы поступков, словом – изучать человека. Но какой же писатель лишен этого качества? Между тем некоторых писателей – таких, как Лермонтов, Толстой, Достоевский, – мы особенно часто называем психологами, указывая тем самым на отличительную особенность их таланта. При этом, следовательно, подразумевается и наличие «писателей-непсихологов», т.е. тех, кто менее склонен изображать внутренний мир личности, чье внимание сосредоточено на иных сторонах человеческой жизни.
Итак, мы с самого начала сталкиваемся с двумя значениями слова психологизм – широким и узким[1]. В широком смысле под психологизмом подразумевается всеобщее свойство искусства, заключающееся в воспроизведении человеческой жизни, в изображении человеческих характеров. Отражая и художественно осваивая социальную, общественную характерность жизни людей, искусство и, в частности, литература создают не только общественные, но прежде всего психологические типы. В искусстве социальное как бы превращается в психологическое, воплощается в нем, получает через него свое выражение. Искусство познает социальные явления через явления психологические.
Воссоздавая тот или иной характер, стержнем которого является прежде всего некая социальная определенность, писатель воплощает его в персонаже, создает как бы новую индивидуальность, личность, обладающую неповторимыми особенностями. Совокупность устойчивых черт личности – реальной или вымышленной – называется в научной психологии и обыденной речи характером. Характер – это, безусловно, явление психологическое. Видимо, благодаря этому слова психология и характер сблизились и стали синонимами или почти синонимами.
В таком значении слово психология проникло и в литературоведческий обиход: так, часто говорят, что Лесков изобразил психологию русского человека и т.п., хотя терминологически гораздо точнее говорить здесь о характере – как воплощении главных, устойчивых черт явления в их индивидуальной конкретности. В других гуманитарных науках такое употребление слова психология не вызывает недоразумений и путаницы, а в литературоведении оно ведет к неразличению общих и специфических свойств литературы; ведь если писатель всегда изображает в своих произведениях «психологию» героев, т.е. создает характеры, типы, то это вроде бы и есть художественный психологизм, и, таким образом, все искусство, вся литература психологичны.
А между тем за термином психологизм в литературоведении прочно закрепилось другое, более узкое значение, согласно которому психологизм является свойством, характерным не для всего искусства и не для всей литературы, а лишь для определенной их части[2]. При этом подчеркивается, что «писатели-психологи» изображают внутренний мир человека особенно ярко, живо и подробно, достигают особой глубины в его художественном освоении. Вот об этом специфическом свойстве некоторых писателей и литературных произведений в дальнейшем и пойдет речь.
Необходимо сразу же сказать, что отсутствие в том или ином произведении психологизма в этом узком и точном значении слова не недостаток и не достоинство, а объективное свойство. Просто в литературе существуют психологический и непсихологическии способы художественного освоения реальности, и они равноценны с эстетической точки зрения. Иными словами, нельзя спрашивать, какой писатель лучше – психолог или непсихолог; они просто разные, обладающие несхожими творческими манерами, каждая из которых интересна и ценна сама по себе. К такому выводу приводит нас исследование психологизма в научной литературе последних 25 – 30 лет. В литературоведении же конца 50-х-начала 60-х годов, когда категория психологизма только еще начинала осваиваться, часто происходило смешение широкого и узкого понятий психологизма; ошибки этого периода поучительны и, к сожалению, иногда сохраняются в сегодняшней практике преподавания, поэтому мы остановимся на них подробнее.
В некоторых работах того времени происходило иногда неоправданное принижение той литературы, в которой отсутствовал психологизм в узком смысле. Это случалось, конечно, неумышленно и неосознанно, чаще всего – как следствие смешения понятий, когда психологизм одновременно понимается и как всеобщее свойство литературы, состоящее в воспроизведении человеческих характеров, и как изображение в художественном произведении внутреннего мира героев. Наличие психологизма объявлялось критерием художественности произведения: «Есть... область, без раскрытия которой существо человеческое в художественном произведении не будет жить полной жизнью: это сфера чувств, внутренний мир героев во всем его своеобразии, глубоко различный у каждого из них»[3].
Что здесь имеется в виду? Очевидно, тот развитый и богатый психологизм, который мы наблюдаем в творчестве Л. Толстого, Достоевского, Флобера... Но тогда получается, что либо в творчестве, скажем, Рабле или Гоголя присутствует психологизм, только «похуже», чем у Толстого или Достоевского, либо у этих писателей психологизма нет вообще (и это действительно так!) и, по логике исследователя, их герои не живут «полной жизнью» (что вовсе не соответствует действительности). В общем, согласно этой логике, произведения писателей типа Гоголя или Рабле в любом случае оказываются по эстетическим достоинствам ниже произведений признанных писателей-психологов.
Такое суждение могло возникнуть только потому, что под термином психологизм смешались два разных понятия и явления: широкое, универсальное, свойственное всей литературе, и узкое, специальное, характеризующее лишь какую-то часть (пусть даже очень значительную) художественных произведений.
Смешение понятий и, что еще опаснее, незаметный переход от одного значения термина к другому и обратно в ходе исследования характерен и для работы Т.С. Карловой «Вопросы психологического анализа в наследии Л.Н. Толстого», в целом очень серьезной и ценной своими наблюдениями и выводами. Наличие психологизма («психологического анализа», в терминологии Т.С. Карловой) и здесь признается критерием художественности, но в дальнейшем анализе – «Илиады» Гомера – автор доказывает, что в этой поэме психологизма еще не было[4]. В таком случае одно из двух: либо «Илиада» – произведение малохудожественное, либо налицо противоречие. А противоречие здесь в том, что в первом случае под психологизмом понималось явление универсальное, а во втором – специфическое. По ходу работы фактически произошла подмена значения и смысла.
Надо сказать, что смешение понятий мешает и углубленному изучению психологизма как самостоятельного и качественно определенного явления. Подсознательное убеждение исследователей в том, что все без исключения писатели были в той или иной мере «психологами», не позволяет сравнивать психологизм с непсихологической манерой письма. А раз такое сравнение отсутствует, то мы лишаемся элементарной начальной точки отсчета, не можем произвести даже первой операции, необходимой при исследовании любого объекта: сопоставить психологизм с тем, что не есть психологизм, – не говоря уже о том, чтобы выявить и изучить закономерности его возникновения, бытования, функций и места в структуре литературного произведения. Нам остается в таком случае лишь эмпирически изучать своеобразие психологизма в творчестве того или иного писателя (что и делается более или менее успешно) и отказаться от попыток осмыслить это явление с теоретической точки зрения.
Таким образом, установление понятийной и терминологической однозначности является безусловно необходимым.
Это хорошо понимал еще Чернышевский. Для него наличие психологизма в художественном произведении является критерием художественности, но критерием не универсальным. Ученый очень осторожен в этом вопросе: «Психологический анализ есть едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту»[5], но психологизм лишь в том случае является достоинством художественного произведения, когда он в этом произведении внутренне необходим. В вопросе об эстетических достоинствах Чернышевский оперирует более надежным и универсальным критерием – критерием соответствия формы и содержания: «Однажды написав „Метель“, которая вся состоит из ряда подобных внутренних сцен, он (Толстой. – А.Е.) в другой раз написал «Записки маркера», в которых нет ни одной такой сцены, потому что их не требовалось по идее рассказа»[6]. Из этого высказывания ясно, что Чернышевский отдает себе отчет в существовании непсихологического принципа письма и признает его самостоятельную эстетическую ценность.
Кстати, несколько выше Чернышевский отмечает отсутствие психологизма в «описании быта и привычек большого барина старых времен в начале... повести "Дубровский" Пушкина и говорит при этом, что «трудно найти в русской литературе более живую и точную картину», чем это описание[7]. В другой своей статье – «Не начало ли перемены?» – Чернышевский почти то же самое пишет об очерках Н. Успенского: в них мы не найдем психологического анализа, но ни содержательной, ни эстетической ценности они от этого не теряют, привлекая читателя другими достоинствами, прежде всего точным и правдивым описанием крестьянской жизни и быта – «правдой о народе без всяких прикрас»[8].
Все это говорит том, что Чернышевский весьма тонко и гибко подходил к вопросу о психологизме как эстетическом критерии.
Чего же мы вправе ждать от писателя-психолога, в чем состоит своеобразие психологизма как эстетического свойства? Некоторые исследователи полагают, что психологизм – это такое изображение человека в литературе, при котором характер понимается автором как «живая целостность». В характере в этом случае раскрываются его различные, иногда противоречащие друг другу грани, он предстает не однолинейным, а многоплановым. По сути дела, такой подход восходит к известной мысли Пушкина, что в искусстве необходимо различать «типы такой-то страсти» и «существа живые»; как пример первых он приводит характеры Мольера, вторых – Шекспира[9].
Одновременно в понятие психологизма включается обычно и глубокое изображение собственно внутреннего мира человека, т.е. его мыслей, переживаний, желаний. Понимание характера как сложного и многостороннего единства и изображение внутреннего мира персонажа выступают здесь как два аспекта, две грани психологизма.
Но, по-видимому, речь здесь идет о двух разных, хотя и взаимосвязанных явлениях. Разумеется, то, как понимает писатель структуру человеческой индивидуальности, во многом влияет и на само наличие психологического изображения в художественном произведении, и на конкретные особенности этого изображения. Тем не менее между принципами характерологии и наличием или отсутствием психологического изображения нет необходимой, жесткой связи. Вполне можно изображать психологически – т.е. через особенности мыслей и переживаний – личность, которой владеет «одна, но пламенная страсть». Так изображены, например, герои баллад Жуковского, Гете и Шиллера, романтических поэм Байрона, Пушкина, Лермонтова.
И наоборот – вполне «живые», не однолинейные индивидуальности могут воссоздаваться в литературе и без применения психологического изображения. Таков, например, пушкинский Пугачев в «Капитанской дочке», чей характер создан совершенно по типу шекспировских «живых существ», которые так привлекали Пушкина. Пугачев не только, скажем, жесток, – он и справедлив, и хитер, и добр, и наивен, и любопытен. Между тем по ходу повествования мы нигде не сталкиваемся с прямым изображением внутреннего мира Пугачева, не имеем возможности проследить детально ту мыслительную и эмоциональную работу, которая происходит в его душе. Обо всех чертах многогранного характера Пугачева мы узнаем единственно из его действий и поступков: этого оказывается вполне достаточно, чтобы художественно воспроизвести живую, полнокровную личность.
Таким образом, понимание писателем структуры личности и изображение литературного персонажа с помощью непосредственного показа его эмоций и размышлений – это явления, характеризующие разные стороны художественного произведения. Первое (подход к личности как к многогранному целому) относится к одной из сторон творческого метода, т.е. принципа художественного отражения действительности, и указывает на его реалистичность. Изображение же внутреннего мира человека – психологизм в собственном смысле слова – представляет собой способ построения образа, способ воспроизведения и осмысления того или иного жизненного характера; такой психологизм принадлежит к области формы, характеризует стиль, стилевое своеобразие произведения.
Иногда мастерство писателя-психолога видится в его способности изображать психические явления так, как они протекают в реальной жизни, в соответствии с закономерностями, установленными психологией как наукой. Так, например, великий русский физиолог и психолог И.М. Сеченов (не занимаясь специально проблемой литературного психологизма) отметил это свойство литературы: «Подчиненность людских действий определенным законам очень резко выказывается еще в нашей способности создавать художественные типы самых разнообразных характеров. Типы эти оттого именно и кажутся истинными, правдивыми, что все их действия строго вытекают из данных их характера, из условий среды и проч.»[10]. Это свойство литературы удобно обозначить термином психологическая достоверность.
Но сразу надо сказать, что такое положение, когда писатель изображает психические процессы в соответствии с научно установленными закономерностями, в целом в истории мировой литературы является случаем довольно редким. Главное же в том, что изображение внутреннего мира, приближающееся к научному познанию психологических закономерностей, является для литературы не самоцелью, а скорее побочным эффектом. Психологический анализ в творчестве писателей подчинен идейно-художественному замыслу в создании произведения.
Поэтому и психологическая достоверность (как и психологизм в собственном смысле) может возникать в художественном произведении (если этого требует содержание и общая система стиля), а может и отсутствовать и даже сознательно нарушаться. Нарушение психологического правдоподобия как сознательный художественный прием очень характерно для творчества Щедрина. Например, в его сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» мужик всячески ублажает генералов, кормит, поит их, а себе берет только одно кислое яблоко; сам же он и вьет веревку, которой генералы привязывают его, чтобы не убежал, – словом, выполняет все приказания генералов, хотя эти приказания никакой реальной силой не подкреплены. Здесь неправдоподобны не только внешние положения – неправдоподобна сама реакция мужика на события. Она невозможна в реальной жизни, ибо ни один конкретный, действительно существующий человек в здравом уме не способен «сам себя высечь», среди изобилия плодов взять себе одно кислое яблоко, вить для самого себя веревку и т.п. Но какую глубину придают эти психологически неправдоподобные детали щедринскому осмыслению характера многотерпеливого мужика, всей характерности крепостнической жизни, взаимоотношений властителей и подвластных! Психологическое неправдоподобие, как и неправдоподобие внешнее, служит у Щедрина более яркому выражению социальной правды, того состояния народа, к которому его привел многовековой гнет.
По тонкому замечанию Д.С. Лихачева, «в произведении может быть свой психологический мир: не психология отдельных действующих лиц, а общие законы психологии, подчиняющие себе всех действующих лиц, создающие "психологическую среду". Эти законы могут быть отличны от законов психологии, существующих в действительности»[11]. Поэтому подход к литературному психологизму как к выражению психической жизни человека вполне закономерен для психологии как науки, которая в конечном счете использует литературный материал для иллюстрации своих положений, но ничего специфически литературоведческого в этом подходе еще нет.
Кроме того, для художественного изображения в любом случае характерно определенное искажение психических процессов по сравнению с тем, как они протекают в реальной действительности: «Душевная жизнь подводится здесь уже под некоторые общие представления о формах ее проявления, подчиняется некоторому замыслу, часто связанному с традиционными формами, и тем самым неизбежно принимает вид условный, не совпадающий с ее действительным, внесловесным, непосредственным содержанием. Фиксируются только некоторые ее стороны, выделенные и осознанные в процессе самонаблюдения, в результате чего душевная жизнь неизбежно подвергается некоторому искажению или стилизации»[12].
Итак, под психологизмом в литературе мы будем понимать не особенности построения характеров в том или ином произведении и не наличие в нем психологической достоверности, а художественное изображение внутреннего мира персонажей, т.е. их мыслей, переживаний, желаний и т.п.
При этом следует иметь в виду, что практически ни одно произведение не может обойтись без какой-то, пусть самой краткой и примитивной, информации о внутреннем мире действующих лиц. Следовательно, практически в каждом произведении художественной литературы мы можем найти и психологическое изображение. Однако психологизм как особое эстетическое свойство возникает далеко не всегда. О психологизме можно говорить лишь в том случае, когда психологическое изображение становится основным способом, с помощью которого познается изображенный характер; когда оно несет значительную содержательную нагрузку, в огромной мере раскрывая особенности тематики, проблематики и пафоса произведения; когда оно достаточно велико по объему. Как результат – психологическое изображение становится весьма изощренным, тонким и глубоким, не ограничивается общим, схематическим рисунком внутреннего состояния. Тогда и возникает в литературе собственно психологизм.
Одновременно возникают и особые, соответствующие художественным задачам способы освоения внутреннего мира человека. Психологическое изображение в литературе может осуществляться в нескольких основных формах. Для психологизма – в отличие от непсихологического принципа построения образа – характерны особые закономерности в сочетании и использовании этих форм.
Существуют три основные формы психологического изображения, к которым сводятся в конечном счете все конкретные приемы воспроизведения внутреннего мира. Две из этих трех форм были теоретически выделены И.В. Страховым: «Основные формы психологического анализа возможно разделить на изображение характеров "изнутри", то есть путем художественного познания внутреннего мира действующих лиц, выражаемого при посредстве внутренней речи, образов памяти и воображения; на психологический анализ "извне", выражающийся в психологической интерпретации писателем выразительных особенностей речи, речевого поведения, мимического и других средств внешнего проявления психики»[13].
Назовем первую форму психологического изображения «прямой», а вторую «косвенной», поскольку в ней (второй) мы узнаем о внутреннем мире героя не непосредственно, а через внешние симптомы психологического состояния. Первая форма вряд ли нуждается в иллюстрации, поскольку вполне понятно, о чем идет речь. Приведем пример второй, «косвенной» формы психологического изображения, которая особенно широко использовалась в литературе на ранних ступенях развития:
Мрачное облако скорби лицо Ахиллеса покрыло. Обе он горсти наполнивши пеплом, главу им осыпал: Лик молодой почернел, почернела одежда, и сам он Телом великим пространство покрывши великое, в прахе Был распростерт, и волосы рвал, и бился о землю. Гомер. «Илиада» (Перевод В.А. Жуковского)Перед нами типичный пример косвенной формы психологического изображения, при котором автор рисует лишь внешние симптомы чувства, нигде не вторгаясь прямо в сознание и психику героя.
Но у писателя существует еще одна возможность, еще один способ сообщить читателю о мыслях и чувствах персонажа – с помощью называния, предельно краткого обозначения тех процессов, которые протекают во внутреннем мире. Условно назовем этот способ «суммарно-обозначающим». А.П. Скафтымов писал об этом приеме, сравнивая особенности психологического изображения у Стендаля и Л. Толстого: «Стендаль идет по преимуществу путями вербального обозначения чувства. Чувства названы, но не показаны»[14], а Толстой подробно прослеживает процесс протекания чувства во времени и тем самым воссоздает его с большей живостью и художественной силой.
Итак, одно и то же психологическое состояние можно воспроизвести с помощью разных форм психологического изображения. Можно, например, сказать: «Я обиделся на Карла Иваныча за то, что он разбудил меня» – это будет суммарно-обозначающая форма. Можно изобразить внешние признаки обиды: слезы, нахмуренные брови, упорное молчание – это косвенная форма. А можно, как это и сделал Толстой, раскрыть психологическое состояние при помощи прямой формы психологического изображения: «Положим, – думал я, – я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня, а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, – прошептал я, – как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка – какие противные!» («Детство»).
Естественно, что каждая форма психологического изображения обладает разными познавательными, изобразительными и выразительными возможностями. В произведениях писателей, которых мы привычно называем психологами, – Лермонтова, Толстого, Флобера, Мопассана, Фолкнера и других – для воспроизведения душевных движений используются, как правило, все три формы. Но ведущую роль в системе психологизма играет, разумеется, прямая форма – непосредственное воссоздание процессов внутренней жизни человека. Это вполне закономерно, поскольку данная форма психологического изображения является наиболее естественной для литературы как вида искусства, прирожденной для нее и, следовательно, обладает наибольшими возможностями представить нам внутреннюю жизнь человека живо, наглядно и подробно. Еще Лессинг отмечал, что носитель образности в литературе – слово – легко фиксирует те явления жизни, которые не получают материального, наглядного воплощения в самой реальности[15]. К таким явлениям относится, конечно, внутренний мир человека.
Есть и второе обстоятельство, которое обусловливает исключительные возможности психологического изображения в литературе. При создании литературных образов писатель пользуется языком, словом, что позволяет ему прямо и непосредственно запечатлевать процессы мышления, так как оно осуществляется не иначе как в речи, слове.
Таким образом, литература имеет поистине уникальные возможности в сфере изображения внутреннего мира человека.
Но эти возможности реализуются не автоматически и далеко не всегда. Мы привыкли, что писатели нового времени в изображении душевных движений пользуются всеми тремя формами психологического изображения – «прямой», «косвенной» и «суммарно-обозначающей». Но так было не всегда и не везде. На ранних ступенях развития художественная литература воспроизводила внутренний мир персонажей, лишь называя отдельные процессы душевной жизни или фиксируя их внешние проявления в жестах, мимике, поступках, публичной речи и т.п. Такую картину наблюдаем мы, например, в поэмах Гомера, в «Слове о полку Игореве», в народных сагах, былинах и сказках, в «Песне о Роланде»... Хотя внутренний мир героев и запечатлевался таким образом в литературе (в той или иной мере), но психологизма в собственном смысле слова в ней еще не было: литература не пользовалась наиболее важным и наиболее свойственным ее природе средством психологического изображения – прямым проникновением в процессы внутренней жизни героя и передачей этих процессов в формах внутреннего монолога, авторского психологического анализа, несобственно-прямой речи и т.п. Отсутствию прямой формы психологического изображения сопутствовали и другие черты стиля: сосредоточенность повествования на событиях и действиях героев либо на их нравах (как у Гесиода и Горация или в русских сатирических повестях); лишь эпизодическое (а не постоянное) изображение внутреннего мира даже в его внешних проявлениях; несамостоятельность психологического изображения, его подчиненность описанию событий, действий, нравов. Словом, психологическое изображение, использующее только «косвенную» и «суммарно-обозначающую» формы, не становилось и не могло стать существенным моментом в системе художественного произведения.
Сказанное позволяет сделать вывод, что о психологизме как особом, качественно определенном явлении, характеризующем своеобразие стиля данного художественного произведения, есть смысл говорить только тогда, когда в литературе появляется форма прямого изображения процессов внутренней жизни, когда литература начинает достаточно полно и подробно изображать (а не обозначать только) такие душевные движения и мыслительные процессы, которые не находят себе внешнего выражения, когда – соответственно – в литературе появляются новые композиционно-повествовательные формы, способные запечатлеть скрытые явления внутреннего мира достаточно естественно и адекватно (формы внутреннего монолога и диалога, психологический самоанализ и т.п.). При этом «косвенная» и «суммарно-обозначающая» формы психологизма во взаимодействии с «прямой» приобретают способность глубже и точнее характеризовать внутренний мир героя. Одновременно повышается удельный вес психологического изображения, оно становится более самостоятельным; последовательное раскрытие внутренних процессов делается необходимым для осмысления характера и воплощения проблематики произведения. Таковы признаки психологизма как свойства стиля художественного произведения.
Может показаться, что, называя основным признаком психологизма использование прямой формы изображения душевных движений, мы недооцениваем те типы психологизма, которые, не описывая прямо событий внутренней жизни, достигают значительной глубины и силы художественного психологического изображения, опираясь на подтекст и широко используя известное свойство искусства, которое Хемингуэй определил так: «Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом»[16]. Психологизм такого рода получил широкое развитие приблизительно с конца XIX века.
На самом деле недооценки этого новаторского психологизма в наших рассуждениях не происходит. Просто природа косвенной формы психологического изображения в творчестве писателей-психологов XIX – XX веков принципиально иная, чем, скажем, в той же «Илиаде», примером из которой мы воспользовались выше. Принципиально иным становится на рубеже XIX – XX веков и соотношение прямой и косвенной форм. В литературе новейшего времени косвенная форма обязательно выступает «на фоне» прямой; эти два способа психологического изображения постоянно сочетаются и взаимодействуют, причем далеко не всегда косвенная форма количественно преобладает даже в творчестве писателей-психологов, в огромной мере ориентирующихся на подтекст, – Чехова, Бунина, Хемингуэя. Бывают, правда, случаи (в целом чрезвычайно редкие и возможные, очевидно, только в произведениях малого жанра), когда писатель-психолог использует исключительно косвенную форму психологического изображения, не прибегая ни к прямой, ни к суммарно-обозначающей. Хорошим примером могут служить некоторые рассказы Хемингуэя. Но и в этом случае «фон» прямой формы тоже существует, только он вынесен за рамки произведения; он – в общем опыте словесно-художественной культуры; косвенный психологизм Чехова и Хемингуэя невозможен без предшествующего прямого психологизма Л. Толстого, Флобера, Диккенса.
Даже когда прямая форма предельно редуцирована (сокращена, стянута), ее введение все-таки возможно и, когда это необходимо, оно и осуществляется. В системе же косвенного психологического изображения (например, у Гомера) прямая форма невозможна вообще, немыслима: она еще и эстетически не освоена, и содержательно не нужна.
Косвенная форма психологизма новейшего времени как бы скрыто содержит в себе прямую, ибо подразумевает возможность и необходимость расшифровки, возможность своей замены (хотя бы в читательском сознании) на форму прямую. Мы отчетливо осознаем, что косвенная форма здесь выступает вместо прямой, замещает ее. В системе же непсихологического стиля косвенная форма психологического изображения ничего не замещает и ничего не подразумевает – она выступает там в собственном, чистом виде.
Существенно также и то, что, обращаясь к прямой форме психологического изображения или к ее функциональному заместителю – косвенно-намекающему, подтекстовому психологическому изображению, литература использует органически присущие ей художественные возможности, вытекающие из ее словесно-речевой природы. И наоборот: такой прием, как изображение переживаний путем фиксации их внешне-портретных проявлений (включая жестикуляцию), – а именно это и характерно для элементов косвенного психологического изображения при непсихологическом стиле – литература как бы заимствует из несловесных искусств – живописи, скульптуры, актерской игры и т.п. Суммарное же обозначение психологических состояний (типа «он в сильном горе») вообще характерно не столько для искусства, сколько для бытовой, эстетически незначимой речи.
Суммируя сказанное, можно предложить такое определение психологизма в литературе: психологизм – это достаточно полное, подробное и глубокое изображение чувств, мыслей и переживаний вымышленной личности (литературного персонажа) с помощью специфических средств художественной литературы.
В последующих главах мы конкретизируем это определение, рассматривая художественные задачи психологизма, его место в системе произведения, внутреннюю структуру.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ПСИХОЛОГИЗМ?
Казалось бы, ответ на вопрос «Зачем нужен психологизм?» предельно ясен: писателям свойствен интерес к внутреннему миру человека. Но ведь мы понимаем под психологизмом изображение в литературе мыслей, желаний, переживаний героев, т.е. различных психических процессов. Интересуют ли писателей эти процессы сами по себе или то, что за ними стоит и в них выражается?
Вопрос важный, потому что от него зависит, что мы увидим в произведении художника-психолога: только верное и живое изображение душевных движений или же какое-то более глубокое содержание. Иными словами, психологизм – суть литературы или только один из приемов ее? содержание или форма?
Если понимать психологизм в строгом и точном смысле, то верным окажется второй ответ: прием, форма. В самом деле: интерес к психологическим процессам как таковым характерен не для литературы, не для искусства вообще, а для психологии как науки. Литература художественно осваивает, изучает не закономерности психики и сознания человека, а его общественное в широком смысле слова бытие, закономерности жизни человека как существа не биологического, а общественного. Поэтому и внутренний мир человека, его стремления, чувства, размышления изображаются в литературе не как самоцель, а для того, чтобы создать художественно убедительный образ личности, ее идейно-нравственной сути. Психологизм – это определенная художественная форма, за которой стоит и в которой выражается художественный смысл, идейно-эмоциональное содержание.
Н.Г. Чернышевский, одним из первых заговоривший о психологизме как особом художественном явлении, также понимал это свойство произведения как свойство его художественной формы. В этом нас убеждает анализ его статьи о ранних произведениях Льва Толстого. Чернышевский пишет, что, кроме психологического анализа, Толстой владеет и другими художественными средствами и приемами: «... выражаясь фигурально, он умеет играть не одной этой струной»[17]. Далее следует сравнение способности Толстого изображать внутренний мир с возможностями певческого голоса. Все это сравнения показательные: и возможности той или иной струны музыкального инструмента, и глубина, диапазон, тембр голоса – принадлежность эстетической формы; качества эти используются для воплощения определенного идейно-эмоционального содержания исполняемой мелодии, песни, арии.
Чернышевский последовательно отличает умение изображать внутренний мир героев с определенной степенью мастерства от умения проникать в сущность человеческих характеров и взаимоотношений: «Он (Толстой – А.Е.) чрезвычайно внимательно изучал тайны жизни человеческого духа в самом себе; это знание драгоценно не только потому, что доставило ему возможность написать картины внутренних движений человеческой мысли... но еще, может быть, больше потому, что дало ему прочную основу для изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин действия, борьбы страстей и впечатлений»[18]. Первое свойство характеризует здесь особенности изображения жизни в творчестве Толстого, а второе, более универсальное (оно принадлежит не одному Толстому, а всем талантливым писателям), характеризует сферу отражения, и не случайно оно названо более важным.
Рецензия на произведения Л.Н. Толстого выглядит несколько необычно на фоне большинства статей критика. Такие его статьи, как «Русский человек на rendez-vous», «Очерки гоголевского периода», «Не начало ли перемены?», статьи о «Губернских очерках» Щедрина и другие, – это не только разборы отдельных художественных произведений, но в такой же, если не в большей степени анализ реального состояния общественной жизни России. Разговор о литературе все время переходит у Чернышевского в разговор о самой жизни, сливается с ним. Критик предпочитает анализировать в первую очередь содержательную сторону произведений, их общественный смысл и направленность. Главное для него – это отражение процессов социальной жизни в том или ином литературном произведении, и только во вторую очередь его интересует авторская позиция, авторские симпатии и антипатии. В статье же о Толстом этих вопросов не то чтобы совсем нет, но они, безусловно, отходят на задний план. Статья представляет собой (во всяком случае, в той части, которая посвящена собственно психологизму) «чисто эстетический» разбор художественных особенностей творчества Толстого; акцент ощутимо перемещается: в центре внимания не проблема отражения действительности в литературном произведении, а особенности изображения, проблемы литературно-художественной формы.
Наконец, Чернышевский месяц спустя сам пишет, ссылаясь на свой отзыв о ранних повестях Толстого: «В прошедшем месяце, когда, по случаю издания "Детства", "Отрочества" и "Военных рассказов", мы выражали свое мнение о тех качествах, которые должны считаться отличительными чертами в таланте графа Л.Н. Толстого, мы говорили только о силах, которыми теперь располагает его дарование, почти совершенно не касаясь вопроса о содержании, на поэтическое развитие которого употребляются эти силы»[19].
Коль скоро изображение внутреннего мира, психологизм – это не предмет постижения в литературе, а одно из средств постижения, особая литературная форма, то понятно, почему не во всех произведениях мы находим психологизм. Его появление в каждом конкретном случае закономерно обусловлено особенностями содержания, потребовавшего именно такого, психологического раскрытия характера, построения образа человека. Чернышевский отчетливо видел и эту зависимость: «Мы не то хотим сказать, что граф Толстой непременно и всегда будет давать нам такие картины (т.е. изображение внутреннего мира. – А.Е.): это совершенно зависит от положений, им изображаемых, и, наконец, просто от воли его. Однажды написав «Метель», которая вся состоит из ряда подобных внутренних сцен, он в другой раз написал «Записки маркера», в которых нет ни одной такой сцены, потому что их не требовалось по идее рассказа»[20].
Итак, наличие или отсутствие психологизма в первую очередь зависит от идеи произведения, от его содержания. Но это положение представляется, конечно, слишком общим и нуждается в существенной конкретизации. Какое именно содержание вызывает к жизни психологизм, закономерно приводит к использованию именно этой формы изображения человека?
Весьма распространенной в литературоведении является точка зрения, согласно которой основной причиной возникновения психологизма является тематика произведения, особенности изображенных характеров. Такое решение вопроса мы видим, например, в исследовании И.В. Страхова «Психологический анализ в литературном творчестве»[21]. И.В. Страхов задается вопросом, почему в трилогии Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность» в полном смысле психологически изображен только один Николенька (в частности, ему одному свойственны внутренние монологи). Отвечая на этот вопрос, исследователь обращает внимание на объективные черты личности Николеньки, которые якобы отличают его от окружающих: «богатство душевной жизни, оригинальность ума», «интерес к своей личности, аналитический склад ума» и т.п. Другие герои трилогии, по мысли Страхова, не обладают этими качествами, поэтому их образы строятся непсихологически. В частности, применение в изображении этих героев внутренних монологов, по мнению Страхова, «было бы психологически неоправданным».
В этом необходимо разобраться. Раскрытие при помощи внутренних монологов и иных специфических средств психологизма внутреннего мира людей, окружающих Николеньку, действительно выглядело бы нецелесообразным и. не совсем естественным. Это чувствуется даже эмпирически, без всякого специального анализа. Однако те ли причины, на которые указывает Страхов, обусловили такую ситуацию в толстовской трилогии? Нам представляется, что дело не столько в богатстве или бедности личности Николеньки и других персонажей, сколько в общих законах стилеобразования, в специфике стиля трилогии. Стилевой «доминантой», по выражению Б. Томашевского, является здесь композиционно-повествовательная форма «Ich-Erzдhiung», причем повествование ведется не от лица второстепенного персонажа, чья функция сводится к регистрации событий, а от лица героя главного: осмысление характера Николеньки находится в центре внимания Толстого, в огромной мере раскрывает основную проблематику трилогии. В этих условиях введение в повествование чужих (не Николенькиных) внутренних монологов было бы, конечно, очень затруднено, поскольку единство точки зрения в повествовании выдерживается очень строго. Таким образом, введение внутренних монологов при изображении других персонажей было бы, действительно, неоправданным, но не психологически, как считает И.В. Страхов, а художественно, поскольку нарушало бы эстетическое единство стиля.
Сам же стиль толстовской трилогии во всем его своеобразии представляет собой выражение определенного художественного содержания. Повествование от лица главного героя появляется в повестях потому, что Толстому важно проследить нравственное развитие личности максимально подробно. Толстого интересовали не индивидуальные различия в этом процессе, а путь от детства к юности, свойственный человеку вообще. Для раскрытия этой проблематики вполне достаточно образа одного Николеньки, поэтому и выбирается форма повествования от первого лица, позволяющая раскрыть путь нравственного развития одного героя, но зато раскрыть во всей полноте и подробности.
Между тем ничто не говорит нам, что личность многих других персонажей в повестях потенциально менее глубока, богата и интересна, чем личность Николеньки. Заключение Страхова таково: коль скоро персонаж не изображен психологически, то значит, его характер и внутренний мир не обладают необходимыми для такого раскрытия качествами. Но ведь можно сделать и противоположное заключение: личность героев представляется нам менее богатой и сложной именно потому, что для создания образов этих персонажей не применяются средства и приемы психологического анализа. Личность потенциально может быть достаточно богатой и сложной, но эти ее свойства могут художественно не акцентироваться писателем, не входить в его проблематику.
Таким образом, решающими для возникновения психологизма оказываются не объективные свойства характеров (тематика), а их авторское осмысление, вопросы, ради постановки и разрешения которых писатель создает своих героев.
Объективная действительность отражается в произведении не прямо, а пройдя через призму писательской субъективности. В процессе творческой типизации писатель выделяет определенные, интересующие его грани действительной жизни, так или иначе осмысляет жизненные явления и процессы. Осмысление писателем жизненных характеров и их отношений, его интерес к тем или иным вопросам, преимущественное внимание к тем или иным свойствам человеческой жизни в литературоведении принято называть проблематикой[22]. Именно в особенностях проблематики, которая является наиболее активной, решающей стороной художественного содержания, своеобразие писательского миросозерцания, его подхода к явлениям действительности проявляется наиболее четко. И именно проблематика оказывает прямое и непосредственное влияние на особенности образной, художественной формы произведения и, в частности, на наличие или отсутствие в нем психологизма.
Проблематика каждого писателя, отражая неповторимые особенности его творческой личности, своеобразие его миросозерцания, глубоко индивидуальна. Психологизм же как художественная форма, как свойство стиля встречается у многих, часто совсем не похожих друг на друга писателей. Поэтому правильным будет предположение, что психологизм служит естественной формой для воплощения определенного типа проблематики и появляется в произведении, в котором этот тип занимает ведущее место, определяет своеобразие содержания.
Так, например, если писателя интересуют в основном исторические судьбы народа, нации, государства, переломные моменты национальной истории, то в таких произведениях психологизм не нужен и он не появляется. Скажем, в таких произведениях, как «Тарас Бульба» Гоголя или «Железный поток» Серафимовича, психологизм отсутствует. Психологизм не возникает и тогда, когда писательское внимание сосредоточено на художественном осмыслении внешнего бытия людей – бытового уклада жизни, политических или экономических отношений и т.п. Непсихологичны такие произведения, как «Мертвые души» Гоголя, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, подавляющее большинство очерков Салтыкова-Щедрина, ранние рассказы Чехова.
Другое дело, когда в центре внимания писателя стоит неповторимая человеческая личность и то, что составляет ее глубинную основу, – идейно-нравственная, философская сущность характера. Такая проблематика, которую можно назвать идейно-нравственной, требует для своего воплощения психологизма как художественной формы.
Рассмотрим несколько подробнее, что представляет собой идейно-нравственная проблематика. В ней. внимание и интерес писателя прикованы к жизненной позиции человека и к процессам изменения этой позиции; в центре произведения – философские и этические искания, попытки человека ответить на вопросы о смысле жизни, о добре и зле, правде и справедливости. Процессы нравственного и идейного самоопределения личности – вот что является важнейшим с точки зрения идейно-нравственной проблематики.
При этом важно, что происходят поиски именно личностной истины, т.е. такой, которая основана не на авторитете, не на слепом, бездумном принятии уже существующей системы ценностей, а на собственном, глубоко прочувствованном и эмоционально пережитом опыте. В процессе идейно-нравственных поисков человек ничего не принимает на веру, любая «правда» проверяется им самостоятельно – только такой опыт, только такая истина имеют для человека ценность. Именно поэтому нравственно-философские искания героев обычно носят неслучайный, напряженный характер, часто связаны с душевными драмами, страданиями, трагизмом. Вырабатывая собственную жизненную позицию, человек тем самым решает для себя и вопрос о личной нравственной ответственности, проверяет свое отношение к миру и людям судом собственной совести. Он уже не может укрыться за общепринятыми и успокоительными теориями, а каждый раз осмысляет, каково его собственное отношение к жизни в разных ее проявлениях. Так, Раскольников в «Преступлении и наказании», думая о неизбежной гибели десятков молодых судеб и жизней в безнравственной атмосфере Петербурга, говорит себе так: «Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год... куда-то... к черту, должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. Процент! Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, ну, тогда... было бы, может, беспокойнее... А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет!.. Не в тот, так в другой?..»
Здесь все дело в том, что герой романа воспринимает жизненное зло конкретно, как касающееся его самого и его близких, а следовательно – как зло, за которое он так или иначе несет личную ответственность. Философские и этические искания Раскольникова и начинаются именно с того, что он чувствует себя обязанным как-то воздействовать на несправедливость мира, не утешаясь и не прикрываясь «успокоительными словечками».
Идейно-нравственные поиски и становление личности проходят в постоянном столкновении ее «правды», жизненной философии, во-первых, с фактами действительности, а во-вторых – с другими «правдами». Человек осмысляет подвижную и противоречивую действительность, постоянно проверяя, насколько верны и нравственно оправданны его отношение к ней, его концепция мира и человека в мире. Каждый новый факт, новое явление требуют нравственной оценки, требуют проверки прежних представлений, часто и изменения их; иногда приносят человеку сознание противоречивости собственного «я», а вместе с ним – душевную боль. Так, тургеневский Базаров, утверждавший, что любовь – вздор и «романтизм» – вздор, полюбив Одинцову, испытывает мучительный внутренний разлад и «с негодованием чувствует романтика в самом себе»: его несколько циничные жизненные убеждения, не раз подтвержденные опытом, приходят в противоречие с непосредственным чувством. Трагизм психологической ситуации в том, что Базаров не способен ни изменить своих убеждений ради страсти, ни преодолеть в себе страсть, «романтизм». Или в «Войне и мире» князь Андрей, возвратившись домой после Аустерлицкой кампании и тяжелого ранения, по-иному оценивает и самого себя, и то, к чему раньше относился с равнодушием и пренебрежением, иначе видит смысл и назначение своей жизни, вообще по-другому думает о людях и о мире: в сознании под влиянием новых впечатлений произошла переоценка ценностей...
Иногда нравственные поиски героев становятся настолько острыми, а философские противоречия настолько неразрешимыми, что герой совершает тот или иной поступок не ради его практического, житейского смысла, а с единственной целью проверить свои теории практикой, провести своего рода эксперимент, который дал бы ответ на неразрешимые вопросы. Так, лермонтовский Печорин, пытаясь понять, кто управляет его жизнью – его собственная воля или Бог, «предопределение», Судьба, – совершает на протяжении всего романа эксперименты над жизнью, ставя себя в опасные, крайние ситуации. Таким же экспериментом является и преступление Раскольникова, который стремится вовсе не к деньгам старухи, а, совершая «теоретически обоснованное» убийство, проверяет, «тварь ли он дрожащая, или право имеет»; в конечном счете – проверяет всю свою теорию о праве на «кровь по совести».
Идейно-нравственная позиция человека формируется в активном взаимодействии с разными точками зрения на мир, с другими «правдами» о мире. Вбирая в себя или оспаривая ту или иную чужую систему жизненных ценностей, личность все более точно и четко определяет «свое», свою собственную нравственно-философскую ориентацию в действительности. Идет постоянная проверка и сопоставление разных моральных принципов и подходов к жизни, причем особенностью идейно-нравственной проблематики является то, что чужие точки зрения на мир герой пропускает через себя, через свое сознание; сопоставление разных «правд» – это не внешнее столкновение разных по жизненной ориентации героев (хотя и это тоже), но прежде всего внутренняя работа души и мысли, часто спор с самим собой – внутренний диалог. Так, например, по ходу своего нравственного развития Пьер Безухов вбирает в себя философско-этические позиции Андрея Болконского, масонов, Платона Каратаева, другие «носящиеся в воздухе» идеи. Эти мировоззренческие системы входят в его сознание, на какое-то время становятся как бы его собственными, а затем внутренне перерабатываются: что-то остается уже как свое, что-то отбрасывается – и в результате личность Пьера обогащается, он лучше и яснее понимает, в чем своеобразие и существо его собственного нравственно-философского понимания жизни.
Разные точки зрения на мир не просто рационально сопоставляются в сознании героя, но лично и заинтересованно им переживаются; работа чувств, души сопровождает и эмоционально окрашивает работу мысли. В сфере идейно-нравственных убеждений понять мало – надо еще и поверить, надо сердцем, душой ощутить правду или фальшь того или иного миропонимания. В результате и та «правда», к которой приходит герой, – это не абстрактная, безличная философия, но живое, эмоционально насыщенное, очень конкретное и личностное отношение героя к миру.
Понятно, что для художественного воплощения идейно-нравственной проблематики требуется психологизм как наиболее естественная форма изображения внутренней мыслительной и эмоциональной работы. При этом идейно-нравственная проблематика дает широкий простор для изображения в литературе не только мыслей, но и чувств и переживаний персонажей. Поскольку человеку вообще свойственна не только рационально-теоретическая, но прежде всего непосредственно эмоциональная миросозерцательная реакция на действительность, чувства и переживания героев становятся одной из форм нравственно-философских поисков, формой идейного и этического осмысления жизни. В этом качестве эмоции героев могут изображаться даже более глубоко, подробно и точно, чем в лирике; они становятся все более личностными и неповторимыми, приобретают исключительную динамику и напряженность.
Наблюдения над произведениями писателей-психологов убеждают в том, что связь между психологизмом и морально-философскими исканиями героев при идейно-нравственной проблематике произведения носит устойчивый характер, это закономерность очень широкая, распространяющаяся не только на творчество отдельных писателей, но и на повествовательную литературу в целом.
Связь подробного и глубокого психологического изображения, психологизма как одного из важнейших свойств стиля с процессами идейно-нравственных поисков была отмечена рядом исследователей на отдельных частных примерах, прежде всего на примере творчества Толстого[23].
Д.С. Лихачев, основываясь на материале древнерусской литературы, считает решающим для возникновения психологизма наличие или отсутствие в художественном произведении разных жизненных позиций и их столкновений: «Раз в литературном произведении нет различных точек зрения, а есть только одна точка зрения, которую автор не признает даже своей, так как она кажется ему единственно возможной, абсолютно истинной, – автор не стремится к проникновению во внутренний мир своих героев. Он описывает их поступки, но не душевные переживания»[24].
Литературный психологизм, таким образом, – это художественная форма, воплощающая идейно-нравственные искания героев, форма, в которой литература осваивает становление человеческого характера, мировоззренческих основ личности. В этом прежде всего состоит познавательно-проблемная и художественная ценность психологизма, притягательность для читателей этой литературной формы. Эту идею я старался выразить и в заглавии первого раздела: если литература, по меткому замечанию М. Горького, есть «человековедение», т.е. постижение сущности человеческих характеров, то психологизм – важнейший инструмент человековедения, средство, способ художественно познать идейно-нравственные основы личности.
Психологизм в то же время – и способ эмоционально-образного воздействия на читателя. Через подробное и глубокое изображение психологических процессов вымышленной личности читатель приобщается к непреходящему человеческому содержанию литературы: к напряженным и страстным поискам своего места в мире, своего отношения к миру. А ведь процесс личностного самоопределения, выработки ответственной жизненной позиции необходим для становления любой личности, важен для каждого человека. Осваивая трудные идейно-нравственные поиски героев литературы прошлого, любой человек получает возможность приобщиться к их духовному опыту, а тем самым – обогатить собственный опыт, сопоставить его с духовной жизнью человечества, запечатленной в классической литературе. Познавательная и воспитательная функции литературы здесь совмещаются в едином процессе формирования личности читателя. Отсюда, в частности, тот непреходящий и неослабевающий интерес, который вызывают произведения писателей-психологов.
Русская классическая литература XIX века, особенно второй его половины, занимает здесь особое, уникальное место. По общему признанию, именно в ней психологизм достигает высочайших вершин, познание и освоение внутреннего мира человека приобретают небывалую глубину и остроту. Само признание русской литературы в качестве одной из ведущих литератур мира во многом связано с ее уникальным психологизмом.
Но необходимо отдавать себе отчет в том, что не психологизм сам по себе составил славу русской литературы, а в первую очередь то, что стояло за ним и, собственно, обусловило расцвет этой формы: небывалые по интенсивности, напряженности и глубине идейно-нравственные поиски. В силу ряда причин именно русская литература XIX века с особой остротой и настойчивостью ставила проблемы идейно-нравственной сущности человека, моральной ответственности личности, предъявляла к человеку высшие нравственные требования, не допуская скидок и компромиссов. Поэтому в русской классике читателя привлекало и привлекает не только то, что она расширяет и углубляет наши представления о внутренней жизни человека, но в первую очередь то, что она говорит нам много нового и очень ценного о той духовной работе, которая воплощается в мыслях и переживаниях, открывает нам неведомые ранее глубины в идейно-нравственной сущности человека. Это важнейшая составляющая одного из коренных и самых притягательных свойств русской классики – ее гуманизма. Заметим, что герои русской литературы – будь то Печорин, Базаров, Раскольников, Болконский... – в своих философско-этических поисках руководствуются высокими идеалами добра и справедливости, гармонии личного и общего. Они ищут не удобную позицию в мире, а высшую, безусловную нравственную правду, не допускающую компромиссов, потому что в их поисках речь идет в конечном счете о счастье человека, народа, человечества.
И наоборот: русская классика не раз показывала, что забвение высоких нравственных идеалов ведет к деградации, разрушению личности, часто – к трагической обреченности на одиночество, на безразличие, на разрыв связей с миром, на запоздалое и потому горькое осознание скверно прожитой жизни. Психологизм и здесь оказывался незаменимой формой изображения, потому что именно подробное и глубокое воспроизведение чувств, переживаний героев позволяет художественно убедительно и эмоционально действенно воплотить нравственный крах, распад личности, забывшей, по словам Чехова, «о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве». Психологизм, таким образом, есть также и форма гуманизма, форма утверждения высоких идейных и нравственных норм.
Итак, мы видели, что психологизм является таким свойством литературно-художественной формы, которое возникает в произведении закономерно, для воплощения определенного содержания – идейно-нравственной проблематики, процесса философско-этических поисков. Психологизм – это содержательная форма, т.е. такое эстетическое образование, которое несет строго определенную содержательную (проблемную и идейную) нагрузку. При этом психологизм – это не часть, не элемент художественной формы произведения (как, например, сюжет, деталь, персонаж), а особое эстетическое свойство, пронизывающее и организующее все элементы формы, все ее строение. Можно сказать, что психологизм представляет собой определенный принцип организации художественных элементов в некое единство.
Психологизм – такое свойство произведения, которое оказывает на читателя непосредственное эстетическое воздействие, воспринимается как нечто особое, присущее данному художественному созданию и отличающее его от многих других. Иными словами, наличие психологизма и особенно его характер во многом определяют то, что мы называем творческой манерой, творческой индивидуальностью писателя.
Эстетически значимую, своеобразную содержательную форму, организованную определенным художественным принципом, мы называем стилем[25]. Стиль – показатель художественной завершенности произведения, его эстетического совершенства; в понятии стиля самым наглядным образом реализуется главный закон художественности: единство, закономерное соответствие формы и содержания.
Нетрудно увидеть, что психологизм имеет самое непосредственное отношение к стилю произведения, всего творчества писателя, иногда даже целого литературного направления или течения. Психологизм, когда он присутствует в произведении, выступает как организующий стилевой принцип, стилевая доминанта, т.е. главное эстетическое свойство, решающим образом определяющее художественное своеобразие произведения и подчиняющее себе строение всей образной формы. Таким образом, мы можем говорить о психологическом стиле, точнее – даже о множестве психологических стилей, так как различия в конкретных особенностях проблематики каждого писателя и даже каждого произведения порождают и соответствующее многообразие индивидуально неповторимых стилей; поэтому у каждого писателя – «свой психологизм». В следующей главе мы и посмотрим, из каких элементов формы складывается психологический стиль; проанализируем, иначе говоря, внутреннюю структуру психологизма.
ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Когда мы говорим, что в том или ином произведении складывается психологический стиль, мы имеем в виду, что психологизм становится в этом произведении важнейшим художественным свойством, определяющим его эстетическое своеобразие. Задаче глубокого освоения и воспроизведения внутреннего мира начинают подчиняться приемы и способы изображения человека, все художественные средства, находящиеся в распоряжении писателя. Психологический стиль требует применения особых художественных приемов, особой их организации. Мы можем говорить, что психологизм – это принцип организации элементов художественной формы, при котором изобразительные средства направлены в основном на раскрытие душевной жизни человека в ее многообразных проявлениях.
Посмотрим, какими же приемами и способами пользуются для этой цели писатели-психологи. При этом для наглядности сопоставим психологический стиль с противоположной ему, непсихологической манерой письма, при которой элементы формы воссоздают прежде всего внешнюю сторону жизни человека, происходящие с ним события и т.п.
В общем виде изменение организации художественной формы при психологизме по сравнению с непсихологическим принципом письма состоит в изменении отношений между теми ее элементами, которые так или иначе изображают внешнее бытие (наружность героев, их действия и поступки, обстановку действия и пр.), и теми, которые призваны воспроизводить внутренний мир героев. Естественно, что соотношение между этими двумя группами элементов меняется в пользу последних. Такой процесс происходит на всех уровнях художественной формы. В частности, с полной очевидностью он проявляется в сфере предметной изобразительности. То, что психологизм требует даже количественного увеличения деталей, характеризующих внутренний мир героя (подробности мыслительного процесса, нюансы чувств, эмоций, «разложение на составляющие» волевых импульсов и т.п.), и, соответственно, относительного уменьшения внешних деталей – это вполне ясно и не нуждается ни в комментариях, ни в примерах. Но меняется не только количественное соотношение внутренних и внешних деталей – меняются и более глубокие связи между ними, меняется их иерархия.
При непсихологическом принципе письма внешние детали совершенно самостоятельны, в пределах художественной формы они полностью довлеют сами себе и непосредственно воплощают особенности данного художественного содержания. Например, в «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова изображение картин народного быта никак не соотнесено с душевными переживаниями героев – они имеют смысл сами по себе, непосредственно воплощая тематический аспект поэмы, проблемный угол зрения ее автора и – главным образом с помощью особенностей предметной изобразительности и выразительности – идейно-эмоциональное отношение Некрасова к изображаемому. Также не связаны с эмоциями и мыслями героев описания внешности и жилища героев в «Мертвых душах» Гоголя, или изображение действий градоначальников в «Истории одного города» Щедрина, или картина сражения в пушкинской «Полтаве». Бывает даже, что при непсихологической организации формы отдельные элементы психологического изображения, которые там встречаются, начинают работать на внешние детали, на создание внешних картин. Так, в той же поэме Некрасова ряд картин быта дан в воспоминаниях Савелия и Матрены. Процесс воспоминания – это психологическое состояние, и у писателя-психолога оно раскрывается всегда именно как таковое – подробно и с присущими ему закономерностями. У Некрасова же совсем по-другому: в его поэме эти фрагменты психологичны только по форме, по сути же перед нами ряд внешних картин, почти никак не соотнесенных с процессами внутреннего мира. Психологическое состояние воспоминания выступает здесь только как мотивировка введения этих картин в повествование.
Психологизм же, наоборот, заставляет внешние детали работать на изображение внутреннего мира. Внешние детали и в психологизме сохраняют, конечно, свою функцию непосредственно воспроизводить жизненную характерность, непосредственно выражать художественное содержание. Но они приобретают и другую важнейшую функцию – сопровождать и обрамлять психологические процессы. Предметы и события входят в поток размышлений героев, стимулируют мысль, воспринимаются и эмоционально переживаются. Как ни важна, например, с точки зрения сюжета дуэль Пьера с Долоховым, как ни характеристичен сам по себе этот эпизод, все-таки, пожалуй, наиболее существенная его функция – служить эмоциональным и мыслительным материалом для Пьера. Дуэль не только прямо вызывает у Пьера поток мыслей и переживаний, она еще вспомнится ему позже, в ряду других, столь же бессмысленных, как ему кажется, событий; всплывет она и в одном из ключевых внутренних монологов, где ставятся центральные этические вопросы романа: «...А я стрелял в Долохова за то, что я счел себя оскорбленным. А Людовика XVI казнили за то, что считали его преступником, а через год убили тех, кто его казнил, тоже за что-то. Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?»
Событие или поступок читатель воспринимает уже не просто в их прямом, объективном смысле, а как стимул или итог определенной внутренней, эмоционально-мыслительной работы или как проявление определенного душевного состояния. Внешние детали мотивируют внутреннее состояние героя, формируют его настроение, влияют на особенности мышления – иногда прямо, иногда очень опосредованно и косвенно. Так, внешние обстоятельства жизни Раскольникова, детали его быта, жилья, одежды и пр., конечно, имеют значение и сами по себе, как воспроизведение характерных черт жизни петербургского разночинца того времени, но еще большее значение они имеют в психологическом плане: ими во многом обусловлен образ мышления Раскольникова, подготовлено и усилено его болезненное душевное состояние.
Внешняя деталь может сама по себе, без соотнесения и взаимодействия с внутренним миром героя, вообще ничего не значить, не иметь самостоятельного смысла – явление, соверЩенно невозможное для непсихологического стиля. Так, знаменитый дуб в «Войне и мире» как таковой ничего собой не представляет и никакой характерности не воплощает. Только становясь впечатлением князя Андрея, одним из ключевых моментов в его размышлениях и переживаниях, эта внешняя деталь приобретает художественный смысл.
Внешние детали могут не прямо входить в процесс внутренней жизни героев, а лишь косвенно соотноситься с ним. Очень часто такое соотнесение наблюдается при использовании пейзажа в системе психологического письма, когда настроение персонажа соответствует тому или иному состоянию природы или, наоборот, контрастирует с ним. Так, например, в XI главе «Отцов и детей» природа как бы аккомпанирует мечтательно-грустному настроению Николая Петровича Кирсанова – и он «не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этой грустию, с этой тревогой...» А для душевного состояния Павла Петровича та же самая поэтическая природа предстает уже контрастом: «Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа...»
В общем, мы можем без преувеличения сказать, что в системе психологизма практически любая внешняя деталь так или иначе соотносится с внутренними процессами, так или иначе служит целям психологического изображения. Появление абсолютно непсихологической детали для психологического стиля – явление почти невозможное.
Сказанное относится и к тем художественным деталям, с помощью которых показываются внешние проявления внутренней жизни героя (мимика, пластика, жестикуляция, речь на слушателя, физиологические изменения и т.п.). Воспроизведение внешних проявлений переживания – одна из древнейших форм освоения внутреннего мира, но в системе непсихологического письма она способна дать лишь самый схематичный и поверхностный рисунок душевного состояния, в психологическом же стиле подробности внешнего поведения, мимика, жестикуляция становятся равноправной и весьма продуктивной формой глубокого психологического анализа.
Почему это происходит? Во-первых, внешняя деталь теряет свое монопольное положение в системе средств психологического изображения. Это уже не единственная и даже не главная его форма, как в непсихологических стилях, а одна из многих, причем не самая главная: ведущее место занимает внутренний монолог и авторское повествование о скрытых душевных процессах. Писатель всегда имеет возможность прокомментировать психологическую деталь, разъяснить ее смысл. Вот как развернуто раскрывает, например, Толстой психологический подтекст такого обыкновенного мимического движения, как улыбка: «Она никак не могла бы выразить тот ход мыслей, который заставил ее улыбаться; но последний вывод был тот, что муж ее, восхищающийся братом и уничтожающий себя перед ним, был неискренен. Кити знала, что эта неискренность его происходила от любви к брату, от чувства совестливости за то, что он слишком счастлив, и в особенности от не оставляющего его желания быть лучше, – она любила это в нем и потому улыбалась» («Анна Каренина»).
Во-вторых, освоенная литературой индивидуализация психологических состояний приводит к тому, что их внешнее выражение также теряет стереотипность, становится уникальным и неповторимым, своим для каждого человека и для каждого оттенка состояния. Одно дело, когда литература изображает одинаковые для всех и потому схематичные проявления чувств, эмоций и не идет дальше, и совсем другое – когда изображается, скажем, тщательно индивидуализированный внешний мимический штрих (подрагивающая верхняя губа у Раскольникова, например), причем не изолированно, а в сочетании с другими формами анализа, проникающими в глубину, в скрытое и не получающее внешнего выражения.
Внешние детали используются лишь как один из видов психологического изображения – прежде всего потому, что далеко не все в душе человека вообще может найти выражение в его поведении, произвольных или непроизвольных движениях, мимике и т.д. Такие моменты внутренней жизни, как интуиция, догадка, подавляемые волевые импульсы, ассоциации, воспоминания, не могут быть изображены через внешнее выражение.
Постепенно освоенная литературой сложность психологического мира человека усложняет и изображение связи внешнего с внутренним. По одним только внешним признакам практически нельзя определить, что происходит в душе героя, так как эти признаки неоднозначны, могут быть по-разному истолкованы. Вообще растет несоответствие между внешним и внутренним состоянием, что часто используется писателями как особый, своеобразный художественный прием, усиливающий остроту положения или напряженность внутреннего состояния героя, оттеняющий какие-то особенности его внутреннего мира.
Раз уж мы заговорили о различного рода внешних психологических деталях, то есть смысл особо сказать и о такой форме психологического изображения, как портрет. В широком литературоведческом обиходе существует тенденция называть любое портретное описание психологическим – на том основании, что оно раскрывает определенные черты характера, психологии человека. Это частное проявление той терминологической неточности, о которой мы подробно говорили в первой главе, – представления о психологизме как универсальном свойстве художественной литературы. По-видимому, всякий портрет характеристичен (иначе он просто был бы не нужен в литературе), но не всякий психологичен. Поэтому нам представляется необходимым отделить собственно психологический портрет от других разновидностей портретного описания. Например, в портретах чиновников и помещиков в «Мертвых душах» Гоголя ничего от психологизма нет. Эти портретные описания косвенно указывают на устойчивые, постоянные свойства характера, но не дают представления о внутреннем мире, о чувствах и переживаниях героя в данный момент; в портрете проявлены устойчивые черты личности, не зависящие от смены психологических состояний.
А вот противоположный пример – Толстой говорит о Пьере: «Осунувшееся лицо его было желто. Он, видимо, не спал эту ночь». Здесь мы можем по чертам лица героя судить о его психологическом состоянии, это – психологический портрет в строгом смысле слова. У Гоголя штрихи портрета прямо увязываются с авторскими характеристиками героя, с указанием на устойчивые черты его личности («медведь» и «кулак» Собакевич, «дубинноголовая» Коробочка и т.д.). А у Толстого детали портрета связаны с другими способами психологического изображения. Так, в нашем примере портретный штрих окружен воспроизведением мыслей Пьера и имеющими психологический смысл деталями его мимики и поведения.
Таким образом, психологический и непсихологический портреты входят в разные стилевые микросистемы.
В психологических стилях мы находим богатую систему повествовательно-композиционных форм, с помощью которых осуществляется изображение различных сторон внутреннего мира, разных душевных состояний. Прежде всего отметим значительную роль, которую играет психологическое повествование от третьего лица. Повествование, которое ведется «нейтральным», «посторонним» рассказчиком, обладает рядом преимуществ в изображении внутреннего мира, хотя в научной литературе часто можно встретить противоположное утверждение, согласно которому более органичной формой психологизма является повествование от первого лица. Посмотрим, что же дает нейтральное повествование со стороны в плане изображения внутреннего мира.
Во-первых, оно ориентировано прежде всего на такую форму психологического анализа, как авторское повествование о мыслях и чувствах героя. Это именно та художественная форма, которая позволяет автору без всяких ограничений вводить читателя во внутренний мир персонажа и показывать его наиболее подробно и глубоко. Для автора нет тайн в душе героя – он знает о нем все, может проследить детально внутренние процессы, объяснить причинно-следственную связь между впечатлениями, мыслями, переживаниями. Нейтральный повествователь может прокомментировать самоанализ героя, рассказать о тех душевных движениях, которые сам герой не может заметить или в которых не хочет себе признаться, как, например, в следующем эпизоде из «Войны и мира»: «Наташа со своею чуткостью тоже мгновенно заметила состояние своего брата. Она заметила его, но ей самой так было весело в ту минуту, так далека она была от горя, грусти, упреков, что она... нарочно обманула себя. "Нет, мне слишком весело теперь, чтобы портить свое веселье сочувствием чужому горю", – почувствовала она и сказала себе: "Нет, я, верно, ошибаюсь, он должен быть так же весел, как и я"».
Одновременно повествователь может психологически интерпретировать внешнее поведение героя, его мимику и пластику и т.п., о чем мы уже говорили в связи с психологическими деталями.
Во-вторых, повествование от третьего лица дает небывалые возможности для включения в произведение самых разных форм психологического изображения: в такую повествовательную стихию легко и свободно вливаются внутренние монологи, публичные исповеди, отрывки из дневников, письма, сны, видения и т.п. Такая же композиционно-повествовательная форма, как рассказ от первого лица, или роман в письмах, или роман, построенный как имитация интимного документа, дает гораздо меньше возможностей разнообразить психологическое изображение, делать его более глубоким и всеохватывающим. Собственно, для повествовательных структур данного типа единственной естественной формой психологического изображения является рефлексия, психологический самоанализ, для введения же любого другого приема неизбежно приходится прибегать ко всякого рода условностям.
В-третьих, повествование от третьего лица наиболее свободно обращается с художественным временем, оно может подолгу останавливаться на анализе скоротечных психологических состояний и очень кратко информировать о длительных событиях, имеющих в произведении, например, характер сюжетных связок. Это дает возможность повышать удельный вес психологического изображения в общей системе повествования, переключать интерес с подробностей события на подробности чувства. Кроме того, психологическое изображение в этих условиях может достигать небывалой детализации и исчерпывающей полноты: психологическое состояние, которое длится минуты, а то и секунды, может растягиваться в повествовании о нем на несколько страниц[26]. Едва ли не самый яркий пример тому – отмеченный еще Чернышевским эпизод смерти Праскухина в «Севастопольских рассказах» Толстого.
Наконец, психологическое повествование от третьего лица дает возможность изобразить психологически многих героев, что при любом другом способе повествования сделать чрезвычайно трудно, почти невозможно.
Но форма повествования от третьего лица не сразу стала использоваться в литературе для воспроизведения внутреннего мира человека. Первоначально существовал как бы некий запрет на вторжение в интимный мир чужой личности, даже во внутренний мир выдуманного самим автором персонажа. Вероятно, введение прямого авторского (от третьего лица) психологического повествования противоречило бы принципу правдоподобия (так сказать, «чужая душа – потемки»). А возможно, литература просто не сразу освоила и закрепила эту художественную условность – способность автора читать в душах своих героев так же легко, как в своей собственной. Может быть, дело также и в том, что в первых психологических романах герои часто были автопортретны, т.е. в каких-то основных чертах своей личности, своего характера тождественны автору. Тогда психологическое повествование от третьего лица было попросту ненужным, ибо не было еще задачи изобразить в полном смысле чужое сознание.
Как бы там ни было, но вплоть до конца XVIII века для психологического изображения использовались по большей части неавторские субъектные формы повествования, главным образом письма («Опасные связи» Лакло, «Памела» Ричардсона, «Новая Элоиза» Руссо) и рассказ от первого лица («Сентиментальное путешествие» Стерна, «Исповедь» Руссо). Эти формы позволяли наиболее естественным образом сообщать о внутреннем состоянии героев, сочетать правдоподобие (человек сам говорит о своих мыслях и переживаниях – ситуация, вполне возможная в реальной жизни) с достаточной полнотой и глубиной раскрытия внутреннего мира.
Но форма «Ich-Erzдhlung», особенно на первых порах, имела и определенные художественные неудобства. При ней психологизм как бы искусственно овнешнял то, что по самой своей природе должно оставаться внутренним и изображаться как внутреннее. Это вопрос не только использования того или иного формального приема: применение неавторских субъектных форм повествования меняет картину внутреннего мира по существу. Повествование о пережитых чувствах и мыслях в письме или рассказе от первого лица – это совсем не то, что непосредственная фиксация процессов душевной жизни персонажа в данный момент. В такой опосредованной, овнешненной передаче чувства и мысли делаются более «правильными», логичными, утрачивают непреднамеренность, вольно и невольно очищаются от «неглавных» ассоциаций, эмоций, воспоминаний. Внутренний мир упрощается, живой психологический процесс перестает быть таковым и во многом утрачивает свое индивидуальное своеобразие и неповторимость. В этих формах повествования о внутренних процессах еще много абстрактности, риторики, психологические состояния мало индивидуализированы.
Впрочем, все сказанное о форме «Ich-Erzдhlung» относится в полной мере лишь к романам XVIII века, где она соответствовала уровню развития идейно-нравственной проблематики и недостаточная естественность психологического изображения шла не только от формы повествования, но главным образом от особенностей проблематики. В дальнейшем, когда повествование от третьего лица уже снимает многие условности в психологическом изображении и делает естественным и привычным авторское вторжение в душу героя, разница между двумя этими формами становится гораздо менее резкой. «Ich-Erzдhlung» отчасти меняет свою внутреннюю структуру – в частности, появляется возможность говорить о себе как о другом, как бы со стороны (Печорин: «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его»; в «автобиографической» трилогии Толстого о своем детстве говорит уже взрослый человек и т.п.).
С точки зрения психологизма повествование от первого лица сохраняет все же при всех условиях два ограничения: невозможность одинаково полно и глубоко показать внутренний мир многих героев (чтобы обойти это препятствие, приходится иногда вводить нескольких рассказчиков, как это делал, например, Фолкнер в «Городе», «Шуме и ярости») и однообразие психологического изображения (главным образом формы самонаблюдения и самоанализа). Даже внутренний монолог, в сущности, не вписывается в повествование от первого лица, ибо настоящий внутренний монолог – это когда автор «подслушивает» мысли героя во всей их естественности, непреднамеренности и необработанности, а рассказ от первого лица уже предполагает известный самоконтроль, самоотчет. При таком повествовании трудно раскрыть сферу подсознательного (как, допустим, в приведенном выше примере Толстой раскрывает не осознанную самой Наташей эмоциональную основу ее мыслей). Кроме того, постоянное использование только одной формы психологического изображения – самонаблюдения – рискует придать всему повествованию некоторую монотонность.
К достоинствам «Ich-Erzдhlung» надо отнести возможность исключительно полно сосредоточиться на внутреннем мире героя – во-первых; во-вторых, большую силу эмоционального воздействия и художественную убедительность: кто же лучше знает человека, чем он сам! Форма психологического самораскрытия, исповеди способна придать повествованию исключительный драматизм и напряженность.
В системе композиционно-повествовательных форм, использующихся для воспроизведения внутреннего мира, важнейшую роль играет внутренний монолог и психологическое изображение, идущее от повествователя (в дальнейшем для удобства мы будем называть его авторским психологическим изображением). Без этих форм мы просто не можем представить себе психологизм нового времени, да и чисто количественно, по объему текста, они явно преобладают над всеми другими формами психологического изображения.
В отличие от авторского психологического изображения, которое с равным успехом воссоздает как рациональную, так и эмоциональную сферу сознания и психики, внутренний монолог используется почти исключительно для изображения мыслей героев; для воспроизведения эмоциональной сферы он менее пригоден. Ощущения, эмоции, настроения могут передаваться во внутреннем монологе двумя путями. Первый путь: если ту или иную эмоцию сам персонаж как-то осознал и включил в поток своей внутренней речи (т.е. во внутренний монолог введены и мысли персонажа по поводу его эмоционального состояния): «"Я сама поеду к нему. Прежде чем навсегда уехать, я скажу ему все. Никогда никого не ненавидела так, как этого человека!" – думала она» («Анна Каренина»).
И второй путь: эмоциональное состояние героя передается во внутреннем монологе с помощью особенностей построения внутренней речи. Так, нервное возбуждение Анны, едущей на вокзал перед самоубийством, отчасти выражается в неровности ее внутренней речи, в быстрых и несвязных переходах от одних мыслей и представлений к другим.
Есть смысл особо выделить такую разновидность внутреннего монолога, как рефлектированная внутренняя речь, иначе говоря – психологический самоанализ. Как пример приведем мысли Николая Ростова, совершившего свой «блестящий подвиг», сбив с коня французского офицера: «"Да что бишь меня мучает? – спросил он себя... – Ильин? Нет, он цел. Осрамился я чем-нибудь? Нет, все не то! – Что-то другое мучило его, как раскаяние. – Да, да, этот французский офицер... И я хорошо помню, как рука моя остановилась, когда я поднял ее"».
На эту форму важно обратить внимание потому, что здесь мы имеем дело как бы с двойным, двухступенчатым психологическим изображением. Первая ступень – изображение мыслей героя с помощью внутреннего монолога; но «внутри» этой формы психологизма – свой психологический анализ: мысли героя уже сами по себе представляют форму изображения внутреннего мира. Перед нами, так сказать, «психологическое изображение психологического изображения».
В современной научной литературе внутренний монолог, в том числе и такая его разновидность, как поток сознания, изучен достаточно хорошо и подробно[27], поэтому в анализе этой формы мы ограничиваемся сказанным выше. Меньше внимания уделили литературоведы прямому авторскому психологическому изображению, но эта форма сама по себе настолько проста и очевидна, что вряд ли нуждается в подробном анализе. В то же время ее конкретное использование в творчестве разных писателей дает нам такое разнообразие индивидуально неповторимых особенностей, не поддающихся типологизации и обобщению, что в теоретическом анализе этой формы поневоле приходится ограничиваться очень небольшим количеством самых общих соображений. Точно так же и анализ конкретных примеров авторского психологического изображения представляется нам излишним.
В авторском психологическом изображении различается психологическое описание и психологическое повествование в узком смысле слова. Психологическое описание воспроизводит относительно статичное чувство, переживание, настроение, но не мысль, ибо мыслительная деятельность – это всегда процесс. При психологическом повествовании предмет изображения – динамика мыслей, эмоций, представлений, желаний и т.д. С художественной точки зрения оба способа равноценны и оба нужны для создания полноценной психологической картины. Кроме того, следует учесть, что психологическое описание может оказаться не менее динамичным, чем повествование. Как отмечал еще Лессинг, при изображении относительно неподвижных объектов литература как временное искусство заменяет динамику объекта динамикой повествования о нем. То же может происходить в психологическом изображении: психологическое описание может постепенно переходить от одного элемента психологической жизни к другому, последовательно, т.е. во времени, раскрывая различные нюансы и стороны статичного самого по себе чувства или переживания.
К сказанному добавим, что основная функция психологического описания в новой литературе – это анализ достаточно сложных, многогранных, многосоставных психологических состояний. Поэтому психологическое описание имеет тенденцию к увеличению своего объема. Краткое же, суммарное психологическое описание применяется писателями-психологами чем дальше, тем реже и неохотнее. (Но зато оно находит широкое применение в сфере непсихологического письма.) Очевидно, краткое описание внутреннего мира не дает ни необходимой динамики, ни достаточной нюансировки и индивидуализации психологических состояний. Оно явно тяготеет к суммарному обозначению переживания, а эта форма психологического изображения оказывается для литературы XIX и XX веков слишком маловыразительной художественно и слишком примитивной для воспроизведения сложных душевных движений.
Внутренний монолог и психологическое авторское повествование – наиболее распространенные композиционно-повествовательные формы психологизма: они встречаются едва ли не у каждого писателя-психолога. Но существуют и формы специфические, которые используются сравнительно нечасто. К ним относятся, в частности, сны и видения как приемы психологизма, а также такая оригинальная сюжетно-композиционная форма, как введение в повествование персонажей-двойников. С помощью этих способов литература идет глубже в познании и изображении внутреннего мира человека: раскрываются новые психологические состояния (например, состояние между сном и явью, состояние экстатического возбуждения), фиксируется причудливая игра образов сознания, запечатлеваются процессы ассоциаций, озарения, интуиции. Если раньше литература преимущественно изображала те чувства и эмоциональные состояния, которые легко и естественно могли быть обозначены или описаны словами и соответственно легко анализировались и объяснялись, то начиная с эпохи романтизма с помощью развитой системы композиционно-повествовательных форм, среди которых важное место занимают и только что упомянутые, уже начинают изображаться сложные состояния и ощущения, психологизм осваивает сферу подсознательного, иррационального (хорошо видно это на примере повестей Гофмана – «Золотой горшок», «Крошка Цахес» и Гоголя – «Вий», «Портрет», «Страшная месть»). Эти психологические явления не могут быть просто обозначены – они требуют для своего воспроизведения довольно сложной техники психологического изображения. Кстати, здесь романтикам очень пригодилась форма повествования от третьего лица: герой, находясь в состоянии сна, бреда или полубессознательном состоянии (как, например, Чартков в гоголевском «Портрете» в том эпизоде, где ему грезятся старик и свертки с деньгами), просто не способен на психологическое самонаблюдение и тем более на исчерпывающий самоанализ.
На анализе указанных форм очень отчетливо видно, как перестраивается организация стилевых элементов при психологизме по сравнению с непсихологическим принципом. Ведь такие сюжетные формы, как сны, видения, галлюцинации, могут использоваться в литературе с самыми различными целями. Первоначальная их функция – это введение в повествование фантастических мотивов. Так, в поэмах Гомера, в библейских сказаниях, в народном эпосе сверхъестественные существа осуществляют свое вмешательство в дела людей, являясь им во сне или в видениях. Эта функция сохраняется и в дальнейшем. «Повеления богов», полученные героем во сне, заставляют его предпринимать те или иные действия и таким образом служат толчком для развития сюжета. Сны и видения могут в той или иной мере предварять последующие сюжетные повороты. Так, сны героев древнегреческого эпоса часто предвещают им победу или поражение; «вещие сны» часто используются в фольклоре; даже сон Татьяны в «Евгении Онегине» (который, конечно, не исключительно сюжетен, но и психологичен) своеобразно предваряет дуэль Онегина и Ленского. В целом формы снов и видений при таком использовании нужны только как сюжетные эпизоды, влияющие так или иначе на ход событий и действий, и в качестве таковых они и связываются именно с другими эпизодами сюжета, но не с другими формами изображения мыслей и переживаний. Сны, грезы, галлюцинации не рассматриваются как особые состояния сознания и психики человека; сон литературного персонажа нисколько не похож на реальное сновидение с присущими ему психологическими закономерностями, да в этом и нет необходимости, коль скоро сон значим только сюжетно, но не психологически.
В системе же психологического письма эти традиционные формы имеют другую функцию, вследствие чего они и внутренне организованы по-другому. Бессознательные и полубессознательные формы внутренней жизни человека начинают рассматриваться и изображаться именно как психологические состояния. Эти композиционные фрагменты повествования начинают соотноситься уже не с эпизодами внешнего, сюжетного действия, а с другими психологическими состояниями героя, изображенными с помощью других способов психологизма. Сон, например, мотивируется не предшествующими событиями сюжета, а предшествующим эмоциональным состоянием героя. Почему Телемак в «Одиссее» видит во сне Афину, повелевающую ему вернуться на Итаку? Потому что предшествующие события сделали возможным и необходимым его появление там. А почему Дмитрий Карамазов видит во сне плачущее дитя? Потому что он постоянно ищет свою нравственную «правду», мучительно пытается сформулировать «идею мира», и она является ему во сне, как Менделееву – его таблица элементов. Бессознательные и полубессознательные состояния становятся звеном в цепи внутреннего развития героя. «В форме литературных снов, – пишет исследователь творчества Льва Толстого И.В. Страхов, – писатель восполняет анализ психических состояний и характеров действующих лиц»[28].
Одновременно эти особые состояния сознания и психики начинают воспроизводиться более правдоподобно и с внешней, формальной стороны. Не просто сообщается, что герой увидел во сне то-то и то-то, а художественно воспроизводится сам процесс сновидения, во всех подробностях, с присущими ему закономерностями психической жизни; воссоздается его ведущий эмоциональный тон, а не только предметное содержание: «Утром страшный кошмар... представился ей опять и разбудил ее. Старичок с взлохмаченной бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, и она, как всегда при этом кошмаре (что и составляло его ужас), чувствовала, что мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это какое-то страшное дело в железе над ней. И она проснулась в холодном поту» (Л.Н. Толстой. «Анна Каренина»).
Начинают психологически изображаться моменты засыпания и пробуждения, часто тоже весьма подробно. Тем самым устанавливается связь сна с осознанными душевными движениями, сновидение вплетается в общую психологическую картину. Появляется реальная мотивировка возникновения особых душевных состояний: нервное напряжение, душевная болезнь, острое впечатление, опьянение и пр. Для непсихологического письма такая мотивировка нехарактерна, потому что не нужна с точки зрения функциональной; напротив, для психологизма (причем не только реалистического) она почти обязательна, иначе картина внутреннего мира может потерять связность, а потому и убедительность.
Так психологизм перестраивает традиционные формы повествования в соответствии со своими собственными задачами.
Аналогично психологизм меняет функцию персонажей-двойников. В системе непсихологического стиля они были нужны для сюжета, для развития внешнего действия. Так, появление своеобразного двойника майора Ковалева в гоголевском «Носе» – произведении нравоописательном по проблематике и непсихологичном по стилю – составляет основную пружину сюжетного действия.
Иначе используются двойники в повествовании психологическом. Это различие интересно проследить на творчестве Достоевского. В его ранней повести «Двойник» функция «второго Голядкина» двояка. Не подлежит сомнению его огромная роль в сюжете (а в сюжете повести раскрывается прежде всего нравоописательная проблематика: ситуация «маленького человека» в его взаимоотношениях с другими социальными типами). Но одновременно двойник служит и целям психологического изображения: ведь реально он вообще не существует, в нем лишь материализуется какая-то часть сознания самого Голядкина, – может быть, его подсознательные представления о самом себе, подавленные желания, волевые импульсы и пр. Персонаж-двойник здесь органичная форма для воплощения психологической раздвоенности героя. Раздвоенности, которую иначе, с помощью других приемов психологизма, было бы трудно изобразить, поскольку эта вторая сторона сознания Голядкина настолько скрыта от него самого, что не может проявиться ни в чувствах, ни в мыслях, ни в настроениях (которые можно было бы так или иначе художественно воссоздать), а только вот в такой патологической форме – вырвавшись из-под рационального контроля забитого и униженного самосознания. В «Двойнике» внимание Достоевского распределяется примерно в равной степени между проблематикой чисто социальной, нравоописательной и собственно романной, нравственно-психологической, отсюда и двойная функция персонажа-двойника.
А вот Черт, своеобразный двойник Ивана Карамазова, – это нечто совсем другое и по функции, и по самой структуре образа. В «Братьях Карамазовых» идейно-нравственная проблематика уже доминирует полностью; в результате эволюции миросозерцания Достоевского его внимание окончательно переключается на моральные вопросы, ключ ко всем проблемам он ищет в душе человека, в универсальных нравственных началах характера. В «Братьях Карамазовых» и психологический стиль Достоевского выступает окончательно сложившимся.
Двойник-Черт здесь уже никак не связан с сюжетным действием, этот персонаж используется исключительно как форма психологического изображения и анализа крайне противоречивого сознания Ивана, крайней напряженности его идейно-нравственных исканий. В чем конкретно это выражается? В том, во-первых, что Черт никаких самостоятельных сюжетных действий не предпринимает и ни с кем из персонажей не сталкивается: он является только Ивану (причем его появление строго мотивировано обострением душевной болезни героя) и исчезает с появлением Алеши. Черт вообще не может «объективироваться», отделиться от Ивана, как это мог сделать Нос Ковалева или двойник Голядкина. Какой бы то ни было, даже условный, вход в реальную действительность Черту абсолютно заказан, он существует лишь постольку, поскольку существует сознание Ивана. Во-вторых, – и это более важно – Черт наделен «собственной» идейно-нравственной позицией, своим образом мышления, чего по отношению к двойнику Голядкина или тем более майора Ковалева мы сказать не можем. Характерность внешности, манер, повадок Черта обусловлена именно его миросозерцанием (он циничен и развязен как в идеях и силлогизмах, так и в манере поведения, внешности), а не его социальным положением (которого у него вообще нет – это тоже важно), как у двойника Ковалева и Голядкина. Вследствие этого между Иваном и его двойником возможен диалог, причем не бытовой, а на уровне философской и нравственной проблематики. И как Черт вообще – воплощение какой-то стороны сознания Ивана, так и диалог между ними – это, по сути, внутренний диалог Ивана, его внутренний спор с самим собой, спор, как бы объективированный, как бы ставший из внутреннего внешним.
Так перестраивается в системе психологизма функция и внутренняя структура персонажей-двойников.
Во второй половине XIX века литературный психологизм стал уже вполне привычным для читателя, который начал искать в произведении прежде всего не внешней сюжетной занимательности, а изображения сложных и интересных душевных состояний. Читатель настроился на психологизм, и это сделало возможным появление еще одной, очень своеобразной формы психологического изображения.
Большой удельный вес психологизма, его особая динамичность, напряженность и важность с содержательной точки зрения, с одной стороны, и способность читателя самостоятельно анализировать внутренний мир личности, как реальной, так и вымышленной, – с другой, создавали в произведении особую атмосферу, насыщенную психологизмом. Это выражалось в том, что писатели могли использовать и использовали прием умолчания о процессах внутренней жизни и эмоциональном состоянии героя, заставляя читателя самого производить психологический анализ, намекая на то, что внутренний мир данного героя, хотя он прямо и не изображается, все-таки достаточно богат и заслуживает внимания. Возникает парадоксальная на первый взгляд ситуация: образ строится психологически, но в иные моменты почти без применения собственно психологического изображения.
Как пример приведем отрывок из последнего разговора Раскольникова с Порфирием Петровичем в «Преступлении и наказании». Возьмем кульминацию разговора: следователь только что прямо объявил Раскольникову, что считает убийцей именно его; нервное напряжение участников сцены достигает высшей точки:
« – Это не я убил, – прошептал было Раскольников, точно испуганные маленькие дети, когда их захватывают на месте преступления.
– Нет, это вы-с, Родион Романыч, вы-с, и некому больше-с, – строго и убежденно прошептал Порфирий.
Они оба замолчали, и молчание длилось даже до странности долго, минут с десять. Раскольников облокотился на стол и молча ерошил пальцами свои волосы. Порфирий Петрович сидел смирно и ждал. Вдруг Раскольников презрительно посмотрел на Порфирия.
– Опять вы за старое, Порфирий Петрович! Все за те же ваши приемы: как это вам не надоест, в самом деле?»
Очевидно, в эти десять минут, которые герои провели в молчании, психологические процессы не прекращались. И, разумеется, у Достоевского была полная возможность изобразить их детально: показать, что думал Раскольников, как он оценивал ситуацию и какие чувства испытывал по отношению к Порфирию и к себе самому. Словом, Достоевский мог (как не раз делал в других сценах романа) «расшифровать» молчание героя, наглядно продемонстрировать, в результате каких мыслей и переживаний Раскольников, сначала растерявшийся и сбитый с толку, уже, кажется, готовый признаться и покаяться, решает все-таки продолжать прежнюю игру. Но психологического изображения как такового здесь нет, а между тем сцена насыщена психологизмом. Психологическое содержание этих десяти минут читатель додумывает, ему без авторских пояснений понятно, что может переживать в этот момент Раскольников.
Как разновидность подтекста, художественного намека умолчание о скрытых психологических процессах оказывается весьма «выгодным» художественно, поскольку делает изображение внутреннего мира потенциально очень емким. В приведенном примере читатель может представить себе и лихорадочный внутренний монолог, в процессе которого Раскольников спешно пытается найти дальнейшую линию поведения, и пустоту в мыслях, своего рода душевное отупение, вызванное непосильным напряжением и усталостью («запредельное торможение», как говорят психологи), и отчаяние, и мысли о посторонних предметах; может представить себе смену этих моментов или их сосуществование – все это читатель уже наблюдал в других эпизодах романа. Таким образом, несмотря на формальное отсутствие психологического изображения в тексте, оно в этот момент как бы продолжает существовать в читательском сознании.
Заметим кстати, что с умолчанием как приемом психологизма приходится очень и очень считаться режиссерам и особенно актерам. При постановке или экранизации они именно в эти моменты становятся истинными соавторами писателя. Поток сценического действия не допускает никаких пробелов и разрывов в эмоциональном рисунке; психологическая интерпретация текста, где формально отсутствует повествование о скрытых процессах, но всей стилевой структурой оно подразумевается, становится обязательной.
Установка на читательское домысливание, очевидно, была в значительной мере осознана самими писателями; тот же Достоевский писал: «Не один только сюжет романа важен для читателя, но и некоторое знание души человеческой (психологии), чего каждый автор вправе ждать от читателя»[29].
Наиболее широкое распространение прием умолчания получил несколько позже, в творчестве Чехова, а впоследствии – многих других писателей XX века.
Вполне возможно, что такой прием психологического изображения появляется в литературе еще и потому, что все возрастающая сложность характера и внутреннего мира человека в конце концов осознается буквально как неисчерпаемая, принципиально не могущая быть понятой и изображенной до конца, во всех деталях. Даже сам герой, в высшей степени склонный к самоанализу (как у Достоевского и Толстого), не мог разобраться полностью в сложности своего внутреннего мира. Не мог сделать этого и повествователь. Но важно было дать почувствовать эту неисчерпаемую сложность, намекнуть на нее, обозначить в ней все, что возможно.
Часто писатель сознательно оставляет простор читательским домыслам, представляя картину внутреннего мира персонажа не как законченную и абсолютную, а как наиболее вероятную и лишь в некоторых деталях. Именно здесь незаменим психологический анализ от лица другого персонажа или повествователя, не претендующего на абсолютность, а позволяющего дополнять и отчасти даже видоизменять нарисованную им картину. Не случайно обе формы психологического анализа – и от лица персонажа, и с помощью приема умолчания – применялись Достоевским вместе.
Общие приемы и способы психологического изображения, о которых шла речь в этой главе, естественно, используются разными писателями по-разному. Благодаря этому создается неповторимость, своеобразие психологических стилей таких писателей-психологов, как Лермонтов, Тургенев, Л. Толстой, Достоевский, Чехов, Горький. В соответствии с особенностями проблематики, интересом к тем или иным характерам и положениям каждый писатель по-своему подходит к внутреннему миру человека, раскрывает его с разных сторон. Душевная жизнь личности неодинакова у героев «Войны и мира» и «Преступления и наказания», «Что делать?» и «Дамы с собачкой». В этой неодинаковости своя эстетическая правда: личность многолика и разные писатели-психологи позволяют нам взглянуть на человека с разных сторон, тем самым – лучше познать закономерности душевной жизни, а через них – закономерности нравственно-философских поисков.
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЗМА
Как любое явление культуры, психологизм не остается неизменным во все века, его формы исторически подвижны. Более того, психологизм существовал в литературе не с первых дней ее жизни – он возник в определенный исторический момент и в дальнейшем прошел длительный путь развития: обогащались художественные средства психологического изображения, углублялось понимание закономерностей внутренней жизни, возрастало эстетическое совершенство психологизма и его значение в системе культуры.
Для того чтобы понять причины возникновения и исторического развития психологизма, стоит разобраться в том, почему на ранних стадиях культура и литература еще не нуждались в нем и какой характер имели те элементы изображения внутреннего мира, которые по необходимости появлялись в литературе. Тогда станет яснее, почему в определенный исторический момент психологизм стал необходим художественной культуре, под влиянием каких факторов он в дальнейшем развивался и совершенствовался.
Внутренний мир человека в литературе не сразу стал полноценным и самостоятельным объектом изображения. Первоначально объектом литературного изображения становилось то, что прежде всего бросалось в глаза и казалось наиболее важным: видимые, внешние процессы и события, ясные сами по себе и почти не требующие осмысления и истолкования. Кроме того, во всей культуре ценность совершившегося события была неизмеримо выше, чем ценность переживания по его поводу и даже чем ценность человека, совершившего нечто выдающееся и достойное упоминания. Только событие могло быть общеинтересным с точки зрения ценностной системы такой культуры, да и то не всякое событие, а лишь общезначимое, приведшее к очевидным последствиям и изменениям. Совершившийся факт обладал наглядной достоверностью, был безусловно важен и в силу этого подлежал фиксации. По замечанию В. Кожинова, «сказка передает только определенные сочетания фактов, сообщает о самых основных событиях и поступках персонажа, не углубляясь в его особенные внутренние и внешние жесты... Все это в конечном счете объясняется неразвитостью, простотой психического мира индивида, а также отсутствием подлинного интереса к этому объекту»[30]. Сходное наблюдение делает М.И. Стеблин-Каменский над исландскими сагами: «В сагах переживания сами по себе не были объектом изображения. Объектом изображения в сагах были всегда те или иные события... Таким образом, изображение переживаний в сагах – всегда лишь побочный продукт изображения чего-то другого»[31].
Общее понимание человека в ранних художественных культурах хорошо сформулировал М.М. Бахтин: человек «весь сплошь овнешнен. Между его подлинной сущностью и его внешним явлением нет ни малейшего расхождения. Все его потенции, все его возможности до конца реализованы в его внешнем социальном положении, во всей его судьбе, даже в его наружности: вне этой его определенной судьбы и определенного положения от него ничего не остается. Он стал всем, чем он мог быть, и он мог быть только тем, чем он стал. Он весь овнешнен и в более элементарном, почти в буквальном смысле: в нем все открыто и громко высказано, его внутренний мир и все его внешние черты, проявления и действия лежат в одной плоскости»[32].
Такая овнешненность не создает еще возможности и необходимости психологического анализа, не требует (более того, не допускает) проникновения в скрытое, интимное. Индивидуальной, частной жизни человека литература еще не знает – личность живет лишь постольку, поскольку ее жизнь известна и интересна для других: «Точка зрения на себя самого полностью совпадает с точкой зрения на него других... Он видит и знает в себе только то, что видят и знают в нем другие. Все, что может сказать о нем другой, автор, он может сказать о себе сам, и обратно. В нем нечего искать, нечего угадывать, его нельзя разоблачать, нельзя провоцировать: он весь вовне, в нем нет оболочки и ядра»[33].
В связи с этим возможности изображения внутреннего мира героев ограничивались очень строгими рамками. Нельзя сказать, что литература на этой стадии вовсе не касалась чувств, переживаний, но изображались они лишь постольку, поскольку проявлялись во внешних действиях, речах, изменениях в мимике и жестах. Все это наглядно видно и доступно любому наблюдателю. Поскольку же «внешний» человек предполагался равным «внутреннему», между явлениями духовного мира и их телесным, пластическим выражением установилась жесткая однозначная связь. В подобной эстетической системе возможен лишь один способ выражения каждого данного чувства, характер проявления эмоций становится обязательным, стереотипным, ритуальным. Об индивидуальном, характерном именно для данного героя выражении чувства еще нет речи. Традиционные, повторяющиеся формулы, обозначающие эмоциональное состояние героя, указывают именно на однозначную связь переживания с его внешним выражением и подчеркивают ритуальный, стереотипный характер этого выражения. Так, например, для выражения (или, скорее, обозначения) печали в русских сказках и былинах почти повсеместно употребляется формула «Стал он невесел, буйну голову повесил».
Но не только внешнее выражение различных эмоциональных состояний оказывалось в этой художественной системе стереотипным и однозначным. То же самое можно сказать и о самой сути человеческих переживаний. До определенного периода литература вообще знает только одно состояние горя, одно состояние радости и т.п.; не только по внешнему выражению, но и по содержанию эмоции одного персонажа ничем не отличаются от эмоций другого. Приам испытывает точно такое же горе, как и Агамемнон, Добрыня торжествует победу точно так же, как и Вольга. В связи с этим и само количество эмоциональных состояний, которые изображаются в литературе, весьма ограниченно; кроме того, нет еще градации одного и того же чувства, т.е. более или менее сильного горя, радости и т.п. Каждое чувство берется в максимально развитом состоянии: если радость, то сильная, если скорбь, то великая. Во многом такая особенность изображения эмоциональных состояний связана опять-таки с «овнешненностью» человека, ибо индивидуализации чувства невозможно достичь, наблюдая лишь его внешние проявления, да еще если они несут на себе сильный отпечаток ритуального, стереотипного поведения. Для того чтобы в художественном мышлении могло возникнуть представление о разных вариантах радости, горя и т.п., необходимо было обособление внешнего бытия от внутреннего и целенаправленный анализ последнего.
Итак, на ранней стадии развития психологическое изображение в литературе существует лишь в виде фиксации внешних, очевидных проявлений внутреннего мира, за которыми просматривается ограниченный набор достаточно простых переживаний. Подводя итог, можно сказать, что в художественной культуре ранних эпох психологизма не просто не было, а не могло быть, и это закономерно. В общественном сознании еще не возник специфический идейный и художественный интерес к человеческой личности, индивидуальности, к ее неповторимой жизненной позиции. Следовательно, не могла возникнуть и идейно-нравственная проблематика, о которой говорилось во второй главе как о главном содержании психологизма.
Когда же возникает в литературе психологизм? Когда впервые внимание авторов и читателей начинает привлекать проблема личности и, следовательно, появляется эстетический интерес к ее душевной жизни?
Для того чтобы возник психологизм, необходим достаточно высокий уровень развития культуры общества в целом, но главное, необходимо, чтобы в этой культуре неповторимая человеческая личность осознавалась как ценность. Это невозможно в тех условиях, когда ценность человека полностью обусловлена его социальным, общественным, профессиональным положением, а личная точка зрения на мир не принимается в расчет и предполагается как бы даже несуществующей, потому что идейной и нравственной жизнью общества полностью управляет система безусловных и непогрешимых нравственных и философских норм. Иными словами, психологизм не возникает в культурах, основанных на принципе авторитарности. В авторитарных обществах психологизм возможен как ценность лишь в системе контркультуры.
И, наоборот, в эпохи, когда в обществе создается в той или иной степени демократическая культурная атмосфера, и в особенности в периоды кризиса авторитарных культурных систем, повышается общественная значимость и ценность личности. Идейный интерес писателей начинает сосредоточиваться именно на том, что в человеке выходит за рамки его профессии, социальной и сословной принадлежности; интересными становятся потенциальное богатство идейного и нравственного мира личности, ее нераскрытые возможности, собственно человеческое, индивидуальное содержание. Тогда и создаются предпосылки для возникновения идейно-нравственной проблематики, а вместе с ней и психологизма.
Точно так же и эпоха становления новой культуры стимулирует развитие психологизма, потому что общественно интересной и важной становится идейная и нравственная инициативность личности; богатство ее внутренних возможностей осознается как ценность, жизненно необходимая для культуры и ее развития.
В Европе подобные условия сложились впервые, очевидно, в эпоху поздней античности (II – IV вв. н. э.). В таких произведениях, как романы Гелиодора «Эфиопика» и Лонга «Дафнис и Хлоя», мы наблюдаем достаточно развернутое, а временами и глубокое изображение внутреннего мира личности. Рассказ о чувствах и мыслях героев составляет уже необходимую часть повествования, временами персонажи даже пытаются анализировать (конечно, еще очень примитивно) свой внутренний мир. Вот характерное психологическое изображение из романа Лонга – Хлоя размышляет о своем чувстве к Дафнису: «Сколько раз терновник царапал меня, и я не стонала, сколько пчел меня жалило, и я мед есть продолжала. То же, что теперь сердце ужалило, много сильнее всего. Дафнис красив, но и цветы красивы, прекрасно звучит его свирель, но так же прекрасно поют соловьи, а я ведь о них не думаю».
Это был, разумеется, лишь первый этап развития психологизма. Хотя само по себе освоение внутреннего мира человека было огромным шагом вперед в развитии художественной литературы, с современной точки зрения психологизм античных авторов предстает еще очень несовершенным, временами неубедительным и наивным. Нет еще подлинной глубины психологического изображения, литературе доступны лишь относительно простые душевные состояния, слаба их индивидуализация, сам диапазон чувств слишком узок (изображаются в основном любовные переживания). Формы изображения также довольно примитивны: это в основном внутренняя речь, построенная к тому же по законам речи внешней, без учета специфики психологических процессов.
Античный психологизм, конечно, имел внутренние возможности развиваться и совершенствоваться, но, как известно, в V – VI веках вся античная культура погибла. Соответственно пресеклась и эта ветвь развития психологизма. Художественной культуре Европы пришлось развиваться как бы заново, начиная с более низкой ступени, чем античность. Культура европейского средневековья была типичной авторитарной культурой; ее идеологической и нравственной основой были жесткие; непреложные догмы монотеистической христианской религии. Поэтому в литературе этого периода мы практически не встречаем психологизма.
Положение принципиально меняется в эпоху Возрождения, когда средневековая культура испытывает явный кризис, создавший предпосылки для широкого развития литературного психологизма.
В эпоху Возрождения активное освоение внутреннего мира человека мы находим в таких произведениях, как «Декамерон» и «Фьяметта» Боккаччо, «Дон Кихот» Сервантеса, чуть позже – в поэмах Боярдо и Ариосто. Психологизм этих произведений по своим особенностям весьма похож на психологизм поздних античных авторов, но имеет несколько бо́льшую художественную разработанность. Надо заметить, что в это же время психологизм очень интенсивно проявляется в лирике и драматургии.
С эпохи Возрождения развитие психологизма в европейских литературах уже практически не прерывается. Особенно плодотворной стадией такого развития оказывается рубеж XVIII – XIX веков, с литературными направлениями сентиментализма и романтизма. С середины XVIII века, по словам Г.Н. Поспелова, «в деградирующем феодальном обществе, уже потерявшем свои прежние сословно-иерархические устои и представляющем собой довольно пестрый конгломерат различных прослоек, стали постепенно вызревать основные классовые группировки нового, капиталистического общества, а на этой почве возникали и различные течения общественной мысли, начиналась все более углубляющаяся и усложняющаяся идеологическая борьба»[34]. Это повышало ценность личности в системе культуры, ставило с особой остротой вопрос о ее индивидуальном, самостоятельном нравственном и идейном самоопределении, стимулировало развитие идейно-нравственной проблематики. Это вело к качественным сдвигам и в развитии психологизма.
В произведениях таких европейских писателей, как Руссо («Новая Элоиза», «Исповедь»), Ричардсон («Памела»), Стерн («Сентиментальное путешествие»), Гете («Страдания юного Вертера»), Мюссе («Исповедь сына века»), Гюго, Гофман, Тик, Новалис, изображение внутреннего мира приобретает подлинную глубину. Воспроизведение чувств и мыслей героев становится подробным и разветвленным, делаются успешные попытки проанализировать внутренние состояния и отчасти даже воспроизвести динамику душевной жизни. Психологизм полностью обретает свое естественное содержание: внутренняя жизнь героев оказывается насыщенной именно нравственно-философскими поисками. Психологизм становится в полном смысле слова ведущим (или одним из ведущих) свойством стиля, а сама задача воспроизведения душевной жизни человека начинает пониматься сентименталистской и романтической эстетикой как одна из первоочередных в искусстве.
Обогащается и «техническая» сторона психологизма: литература осваивает новые продуктивные приемы и способы воспроизведения внутреннего мира – авторское психологическое повествование, психологическую деталь, композиционные формы снов и видений. Широко применяется психологический пейзаж как средство косвенно воспроизвести прежде всего эмоциональное настроение персонажа по аналогии с «настроением» природы. Начинает активно использоваться внутренний монолог, и делаются попытки хотя бы отчасти построить его по законам внутренней речи. С использованием этих форм литературе становятся доступны сложные психологические состояния, появляется возможность анализировать область подсознательного, художественно воплощать сложные душевные противоречия, т.е. сделать первый шаг к художественному освоению «диалектики души».
Резкое усиление роли психологизма в художественной культуре, его эстетическое совершенствование и возрастающая содержательная значимость в литературе второй половины XVIII – начала XIX века закономерны. Эти процессы связаны как с социальными сдвигами в обществе, о которых говорилось выше, так и с той огромной ролью, которую приобрела личность в системе ценностей сентименталистской и еще более романтической культуры.
Однако сентиментальный и романтический психологизм, при всей своей разработанности и иногда даже изощренности, имел и свой предел, связанный с абстрактным, недостаточно историчным пониманием личности в мировоззренческой системе этих направлений. Сентименталисты и романтики мыслили человека вне его многообразных и сложных связей с окружающей действительностью, их внимание было сосредоточено на личности как таковой, а не на взаимоотношениях личности со средой. Это обедняло само представление о внутренней жизни человека, сужало диапазон изображаемых психологических состояний, не давало полностью и широко развернуться идейно-нравственным поискам, а в сочетании с возвышенным пафосом придавало психологизму некоторую абстрактность и риторичность. Преодолеть эти ограничения можно было лишь в системе реалистического метода. Но, несмотря на это, надо подчеркнуть, что для своего времени сентименталистский и особенно романтический психологизм был крупнейшим открытием, своего рода прорывом в глубокие и часто тайные области внутренней жизни человека. Полностью соответствуя своему содержанию, психологизм этого периода не был неполноценным в эстетическом отношении по сравнению с реалистическим психологизмом, и свою художественную ценность он вполне сохраняет.
Таково в общих чертах развитие психологизма в европейских литературах. В русской же общественной жизни социальные предпосылки психологизма начали вызревать, очевидно, к концу XVII века, когда кризис допетровской культуры обозначился достаточно ясно. Петровские преобразования, резко поднявшие цену личности, ее самостоятельности, инициативности, ответственности, были выражением объективной необходимости, в том числе и культурной.
Однако общий уровень развития русской художественной литературы в этот период был невысок. Литература еще не накопила почти никакого собственного опыта, не было необходимого запаса художественных форм и приемов, с помощью которых можно было бы освоить такой сложный и тонкий предмет, как душевная жизнь человека. Не сложился еще и тот гибкий, выразительный, богатый литературный язык, который позволил бы в полной мере выразить оттенки психологических состояний. Поэтому сколько-нибудь значимый психологизм мог возникать лишь в единичных случаях, а более-менее отчетливо проявился лишь в одном произведении – «Житии» протопопа Аввакума (1673 – 1675).
Автор «Жития» стремится уже не просто рассказать о событиях, но запечатлеть те индивидуальные переживания, которые ими вызваны, дать психологическую мотивировку своим действиям; в некоторых случаях делаются попытки изобразить душевную борьбу и смуту. Но все же и в этом произведении психологизм был еще очень робким, почти все время рационалистичным; он использовал лишь одну форму изображения – психологическое самораскрытие. Главное же в том, что психологизм здесь еще не стал свойством стиля – он появляется лишь от случая к случаю и только в тех фрагментах повествования, в которых оно приобретает характер исповеди.
Широкое же развитие психологизма в русской литературе наблюдается только в конце XVIII – начале XIX века, в творчестве сентименталистов и романтиков – Карамзина («Бедная Лиза», «Остров Борнгольм»), Радищева («Дневник одной недели», «Путешествие из Петербурга в Москву»), Бестужева-Марлинского («Поездка в Ревель», «Замок Венден», «Роман и Ольга» и др.), Загоскина («Рославлев», «Юрий Милославский»), Погорельского («Двойник», «Монастырка»), раннего Лермонтова («Княгиня Литовская»). Художественные особенности изображения внутреннего мира в русской литературе этого периода в основном совпадают с характером психологизма в соответствующих западноевропейских направлениях.
Качественно новый этап в развитии психологизма наступает в XIX веке, особенно во второй его половине. Это связано с широким распространением и все большей содержательной глубиной реалистического метода. Основной эстетической установкой реализма является установка на познание объективной действительности в ее типических свойствах. Познавательно-проблемная функция литературы закономерно выходит в реализме на первый план. Поэтому в творчестве писателей-реалистов важное значение приобретает раскрытие корней изображаемого явления, установление причинно-следственных связей. Одним из главных становится вопрос о том, как, под влиянием каких жизненных факторов, впечатлений, путем каких ассоциаций и пр. складываются и меняются те или иные идейно-нравственные основы личности героя, вследствие каких событий, размышлений и переживаний герой приходит к постижению той или иной моральной или философской истины. Все это, естественно, ведет к повышению удельного веса психологического изображения в повествовании, изменению его качества, к детализации, подробности, а следовательно, и точности в фиксации психологических процессов и состояний.
Реалистический принцип предполагает изображение личности не только как продукта определенных обстоятельств, но и как индивидуальности, вступающей в активные, широкие и многообразные отношения с окружающим миром: с отдельными людьми, с обществом в целом, с социальными институтами, философскими и моральными учениями. В таких связях с действительностью характер раскрывается с разных сторон, идейно-нравственная проблематика становится шире, реальная сложность и богатство характера, а следовательно, и внутреннего мира с большей полнотой воплощается в художественном произведении. Потенциальное богатство характера, рожденное в его связях с действительностью, становится практически неисчерпаемым. Все это непосредственно ведет к углублению психологизма и возрастанию его роли в литературе.
В XIX веке отчетливо проявились и те общекультурные процессы и закономерности, которые благоприятствуют развитию психологизма. Во-первых, на протяжении всей человеческой истории неуклонно повышается ценность личности и одновременно возрастает мера ее идейной и нравственной ответственности. Во-вторых, в процессе общественного развития усложняется сам исторически складывающийся тип личности, потому что развивается и обогащается система общественных отношений – объективная основа богатства каждой отдельной личности. Связи и отношения человека становятся более многообразными, их круг шире, сами отношения по своей сути сложнее. Человек оказывается в центре отношений бытовых, семейных, деловых, идеологических, моральных, правовых, и эти связи все больше сплетаются друг с другом, вызывая сложные реакции человека, ставя перед ним жизненно важные идейные и нравственные проблемы. Связи людей становятся интенсивнее, личность начинает жить более напряженно, ускоряется темп жизни, в том числе и внутренней.
Развивается и усложняется и мышление человека о мире: появляется множество нравственных, политических, философских теорий и систем, нередко чрезвычайно сложных и внутренне противоречивых, в «диалог идей» (который тоже становится все более интенсивным) активно включаются произведения искусства; они также являются своеобразным осмыслением жизни и иногда воплощают в себе законченные этические или философские системы. Духовная культура человечества, а следовательно, и культурный кругозор каждого отдельного человека увеличивается и обогащается. В результате существующая в реальной исторической действительности личность потенциально усложняется. Ясно, что эти процессы прямо и непосредственно стимулируют развитие психологизма.
Все это приводит к тому, что реалистический психологизм XIX века уже полностью реализует возможности литературно-художественного освоения внутреннего мира человека и достигает эстетического совершенства. Психологизм таких писателей, как Теккерей и Диккенс, Стендаль и Флобер, Золя и Мопассан, никогда не потеряет для читателей своей познавательной и эстетической ценности.
Особое место в реалистическом психологизме XIX века занимает русская классическая литература, в которой это художественное свойство, по общему признанию, достигает вершины. Небывалый расцвет психологизма в русской классике прежде всего связан с резким возрастанием удельного веса идейно-нравственной проблематики, с ее небывалой остротой и напряженностью. Это в свою очередь связано с особенностями социально-исторического развития России XIX века, особенно второй его половины. «В русской жизни, особенно пореформенной, – пишет С. Бочаров, – материальные формы бытия человека – в неустойчивом состоянии, в кризисе, брожении, в пестрых соединениях исторически старых, крепостнических, и новых, буржуазных, становящихся тут же старыми, и уже в прорастании новых тенденций. В человеке, детерминированном этой сложностью, русскому писателю важно и ценно процессное состояние души, образующее некий потенциал и залог по сравнению с внешне фиксируемым положением человека в системе бытовых условий, в "среде"... Потенциалом является внутренний мир человека, здесь он богаче, чем в своих практических отношениях и возможностях; поэтому такое исключительное значение приобретает в русской литературе второй половины XIX века психологический анализ»[35].
В литературе XX века психологизм продолжал развиваться и совершенствоваться в художественных системах реализма. Социалистический реализм, выступивший наследником лучших традиций культуры XIX века, естественно, взял на вооружение и психологизм как форму воплощения идейно-нравственной проблематики. В культуре социализма ценность личности исключительно велика, а идейный интерес к процессам ее умственного и нравственного развития носит непреходящий характер. Этим и объясняется широкое развитие психологизма в творчестве таких писателей, как Горький и Леонов, Фадеев и Шолохов, Федин и Симонов, Трифонов и Айтматов... С помощью психологизма литература социалистического реализма успешно осваивала богатство личности, огромные духовные возможности нового человека – человека социалистической эпохи[36].
В западном искусстве XX века психологизм успешно развивается в творчестве писателей реалистического метода – Хемингуэя, Олдингтона, Фолкнера, Моравиа, Маркеса и других. Однако в западном искусстве наметилась и иная тенденция – неоправданное злоупотребление психологизмом и, как следствие, кризис этого стилевого свойства. Подобное развитие психологизма характерно для разновидностей модернистского искусства – школ «потока сознания» и так называемого «нового романа»[37].
Писатели этих направлений (М. Пруст, Д. Джойс, Н. Саррот и др.) придают психологическому изображению исключительную роль в художественном произведении, заполняя многие страницы подряд подробнейшим изображением всех без исключения частностей и мелочей психологической жизни героя. При этом важно, что психика и сознание человека описываются в произведениях модернистов не ради раскрытия значительных по содержанию нравственных и философских проблем, а как бы сами по себе, как самоценный и конечный объект изображения. За описанием душевных движений в этой литературе мы не находим того большого человеческого содержания, которое воплощает в себе реалистический психологизм. Психологизм утрачивает в произведениях модернистов свое естественное содержание – идейно-нравственную проблематику – и становится пустой, ничем не заполненной эстетической игрой, своего рода искусством для искусства.
В самом деле, разве мы беремся за роман для того, чтобы узнать о возможных гипертрофированных реакциях психики на мельчайшие внешние раздражители? Или для того, чтобы получить представление о механизме действия вытесненных в подсознание образов и стремлений? Конечно же, нет: на это существуют учебники по психиатрии. В художественной литературе нас интересуют нравственные и социальные проблемы.
Здесь уместно привести старое, но не потерявшее своей справедливости высказывание Гегеля. Оно удивительно точно подходит к литературе модернистского психологизма XX века: «Самосознание в обычном, тривиальном смысле исследования собственных слабостей и погрешностей индивидуума представляет интерес и имеет важность только для отдельного человека, а не для философии; но даже и в отношении к отдельному человеку оно имеет тем меньшую ценность, чем менее вдается в познание всеобщей интеллектуальной и моральной природы человека и чем более оно, отвлекая свое внимание от обязанностей человека, т.е. подлинного содержания его воли, вырождается в самодовольное нянченье индивидуума со своими, ему одному дорогими особенностями»[38].
В модернистском психологизме изображение психических процессов стремится стать всеобъемлющей и единственной стихией повествования. Одновременно резко возрастает его техническая изощренность, нюансировка в изображении психологического «микромира» и т.д. Но одновременно мельчает, а то и вовсе пропадает содержание душевной жизни героев, ее нравственный, человеческий, общезначимый смысл. За формой, разработанной до максимального технического совершенства, оказывается пустота. Нарушается основной эстетический закон – художественное единство произведения, соответствие всех его сторон, частей, свойств, и прежде всего соответствие формы содержанию.
Реалистический психологизм продолжает успешно развиваться и в XX веке. Несомненно, что писатели-реалисты еще не раз будут поражать читателя верностью психологических картин, глубоким проникновением в скрытые пласты душевной жизни человека, а главное, значительностью стоящего за реалистическим психологизмом идейно-нравственного содержания. В этом писатели XX века – прямые наследники лучших образцов психологизма классической литературы прошлого столетия.
II ПСИХОЛОГИЗМ ШЕДЕВРОВ РУССКОЙ КЛАССИКИ
М.Ю. Лермонтов «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Миросозерцание Лермонтова складывалось в конце 20-х – начале 30-х годов XIX века, в эпоху идейного кризиса передовой дворянской интеллигенции, связанного с поражением декабрьского восстания и николаевской реакцией во всех сферах общественной жизни, в том числе и духовно-идеологической. Потребность освоить «ошибки отцов», заново осмыслить то, что казалось непреложным предшествующему поколению, выработать собственную нравственно-философскую позицию – характернейшая черта эпохи конца 20-х – 30-х годов. Практическое действие оказывалось невозможным в силу как объективных (жесткая политика самодержавия), так и субъективных причин: прежде чем действовать, необходимо было преодолеть идейный кризис, эпоху сомнения и скептицизма; четко определить, во имя чего и как действовать. Именно поэтому в 30-е годы такое исключительное значение для культуры, для настоящего и будущего развития общества приобретают философские поиски лучших его представителей, их попытки определиться в, решении наиболее общих идейно-нравственных проблем:
Идея личности, ее высочайшей ценности для культуры приобретает в 30-е годы исключительное значение и становится отправной точкой в исканиях передовой дворянской интеллигенции. Если поколение конца 10-х – начала 30-х годов еще мыслило личность в гармонии с обществом и, опираясь на идею гражданственности, ограничивало свободу личности интересами государства, нации, то после декабрьского восстания и последовавших за ним изменений в политике ясно обнаружилась иллюзорность, утопичность такого подхода. Между самодержавным николаевским режимом и свободной, мыслящей, передовой личностью неизбежно устанавливались отношения антагонизма. В то же время самодержавие активно пытается нейтрализовать передовую интеллигенцию, заигрывая с ней, предлагая своего рода сотрудничество, а по существу пытаясь поставить ее талант себе на службу, – так Николай I пытался сделать из Пушкина придворного поэта. Личная свобода в этих условиях все острее осознавалась как единственная реальная ценность, единственное убежище человека. Не случайно так дорожит свободой лермонтовский Печорин: «Сто раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту, но свободы своей не отдам». Это признание звучит неожиданно в устах дворянина и офицера, для которого традиционно высшей ценностью была честь, – вспомним хотя бы, как рисковал пушкинский Гринев во имя чести, вспомним эпиграф, во многом выражающий основную идею повести: «Береги честь смолоду». Печорин – человек иного поколения, и то, что свободу он готов поставить выше всего, весьма показательно.
Но передовому сознанию эпохи мало одной лишь свободы, потому что это ценность субъективная, обрекающая человека на одиночество. Уже Онегин в последней главе романа (написанной около 1830 г.) называет свою свободу «постылой», и это не случайно. В передовом сознании эпохи властно заявляет о себе потребность найти более высокие, надличностные идеалы и ценности, оправдать свое индивидуальное существование возвышенной целью. Пока же такой цели нет – нет и нравственной основы для действия, а свобода оборачивается «бременем», обрекающим человека на бездействие, хандру или же на действия бесполезные, случайные, неосмысленные. Личность, в полной мере осознавшая свою внутреннюю свободу, настойчиво ищет, к чему эту свободу приложить, как применить богатые внутренние возможности. Иными словами, для 30-х годов чрезвычайно характерны интенсивные поиски смысла жизни, доходящие до самых глубоких пластов, поднимающие самые фундаментальные философские проблемы.
Объективная историческая невозможность найти возвышенные, надличностные идеалы, которые удовлетворяли бы строгим требованиям личности, были бы согласны с принципом внутренней свободы и выдержали бы проверку сомнением, приводила личность к осознанию трагичности своего существования, порождала постоянные сомнения, сложную внутреннюю борьбу с самим собой.
Стремление самостоятельно осмыслить действительность, дойти в этом осмыслении до самых корней, строго и придирчиво разобраться в сложной жизненной диалектике, не удовлетворяясь приблизительными решениями и все подвергая сомнению, – эта особенность духовной атмосферы вызвала к жизни особый принцип подхода человека к реальности – аналитичность, т.е. потребность и способность расчленить любое явление, рассмотреть скрытые в нем механизмы, понять его глубинную суть, дойти в познании до логического конца. Анализ становится важнейшей чертой мышления, в том числе и художественного.
Лермонтов был подлинным выразителем духовной жизни России 30-х годов, и в его миросозерцании с исключительной полнотой отразились те характерные свойства общественного сознания эпохи, о которых шла речь.
Свойствами лермонтовского миросозерцания обусловлено проблемно-тематическое содержание его романа «Герой нашего времени». Объектом художественного осмысления в романе становится характер, в известной мере близкий самому Лермонтову. Это не значит, конечно, что Печорин автопортретен, – над подобным предположением обоснованно иронизировал сам Лермонтов в «Предисловии». Но в Печорине художественно воспроизведен тот же тип общественного сознания – основным его содержанием является процесс философского самоопределения в действительности.
При этом принцип типизации в романе таков, что Печорин предстает личностью, в максимальной мере воплощающей в себе все характерные черты общественного сознания 30-х годов. Волею автора он наделен такими чертами, как необычайная интенсивность нравственно-философских поисков (для Печорина разрешение нравственно-философской проблемы гораздо важнее, чем то, как сложится его личная жизнь), исключительная сила воли, чрезвычайно аналогичный ум, способный проникать до самых глубин философских вопросов; наконец, Печорин наделен просто незаурядными человеческими способностями. Иными словами, перед нами личность исключительная. Такой принцип типизации потребовался Лермонтову для того, чтобы волновавшие его самого вопросы могли быть поставлены Печориным на самом серьезном и авторитетном уровне. Печорин – человек, готовый проницательно и бесстрашно размышлять о глубинных нравственно-философских основаниях как мира в целом, так и отдельного человека в мире. Именно это и было необходимо Лермонтову в свете всей проблематики романа, которая носит отчетливо выраженный философский характер. Вопросы, над разрешением которых бьется Печорин, – это вопросы, чрезвычайно занимавшие художественное сознание и самого Лермонтова. Это проблемы человека и мира, смысла индивидуального существования, воли и рока, незаурядного дарования и обыкновенной судьбы, цели деятельности, причин бездеятельности и т.п.[39]. Идейно-нравственные поиски героя предстают как основное проблемное содержание всего романа.
Такого рода проблематика, как мы помним, прямо требовала достаточно развитого и глубокого психологизма.
Содержательные особенности лермонтовского романа обусловили возникновение в нем оригинального психологического стиля. Его можно было бы назвать аналитическим психологизмом – по ведущему принципу изображения душевной жизни. Это значит, что любое внутреннее состояние Лермонтов умеет разложить на составляющие, разобрать в подробностях, любую мысль довести до логического конца. Психологический мир в романе (это касается, конечно, в первую очередь главного героя – Печорина) предстает как сложный, наполненный противоречиями, которые необходимо художественно выявить, объяснить и разгадать. «У меня врожденная страсть противоречить», – говорит Печорин о себе и далее так характеризует свой внутренний мир: «Целая жизнь моя была только цепь грустных неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя».
Непросто разобраться в таком психологическом рисунке, поэтому психологический анализ у Лермонтова часто строится как обнаружение скрытых пластов внутреннего мира, тех побуждений и душевных движений, которые не лежат на поверхности, неясны с первого взгляда даже самому герою. Часто это анализ того, что скрывается за тем или иным действием или поступком. Например, Грушницкий спрашивает Печорина, был ли он тронут, глядя на княжну Мери; тот отвечает отрицательно. Для Лермонтова чрезвычайно важно раскрыть, какие психологические причины стоят за этим ответом, и Печорин тут же называет их: во-первых, он хотел побесить Грушницкого; во-вторых – «врожденная страсть противоречить»; в-третьих: «...признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу; это чувство было – зависть; я говорю смело "зависть", потому что привык себе во всем признаваться».
Самоанализ Печорина всегда очень смел, а потому всякое душевное состояние выписано в романе четко и подробно. Вот, например, как объясняет Печорин свое относительное спокойствие после неожиданной встречи с Верой: «Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастия, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь, – теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже мне кажется, что одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!»
Объясняя различные психологические ситуации и положения, Печорин раскрывает перед читателем и устойчивые свойства своей личности, и особенности психического склада: логичность мышления, умение видеть причинно-следственные связи, способность сомневаться во всем, подчинение мыслей и эмоциональных порывов сильной воле и ясному рассудку. «Одно мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь». Здесь Печорин не столько раскрывает то психологическое состояние, которое испытывает в данный момент, сколько обобщает ряд сходных психологических состояний: такова его душевная жизнь вообще, а не в данный момент. Но этим анализ, конечно, не кончается – Печорин задает себе обязательный, принципиальный для себя вопрос: «Отчего это? – оттого ли, что никогда ничем очень не дорожу и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это – магнетическое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?»
Как бы ни отвечал герой на этот конкретный вопрос, важно то, что он размышляет, сомневается, перебирает варианты – в каждом сколько-нибудь сложном случае ищет ответа, познает мир при помощи разума и логики. В этом особенность и специфика психологического склада его личности.
Важнейший вопрос для аналитика – вопрос о причинах и мотивах человеческих действий, поступков, душевных состояний, о скрытом их смысле. Заслуга Лермонтова-психолога в том, что он – едва ли не впервые в русской литературе – сосредоточил художественное внимание не на внешних, сюжетных, а на внутренних, психологических мотивировках человеческого поведения. Главный герой романа, сам в высшей степени склонный к анализу, умеющий проникать в скрытые мотивы своих и чужих действий, в последних трех частях несет на себе основную повествовательную нагрузку в системе психологического стиля: именно он раскрывает психологические мотивы, объясняет душевные состояния – и свои, и чужие. Вот, например, общие соображения Печорина о связи душевного состояния человека с чисто физическими причинами: «Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве... Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума»; «Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!»
Вот чисто психологическое объяснение антипатии к Грушницкому: «Я его так же не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать». Вот объяснение впечатления от лица слепого мальчика: «Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное соотношение между наружностью человека и его душой: как будто с потерею члена душа теряет какое-то чувство». Но этим общим соображением психологическое изображение не обрывается: далее фиксируется уже более конкретное внутреннее состояние и одновременно оно анализируется: «Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление». Анализ и здесь, не заканчивается – Печорин не может сказать «не знаю отчего» и не попытаться объяснить смутное душевное движение: «В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям...» В последней части отрывка – характернейшее для Печорина сомнение; в то же время изображение психологического состояния окончательно доведено до конца: последним звеном оказывается подозрительность героя, о которой он в другом месте скажет: «Я люблю сомневаться во всем».
И вот, наконец, шедевр аналитического разбора собственного поведения и психологического состояния, беспощадное раскрытие психологических причин, мотивов действий и намерений:
«Я часто спрашиваю себя, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я завлекся бы трудностью предприятия...
Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости...
Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего...
А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся душой!.. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает».
Здесь психологический анализ доходит до самых глубин идейно-нравственного содержания характера, до сердцевины личности героя – его воли. И обратим внимание, насколько аналитичен приведенный отрывок: это уже почти научное рассмотрение психологической задачи, как по методам ее разрешения, так и по результатам. Сначала поставлен вопрос – поставлен со всей возможной четкостью и логической ясностью. Затем отбрасываются заведомо несостоятельные объяснения («обольстить не хочу и никогда не женюсь»). Далее начинается рассуждение о более сложных и глубоких причинах: как возможные причины отвергаются потребность любви («Вера меня любит больше...») и «спортивный интерес» («если бы она мне казалась непобедимой красавицей...»). Отсюда делается вывод, уже прямо логический: «Следовательно...» Снова рассматриваются возможные объяснения (хочется назвать их гипотезами), по-прежнему не удовлетворяющие Печорина, и наконец аналитическая мысль выходит на правильный путь, обращаясь к тем положительным эмоциям, которые доставляет Печорину его замысел и предчувствие его выполнения: «А ведь есть необъятное наслаждение». Анализ идет по новому кругу: откуда это наслаждение, какова его природа? И вот результат – причина причин, нечто бесспорное и очевидное: «первое мое удовольствие...». Задача путем ряда последовательных операций и построений сведена к аксиоме, к тому, что уже давно решено и бесспорно.
Психологический анализ, сосредоточенный лишь на одной, пусть самой одаренной и сложной личности, в большом повествовании рискует сделаться монотонным, однако психологизм как принцип изображения в лермонтовском романе распространяется и на других персонажей. Правда, делается это при помощи все того же Печорина: уверенно и беспощадно проникая в тайники собственной души, он свободно читает и в душах других людей, постоянно объясняя мотивы их действий, догадываясь о причинах того или иного поступка, душевного состояния, давая интерпретацию внешним признакам чувства: «В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Сострадание – чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала – а это великий признак!»; «До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу... И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать».
Психологическое состояние Бэлы, Максима Максимыча, персонажей повести «Тамань» дано нам не столь подробно, но, во-первых, сами эти характеры психологически достаточно просты, а, во-вторых, мы видим в основном лишь внешние проявления их чувства потому, что Печорин, этот повествователь-психолог, еще не бросает на них своего аналитического взгляда. Зато в «Княжне Мери» и в «Фаталисте» создается своего рода психологическая атмосфера, психологизм становится принципом изображения целого ряда героев, во многом подчиняя себе и сюжет и детали внешнего мира, а это очень важно для складывания психологического стиля, психологического повествования.
Дело в том, что характер главного героя целиком, а других персонажей отчасти строится Лермонтовым как своего рода загадка, требующая раскрывать за видимым – существенное, за внешним – внутреннее. Такого рода аналитическая установка – сделать ясным загадочное, обнаружить скрытые мотивы поведения, причины душевных состояний – специфическая, характерная черта психологизма «Героя нашего времени». Здесь психологизм служит как бы инструментом реалистического познания того, что в первом приближении кажется загадочным. Это диктует особую структуру повествования: смену рассказчиков, организацию художественного времени, соотношение внешнего и внутреннего.
Так, чрезвычайно интересными оказываются связи между внутренним, психологическим состоянием и формами его внешнего выражения. На протяжении всех пяти повестей мы можем увидеть, что герои стараются «не выдать себя» внешне, не показать своих мыслей и переживаний, скрыть душевные движения: Бэла не хочет показать свою любовь к Печорину и тоску по нему; Максим Максимыч, уязвленный отношением к нему Печорина, все же «старается принять равнодушный вид»: «Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это»; постоянно стараются скрыть свои душевные движения герои «Княжны Мери». Подобного рода поведение требует психологической расшифровки, и новаторство Лермонтова-психолога состояло уже в том, что он стал художественно воспроизводить именно несоответствие внешнего поведения внутреннему состоянию героев, что было большой редкостью или вовсе отсутствовало в предшествующей литературе (исключая, пожалуй, Пушкина). Гораздо проще изображать в литературе полное соответствие внешнего и внутреннего – тогда нет, собственно, необходимости в психологизме как непосредственном проникновении в душевную, невидимую глазу жизнь человека: радость можно обозначить смехом, горе – слезами, душевное волнение – дрожанием рук и т.п. Лермонтов идет по более сложному пути: он раскрывает неоднозначные, непрямые соответствия между внутренними и внешними движениями, что требует уже непосредственного психологического комментария к изображению портрета и поведения, их психологического истолкования. Другое дело, что душевные движения большинства героев прочитываются по их лицам и поступкам довольно легко, тем более что и комментатором и истолкователем является в романе в основном такой глубокий психолог, наблюдатель и аналитик, как Печорин. Печорину понятно, когда мимика и поведение людей искренни, а когда они «делают вид», понятно, и что за этим стоит: «Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид»; «Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал»; «Грушницкий принял таинственный вид; ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает».
Внешние проявления внутреннего состояния, хотя и не содержат здесь большой загадки, все-таки уже не прямо выражают эмоции и переживания, а требуют психологической интерпретации. По-настоящему же загадочно соотношение внешнего и внутреннего в образе самого Печорина.
Дело здесь, во-первых, в том, что он по складу натуры умеет лучше владеть собой, держать себя в руках и даже притворяться, а окружающие недостаточно проницательны и психологически искушенны, чтобы разобраться в причинах и мотивах его поведения, в том, что стоит за тем или иным мимическим движением. Княжна Мери не замечает, что перед знаменитым монологом «Да, такова была моя участь с самого детства...» Печорин не на самом деле тронут, а лишь «принял глубоко тронутый вид». Это естественно, потому что княжна еще совсем неопытная девочка, не различающая искренности и актерства. Но ведь обманывается и такой внимательный человек, как Вернер: « – Я вам удивляюсь, – сказал доктор, пожав мне крепко руку. – Дайте пощупать пульс!.. О-го! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно».
Во-вторых, Печорин вообще сдержан: он живет преимущественно внутренней жизнью, предпочитая не обнаруживать душевных движений, – уже не для игры, а для самого себя. Вот как описывает, например, Максим Максимыч внешний вид и поведение Печорина после смерти Бэлы: «Его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно; я бы на его месте умер с горя. Наконец, он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия, хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха...» Здесь уже сложность, не поддающаяся немедленному и однозначному психологическому истолкованию: поведение героя может свидетельствовать о равнодушии, но может и о том, что чувства его в этот момент слишком глубоки, чтобы найти себе выражение в традиционных формах причитаний, рыданий и пр.
Здесь же становится видной и третья причина, из-за которой внутреннее состояние и внешнее его проявление у Печорина практически всегда не соответствуют друг другу: его внутренняя жизнь слишком сложна и противоречива, чтобы найти себе полное и точное внешнее выражение; кроме того, она идет преимущественно в формах мысли, которая вообще не может быть сколько-нибудь полно отражена в мимике, в поступках и т.п.
Все это создает такую загадочность внешнего поведения и облика героя, которая требует непременного проникновения в психологические процессы, связанные с идейными и нравственными основами характера. «Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен, – говорит о Печорине Максим Максимыч, основываясь на наблюдениях за внешним поведением. – Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте; все иззябнут, устанут, – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет, а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями».
Для Максима Максимыча здесь, собственно, даже еще нет загадки: просто странный характер, мало ли какие люди бывают на свете. Но для вдумчивого читателя Печорин, каким он предстает в повести «Бэла», не просто странен, а именно загадочен. Мы уже начинаем предполагать: что же стоит за столь противоречивым поведением, какими причинами оно вызвано. Психологическую загадочность героя усиливает и его изображение глазами другого повествователя – «публикатора» дневника, «попутчика» Максима Максимыча. На этой стадии внешнее соотносится с внутренним иначе: по-прежнему налицо противоречие и несовпадение, но повествователь уже пытается интерпретировать внешнее поведение, построить какие-то, хотя бы гипотетические, выводы о характере и психологическом мире: «...Я заметил, что он не размахивал руками – верный признак некоторой скрытности характера»; глаза его не смеялись, когда он смеялся: «это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти» и т.д. Здесь сложность соотношения внешнего и психологического уже осознана; становится ясным, что во внутреннем мире героя есть что искать, и, таким образом, становится необходимым тот последующий психологический анализ от лица самого Печорина, который развернется в «Тамани», «Княжне Мери» и «Фаталисте».
Таким образом, композиционно-повествовательная структура «Героя нашего времени» в значительной мере подчинена психологизму как стилевой доминанте. Смена рассказчиков нацелена на то, чтобы психологизм постоянно усиливался, анализ внутреннего мира делался более глубоким и всеобъемлющим. Повествование Максима Максимыча создает предпосылки для дальнейшего психологического анализа, основанного на загадочности, несовпадении внешнего и внутреннего. Вторая повесть отчасти начинает такой анализ, но, конечно, ни в какой мере не удовлетворяет любопытство читателя, а лишь разжигает его. В дневнике Печорина психологический анализ становится основной стихией повествования. Однако и это происходит не сразу. Психологическое повествование в первой повести – «Тамань» – еще отрывисто, занято внешней динамикой, вследствие чего и анализ не доходит до глубинных причин, до идейно-нравственной сущности характера. Даже в начале «Княжны Мери» психологическая загадочность все еще усиливается. «Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине – чего бы, кажется, больше? зачем тут страсти, желания, сожаления?..» А в самом деле: зачем это вдруг вспомнил Печорин посреди этой радостной природы, испытывая «какое-то отрадное чувство», про «страсти, желания, сожаления»? Совершенно немотивированный внешне ход мыслей настораживает, заставляет предполагать большую психологическую глубину, чем та, которая выражена в дневниковой записи. Вспоминается загадочный Парус:
Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой... А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой!Загадка начинает аналитически разрешаться лишь в ходе дальнейшего повествования. И завершается анализ «Фаталистом», где психологизм затрагивает уже самые глубокие – философские – проблемы характера.
Задачам аналитического психологизма подчинена и структура художественного времени романа, особенно последних трех его частей. Повествование ведется в дневниковой форме, а это значит, что события и вызванные ими переживания заносятся на бумагу пусть даже по горячим следам, но все же с некоторым временным разрывом, некоторое время спустя после того, как они произошли. Повествование всегда рассказывает не о происходящем в данный момент, а об уже происшедшем. Это касается и испытанных Печориным психологических состояний, что принципиально важно. Временная дистанция между переживанием и рассказом о нем позволяет рационально осмыслить и проанализировать психологическое состояние, разобраться в нем, взглянуть на него со стороны, поискать причин и объяснений. Иными словами, картина внутреннего мира предстает перед нами уже «обработанной», опосредованной последующими размышлениями Печорина над ней.
Особенно это касается эмоциональной сферы, области чувств: они всегда находятся под последующим рациональным контролем, и мы видим не столько непосредственное переживание, сколько воспоминание об этом переживании, сопровождаемое неизменным анализом, разбором причин и вызванных им «психологических цепочек»: «Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли со своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подарок – на память?..» Здесь дистанция между временем переживания и временем повествования о нем просто необходима: ведь Печорину нужен некоторый срок, чтобы осознать, что он обрадовался, и попытаться разобраться в причинах своих ощущений.
Или вот еще пример, аналогичный, но, пожалуй, даже более выразительный:
«...Я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал.
И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли как дым; душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.
Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастием бесполезно и безрассудно...
Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок».
Здесь даже не один, а два временных разрыва: Печорин анализирует свое эмоциональное состояние спустя некоторое время, «когда ночная роса и горный ветер освежили... горящую голову и мысли пришли в обычный порядок», а запись в дневнике делается спустя полтора месяца после описанных событий. Фильтр памяти сделал свою работу, придал рисунку внутреннего мира аналитическую четкость, но зато в еще большей мере лишил его непосредственности.
Как видим, повествование, обращенное из настоящего в прошлое, направленное на уже пережитое, имеет большие художественные преимущества с точки зрения задач аналитического психологизма. В такой структуре художественного времени реальный поток душевной жизни можно остановить, прокрутить в памяти еще и еще раз, как при замедленном повторе в современном телевидении, – психологическое состояние тогда видится отчетливее, в нем обнаруживаются незаметные ранее нюансы, подробности, связи. Подобная структура художественного времени как нельзя лучше подходит для воспроизведения сложных переживаний.
Однако у такой организации художественного времени есть и свои минусы. Психологическое изображение у Лермонтова имеет некоторые пределы, которые ставит ему именно принцип повествования «из настоящего в прошлое». В таком изображении чувства, переживания, а отчасти и мысли теряют свою непосредственность, «очищаются», рационализируются. Утрачивается живость в передаче переживаний, ослабляется эмоциональный накал, у читателя не возникает иллюзии переживания, разворачивающегося непосредственно на его глазах. Между тем дневниковая форма сама по себе дает возможность создать такую иллюзию – для этого только необходимо перестроить структуру художественного времени так, чтобы запись в дневнике отражала психологические процессы, происходящие в самый момент написания. Этим приемом в дальнейшем с успехом пользовались Л. Толстой и Достоевский, да и у самого Лермонтова мы находим однажды такую форму изображения – это запись перед дуэлью:
«Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтобы завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся... Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб... но мы бросим жребий!.. и тогда... тогда... что, если его счастье перетянет? если моя звезда, наконец, мне изменит?..
И, может быть, я завтра умру!., и не останется на земле ни одного существа, которое бы меня поняло совершенно».
Здесь как бы непосредственно зафиксирован сам процесс переживания, это уже не взгляд из настоящего в прошлое, а «прямая передача» переживаемого в данный момент. Поэтому иным становится и психологический рисунок: он предстает неупорядоченным, мысли сменяют друг друга отрывочно, возникают паузы, обозначенные многоточиями. Возрастает живость, непосредственность в передаче внутреннего состояния, оно становится естественнее, психологически достовернее.
Однако такое воспроизведение переживания в его естественном, не пропущенном через аналитический фильтр виде – уникальный случай в романе Лермонтова. Гораздо чаще мы встречаемся с непосредственной фиксацией мыслительного процесса. Здесь у аналитического психологизма при дневниковой форме повествования гораздо больше возможностей, потому что если эмоции трудно занести на страницы дневника непосредственно в момент переживания, то запись потока мыслей – ситуация гораздо более естественная.
Существует и еще одно ограничение, которое накладывает на психологический рисунок принцип анализа и связанная с ним структура художественного времени. Лермонтовский психологизм ориентирован в основном на изображение устойчивого, статичного в душевном мире человека и гораздо менее приспособлен для воспроизведения внутренней динамики, постепенного перехода одних чувств и мыслей в другие. На эту особенность лермонтовского психологизма обратил внимание еще Чернышевский, противопоставив психологическую манеру письма Лермонтова и Толстого. Это свойство естественно вытекало из общих принципов изображения Лермонтовым внутреннего мира: для того чтобы исчерпывающе проанализировать то или иное психологическое состояние, его надо остановить, зафиксировать – только тогда оно поддается подробному разбору на составляющие. Ретроспективность психологического анализа также способствует статичности изображения: в воспоминаниях любое душевное состояние предстает обычно не как процесс, а как нечто устойчивое, отстоявшееся.
Внимание в основном к статическим аспектам внутреннего мира вряд ли можно считать недостатком лермонтовского психологизма. Во всяком случае, малая динамика психологических процессов с лихвой компенсируется тем, что такой подход к внутреннему миру позволяет Лермонтову исчерпывающе анализировать очень сложные психологические состояния. Художественное освоение противоречивости душевной жизни человека в каждый данный момент, ставшее возможным во многом благодаря изображению психологической статики, – несомненная заслуга Лермонтова-психолога, шаг вперед в развитии психологизма.
Да и нельзя сказать, что в «Герое нашего времени» мы вообще не видим подвижности внутреннего мира. Сказанное выше относится в первую очередь к воспроизведению чувств и эмоциональных состояний, в области же мысли Лермонтов не раз показывает нам именно процесс, движение – от одних представлений к другим, от посылок к выводам. Например, в следующем отрывке:
«Звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними... Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости... мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению».
Здесь внешнее впечатление рождает воспоминание, воспоминание дает толчок размышлению, а размышление проходит ряд стадий уже по законам логики. Динамика мыслительного процесса со всеми его закономерностями воссоздана достаточно точно и полно.
Иногда мы видим и изображение отдельных эмоциональных состояний в их движении: «Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. "За что они все меня ненавидят? – думал я. – За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство?" И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу». Пусть на коротком отрезке душевной жизни и не так подробно, как впоследствии у Л. Толстого, но здесь прослежен и художественно зафиксирован процесс перехода одного чувства в другое; движение эмоций при этом сопровождается и опосредуется движением мысли.
Общие принципы лермонтовского психологизма обусловили и соответствующую систему конкретных форм и приемов изображения внутреннего мира. Количество этих форм ограниченно, а безусловно ведущую роль в их системе занимает психологический самоанализ – один из методов изображения внутреннего мира, когда о своем переживании говорит, рассказывает сам носитель переживания. Необходимо различать две его основные формы: самоанализ и самораскрытие героя. При втором способе герой непосредственно выражает свои мысли и чувства, передает поток душевной жизни, часто в форме исповеди; время переживания совпадает со временем его изображения: герой говорит о том, что он испытывает сейчас, в данный момент. При первом способе мы наблюдаем не непосредственное выражение переживания, а рассказ о переживании – о собственном внутреннем мире, но как бы со стороны. В плане художественного времени повествование организуется как воспоминание-анализ.
Именно эта, вторая форма стала ведущей в системе психологического изображения у Лермонтова. Важно отметить, что в «Герое нашего времени» нет нейтрального повествователя, который мог бы что-то добавить к самоанализу Печорина, прокомментировать его «автопсихологизм», внести новые штрихи в картины внутреннего мира. В таком повествователе и нет необходимости: Печорин достаточно тонкий наблюдатель и аналитик, он не боится говорить самому себе правду о своих мыслях и чувствах, поэтому самоанализ дает нам достаточно полную картину внутреннего мира, к которой, в сущности, уже нечего прибавить. «Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия, – говорит Печорин Вернеру. – Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его».
Кроме того, проблемно-тематическая сторона лермонтовского романа, о которой говорилось в начале, требовала сосредоточиться на подробном воспроизведении одного характера, максимально воплощавшего в себе нравственные поиски общественного сознания эпохи и свойственные ей идейно-философские тенденции. В этом случае форма психологического повествования от первого лица была как раз более подходящей: она позволяла раскрыть внутренний мир только одного героя, но зато сделать это с максимальной глубиной и подробностью.
Любопытно, однако, что в романе, кроме Печорина, есть еще один психологически насыщенный и интересный характер – характер Веры. Анализ Печорина, направленный на ее внутренний мир, не раскрывает всех загадок ее души, а поскольку нет нейтрального всезнающего повествователя, от которого мы могли бы узнать о душевной жизни этой героини, Лермонтов снова прибегает к тому же приему: психологическому самоанализу. Для этого в роман введено письмо Веры, в котором она анализирует свое чувство к Печорину, пытается объяснить его причины, прослеживает, развитие. Таким образом, психологический самоанализ в «Герое нашего времени» – всеобъемлющая и универсальная форма изображения сколько-нибудь сложных душевных движений. Для воспроизведения же более простых и очевидных переживаний, свойственных другим персонажам, используется, как уже говорилось, та психологическая интерпретация, которую дает главный герой поступкам, поведению, словам, мимике окружающих.
Еще одной важной формой психологического изображения в романе является внутренний монолог, т.е. такое воспроизведение мыслей, которое непосредственно фиксирует работу сознания в данный момент. Из-за указанных выше особенностей временной структуры возможности использования этой формы оказались весьма ограниченны: обычно перед нами не непосредственная фиксация мыслительного процесса, протекающего в сознании героя в данный момент, а запись этих мыслей «задним числом», уже аналитически обработанная. В тех же случаях, когда перед нами относительно прямая фиксация того, что думает герой в самый момент записи, т.е. действительно внутренний монолог, он имеет некоторые специфические особенности. Главная из них та, что внутренняя речь в романе построена по законам речи внешней: она логически упорядочена, последовательна, избавлена от неожиданных ассоциаций и побочных ходов мысли, не допускает «сокращенной речи» (пропуска слов, логических конструкций), в ней нет свойственных только внутренней речи синтаксических построений и т.д. Если мы проанализируем, например, такие внутренние монологи Печорина, как «Я часто спрашиваю себя...», «Нет ничего парадоксальнее женского ума...», «Пробегаю в памяти все мое прошедшее...», то легко увидим, что человек не может всегда думать в таких рационально-выверенных, стройных фразах; мышление человека обычно гораздо более непоследовательно и хаотично. (Интересно сопоставить, в частности, внутренний монолог «Пробегаю в памяти все мое прошедшее...» и сходные с ним по тематике «внешние» монологи: «У меня несчастный характер...» в «Бэле», «Да, такова была моя участь...» в «Княжне Мери». Речевая манера и стилистика во всех случаях одинакова.)
Подобная особенность внутренних монологов в романе связана, во-первых, с дневниковой формой повествования: форма выражения мыслей здесь – не просто «внешняя речь», а речь письменная, которая, конечно, имеет свои правила построения. Во-вторых (что более важно), рационалистичность внутренних монологов объясняется общим принципом психологизма – его аналитичностью: Лермонтов ставил своей задачей не столько воссоздать поток внутренней жизни в его реальной неупорядоченности, сколько дать исчерпывающий логический и психологический анализ душевной жизни. Это, естественно, требовало проведения внутренней речи через фильтр речи письменной, требовало ее упорядоченности.
Оригинальный психологический стиль лермонтовского романа, где все приемы и формы изображения подчинены принципу анализа, возник закономерно как форма раскрытия нравственно-философских основ характера и идейных исканий поколения 30-х годов. Лермонтов впервые в русской реалистической литературе создал крупное эпическое произведение, в котором психологизм стал бесспорной художественной доминантой, главным свойством стиля. Можно сказать, что «Герой нашего времени» – первый в полном смысле психологический роман в русской литературе XIX века.
И.С. Тургенев «ОТЦЫ И ДЕТИ»
Расцвет тургеневского творчества – вторая половина 50-х годов. В это время Тургенев становится одной из ведущих фигур в русской литературе, пишет свои лучшие романы; его творчеству посвящают большие статьи Чернышевский и Добролюбов. Критика единодушно отмечает в качестве главных отличительных особенностей творчества писателя его умение чутко уловить изменения в общественной жизни, постоянное внимание к социальным типам и в то же время тонкую поэтичность, знание тайн и секретов внутреннего мира.
В силу особенностей миросозерцания Тургенев в этой предреформенной эпохе, в стремительной динамике общественной жизни, в любом социальном типе ищет прежде всего нравственные проблемы, рассматривает изменения в социальной жизни с точки зрения того духовного содержания, которое проявляется в этих изменениях. Идейно Тургенев крепко связан с мировоззрением либерального дворянства – как художник-реалист постоянно выходит за рамки этого мировоззрения, обнаруживая способность критически оценить дворянский либерализм и отдать должное разночинцам-демократам.
Роман «Отцы и дети» не случайно считается вершиной творчества И.С. Тургенева: общественная проблематика сконцентрировалась в нем, обнаружив противостояние двух основных социальных типов эпохи. Проблемно-тематическая основа романа – взаимоотношения дворян-либералов и демократов-разночинцев, вернее, идейно-нравственный смысл этих взаимоотношений, их духовное содержание.
В дворянстве Тургенев уже давно подметил неспособность к решительному действию, шире – бездеятельность, созерцательность как закономерную нравственную основу характера. Не поставленные перед необходимостью трудиться, не воспитавшие в себе этой привычки, дворяне оказываются и нравственно ущербными, проявляя свою несостоятельность в самых разных ситуациях – от социальных до интимно-бытовых. Эту черту дворянства в изображении Тургенева особо отметил Чернышевский в статье «Русский человек на rendez-vous».
С другой стороны, дворянство для Тургенева всегда было и оставалось носителем чрезвычайно ценных нравственных качеств. Это способность поэтически воспринимать действительность, сильно и глубоко чувствовать, душевная тонкость и чуткость, высокая эстетическая и эмоциональная культура. Благородство нравственных принципов было чрезвычайно симпатично Тургеневу в лучших представителях дворянства.
В характере разночинца-демократа Тургенев увидел противоположное, но столь же противоречивое соотношение душевных качеств. Способность к практическому действию, привычка к труду и потребность в нем, а отсюда – решительность характера, внутренняя уверенность в себе, психологическая устойчивость личности – те качества, которые Тургеневу представляются чрезвычайно ценными и необходимыми как для общества, так и для отдельной личности. Превосходство разночинцев над дворянами связано в сознании Тургенева именно с тем, что «новые люди» – это не созерцатели, а деятели.
Но каковы нравственные цели и основания этой деятельности? Деятельность – во имя чего? Этот важнейший для Тургенева вопрос обнаруживает другую сторону в характере разночинца-демократа, как его понимал писатель. В глазах Тургенева этот тип оказывается так же ущербен, как и дворянство, хотя и на свой лад. В характере разночинцев-демократов Тургенев не увидел поэтического отношения к жизни, высоты и культуры чувств. Философия утилитаризма, практической пользы, вульгарно-материалистические взгляды обедняют личность, ставят во главу угла практицизм, не оставляя места романтике, и подвергают сомнению дорогие Тургеневу свойства личности: способность высоко и поэтически любить женщину, чувствовать красоту искусства и природы, сохранять и развивать с таким трудом накопленный багаж культуры в поведении, быту, человеческих отношениях и пр. Тургенев не только с надеждой, но и с тревогой всматривался в молодое поколение, видя в нем как симпатичные ему жизненную силу и энергию, так и глубоко неприемлемый практицизм, доходящий до цинизма.
Таким образом, нравственная сущность характера и дворянина и разночинца предстает в романе противоречивой, сочетающей в себе и плюсы и минусы. (Важно помнить при этом, что Базаров не просто воспроизведение демократа-разночинца, каким он был в реальной исторической действительности, а образ этого социального типа в представлении и понимании Тургенева.)[40]
Через весь роман писатель последовательно проводит мысль о недостаточности, несостоятельности как дворян либералов, так и разночинцев-демократов. Первые закономерно пасуют в сложных жизненных ситуациях, оказываясь неспособными встать на тот уровень уверенности и решительности, который свойствен Базарову (очень яркий пример здесь – Одинцова, которая при всей видимой силе характера все же в последний момент сделала выбор в пользу привычной спокойной созерцательности). Базаров же страдает от ущербности своей философии: жизнь оказывается тоньше и сложнее его схем, а романтизм, который Базаров называл «вздором», оказывается необходимой частью жизни; этот романтизм гнездится в нем самом и приводит к душевной драме, которую герой с присущей ему силой воли сумел пережить, но не преодолеть.
Надо отметить, что и в том и в другом случае перед нами предстают уже вполне сложившиеся идейно-нравственные позиции, которые затем лишь проверяются жизненными ситуациями. Эмоциональная, почти не зависящая от доводов разума реакция на них – основная форма воплощения идейно-нравственной проблематики в тургеневском романе. Отсюда и главная особенность его психологизма: основным объектом изображения становится не последовательность мыслей и рассуждений героев, не рационально-аналитическая рефлексия (как это было в «Герое нашего времени»), а эмоциональные переживания, задушевная, тайная внутренняя жизнь, в которой герои иногда и сами не отдают себе отчета. Тургенев поставил своей художественной задачей не столько объяснить, растолковать существо психологических процессов, сколько воссоздать душевное состояние предельно отчетливо, внятно для читателя.
Вот как воспроизведено, скажем, психологическое состояние Аркадия перед отъездом из имения Одинцовой: «"Зачем же он меня не спрашивает, почему я еду? и так же внезапно, как и он? – подумал Аркадий. – В самом деле, зачем я еду, и зачем он едет?" – продолжал он свои размышления. Он не мог отвечать удовлетворительно на собственный вопрос, а сердце его наполнялось чем-то едким. Он чувствовал, что тяжело ему будет расстаться с этой жизнью, к которой он так привык; но и оставаться одному было как-то странно. "Что-то у них произошло, – рассуждал он сам с собою, – зачем же я буду торчать перед нею после отъезда? я ей окончательно надоем; я и последнее потеряю". Он начал представлять себе Анну Сергеевну, потом другие черты понемногу проступили через красивый облик молодой вдовы.
"Жаль и Кати!" – шепнул Аркадий в подушку, на которую уже капнула слеза...»
Психологический мир героя здесь воспроизведен достаточно полно, но не исчерпывающе: нет установки на то, чтобы выстроить логическую линию внутреннего состояния, предельно прояснить рисунок внутреннего мира. То, что неясно для героя в данный момент, остается неясным и в передаче Тургенева. («Он не мог отвечать удовлетворительно на собственный вопрос» – в поэтике Лермонтова такая фраза невозможна, по крайней мере пока не исчерпан весь запас самоанализа.) Определение настроения приблизительно: «...сердце наполнялось чем-то едким»; мысли воспроизведены отрывочно.
И тем не менее психологическое состояние Аркадия вполне ясно читателю: мера конкретизации и подробности у Тургенева всегда такая, что создает достаточно наглядную картину внутреннего мира, но не объясняет ее. Установка не на анализ – всесторонний, полный, докапывающийся до скрытых причин, – а на воспроизведение жизни, яркое и живое. При такой установке внутренний мир предстает перед читателем во всей своей реальной многосторонности. В приведенном отрывке рациональной и эмоциональной сферам уделено равное внимание, они выступают как взаимно связанные грани психологического процесса или состояния. Воспроизведены и ход размышления, и ясное, осознанное чувство, и смутное настроение, и образы, возникающие в памяти и воображении. Все это в целом составляет единую картину душевного состояния.
Вследствие этого психологическое изображение у Тургенева очень правдоподобно: писателю удалось максимально приблизиться к воспроизведению внутренней жизни человека в ее реальном виде.
В самом деле, пропущенная через рациональный фильтр анализа душевная жизнь неизбежно утрачивает форму, свойственную ей в реальной действительности. У Тургенева этого не происходит прежде всего потому, что он не отдает приоритета рациональной стороне внутренней жизни, а показывает процессы мышления на определенном эмоциональном фоне, воссоздает целостное переживание как единство чувств, размышлений, желаний, воспоминаний.
Эмоциональной стороне психологической жизни Тургенев уделяет, пожалуй, даже больше внимания, потому что именно в том, что не зависит или не вполне зависит от рассудочного контроля, человек и проявляет свои глубинные, сущностные черты характера. А ведь задача Тургенева – именно в том, чтобы раскрыть идейно-нравственные основы личности, докопаться до того, каков человек на самом деле, в отличие от того, каким он хочет казаться себе и окружающим, – иными словами, проникнуть в истинную жизнь души и сердца.
Такое внимание к эмоциональной сфере привело к тому, что Тургеневу удалось, как никому до него, художественно живо и убедительно раскрыть и воспроизвести весьма сложные для изображения, смутные, трудноуловимые душевные движения. Тонкость тургеневского психологизма, его умение художественно осваивать нюансы переживаний единодушно отмечались современниками как бесспорная заслуга писателя. Посмотрим на конкретных примерах, какие психологические состояния доступны тургеневскому изображению. Вот, например, картина душевного мира Николая Петровича после разговора с Аркадием по поводу Фенечки:
«Сердце его забилось... Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между ним и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости – сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в виде ощущений – и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось».
Сложность писательской задачи состоит здесь в том, чтобы воспроизвести смутную картину внутреннего состояния, с одной стороны, так, чтобы читателю стало ясным содержание психологического процесса, а с другой стороны – не утратить в передаче ощущение этой смутности, донести его до читателя. Мастерство Тургенева-психолога проявляется в том, как он справляется с этой задачей: содержание душевных движений дается в виде предположения и сопровождается авторским «трудно сказать» – тем самым достигается определенная ясность в картине внутреннего мира, а в то же время понятно и то, что сам герой не дает себе точного отчета в своем состоянии; ощущение смятенности, зыбкости картины внутреннего мира еще усиливается итоговым: «все эти чувства были в нем, но в виде ощущений – и то неясных».
Интересно, что изображение душевного состояния представляется нам здесь довольно простым и естественным, но это та простота, которая не приходит сама собой, а требует мастерства. Помимо особой логико-синтаксической конструкции Тургенев использует еще и обрамление собственно психологической зарисовки физиологическими приметами взволнованности: в начале отрывка – «сердце его забилось», в конце – «а с лица не сходила краска, и сердце билось». Эти детали создают эмоциональный тон, и уже понятно, что в этот момент душевное состояние героя нельзя аналитически разложить по полочкам, оно все – в нерасчленимом слиянии разнородных мыслей и эмоций.
Вот еще один пример того, с каким мастерством изображает Тургенев сложные и тонкие душевные движения – психологическое состояние Одинцовой после ее объяснения с Базаровым:
«Она до обеда не показывалась и все ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее "добиваться", по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь... "Я виновата, – промолвила она вслух, – но я это не могла предвидеть". Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней...
"Или?" – произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями... Она увидела себя в зеркале; ее назад закинутая голова с таинственной улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг, что-то такое, от чего она сама смутилась...
"Нет, – решила она наконец, – Бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете"».
Смятение героини передано Тургеневым в первом абзаце в основном через подробности внешнего поведения. Это очень тонкий прием, указывающий именно на то, что Одинцова не может полностью осознать свое состояние, что она неспокойна. Мысли героини, о которых мы узнаем из этого отрывка, – это лишь часть ее внутреннего состояния, и не в мыслях тут основной интерес, а в том ощущении душевной смуты, когда человек сам не знает, чего хочет, когда нет внутренней ясности и поток психологических состояний протекает почти бесконтрольно.
Второй абзац начинается с неожиданного «Или?», которое должно было бы стать началом внутреннего монолога. Но внутреннего монолога нет, потому что все, что стоит за этим «Или?», для самой Одинцовой не осознано, в логической мысли не воплощено. Это эмоциональный порыв, неожиданная для самой героини возможность решения, и внешнее поведение характерно именно для этого состояния: «и остановилась, и тряхнула кудрями...» Это жесты человека, принявшего какое-то внезапное, может быть, отчаянное, решение, но все же решившего не до конца, лишь на эмоциональном уровне. Решение перейдет в действие, если размышление подтвердит верность эмоций. С Одинцовой, как мы увидим дальше, этого не произойдет; пока она живет в том состоянии невысказанного эмоционального полурешения, ей хочется броситься за ту черту, к которой она подошла, и в то же время она этого боится, ее и манит и пугает возможность круто переменить свою жизнь. И все это не до конца осознанно. Двуплановость внутреннего мира Одинцовой в этот момент выражена Тургеневым не с помощью передачи мыслей, а иными средствами: оборванным в самом начале внутренним монологом, последней фразой абзаца: отражение в зеркале говорило «ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась...»
Вот и проясняется это незаконченное «Или?»: «или ответить на любовь Базарова, рискнуть соединить свою жизнь с этим человеком, который и притягивает ее и пугает?» Только у Тургенева все это выражено не в той форме ясного и логически оформленного вопроса самой себе, которую мы сейчас воссоздали, реконструировали, а иначе. Художественный эффект здесь тот, что сквозь приметы внешнего поведения, неясность мыслей, неосознанность чувств в отрывке передано не только рациональное содержание внутреннего мира, но и ощущение эмоциональной зыбкости, смятенного душевного состояния; воссоздан, воспроизведен внутренний мир в его нерасчленимой целостности, воспроизведено переживание, настроение. Обратим внимание еще и на то, как искусно пользуется Тургенев таким простым приемом, как многоточие: многоточия обрывают мысль героини именно там, где кончается осознанное и начинается то, что и для самой героини – затаенное, то, в чем даже признаться себе страшно.
Таково эмоциональное состояние героини. А в третьем абзаце это эмоциональное состояние уже прошло рациональный самоконтроль, Одинцова уже пережила необычное для себя состояние, успокоилась и снова способна здраво рассуждать. «Нет, – решила она наконец, – Бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете». Решение принято, и в последнем абзаце нам дано уже не эмоциональное состояние, а только мысли: Одинцова полностью овладела собой, поставила смутные и противоречивые порывы и желания под контроль разума; короткий внутренний монолог построен почти по законам логического рассуждения. И здесь уже нет недоговоренностей, внезапных для самой героини ощущений, двуплановости, многоточий. Иное состояние – иные средства его воплощения.
При воссоздании сложных душевных движений Тургенев обращает особое внимание на противоречивые состояния внутреннего мира человека. Как уже говорилось, для Тургенева важно и интересно, каков человек в его глубинной идейно-нравственной сущности, каким проявляет он себя неосознанно. Противоречия между тем, каков человек на самом деле, и тем, каким он хочет себя видеть, постоянно фиксируются Тургеневым то в несоответствии эмоционального мира рациональному, то в неадекватном, нарочитом поведении, то в подавлении желаний.
Приведем несколько примеров противоречивости внутреннего состояния и душевных движений:
«Аркадия покоробило от цинизма Базарова, но – как это часто случается – он упрекнул своего приятеля не за то именно, что ему в нем не понравилось...»; «Он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова "папаша" и даже раз заменил его словом "отец", произнесенным, правда, сквозь зубы; с излишнею развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось»; «Между обоими молодыми людьми с некоторых пор установилось какое-то лжеразвязное подтрунивание, что всегда служит признаком тайного неудовольствия или невысказанных подозрений»; «Василий Иванович суетился больше, чем когда-либо: он видимо храбрился, громко говорил и стучал ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно скользили мимо сына».
Неоднозначность внутреннего мира героев принципиально важна для Тургенева: она не только указывает на сложность и богатство переживаний, но служит и для прояснения авторской позиции по отношению к персонажу. Тургеневу важно выявить скрытое, и в зависимости от того, насколько это скрытое человечно, насколько отвечает высшим нравственным меркам, находится авторское отношение, авторская оценка.
Общим принципам тургеневского психологизма подчинена и система конкретных способов, приемов психологического изображения. Ведущее место в этой системе занимает авторское повествование – рассказ о внутреннем состоянии героя ведется от третьего лица. Новаторством Тургенева явилось то, что он решительно отошел в своих романах от форм самопсихологизма, который ставил определенные ограничения изображению душевных состояний и движений. В тургеневских романах психологическое повествование нередко передано «всезнающему» рассказчику, для которого нет тайн в душах героев. Другое дело, что повествователь, как мы видели, не всегда пользуется своим правом всезнания, но потенциально он всегда знает о внутреннем мире героев больше, чем сами герои.
Выдвижение на первый план именно этой повествовательной формы продиктовано рядом обстоятельств. Во-первых, Тургеневу необходимо изобразить идейно-нравственные основы не одного, а многих характеров, что затрудняет использование неавторских субъектных форм повествования, приковывающих рассказ к какой-то единственной точке зрения. Во-вторых, повествование от третьего лица дает не субъективную, а объективную картину внутреннего мира: воспроизведение душевной жизни героев ведется как бы со стороны. Это важно, поскольку для Тургенева первая задача – не проанализировать, а воссоздать психологический мир во всей его естественной непосредственности и многосторонности. Само воспроизведение противоречий душевной жизни требует «взгляда со стороны», потому что, как мы видели, во многих душевных движениях герои не хотят или не могут отдать себе отчета. В-третьих, изображая внутренний мир человека как единство рационального и эмоционального, Тургенев все же отдает приоритет области чувств и переживаний, а их воспроизвести в естественном виде можно только с помощью повествования от третьего лица: рассказ от первого лица неизбежно рационализирует эмоции, лишает их непосредственности.
В психологическом повествовании Тургенева, рассчитанном на воспроизведение сложных душевных состояний и противоречивости психологических процессов, анализ заменяется авторским комментарием, который, как правило, раскрывает в душевном состоянии героев то, чего сами они за собой не замечают или в чем не хотят признаться: «Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая, страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей...»; «Чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу. – Перестань, пожалуйста, – повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы».
Психологическое повествование от третьего лица позволяет подробно и художественно убедительно воссоздавать весьма сложные и противоречивые состояния человеческой души, раскрывать двуплановость, несовпадение эмоционального и рационального в психологическом мире, а значит – воспроизводить и сложные состояния внутренней борьбы, психологическую конфликтность. Один из выразительнейших примеров этого – изображение внутреннего состояния Базарова, осознавшего в себе любовь к Одинцовой; эпизод, заметим, ключевой для понимания характера героя:
«Настоящею причиной всей этой "новизны" было чувство, внушенное Базарову Одинцовой, которое его мучило и бесило и от которого он тотчас же отказался бы с презрительным хохотом и цинической бранью, если бы кто-нибудь хотя отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило... Базаров... любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительной дурью... Одинцова ему нравилась... но он скоро понял, что с ней "не добьешься толку", а отвернуться от нее он, к изумлению своему, не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней; он легко сладил бы со своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нему большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и браня вполголоса и ее и себя; или забирался на сеновал, в сарай и, упорно закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуи, что эти умные глаза с нежностию – да, с нежностию – остановятся на его глазах, и голова его закружится, и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода "постыдных" мыслях, точно бес его дразнил... Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком».
Здесь психологическому повествованию «со стороны» оказывается доступной вся картина внутреннего состояния: мысли, эмоциональный тон, воспоминания, воображаемые сцены, волевые импульсы. Наряду с прямым психологическим изображением используются детали внешнего поведения, дополняющие картину в тех местах, где надо воссоздать эмоциональный настрой («отправлялся в лес и ходил там большими шагами, ломая попадавшиеся ветки», «топал ногою или скрежетал зубами»). Интересно, как в системе повествозания от третьего лица отчасти воспроизводится манера мышления Базарова: это достигается прежде всего введением в повествовательную речь характерных для героя словечек и оборотов – «романтическое», «не добьешься толку», «постыдные» мысли. Обратим внимание еще и на то, как тонко подчеркивает Тургенев необычность того, что происходит с героем, вводя такие психологические характеристики, как «к изумлению своему», «с негодованием сознавал романтика в самом себе» и, наконец, изящный психологический намек: «Вдруг ему представится, что... эти умные глаза с нежностию – да, с нежностию – остановятся на его глазах...» Дважды повторенное «с нежностию», да еще с усилительным междометием, – способ подчеркнуть, насколько непривычно, даже невероятно для всегда сурового и практичного Базарова мечтать о нежности – может быть, самом тонком и поэтичном, самом «романтическом» чувстве в любви. Это душевное движение настолько необычно, что с первого раза даже не верится, необходимо подтверждение: «с нежностью?! – да, именно с нежностью».
Тургенев одним из первых в нашей литературе стал применять для воссоздания эмоционального тона особенные синтаксические конструкции, правда, трудно сказать, был ли этот прием сознательным или интуитивным. В приведенном отрывке хорошо видно, что чем поэтичнее содержание душевной жизни героя, тем более возрастает ритмичность речи при ее передаче. Период «Вдруг ему представится...» обладает максимальной ритмической упорядоченностью, какую только допускает проза: повторы, анафорические конструкции, синтаксический параллелизм, соразмерность простых предложений внутри периода, наконец, просто фрагмент четкого четырехстопного ямба: «и голова его закружится, и он забудется на миг». Все это поэтизирует прозу, подчеркивая тем самым возвышенный эмоциональный тон представлений и переживаний, помогает читателю лучше ощутить душевное состояние героя. Заметим, что подобный прием психологического изображения наиболее органичен в повествовании от третьего лица: Базарову, например, такая речевая манера совершенно несвойственна.
В целом можно сказать, что психологическое повествование от третьего лица, используя различные приемы изображения, дает картину внутреннего мира, с одной стороны, объективно-точную, взятую как бы со стороны, а с другой – достаточно подробную и многостороннюю, воссоздающую тонкие, скрытые душевные движения. Психологическое состояние героя под пером Тургенева делается ясным и близким читателю, вызывает ощущение полной психологической достоверности.
Повествование от третьего лица позволило Тургеневу художественно освоить и динамику внутреннего мира человека. Правда, специальной задачи воспроизвести поток внутренней жизни писатель себе не ставил – для него важнее было воссоздать нюансы относительно статичного состояния. В изображении динамики внутреннего мира решающий шаг сделал не Тургенев, а Толстой. Но в ряде случаев и в романах Тургенева переживание развертывается как процесс, противоречивый и неоднозначный, в котором тесно связаны между собой мысли и эмоции, осознанные и неосознанные желания и стремления, картины воображения, воспоминания, ассоциации. Может быть, наиболее яркий пример такого изображения – душевное состояние Николая Петровича, описанное в XI главе:
«На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном; он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он, бывало, зимою в Петербурге просиживал над новейшими сочинениями... "Брат говорит, что мы правы, – думал он, – и, отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы, а в то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над нами... Молодость? Нет; не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас?"
Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу.
"Но отвергать поэзию? – подумал он опять, – не сочувствовать художеству, природе?.."
И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе».
Далее идет довольно большая пейзажная зарисовка, как всегда у Тургенева, тонкая и поэтичная. С ее помощью косвенно воссоздается движение душевной жизни Николая Петровича – пейзаж становится его впечатлением, которому затем подводится эмоциональный итог:
«"Как хорошо, Боже мой!" – подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста; он вспомнил Аркадия, «Stoff und Kraft», – и умолк, но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум... Представилась ему опять покойница жена, но не такою, какой он ее знал в течение многих лет, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученною косой над детскою шейкой. Вспомнил он, как он увидел ее в первый раз... Куда все это умчалось? Она стала его женой, он был счастлив, как немногие на земле... "Но, – думал он, – те сладостные, первые мгновения, отчего бы не жить им вечною, не умирающею жизнью?"
Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, чем память...»
Здесь поток переживания ненадолго прерывается приходом Фенечки, который возбуждает ряд новых эмоций; затем продолжается прежний ряд:
«Он приподнялся и хотел возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди, и он стал медленно ходить по саду... Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога, все не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если б он узнал, что в нем тогда происходило! Сам Аркадий осудил бы его...
Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое так приветно глядело на него всеми своими освещенными окнами; он не в силах был расстаться с этой темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этой грустию, с этой тревогой...»
Как видим, динамика душевной жизни передана здесь достаточно подробно и в основном в соответствии с теми закономерностями, по которым движется психический процесс в реальной жизни. Сосредоточенные целенаправленные размышления о взаимоотношениях поколений через короткое время сменяются возникшими по ассоциации переживаниями, воспоминаниями; движение внутреннего мира не подчинено рациональной логике, а прихотливо, непредсказуемо и все же по-своему закономерно: через весь эпизод проходит единое настроение «неясной, ищущей тревоги», а мысль постоянно возвращается к исходной точке – отношениям с сыном. Это цементирует отдельные чувства и размышления, придает переживанию цельность. В результате получается психологически достоверная картина эмоционально-мыслительного процесса.
В тургеневском повествовании по-особому организовано художественное время. Повествование от третьего лица позволило устранить временную дистанцию между самим переживанием и рассказом о нем – переживание не опосредовано воспоминанием и рациональной обработкой, а дано непосредственно. Тургенев как бы подслушивает душевные движения своих героев в тот самый момент, когда они происходят, и добивается ощущения сиюминутности, непосредственной причастности читателя к тому психологическому процессу, который развертывается «здесь и сейчас», на глазах. Все это усиливает убедительность и достоверность художественного психологизма Тургенева.
В системе форм психологического изображения у Тургенева можно встретить и внутренний монолог, однако эта форма применялась писателем нечасто. Дело в том, что внутренний монолог – это прежде всего форма передачи мыслительных процессов, продолжительной и относительно целенаправленной работы сознания. Между тем для Тургенева, как уже было сказано, важнейшей в характеристике человека являлась не рациональная, а эмоциональная сфера – та область, откуда поднимаются не зависящие от человека душевные движения, стремления, порывы. Внутренний монолог в системе такого психологизма мог применяться лишь эпизодически и всегда сопровождался авторским комментарием. Вот, например, внутренний монолог Базарова, после того как он принял вызов Павла Петровича: «Фу, ты, черт! как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапах танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего доброго, ударил бы, и тогда... (Базаров побледнел при одной этой мысли; вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы задушить его, как котенка».
Поставленный в скобки авторский комментарий здесь едва ли не важнее самого внутреннего монолога: из размышлений Базарова мы понимаем прежде всего то, что он недоволен собой и сложившейся ситуацией; авторский комментарий проясняет нам нечто большее – глубинную сущность характера, которая и в этом психологическом состоянии является доминирующей и определяет собой переживания и поступки героя.
Одна из примечательнейших особенностей психологизма Тургенева состоит в его ненавязчивости, иногда даже незаметности. Подчеркнутое, акцентированное внимание к внутреннему миру героев было для Тургенева неприемлемым. «Поэт должен быть психологом, но тайным», – считал он (письмо к К. Леонтьеву от 21 октября 1860 г.).
Практически это означало, что Тургенев говорит о внутреннем мире своих героев меньше, чем мог бы сказать, недоговаривает, последовательно отказывается от анализа, художественно «прячет» свой психологизм, чтобы не создавать впечатления специального пристального интереса к процессам душевной жизни. Этому служит, во-первых, композиция психологических и непсихологических эпизодов в романе. Непрерывное психологическое изображение, занимающее страницу-другую, – чрезвычайно редкое явление в тургеневских романах (в повестях тургеневский психологизм носит несколько иной характер, в соответствии с проблематикой и своеобразием художественных задач). Обыкновенно психологическое изображение у Тургенева занимает абзац-другой, а затем сменяется фрагментами, рассказывающими о сюжетном действии, содержащими описания и т.п. И хотя психологические картины постоянно сопровождают развитие действия, а в ключевых эпизодах явно выступают на первый план, такой композиционный прием «разбивки» создает впечатление соразмерности, уравновешенности психологических и непсихологических эпизодов. Внимание автора к внутренней жизни не выглядит избыточным, специальным, потому психологизм Тургенева и производит впечатление чрезвычайной естественности.
Принцип «тайного психологизма» проявляется и в широком применении Тургеневым средств и приемов косвенного изображения внутреннего мира. Это такие приемы, как изображение внутреннего состояния через подробности внешнего поведения, через детали пейзажа, портрета и интерьера, умолчание. Эти формы в системе тургеневского психологизма тем более важны, что писатель имел дело в основном с тончайшей душевной субстанцией эмоциональных переживаний, а в этой области далеко не все поддается прямому и непосредственному словесному изображению.
Тонкие и смутные душевные движения Тургенев часто передает, воспроизводя внутренний мир через подробности внешнего поведения.
«Странная усталость замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и стал искать общества; пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним "в молчанку"». Это Базаров, возвратившийся в родительский дом после предпоследней встречи с Одинцовой. За внешним поведением легко угадывается внутреннее состояние: Базаров и хочет, и не может возвратить душевный покой, нарушенный неразделенной любовью. Конкретных примет внутреннего мира, отдельных чувств и переживаний в этом изображении нам не дано, но это и не входит в задачу Тургенева: само состояние Базарова слишком смутно, невыразимо точными словами – у нас остается лишь ощущение определенного эмоционального тона.
А вот картина внутреннего состояния Базарова и Одинцовой накануне их решительного объяснения: «Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, торопливо сказал "прощайте", стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них и внезапно, порывисто поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова...» Здесь поведение героев однозначно указывает на их встревоженность, взволнованность; психологически оба – на пороге, в нерешимости. Но опять-таки конкретного содержания переживаний в сцене не дано: слишком сложное и неясное психологическое состояние здесь воспроизводится.
Обратим внимание на то, что к изображению внешнего поведения как признака внутреннего состояния Тургенев прибегает только тогда, когда по логике отношений, по характеру создавшейся ситуации нам легко догадаться о том, что происходит в душе героев. Психологической загадочности, как это было у Лермонтова, этот прием у Тургенева не создает.
Аналогичным образом применяется Тургеневым и способ изображения внутреннего мира через детали портрета, мимические движения, передачу физиологических примет психологического состояния. В применении этих форм Тургенев не был новатором – он использовал уже найденные в литературе приемы, но находил им особое место в системе своего «тайного психологизма». Психологический портрет применялся Тургеневым как одна из вспомогательных форм психологического изображения, помогающая разнообразить воспроизведение внутреннего мира и делать психологизм скрытым, неявным. В использовании же пейзажа для целей психологического изображения Тургенев, по общему признанию, достиг высочайшего мастерства. Самые тонкие и поэтичные внутренние состояния передаются Тургеневым именно через описание картин црироды. В этих описаниях создается определенное настроение, которое воспринимается читателем как настроение персонажа, – таков главный принцип использования этой формы в романах Тургенева.
«Так размышлял Аркадий... а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, все – деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми, звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления... Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял».
О внутреннем мире Аркадия можно здесь сказать очень кратко, потому что эмоциональный тон, настроение героя уже заданы и определены предшествующим описанием радостной майской природы. Изображение эмоционального состояния героев через аналогию с «настроением природы» – один из наиболее тонких и действенных приемов тургеневского «тайного психологизма».
Тургенев, очевидно, одним из первых начал сознательно и более или менее регулярно применять такую форму изображения внутреннего мира, как умолчание. Для целей «тайного психологизма» этот прием был буквально неоценим: умолчание предполагает, что читатель сам, без авторской помощи поймет психологическое состояние героя. Вот, например, после одной из бесед с Одинцовой «Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенный и угрюмый». «С мокрыми от росы сапогами» – значит, два часа ходил где попало, пытаясь успокоиться, привести внутренний мир в равновесие. «Взъерошенный и угрюмый» – ясным становится бесплодность и безрезультатность психологической борьбы с самим собой. Психологическое состояние воссоздано без прямого называния внутренних процессов. Надо, однако, заметить, что Тургенев и этот прием применял лишь в тех случаях, когда за умолчанием однозначно, безошибочно прочитывается определенное эмоциональное состояние.
Своеобразие психологического стиля Тургенева-романиста – в многостороннем воспроизведении внутреннего мира человека средствами объективного повествования, в специфическом интересе к наиболее тонким и сложным душевным движениям, к эмоциональной сфере внутренней жизни, в удивительном жизнеподобии и убедительности создаваемых им психологических образов и картин, в широком применении приемов «тайного психологизма». В этом же и заслуга Тургенева в развитии повествовательного психологизма в русской литературе.
Н.Г. Чернышевский «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
Н.Г. Чернышевский – вождь и идеолог революционной демократии в России конца 50-х – начала 60-х годов; он идейно возглавил второй этап освободительного движения. Стержневыми в мировоззрении Чернышевского были идеи крестьянской революции и крестьянского социализма. Другая важная сторона мировоззрения Чернышевского – просветительство, а следовательно, вера в разум, стремление устроить человеческую жизнь на разумных основаниях и уверенность в том, что «хорошая жизнь для всех» естественно согласуется и с требованиями разума, и с человеческой природой.
Если в публицистике, критических статьях, практической деятельности Чернышевский сосредоточил внимание на социальных и политических вопросах, на идейной подготовке крестьянской революции, то в художественном творчестве, прежде всего в романе «Что делать?», он обращает преимущественное внимание на нравственные проблемы – этически обосновывает возможное социальное переустройство общества. И это было тем более важно, что упреки в безнравственности постоянно сыпались на «новых людей», на поколение демократов-разночинцев, со стороны их идейных противников. «Ведь вы знаете, – иронически говорит Рахметов Вере Павловне, – про таких людей, как мы с вами, говорят, что для нас нет ничего святого. Ведь мы способны на всякие насилия и злодейства».
В предыдущей главе мы видели, что даже Тургенев, при всей своей объективности, присущей большому художнику, не только отдал должное Базарову, но и наделил его такими чертами, которые подчеркивают именно неприемлемые для автора нравственные основания характера. Менее добросовестные писатели и критики и вовсе превратили демократов-разночинцев в чудовищ, способных подорвать все нравственные устои современной жизни. В этих условиях одной из важнейших задач Чернышевского была задача художественной полемики с подобными взглядами, задача воспроизвести истинный, неискаженный моральный облик «новых людей». Раскрытие нравственных принципов, лежащих в основе характеров и деятельности демократов-шестидесятников, – один из важнейших проблемно-тематических аспектов романа. Именно он обусловил возникновение в «Что делать?» сложного, интересного и во многом новаторского психологизма.
Ключевым для писателя стал вопрос о «практицизме» «новых людей», о соотношении в их нравственном мире понятий «выгода», «расчет» – с одной стороны, и «идеалы», «возвышенные цели» – с другой.
Как мы видели на образе Базарова, Тургенев (да и многие его современники) видел главную несостоятельность разночинцев-демократов именно в том, что для них соображения пользы важнее всех прочих соображений и руководят жизнью и поступками. Для такой нравственной ориентации, естественно, «нет ничего святого»: грубый материализм, практицизм изгоняют из жизни поэзию, а самого человека неизбежно делают эгоистом.
Чернышевский в своем романе дал иное понимание «выгоды», «расчета»: он показал, что человек, руководствующийся доводами разума и соображениями «пользы», может тем не менее и даже благодаря этому быть очень хорошим человеком, что привычка «рассчитывать» вовсе не обедняет душевную жизнь людей и не делает их эгоистами в привычном смысле слова; а следовательно, не только частные отношения людей, но и все общественное устройство может быть основано на началах разума. В этой уверенности проявились взгляды Чернышевского-просветителя.
Обоснованием этих взглядов в романе является как теория «разумного эгоизма», так и изображение практически складывающихся отношений между «новыми людьми».
«Эгоизм», полагают герои романа и сам автор, – это естественное, коренное свойство человека делать то, что хочется ему самому, что ему приятно и доставляет наслаждение. Эгоизм – в природе человека, а если так, то бессмысленно требовать от него, чтоб он не был эгоистом. Размышляя о том, что освобождением Верочки «из подвала» он, по ее понятиям, приносит жертву, Лопухов говорит: «И не думал жертвовать. Не был до сих пор так глуп, чтобы приносить жертвы, – надеюсь, и никогда не буду. Как для меня лучше, так и сделал. Не такой человек, чтобы приносить жертвы. Да их и не бывает, никто и не приносит; это фальшивое понятие: жертва – сапоги всмятку. Как приятнее, так и поступаешь».
То же, что делается человеком вопреки собственным интересам, будет всегда фальшиво, неубедительно, непрочно. Выгода и удовольствие управляют поступками людей – вот только у разных людей разные понятия о выгоде и удовольствии. Недаром о теории «разумного эгоизма» Чернышевский замечает: «Правда и то, что теория эта сама-то дается не очень легко: нужно и пожить, и подумать, чтобы уметь понять ее».
Сравнивая отношение к жизни Лопухова и Марьи Алексевны, автор отмечает много общего у этих, казалось бы, совершенно несходных героев: «Он и она понимали факты одинаково», но разница была в «выводах»: «Если бы, например, он стал объяснять, что такое "выгода", о которой он толкует с Верочкою, быть может, Марья Алексевна поморщилась бы, увидев, что выгода этой выгоды не совсем сходна с ее выгодой». Ближе к концу романа автор еще более четко объясняет, каково понятие о выгоде и удовольствии у «новых людей»: «Видишь ли, государь мой, проницательный читатель, какие хитрецы благородные-то люди, и как играет в них эгоизм-то: не так, как в тебе, государь мой, потому что удовольствие-то находят они не в том, в чем ты, государь мой; они, видишь ли, высшее свое наслаждение находят в том, чтобы люди, которых они уважают, думали о них как о благородных людях, и для этого, государь мой, они хлопочут и придумывают всякие штуки, не менее усердно, чем ты для своих целей, только цели-то у вас различные, потому и штуки придумываются неодинаковые тобою и ими: ты придумываешь дрянные, вредные для других, а они придумывают честные, полезные для других».
Для человека, «и пожившего, и подумавшего», «умевшего понять теорию» на жизненной практике, сливаются понятия выгоды и добра, потому что он уже не может наслаждаться личным счастьем за счет другого, наоборот, – свое счастье он видит прежде всего в счастье близкого человека. Эгоизм перестает быть отрицательным нравственным свойством, он уже не опасен, а полезен, потому что добро человек делает не по принуждению, не ломая своей натуры, а «из эгоизма» – по внутренней потребности. Именно благодаря эгоизму, осознанию своей выгоды, дурные люди могут при определенных обстоятельствах сделаться хорошими: «...люди довольно скоро умнеют, когда замечают, что им выгодно стало поумнеть».
Именно на этом основано «Похвальное слово Марье Алексевне». Беседуя с ней, автор говорит: «Если вам нет выгоды делать кому-нибудь вред, вы не станете делать его из каких-нибудь глупых страстишек... с вами еще можно иметь дело, потому что вы не хотите зла для зла в убыток себе самой... Из тех, кто нехорош, вы еще лучше других, именно потому, что вы не безрассудны и не тупоумны... Теперь вы занимаетесь дурными делами, Потому что так требует ваша обстановка, но дать вам другую обстановку, и вы с удовольствием станете безвредны, даже полезны, потому что без денежного расчета вы не хотите делать зла, а если вам выгодно, то можете делать что угодно, – стало быть, даже и действовать честно и благородно, если так будет нужно».
В этической системе Чернышевского это очень важный момент: не многие люди находят удовольствие в злых поступках ради них самих, злым человека заставляют быть обстоятельства; следовательно, важнейший вопрос – перемена самих этих обстоятельств.
Поэтому и понятие расчета лишается у Чернышевского того отрицательного, узко практического смысла, который ему обычно придается: правильно рассчитывать необходимо, это значит – уметь видеть свою действительную выгоду, а не удовлетворение минутной прихоти, уметь соотнести полезное и нравственное. Вот как передает Чернышевский ход мыслей Кирсанова, полюбившего Веру Павловну: «Всякий человек эгоист; я тоже; теперь спрашивается: что для меня выгоднее – удалиться или оставаться? Удаляясь, я подавляю в себе одно частное чувство; оставаясь, я рискую возмутить чувство своего человеческого достоинства глупостью какого-нибудь слова или взгляда, внушенного этим отдельным чувством. Отдельное чувство может быть подавлено, и через несколько времени мое спокойствие восстановится, я опять буду доволен своей жизнью. А если я раз поступлю против всей своей человеческой натуры, я навсегда утрачу возможность спокойствия, возможность довольства собою, отравлю всю свою жизнь». Решение, принятое на основании «расчета выгод», оказывается в то же время решением благородным, показывающим высокие нравственные достоинства личности Кирсанова.
Однако в дальнейшем движении романа неожиданно оказывается, что это решение, как и некоторые другие, тоже основанные на теории разумного эгоизма, было тем не менее ошибочным в конечном счете. В этих сюжетных ходах воплощается еще одна важная грань проблематики «Что делать?»: между разумом и жизнью вполне возможна гармония, но натура, жизнь не рационалистичны, они шире и глубже. Герои Чернышевского в разной степени приближаются к пониманию этого, и драматические ситуации в романе – зачастую прямое следствие слишком рационального расчета, чрезмерного доверия героев к теории.
При всех обстоятельствах писателю важно показать, что его герои – не сухие, расчетливые прагматики, а нормальные люди, живущие богатой и насыщенной эмоциональной жизнью: в ней есть место и любви, и страданию, и дружбе, и поэзии, и наслаждению.
Эти содержательные задачи и определили общие принципы психологизма в романе Чернышевского. Одним из таких принципов стала аналитичность. Писателю важно было наглядно показать, что стоит за словами и поступками героев, проследить истоки и мотивы их деятельности, дойти в психологическом анализе до идейно-нравственных основ, управляющих поведением личности. Анализ становится особенно подробным в ключевых сценах и эпизодах, когда в душах героев с наибольшей четкостью проявляются те чувства и мысли, которые дороги автору. Так, чрезвычайно подробно изображено в романе состояние Веры Павловны после разговора с Лопуховым. о его «невесте»: Верочке «странно», что они так неожиданно стали близки с Лопуховым; странно, что мысли, высказанные им, так точно совпали с теми, что она сама передумала и перечувствовала, – а автор замечает, что это вовсе не странно, что эти идеи носятся в воздухе: «Теперь, Верочка, не трудно набраться таких мыслей, какие у тебя. Но другие не принимают их к сердцу, а ты приняла – это хорошо, но тоже не странно: что ж странного, что тебе хочется быть вольным и счастливым человеком!»
Автор в этом эпизоде не только объясняет причины внутреннего состояния Верочки, но и идет дальше в психологическом анализе, говоря уже о том, о чем сама героиня не думает в этот момент, – на этом-то этапе анализа и выясняется одна из глубинных основ нравственности «новых людей»: «А вот что странно, Верочка, что есть такие же люди, у которых нет этого желания, у которых совсем другие желания, и им, пожалуй, покажется странно, с какими мыслями ты, мой друг, засыпаешь в первый вечер твоей любви, что от мысли о себе, о своем милом, о своей любви ты перешла к мыслям, что всем людям надобно быть счастливыми и что надо помогать этому скорее прийти... А я знаю, что это не странно, что это одно и натурально, одно и по-человечески; просто по-человечески: "Я чувствую радость и счастье" – значит: "мне хочется, чтобы все люди стали радостны и счастливы", – по-человечески, Верочка, эти обе мысли – одно».
Так уже в одной из первых подробных психологических сцен раскрывается еще скрытая от самой героини основа ее духовного развития – мысль о единстве и гармонии личного и общего. Психологический анализ оказывается здесь необходимой и очень естественной формой постановки и решения идейно-нравственных проблем, формой утверждения определенных моральных принципов.
Заметим, что в этой и в других сценах Чернышевский выделяет главное в переживании или потоке размышлений героя: в данном случае – естественную неразрывность в сознании Верочки мыслей о своем личном счастье и о счастье всеобщем. Причем именно естественность этой связи и важно подчеркнуть Чернышевскому прежде всего: то, о чем думает Верочка, что ей кажется странным, – «это не странно», а странно совсем другое – что есть люди, которым ее состояние покажется странным. Чернышевский акцентирует внимание читателя на том, что самой Верочке вовсе не удивительно от мыслей о своей любви перейти к мыслям о социальной справедливости. Здесь опять же подчеркнута одна из любимых мыслей Чернышевского: нравственные принципы «новых людей» соответствуют природе нормального, неиспорченного человека.
Психологический анализ в романе рационален, построен на логике, но это не делает психологию героев сухой и скучной, наоборот – позволяет проникнуть в более глубокие пласты душевной жизни, яснее увидеть богатство внутренних движений. Благодаря логическому проникновению в скрытые от самого человека области его душевной жизни внутренний мир героев предстает перед читателем многомерным. Парадоксально, но именно логический анализ мотивов и побуждений человека как раз и доказывает в романе Чернышевского, что не все в душе человека подчинено строгой логике, что разум и натура – все-таки разные вещи. Так, анализируя отношение Лопухова к Вере Павловне, Рахметов находит его вину в том, что он хотя бы в общем виде не подготовил ее к возможности полюбить кого-нибудь другого и тем самым заставил ее испытывать нравственные страдания. «Подготовлять вас к тому противоречило бы его выгодам, ведь подготовкою ослаблялось бы ваше сопротивление чувству, несогласному с его интересами... Вот мотив, по которому он оставил вас неподготовленною и подверг стольким страданиям», – говорит Рахметов. Самое любопытное, что Рахметов предваряет свой анализ следующим замечанием: «Конечно, он действовал бессознательно, но ведь натура и сказывается в таких вещах, которые делаются бессознательно». Лопухов не подозревал в себе этих мотивов, но ведь, кстати, и читатель не подозревал, не думал о столь глубокой психологической интерпретации поведения героя.
Такие неожиданные для читателя «ходы» в психологическом анализе не раз встречаются на страницах романа и в конце концов создают твердое впечатление, что психология человека вообще и героев романа в частности гораздо сложнее и тоньше, чем кажется на первый взгляд.
Стремление показать душевную жизнь человека в ее многосторонности, часто противоречивости, сложности и глубине стало в «Что делать?» принципом психологизма, уравновешивающим аналитичность в подходе к внутреннему миру. Чернышевскому важно показать, что разум вовсе не мешает чувству, что «новые люди» – люди нормальные, живые, стремящиеся к богатой и интересной внутренней жизни. Именно поэтому Чернышевский, отводя огромную роль изображению рациональных процессов в душевной жизни своих героев, все же не только не сосредоточен на них целиком, но и соблюдает известную пропорцию между изображением мыслей и чувств, осознанного и неосознанного. Поэтому в романе не редкость такие, например, психологические картины:
«Все накоплялись мелкие, почти забывающиеся впечатления от поступков Кирсанова, на которые никто другой не обратил бы внимания, которые ею самою почти не были видимы, а только предполагались, подозревались; медленно росла занимательность вопроса: почему он почти три года избегал ее? Медленно укреплялась мысль: такой человек не мог удалиться из-за мелочного самолюбия, которого в нем решительно, нет; и за всем этим, неизвестно к чему думающимся, еще смутнее и медленнее поднималась из немой глубины жизни в сознание мысль: почему ж я о нем думаю? что он такое для меня?
И вот однажды, после обеда, Вера Павловна сидела в своей комнате, шила и думала, и думала, очень спокойно, и думала вовсе не о том, а так, об разной разности... и постепенно, постепенно мысли склонялись к тому, о чем, неизвестно почему, все чаще и чаще ей думалось; явились воспоминания, вопросы мелкие, немногие, и все растут, растут и все сливаются в один вопрос, форма которого все проясняется: что ж это такое со мною? о чем я думаю, что я чувствую? – и пальцы Веры Павловны забывают шить, и шитье опустилось из опустившихся рук, и Вера Павловна немного побледнела, вспыхнула, побледнела больше, огонь коснулся ее запылавших щек, – миг, и они побелели как снег, она с блуждающими глазами уже бежала в комнату мужа, бросилась на колени к нему, судорожно обняла его, положила голову к нему на плечо, чтобы поддержало оно ее голову, чтобы скрыло Оно лицо ее, задыхающимся голосом проговорила: "Милый мой, я люблю его", – и зарыдала».
Пожалуй, едва ли не впервые в русской литературе мы встречаемся со столь подробным, рельефным и художественно достоверным воспроизведением любовного чувства в его динамике. Одним из первых Чернышевский обратился и к подробному изображению подсознания; в приведенном отрывке воспроизведен один из тончайших моментов внутренней жизни человека: процесс перехода переживания из подсознания в область осознанного, или, по точному выражению Чернышевского, изображено, как мысль «поднималась из немой глубины жизни в сознание».
Чернышевский обнаруживает здесь незаурядное мастерство психологизма, воспроизводя средствами искусства чрезвычайно сложные для воссоздания, трудноуловимые психологические процессы. Вводятся слова и обороты, указывающие на двойственность, двуплановость внутренней жизни героини в данный момент, на неподконтрольность ее эмоционального мира сознанию: «неизвестно к чему думающимся», «еще смутнее и медленнее», «мысли склонялись» (т.е. как бы сами склонялись, помимо воли), «неизвестно почему, все чаще ей думалось» (здесь безличный оборот также подчеркивает помимовольное течение мыслей и возникновение представлений). Постепенность, естественная плавность психологического процесса запечатлены в самой синтаксической конструкции: последний абзац дан как цельный период, хотя по смыслу входящих в него частей мог быть разбит на несколько простых предложений. Нарастание переживания, постепенно усиливающаяся ясность и определенность чувства подчеркнуты повторами: «и думала, и думала... и думала», и «постепенно, постепенно», «все чаще и чаще», «и все растут, растут, и все сливаются»; той же цели служит и синтаксический параллелизм отдельных частей периода. Стоит обратить внимание и на то, как тонко использует Чернышевский внешние симптомы переживания: во-первых, они сами по себе расположены по нарастающей (сначала «немного побледнела, вспыхнула», в конце «огонь коснулся ее запылавших щек, – миг, и они побелели как снег») и своей контрастностью прекрасно передают внутреннюю борьбу и смуту; во-вторых, внешние приметы переживания используются в тот момент, когда Вера Павловна уже поняла, что любит Кирсанова, но еще не сказала себе этого даже мысленно: ей еще слишком страшно сказать «Я люблю его»; чтобы признаться в этом даже себе самой, ей нужна опора, поддержка, и, только скрыв лицо на плече мужа, она решается на признание. В тот же момент, когда она одна, ее душевная жизнь несловесна, хотя и вполне определенна, – поэтому для ее воспроизведения и применяются внешние, портретные детали.
Для того чтобы воссоздать внутренний мир героев во всем его многообразии, осветить все нюансы и подробности, требовался, естественно, достаточно большой объем психологического изображения. У Чернышевского нередко можно встретить психологический анализ, занимающий подряд две-три страницы, длинные и подробно выписанные внутренние монологи героев; к изображению душевной жизни с помощью разных художественных приемов автор прибегает часто и регулярно. Психологизм в романе становится бесспорной стилевой доминантой. Писатель не боится наскучить читателю длительным и подробным психологическим изображением, смело переключает интерес повествования с внешнего на внутреннее. Соотношение сюжетной динамики и психологического изображения решительно меняется в пользу второго; интересно и важно не столько то, что произошло с героями, сколько психологическая подоплека событий, внутреннее осмысление героями случившегося.
Мы находим в романе чрезвычайно богатую и развитую систему приемов, форм и способов психологического изображения. В первую очередь необходимо отметить, что Чернышевский широко применяет внутренние монологи как форму освоения и точной передачи психологических процессов. Этот прием оказывается у него очень гибким и внутренне совершенным. Разные по структуре типы внутренних монологов выполняют разные функции. В самой простой форме внутренний монолог просто передает читателю содержание и ход мыслей того или иного персонажа, отличаясь, впрочем, от авторского пересказа этих мыслей: одновременно воссоздается речевая манера данного героя, а следовательно, и его манера мышления, индивидуализируется внутренний мир, В этом случае само содержание мыслей персонажа достаточно его характеризует, поэтому чаще всего такой прием применяется для изображения таких героев, как, например, Марья Алексевна. «Какой умный, основательный, можно сказать, благородный молодой человек! – думает она о Лопухове. – Какие благоразумные правила внушает Верочке! И что значит ученый человек: ведь вот я то же самое стану говорить ей – не слушает, обижается: не могу я на нее потрафить, потому что не умею по-ученому говорить... Да, недаром говорится: ученье – свет, неученье – тьма. Как бы я-то воспитанная женщина была, разве бы то было, что теперь? Мужа бы в генералы произвела, по провиантской части место ему достала... Дом-то бы не такой состроила, как этот. Не одну бы тысячу душ купила» и т.д. Здесь душевные движения просты, внутренний мир как на ладони, и монологи такого типа лишь в редких случаях сопровождаются авторским комментарием.
Более сложную структуру имеют внутренние монологи, произносимые Лопуховым, Кирсановым, Верой Павловной. Здесь внутренний монолог воспроизводит сложную работу мысли; как правило, он логичен, а зачастую и рационально-аналитичен. Такие внутренние монологи используются для передачи психологических процессов в тот момент, когда герой обсуждает сам с собой какую-то сложную проблему. Эта форма изображения внутреннего мира принципиально важна в романе: ведь поиски решения той или иной жизненной коллизии прямо и непосредственно раскрывают нравственные основы личности, жизненные принципы и убеждения. Внутренние монологи этого типа обычно велики по объему. Типичным примером может служить двухстраничный внутренний монолог Лопухова о жертвах, отрывки из которого были приведены выше, в связи с теорией «разумного эгоизма».
Монологи этого типа уже гораздо чаще сопровождаются авторским комментарием, а иногда переходят в психологическое изображение от лица повествователя или при помощи несобственно-прямой речи. Происходит это потому, что душевная жизнь героев весьма сложна и с помощью внутреннего монолога можно воплотить лишь ту ее сторону, которая рационально осознана героем.
Близко к этому типу стоит внутренний монолог, содержащий в себе психологический самоанализ героя. Это также очень важная форма психологизма, ибо именно в ней практически воплощается один из главных нравственных принципов «новых людей», который Кирсанов сформулировал так: «Будь честен, то есть расчетлив», – в данном случае честен по отношению к самому себе. Однако такие внутренние монологи, как ни странно, не часто встречаются в романе: самоанализ подается, как правило, в формах несобственно-прямой речи или авторского повествования. Вероятно, эти формы позволяют одновременно с психологической рациональной рефлексией изобразить и другие стороны внутренней жизни героя, что избавляет самоанализ от излишней сухости и рационалистичности. Возможно, что дело еще и в том, что в самоанализе герои Чернышевского предельно строги к самим себе, даже излишне строги; в системе авторского повествования на это можно обратить внимание читателя, а в «чистом» внутреннем монологе – нет.
Видимо, по этим же причинам Чернышевский иногда прибегает к очень оригинальному приему: внутренний монолог-самоанализ подается не как реально состоявшийся, а лишь как возможный, гипотетический: «Если бы Кирсанов рассмотрел свои действия в этом разговоре как теоретик, он с удовольствием заметил бы: "А как, однако же, верна теория: самому хочется сохранить свое спокойствие, возлежать на лаврах, а толкую о том, что, дескать, ты не имеешь права рисковать спокойствием женщины... Приятно человеку, как теоретику, наблюдать, какие штуки выкидывает его эгоизм на практике. Отступился от дела, чтобы не быть дураком и подлецом, и возликовал от этого, будто совершил геройский подвиг великодушного благородства; не поддаешься с первого слова зову, чтобы опять не хлопотать над собою и чтобы не лишиться этого сладкого ликования своим благородством, а эгоизм повертывает твои жесты так, что ты корчишь человека, упорствующего в благородном подвижничестве"».
Наконец, еще один тип внутреннего монолога необходимо отметить особо, поскольку в нем Чернышевскому удалось решить очень сложную художественную задачу: воссоздать не только движение мысли, но и эмоциональный настрой, процессы возникновения ассоциативных представлений, игру образов, – словом, воссоздать поток душевной жизни в его разнообразии и реальной сложности. Наиболее выразительный внутренний монолог такого типа – монолог Верочки в XVI главе второй части (он занимает почти две страницы, поэтому привожу его с купюрами):
«Хорошо ли я сделала, что заставила его зайти?..
И в какое трудное положение поставила я его!..
Боже мой, что со мной, бедной, будет? Есть одно средство, говорит он, – нет, мой милый, нет никакого средства.
Нет, есть средство, – вот оно: окно. Когда будет уже слишком тяжело, брошусь из него.
Какая я смешная: "когда будет слишком тяжело" – а теперь-то?
А когда бросишься в окно, как быстро, быстро полетишь... Нет, это хорошо...
Да, а потом? Будут все смотреть – голова разбитая, лицо разбитое, в крови, в грязи...
А в Париже бедные девушки задушаются чадом. Вот это хорошо, это очень, очень хорошо. А бросаться из окна нехорошо. А это хорошо.
Как они громко там говорят. Что они говорят? – Нет, ничего не слышно.
И я бы оставила ему записку, в которой бы все написала. Ведь я ему тогда сказала: "нынче день моего рождения". Какая смелая тогда я была...
Да, какие умные в Париже бедные девушки! А что же, разве я не буду умной? Вот как смешно будет: входят в комнату, ничего не видно, только угарно, и воздух зеленый; испугались: что такое? Где Верочка?..
Да, а ведь он будет жалеть. – Что ж, я ему оставлю записку...
...Ведь если я скажу, так и сделаю. Я не боюсь.
Да и чего тут бояться? ...Только вот подожду, какое это средство, про которое он говорит. Да нет, никакого нет. Это только так, он успокаивал меня.
Зачем это люди успокаивают?..
Что ж это он так говорит? Будто ему весело, такой веселый голос!
Неужели он в самом деле придумал средство?
Да нет, средства никакого нет.
А если бы он не придумал, разве был бы он веселый?
Что ж это он придумал?»
Здесь, пожалуй, в первую очередь важны не конкретные мысли Верочки, а то состояние напряженности, тревоги, смятения, почти отчаяния и в то же время надежды, которое мастерски воссоздано Чернышевским как с помощью воспроизведения мыслительного содержания внутреннего мира, так и в особенности изображением взволнованных интонаций, отрывочностью мыслей и представлений, непроизвольностью возникающих в воображении картин, самой синтаксической структурой внутреннего монолога, разбитого на короткие абзацы, которые по содержанию связаны друг с другом не логически, а ассоциативно. Поток внутренней жизни представлен в его реальной неупорядоченности: мысль движется кругами, по дороге перебиваемая воспоминаниями, представлениями, отвлеченными соображениями, реакциями на внешние раздражители и т.п. В результате картина внутреннего монолога получается очень яркой, впечатляющей, художественно убедительной.
Интересно отметить еще и то, что этот внутренний монолог в наибольшей степени построен по законам внутренней речи: внелогические переходы, конструкции с пропуском слов, повторы, незаконченность и отрывочность мыслей и представлений – все это имитирует реальную форму протекания психологического процесса.
Приведенный отрывок представляет собой совершенный образец «диалектики души» – изображения внутреннего мира в его реальной неупорядоченной подвижности, динамике. Освоение динамики душевной жизни во всей ее полноте и на уровне высокой художественности – историческая заслуга прежде всего Толстого, который уже в ранних рассказах дал блестящие образцы изображения душевной жизни как сложного, многомерного процесса, развивающегося по своим, нелогическим законам. Чернышевский в рецензии на ранние повести Толстого сразу же подметил эту особенность его психологизма, назвав ее отличительной чертой толстовского таланта. Само определение «диалектика души» впервые появилось в этой рецензии. Вслед за автором «Детства», «Отрочества», «Севастопольских рассказов» Чернышевский использовал это художественное открытие, позволявшее воспроизвести внутренний мир человека гораздо более живо, реально и многосторонне, чем это удается при изображении только статичных переживаний или строго логического развития мысли.
В системе форм психологического изображения помимо внутренних монологов большое место занимает авторское психологическое повествование. Оно может выполнять те же функции, что и внутренний монолог, но оно более свободно и гибко в изображении разных душевных движений, с его помощью достигается более разностороннее воспроизведение внутреннего мира. Кроме того, – и это, по-видимому, самое важное – авторское повествование дает возможность раскрыть те душевные движения, в которых сами герои не отдают себе отчета. Часто авторское повествование поэтому может проникать в самые глубинные нравственные основы характера, которые не осознаются героем в каждый данный момент, потому что они для него естественны, привычны и как бы сами собой разумеются; между тем в этих-то естественных и неосознаваемых, глубинных стимулах деятельности и состоит главное нравственное отличие «новых людей» от «пошлых людей». Авторское психологическое повествование, таким образом, самым непосредственным путем воплощало сердцевину проблематики романа и его утверждающий пафос.
Вот, например, Лопухов сообщает Кирсанову, что хочет помочь Вере Павловне уйти из «дрянного семейства»; авторский комментарий к их разговору таков:
«Кирсанов и не подумал спросить, хороша ли собою девушка, Лопухов и не подумал упомянуть об этом» (интересная особенность психологизма: для Чернышевского часто важно не только то, что сказали и подумали герои, но и то, чего они не думали и почему не думали; именно таким образом и раскрываются самые глубокие, укоренившиеся нравственные основы личности, «натура» человека). «Кирсанов и не подумал сказать: „да ты, брат, не влюбился ли, что больно усердно хлопочешь“, Лопухов и не подумал сказать: „а я, брат, очень ею заинтересовался“, или, если не хотел говорить этого, то и не подумал заметить в предотвращение такой догадки: „ты не подумай, Александр, что я влюбился“».
Почему же ни Лопухов, ни Кирсанов ни о чем таком не подумали? А вот почему: «Им, видите ли, обоим думалось, что когда дело идет об избавлении человека от дурного положения, то нимало не относится к делу, красиво ли лицо у этого человека, хотя бы он даже был и молодая девушка, а о влюбленности тут нет и речи. Они даже не подумали того, что думают это; а вот это-то и есть самое лучшее, что они и не заме.чали, что думают это».
Одним из первых в русской литературе Чернышевский стал достаточно регулярно применять для психологического изображения несобственно-прямую речь, т.е. такую форму повествования, когда рассказ о психологическом состоянии героя как будто идет от автора, но в то же время воспроизводит характерную манеру мышления персонажа, особенности именно его внутренней речи. Эта форма позволила Чернышевскому соединить, с одной стороны, живость и психологическую достоверность внутреннего монолога, индивидуализирующего переживание или мыслительный процесс, и, с другой стороны, свободу авторского психологического повествования: возможность комментировать мысли героя, анализировать его эмоциональный мир и т.д. Вот, например, как воспроизводится с помощью несобственно-прямой внутренней речи психологическое состояние Веры Павловны в одном из эпизодов:
«Вера Павловна... стала думать, не вовсе, а несколько, нет, не несколько, а почти вовсе думать, что важного ничего нет, что она приняла за сильную страсть просто мечту, которая рассеется в несколько дней, не оставив следа, или она думала, что нет, не думает этого, что чувствует, что это не так? – да, это не так. нет, так, так, все тверже она думала, что думает это, – да вот уж она и в самом деле вовсе думает это, да и как не думать, слушая этот тихий, ровный голос, все говорящий, что нет ничего важного? Спокойно она заснула под этот голос... и. проснувшись, чувствовала в себе бодрость».
Живостью и художественной убедительностью эта психологическая картинка не уступает внутреннему монологу, но противоречивость сознания, подсознательные процессы, зависимость душевной жизни от внешних воздействий прослежены здесь гораздо более тонко и подробно, чем это было бы возможно во внутреннем монологе.
В романе «Что делать?» психологическое состояние одного персонажа очень часто дается нам глазами другого, и не просто в чужом восприятии, а в заинтересованном анализе, раскрывающем то, что пока еще скрыто для самого героя. Так, первоначально сама Вера Павловна не понимает значения своего сна о том, что она не любит Лопухова, – это кажется ей невозможным, и уж во всяком случае еще ни в какой мере не приходит ей мысль о новой любви. Скрытое значение сна, а стало быть, действительное содержание внутренней жизни Веры Павловны разгадывает сам Лопухов: «Она еще не понимает, что в ней происходит, она еще не так много пережила сердцем, как он... Не может ли он, более опытный, разобрать то, чего не умеет разобрать она?»
И Лопухов начинает анализировать, сопоставлять факты, выстраивать логическую цепочку. От анализа внутреннего состояния Веры Павловны, в котором, как оказалось, «особенно загадочного... нет ничего», Лопухов переходит к психологической интерпретации необычного поведения Кирсанова, опять логически сближает и связывает факты и обстоятельства, и в результате «через какие-нибудь полчаса раздумья для Лопухова было ясно все в отношениях Кирсанова к Вере Павловне».
Этот пример не единичен в романе: его герои постоянно анализируют внутренний мир друг друга, проникая в скрытые побуждения и причины действий. Помимо того, что эта форма делала психологическое изображение более разнообразным и снимала часть нагрузки с авторского повествования, ее появление в романе важно и само по себе. В ней выражается естественная потребность «новых людей» думать о своих близких. Анализ внутреннего состояния человека – первая форма деятельного сочувствия ему. Ведь свою высшую «выгоду» «новые люди» видят в «выгоде» другого, а ее сначала надо правильно понять, чтобы затем правильно действовать. Так, именно с психологического анализа началась помощь Кирсанова Полозовой – а это был случай в психологическом отношении непростой: столкновение таких характеров, как характеры Полозова, Катерины Васильевны и Соловцова, легко могло окончиться трагически без вмешательства Кирсанова. Ему необходимо было понять и внутреннее состояние Полозовой, причину ее «болезни», и характер ее отца, и соотношение характеров; предвидеть, как будут развиваться события в том или другом случае, психологически рассчитывать поведение врачей на «консилиуме» и т.п. Словом, только заинтересованное внимание и тонкий психологический анализ позволили Кирсанову действовать успешно.
В таком психологическом анализе, как и в последующих действиях, основанных на нем, ярко проступает нравственная основа «новых людей»: во всех случаях действовать так, чтобы прежде всего было хорошо другому, или, выражаясь их собственными словами, «чтобы не быть дураком и подлецом».
Сложность изображаемых душевных состояний, противоречивость внутреннего мира героев заставляла Чернышевского обращаться к такой неординарной форме психологического изображения, как сон. Сны как форма художественного освоения внутреннего мира дают возможность раскрыть подсознательные процессы в душевной жизни героев: в сне снят рациональный самоконтроль и «натура» человека высказывается вполне, хотя иногда и в фантастических представлениях. Насколько важна роль этой изобразительной формы в романе Чернышевского, можно понять хотя бы из того, что именно в сне впервые психологически реализуется недовольство Веры Павловны своими отношениями с Лопуховым. В других снах для героини проясняется то, что было неясно наяву (сон про Марью Алексевну); в форме сновидения воплощаются эмоциональные состояния (сон про выход из подвала). Сон у Чернышевского становится средством изображения подсознания и интуитивного постижения героем тех или иных сторон действительности.
Интересно отметить, что Чернышевский, проявляя незаурядное мастерство художника-психолога, умел достигать большой психологической достоверности в изображении этого состояния. Конечно, его сны – не копия реальных снов, а литературная условность, но в их структуре уже запечатлены некоторые черты, присущие реальному сновидению: в них появляются персонажи и ситуации, целиком созданные воображением, хотя и подсказанные реальностью; в сне возможно то, что невозможно в действительности, например, раздвоение людей и явлений («гостья», приходящая к Вере Павловне в третьем сне, – одновременно и Бозио, и де-Мерик), фантастические превращения, алогичные переходы от одних представлений к другим. В то же время содержание сна связано с реальными событиями, мыслями и впечатлениями, сон не выпадает из общего потока психологической жизни героя.
Отметим еще и то, что Чернышевский с удивительной художественной смелостью идет на соединение формы сна с формой дневника (третий сон Веры Павловны): во сне появляется дневник, хотя наяву Вера Павловна никогда его не писала; это «психологический дневник», который ведется отчасти сознанием, а отчасти подсознанием.
В заключение обратим внимание на то, как искусно пользуется Чернышевский сочетанием разнообразных форм психологического изображения для воспроизведения особенно сложных и особенно важных для нравственного развития героев душевных состояний. Так, один из ключевых психологических эпизодов романа – решение Лопухова «уйти со сцены» и предшествующие этому переживания – дан как бы в разных ракурсах. Во-первых, перед нами непосредственное воспроизведение душевного состояния героя в данный момент, переданное с помощью внутренних монологов разного типа, несобственно-прямой речи и авторского психологического изображения. Тут же – сопровождающий эти формы авторский комментарий, позволяющий взглянуть на внутренний мир героя уже со стороны и тем самым увидеть в нем что-то новое. Еще более отчетливо этот взгляд со стороны проявляется в сцене, где поведение Лопухова и мотивы этого поведения анализирует Рахметов, – это уже третья форма психологического изображения. Наконец, то же самое психологическое состояние анализируется еще раз по прошествии некоторого времени – в письмах Лопухова и Веры Павловны. Примечательно то, что это уже анализ, отделенный во времени от самого переживания: герои успели «выйти из ситуации», успокоиться (чему способствует и форма письма) и заметить в психологической картине такие штрихи, которые раньше были не видны. Изображение с разных точек зрения, при помощи различных средств психологизма раскрывало душевную жизнь героев максимально подробно и всеобъемлюще, а главное, окончательно прояснялись суть этой внутренней жизни, ее нравственные основания, что и было в конечном счете художественной задачей Чернышевского.
Как современными критиками, так и последующими поколениями литературоведов роман Чернышевского воспринимался прежде всего как социально-политическое произведение в аллегорической форме, пропагандирующее революционно-демократические идеалы. Такое представление о романе отчасти заслоняло его художественные достоинства, в том числе уникальный, новаторский для своего времени психологический стиль, смелость Чернышевского как художника-психолога[41]. Между тем Чернышевский вместе с Толстым и Достоевским, практически одновременно с ними, поднял художественное освоение душевной жизни человека на качественно новый уровень[42]. В «Что делать?» внутренний мир личности предстает в его реальном богатстве и разносторонности, в противоречивости и динамике; благодаря значительному объему психологического изображения и применению самых разнообразных способов и приемов воссоздания психологических процессов внутренняя жизнь людей выглядит достоверной. Чернышевский сделал психологизм одним из главных способов постижения и разрешения жизненных проблем, утверждения высокого идейно-нравственного идеала. Из его современников только Толстому и Достоевскому удалось, пожалуй, вернее и глубже воспроизвести внутренний мир человека.
Л.Н. Толстой «ВОЙНА И МИР»
Общим и частным особенностям психологизма Льва Толстого посвящена огромная научная литература. Анализировать ее или вступать в полемику не входило в наши задачи. Точно так же полностью рассмотреть проблему толстовского психологизма, хотя бы даже в одном романе, в рамках этой книги не представляется возможным. Задача данной главы иная: постараться сжато определить основные особенности толстовского психологического стиля в «Войне и мире», отчасти суммируя наблюдения и выводы, уже сделанные в научной литературе[43].
Художническое миросозерцание Толстого, чрезвычайно сложное и противоречивое, изменявшееся на протяжении его долгой жизни, требует для своего анализа подробного разговора. Мы сосредоточимся здесь лишь на тех его сторонах, которые непосредственно влияли на складывание толстовского психологизма 1860-х годов.
Толстой с самого начала творчества отчетливо сознавал всю несостоятельность русской жизни его времени, особенно подчеркивая в ней несправедливость общественного устройства. Толстой-художник рассматривал ее прежде всего с точки зрения моральной, делая акцент не на социальной, а на нравственной стороне вопроса. Корень всех бед он видел в том, что современный ему человек (прежде всего это касалось, конечно, высших классов, дворянства) утратил твердую и ясную нравственную позицию, живет недостойной жизнью, руководствуясь ложными интересами. С огромной художественной силой Толстой запечатлел ту переоценку ценностей, которую считал губительной для человека: вместо того чтобы стремиться к добру, истине и любви, люди стремятся к богатству, власти, наслаждениям праздной жизни. Тем самым подавляется естественная натура человека, он неизбежно опутывает себя массой недостойных мелочей, ложью и неискренностью.
Но если Толстой видел источник зла в нравственном мире человека, то в той же области он искал и противостоящих начал. Спасение человека и человечества также должно, по мысли Толстого, начинаться изнутри, с души. Писатель верил, что в каждом человеке обязательно живут начала добра, пусть и подавленные неестественным укладом жизни. В каждом человеке есть главное: врожденная нравственная мерка, совесть, которая никогда не молчит, оценивая каждый поступок, каждую мысль по самым строгим нравственным законам. И хотя люди научились более или менее успешно заглушать голос своей совести, он никогда не замолкает совсем: человек всегда знает (другое дело, что часто не хочет знать), поступил он дурно или хорошо. А это значит, что для каждого человека открыта и вполне реальна возможность стать нравственно чище и лучше, исправить себя и переменить свою жизнь, приведя ее в согласие с голосом совести, с естественной моральной природой человека. Для этого необходима сознательная внутренняя работа, честность по отношению к себе, постоянная проверка своих поступков, желаний, побуждений высшей моральной нормой – идеей добра, любви и справедливости. Человек может и должен быть лучше, чем он есть, – это одна из центральных идей Толстого, идея нравственного самосовершенствования. В своих лучших героях Толстой постоянно подчеркивает это ценнейшее, с его точки зрения, качество – «не оставляющее желание быть лучше».
Нравственному самосовершенствованию Толстой придавал универсальное значение не только в жизни отдельного человека, но и в жизни общества, человечества. Моральный ориентир добра и единения людей, который и ведет их по пути нравственного самосовершенствования, представлялся Толстому универсальным организующим принципом мироздания. Это был философский подход, благодаря чему все творчество Толстого проникнуто философичностью. В процессе идейно-нравственных исканий герои писателя ищут не просто собственную жизненную позицию, а абсолютную истину: конкретный вопрос «Как жить мне?» неразрывно связан с общефилософскими проблемами бытия. «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?» – спрашивает себя Пьер Безухов.
Идейно-нравственные поиски героев приобретали в этих условиях чрезвычайную интенсивность и остроту, они становились стержнем проблематики всего произведения. Искания лучших героев Толстого – это искания смысла жизни, организующей, управляющей всем идеи мира. Отсюда чрезвычайная интенсивность внутренней жизни героев, отсюда и то огромное место, которое закономерно занимает в толстовских произведениях изображение внутреннего мира героев. Одной из художественных задач Толстого была воспитательная: ему необходимо было заставить читателя поверить в то, что нравственное самосовершенствование не просто возможно и необходимо, а является единственным способом нахождения смысла жизни, достижения добра и справедливости. Толстому важно было, чтобы читатель прошел вместе с героями по сложному, извилистому пути духовных исканий и пришел к определенному нравственному выводу, поверил в этот вывод. Писатель понимал искусство как «заражение» читателя чувствами автора: «Настоящее произведение искусства делает то, что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником, и не только между ним и художником, но и между ним и всеми людьми... В этом-то освобождении личности от своего отделения от других людей, от своего одиночества, в этом-то слиянии личности с другими и заключается главная привлекательная сила и свойство искусства» («Что такое искусство?»).
Своих любимых героев, которым в наибольшей степени свойственны идейно-нравственные поиски, Толстой наделяет исключительностью характера, незаурядностью личностных свойств. Это необходимо для того, чтобы идейно-нравственные и философские вопросы могли быть поставлены на самом высоком и авторитетном уровне, чтобы решение философских проблем бытия выглядело художественно убедительным. Отсюда богатство и разносторонность внутреннего мира Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой, стремительность и широта потока их душевной жизни, постоянная сосредоточенность этих героев на столь важных для Толстого коренных проблемах бытия.
Характеры героев Толстого, ищущих нравственно-философскую истину, – это характеры развивающиеся, меняющиеся под влиянием различных жизненных впечатлений и напряженной внутренней работы. Динамика характера, изменение его нравственно-философских основ осуществляется через ряд психологических состояний – отсюда то небывалое значение, которое придает Толстой изображению психологических процессов. Ведь для того чтобы эволюция характера выглядела художественно убедительно, необходимо подробнейшим образом воспроизвести и объяснить и внутренний механизм этой эволюции, и ее глубинные причины.
Толстой никогда не изображал внутренний мир своих героев только ради него самого. В любом душевном движении, в любом эмоциональном или мыслительном процессе ему было важно выделить и акцентировать нравственный смысл, показать, где в мыслях и чувствах героя правда, а где ложь, внутренняя фальшь, неестественность. Любое психологическое изображение у Толстого поэтому насыщено авторской субъективностью, авторским пристрастно-оценочным отношением. Для того же, чтобы оценка убеждала читателя, необходимо было чрезвычайно подробное изображение всех нюансов внутреннего мира. Толстой всегда стремился к тому, чтобы психологическая картина не заключала в себе никаких неясностей, давала исчерпывающее представление о внутренней жизни героя и ее нравственном смысле.
Особенности проблемного подхода Толстого к человеку и его внутренней жизни обусловили принципы психологизма в его романах. Важнейшим из них стал принцип «диалектики души», т.е. постоянного изображения внутреннего мира героев в движении, в развитии. Этот принцип вполне проявился уже в ранних рассказах и повестях Толстого; Чернышевский, рецензируя эти произведения, так писал о главной особенности толстовского психологизма: «Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем».
В «Войне и мире» диалектика души применяется еще шире и в более многообразных формах, чем в тех рассказах, на которые обратил внимание Чернышевский. Особенно последовательно выдерживается этот принцип в те ключевые моменты в нравственном развитии героев, когда они – каждый на свой лад – спрашивают себя о главном: «Что дурно? Что хорошо? От чего зло и как надо жить, чтобы его не было?». В этих случаях подробное изображение последовательного движения мыслей и чувств делает наглядной ту внутреннюю логику, которая приводит героя к определенному нравственному выводу, итогу и, следовательно, делает художественно убедительным сам этот нравственный вывод, показывает его естественность, неизбежность. Одновременно диалектика души, подчеркивая не только постоянное движение внутреннего мира, но и столь же постоянное его возвращение к какой-то одной мысли, одному представлению, ясно указывает на «корень зла», на то главное, что мучает героя и к чему он, часто даже помимо воли, возвращается в размышлениях и переживаниях. Таким образом, психологизм помогает не только объективно нарисовать картину душевной жизни, но и выразить авторскую нравственную оценку.
Рассмотрим, как работает диалектика души в одной из важнейших сцен романа – в изображении потока душевной жизни Пьера после дуэли с Долоховым.
«То ему представлялась она (Элен. – А.Е.) в первое время после женитьбы, с открытыми плечами и усталым, страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею представлялось красивое, наглое и твердо-насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде, и то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал в снег.
"Что ж было? – спрашивал он сам себя. – Я убил любовника, да, убил любовника своей жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого?"»
Прервем здесь цитату, чтобы сразу же отметить два обстоятельства. Во-первых, Пьер не убил Долохова, но в его сознании дело обстоит именно так: убил, или почти убил, или мог убить – это для Пьера по большому нравственному счету все равно. Во-вторых, примечательно, что Пьер почти сразу же, осознав в полной мере факт дуэли, задает себе ключевой вопрос: «Как я дошел до этого?». Он охвачен нравственным смятением; ощущение неправильности, ложности его жизни, которое смутно бродило в нем еще с момента объяснения в любви, делается определенным и мучительно острым, вызывая настоятельную потребность разобраться в причинах зла. Заметим еще, что Пьер в несколько странной и нелогичной форме ставит этот вопрос, акцентируя внимание именно на себе самом: не «что меня довело до дуэли?», а «как я, Пьер Безухов, дошел до того, что смог убить человека?». Пьер ищет зло в себе – это очень показательно для нравственной ориентации лучших героев Толстого.
И ответ на этот внутренний вопрос тоже на первый взгляд совершенно нелогичен: «"Как я дошел до этого? – Оттого, что ты женился на ней", – отвечал внутренний голос».
Не правда ли, внешне это выглядит не очень-то убедительно? Почему женитьба сама по себе непременно должна быть причиной дуэли и теперешнего состояния Пьера? Но оказывается, что этот нелогичный ответ, мгновенно, интуитивно пришедший в голову, совершенно верен нравственно, что и выяснится из дальнейшего внутреннего монолога:
«"Но в чем же я виноват? – спрашивал он. – В том, что ты женился, не любя ее, в том, что ты обманул и себя и ее, – и ему живо представилась та минута после ужина у князя Василья, когда он сказал эти не выходившие из него слова: "Je vous aime"[44]. Все от этого! Я и тогда чувствовал, – думал он, – я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права. Так и вышло". Он вспомнил медовый месяц и покраснел при этом воспоминании...
"А сколько раз я гордился ею... – думал он. – Так вот чем я гордился! Я тогда думал, что не понимаю ее... а вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина: сказал себе это страшное слово, и все стало ясно!.."
Потом он вспомнил грубость, ясность ее мыслей и вульгарность выражений... "Да я никогда не любил ее, – говорил себе Пьер, – я знал, что она развратная женщина, – повторял он сам себе, но не смел признаться в этом. – И теперь Долохов, вот он сидит на снегу и насильно улыбается и умирает, может быть, притворным каким-то молодечеством отвечая на мое раскаяние!"...
"Она во всем, во всем она одна виновата, – говорил он сам себе. – Но что ж из этого? Зачем я себя связал с нею, зачем я ей это сказал: "Je vous aime", которое было ложь, и еще хуже, чем ложь, – говорил он сам себе. – Я виноват...
Людовика XVI казнили за то, что они говорили, что он был бесчестен и преступен (пришло Пьеру в голову), и они были правы со своей точки зрения, так же, как правы и те, которые за него умирали мученической смертью и причисляли его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив – и живи: завтра умрешь, как я мог умереть час тому назад. И стоит ли мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью?" Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями, ему вдруг представлялась она, и в те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, – и он чувствовал прилив крови к сердцу, и должен был опять вставать, двигаться, и ломать, и рвать попадающиеся ему под руку вещи. "Зачем я сказал ей: «Je vous aime»? – все повторял он сам себе».
Психологический процесс здесь включает в себя и логическое рассуждение, и интуитивно приходящие мысли, и непроизвольные образы памяти, и эмоциональные порывы, но все это многообразие – вокруг единого центра: осознания Пьером лжи в его отношении к Элен, из чего и произошло все последующее зло. Настойчиво всплывает сквозь всю пестроту мыслей и переживаний одно воспоминание: «Зачем я сказал ей: "Je vous aime" – это была ложь».
Сознание личной вины – чрезвычайно важный момент в переживаниях Пьера, потому что именно из этого источника – осознания своего несовершенства, своей вины – рождается «желание быть лучше». И даже говоря себе, что во всем виновата Элен, Пьер тут же возражает себе: «Но что ж из этого?.. Зачем я сказал ей...»
Обратим внимание, насколько внутренне оправданными и глубоко содержательными оказываются нелогичные на первый взгляд ассоциативные ходы мысли: в процессе переживаний и размышлений Пьеру вдруг приходят на ум эпизоды Великой Французской революции, – казалось бы, какое отношение имеют Людовик и Робеспьер к теперешнему состоянию Пьера? Однако благодаря таким параллелям Пьер вдруг осознает, что все люди живут по одним и тем же нравственным законам, будь то исторические личности или обыкновенные люди; нравственный суд, нравственная оценка одна и та же для тех, кто казнил Людовика, и для Пьера Безухова. Так в течении внутренней жизни проясняется главный для Толстого вопрос – об универсальной моральной истине.
Диалектика души, проведенная как последовательный принцип в подавляющем большинстве психологических эпизодов, позволяла наглядно и художественно убедительно проследить во всех подробностях процесс нравственного самосовершенствования человека, представляла добытую им морально-этическую истину как закономерный итог внутренней работы. Диалектика души, естественно, требовала очень подробного и, главное, многостороннего воспроизведения внутренних процессов. Толстой стремился воссоздать все грани душевной жизни человека, создать максимально полную картину его внутреннего мира – иначе не получится собственно диалектики, развития психологического состояния по собственным законам человеческого сознания и психики. В картине душевной жизни человека писателю одинаково важны и эмоции, и настроения, и ходы мысли, и воспоминания, и образы фантазии, и желания, и подсознательные процессы. В результате внутренний мир героев приобретает многомерность и жизнеподобие.
Однако пестрота внутренней жизни человека, изображенная Толстым, ее нередкая хаотичность, неупорядоченность требовали определенной художественной обработки, иначе внутренняя жизнь героев могла оказаться просто непонятной. Толстой изображает психологический поток, но в этом потоке никогда не тонет главное: нравственное содержание мыслей, переживаний, настроений героев. Сложность внутреннего мира, достигнутая благодаря многостороннему изображению психических процессов и применению принципа диалектики души, художественно уравновешивается другим важнейшим принципом толстовского психологизма – принципом аналитического объяснения внутренних процессов и состояний. Этот принцип заключается, во-первых, в том, что сложнейшие психологические состояния Толстой подробнейшим образом раскладывает на составляющие:
«Он понял, что эта женщина может принадлежать ему.
"Но она глупа, я сам говорил, что она глупа, – думал он. – Что-то гадкое есть в этом чувстве, которое она возбудила во мне, что-то запрещенное..." – думал он; и в то же время, как он рассуждал так (еще рассуждения эти оставались неоконченными), он заставал себя улыбающимся и сознавал, что другой ряд рассуждений всплывал из-за первых, что он в одно и то же время думал о ее ничтожестве и мечтал о том, как она будет его женой... И он опять видел ее не какой-то дочерью князя Василья, а видел все ее тело, только прикрытое серым платьем. "Но нет, отчего же прежде не приходила в голову эта мысль?" И опять он говорил себе, что что-то гадкое, противуестественное, как ему казалось, нечестное было бы в этом браке... Он вспомнил слова и взгляды Анны Павловны, когда она говорила ему о доме, вспомнил тысячи таких намеков со стороны князя Василья и других, и на него нашел ужас, не связал ли он уж себя чем-нибудь в исполнении такого дела, которое очевидно не хорошо и которое он не должен делать. Но в то же время, как он сам себе выражал это решение, с другой стороны души всплывал ее образ со всею своею женственною красотою».
Здесь сложное психологическое состояние душевной смятенности аналитически расчленено на составляющие: прежде всего выделены два направления рассуждений, которые, чередуясь, повторяются то в мыслях, то в образах. Сопровождающие эмоции, воспоминания, желания воссозданы максимально подробно; предельно обнажен нравственный смысл внутреннего состояния – борьба чувственного желания и интуитивного морального убеждения. Обратим внимание на типичный для Толстого прием анализа сложных и противоречивых состояний сознания и психики: то, что переживается одновременно, у Толстого развернуто во времени, изображено в последовательности, анализ психологического мира личности идет как бы поэтапно. В то же время сохраняется и ощущение одновременности, слитности всех компонентов внутренней жизни, на что указывают слова «в то же время...». В результате создается впечатление, что внутренний мир героя представлен с исчерпывающей полнотой, что прибавить к психологическому анализу уже просто нечего; в изображении Толстого нет недосказанностей, психологических загадок, анализ составляющих, душевной жизни делает ее предельно ясной для читателя.
Толстой стремится и к тому, чтобы каждый элемент внутренней жизни был обозначен словом предельно точно, он чрезвычайно внимателен к нюансам чувств и переживаний. Точное обозначение словом тончайших душевных движений – задача чрезвычайно сложная, и в ее решении в полной мере проявилось мастерство Толстого как художника слова. Из стремления к максимальной словесной точности, в частности, в психологических описаниях Толстого появляется множество синонимов; их значения дополняют и уточняют друг друга, создавая более ясное представление о сущности переживания. Так, в приведенном выше отрывке чувство Пьера к Элен характеризуется словами «гадкое», «запрещенное», снова «гадкое», «противуестественное» и, наконец, «нечестное». Синонимы передают здесь важные оттенки нравственной оценки, уточняют интуитивное чувство Пьера. Обратим внимание и на точность отдельного толстовского слова в передаче психологических состояний: дважды повторенный эпитет «гадкое» из всех возможных синонимов («грязное», «отвратительное», «скверное» и т.п.), по-видимому, наиболее выразителен и эмоционален, он в наибольшей мере передает психологическое ощущение явственной и непреодолимой, хотя и затаенной брезгливости. К тому же из всего синонимического ряда слово «гадкое» наиболее свежо, а следовательно, воспринимается ярче и непосредственней.
В изображении основного стержня внутренней жизни, ее нравственной доминанты Толстой особенно стремится к точности, понятности и даже наглядности. Для этого писатель иногда прибегает к выразительным сравнениям и метафорам, уподобляющим психологическое состояние зримому явлению или процессу: «С той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора». Или: «О чем бы он ни начинал думать, он возвращался к одним и тем же вопросам, которых он не мог разрешить и не мог перестать задавать себе. Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, все на том же нарезе, и нельзя было перестать вертеть его».
Заметим еще, что Толстому важно не столько индивидуализировать чувство и переживание как таковое (здесь он пользуется обычными обозначениями, типа: «страх», «злоба», «недоумение»), сколько сделать максимально ясным нравственный смысл этого чувства или переживания, поэтому Толстой всегда комментирует психологические состояния, объясняя их причину. При этом то, что неясно герою, получает в авторском освещении однозначное истолкование и объяснение. Проследим, как это делается, на примере душевного состояния Наташи во время и после первой встречи с Анатолем:
«Наташа несомненно знала, что он восхищается ею. И ей было это приятно, но почему-то ей тесно и тяжело становилось от его присутствия».
Первый этап анализа: максимально ясно обозначена противоречивость состояния, точно определена его эмоционально-нравственная основа при помощи слов «тесно и тяжело». Далее Толстой объясняет это «почему-то», находя причину состояния, непонятного для героини: «Глядя ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между им и ею совсем нет той преграды стыдливости, которую она всегда чувствовала между собой и другими мужчинами». Вот причина «тесного и тяжелого» ощущения: интуитивно почувствованная безнравственность положения и собственных желаний. Но Толстой не останавливается на этом – он продолжает максимально подробно растолковывать, выявлять нравственный смысл психологического состояния:
«Ей постоянно казалось, что что-то неприличное она делает, говоря с ним... Она чувствовала, что в непонятных словах его был неприличный умысел... И опять она с ужасом чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды». Мы встречаемся здесь с любимым приемом Толстого: определяющая мысль, впечатление, отдельное слово, которым выражается нравственный смысл психологического состояния, настойчиво повторяется в изображении подвижного внутреннего мира, составляя его стержень, ядро, основу. Но аналитическая диалектика души продолжается:
«Приехав домой, Наташа могла ясно обдумать все то, что с ней было, и вдруг, вспомнив князя Андрея, она ужаснулась... Долго она сидела, закрыв раскрасневшееся лицо руками, стараясь дать себе ясный отчет в том, что было с нею, и не могла ни понять того, что с нею было, ни того, что она чувствовала. Все ей казалось темно, страшно и неясно». Снова эмоционально-нравственный смысл переживания уточняется с помощью синонимов; идет нагнетание однопорядковых эмоций: «неприлично», «страшно», «со страхом», «ужаснулась», «что-то мучило». Предельно ясным становится душевное противостояние, противоборство зла и добра, которое затем уточняется во внутреннем монологе, в котором Наташа ищет нравственного самооправдания и успокоения:
«Наташа одна сама с собой старалась разрешить то, что ее мучило.
"Погибла ли я для любви князя Андрея, или нет?" – спрашивала она себя и с успокоительною усмешкой отвечала себе: "Что я за дура, что я спрашиваю это? Что ж со мной было? Ничего... Стало быть, ясно, что ничего не случилось, что не в чем раскаиваться, что князь Андрей может любить меня и такою. Но какою такою? Ах, Боже, Боже мой! зачем его тут нет!"».
Обратим внимание на то, как тонко Толстой показывает, что в ходе логического самоуспокоения Наташа невольно проговаривается сама себе: если ничего не случилось, то откуда же выскочило это словечко такою, выделенное курсивом? И тут же Наташа замечает, что проговорилась, возмущенно реагируя: «Но какою такою?» Это – продолжение рационально-логических самооправданий, но уже поздно, уже слово вырвалось, смешав прежний ход мыслей, героиня уже не верит в самооправдания, интуитивно чувствуя правду; отсюда уже внерациональный, отчаянный внутренний выкрик, как зов на помощь: «Ах, Боже, Боже мой! зачем его тут нет!».
Картина психологического состояния воссоздана максимально подробно и точно, но, с точки зрения Толстого, все еще недостаточно ясно, поэтому в конце психологического фрагмента следует спрессованный в одну фразу авторский вывод, выделяющий главный нравственный стержень психологического процесса: «Наташа успокоивалась на мгновение, но потом опять какой-то инстинкт говорил ей, что, хотя все это и правда, и хотя ничего не было, – инстинкт говорил ей, что вся прежняя чистота любви ее к князю Андрею погибла».
На этом примере ясно видно еще одно важнейшее проявление принципа аналитического объяснения психических процессов и состояний: как бы долго и подробно Толстой ни описывал внутренний мир героя, в конце он обязательно сделает своего рода резюме, подведет нравственный итог данной фазе переживаний и размышлений, предельно четко и выразительно обозначив идейно-нравственную доминанту внутренней жизни героя. В этом проявляется постоянное стремление Толстого обнажать самый глубинный слой внутренней жизни – борьбу в душе героя добра и зла, любви и эгоизма, правды и лжи, естественности и фальши – словом, непосредственно раскрыть в психологических сценах и картинах нравственную проблематику своего романа.
Так, в конце долгого изображения внутреннего развития Пьера – в Торжке во время встречи и разговора с Баздеевым – Толстой точно и коротко формулирует главный итог этого развития, основное ощущение и основную мысль Пьера: «В душе его не оставалось ни следа прежних сомнений. Он твердо верил в возможность братства людей, соединенных с целью поддерживать друг друга на пути добродетели». А вот как подводится итог еще более длительному нравственному развитию Наташи после истории с Курагиным: «Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни – любовь – еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь».
В «Войне и мире», как и в других романах Толстого, представлена чрезвычайно богатая система форм и приемов изображения внутреннего мира. Можно сказать, что Толстой свободно использовал все средства психологического изображения, доступные литературе. Такого виртуозного владения изобразительными приемами психологизма мы не встретим, пожалуй, ни у одного писателя. Однако, в соответствии с общими принципами изображения внутреннего мира, некоторые способы в толстовском психологическом повествовании играют ключевую роль.
Это, в первую очередь, психологический анализ от лица всезнающего автора-повествователя. В «Войне и мире» эта форма организует все другие, является ведущей стихией повествования, непременно сопровождая любой иной прием психологического изображения. Даже внутренний монолог, в художественном построении которого Толстой достиг вершин мастерства, обязательно сопровождается авторским психологическим комментарием: «Слуга его подал ему разрезанную до половины книгу романа в письмах... Он стал читать... "И зачем она боролась против своего соблазнителя, – думал он, – когда она любила его? Не мог Бог вложить в ее душу стремления, противного ее воле. Моя бывшая жена не боролась, и, может быть, она была права. Ничего не найдено, – опять говорил себе Пьер, – ничего не продумано. Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости".
Все в нем самом и вокруг него представлялось ему запутанным, бессмысленным и отвратительным. Но в этом самом отвращении ко всему окружающему Пьер находил своего рода раздражающее наслаждение».
Внутренний монолог фиксирует конкретное, частное, а авторский психологический комментарий обобщает картину внутреннего мира, выделяет в ней главное, т.е. осуществляет собственно аналитическую работу. Герой знает про самого себя меньше, чем повествователь, не умеет так четко и точно выразить сцепление мыслей и ощущений, передать подробности, уловить ведущий эмоциональный тон. Поэтому авторский комментарий в системе толстовского психологизма абсолютно необходим, – только с его помощью можно достичь исчерпывающей полноты и ясности в изображении душевной жизни.
Кроме того, одной из важных задач Толстого-психолога было изобразить и раскрыть ту невольную неискренность, которая свойственна людям, их подсознательное стремление видеть себя лучше, а значит, интуитивно искать самооправданий. Человек не всегда скажет о самом себе правду, даже мысленно, – это Толстой очень хорошо знает и потому не до конца «доверяет» герою. Окончательно прояснить его внутренний мир, смысл и содержание психологических процессов может только сторонний всезнающий наблюдатель-комментатор. Форма повествования от третьего лица в таких ситуациях особенно необходима.
«"Хорошо бы было поехать к Курагину", – подумал он. Но тотчас же он вспомнил данное князю Андрею честное слово не бывать у Курагина.
Но тотчас же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему так страстно захотелось еще раз испытать эту столь знакомую ему беспутную жизнь, что он решился ехать».
Повествователь четко обозначил здесь доминанту внутреннего состояния: Пьеру очень хочется еще раз испытать это удовольствие, несмотря на данное слово, несмотря на то, что он знает, что поступает дурно. Это желание властвует, и весь остальной психологический мир незаметно, подсознательно подделывается под него – так мы и воспринимаем последующую наивную казуистику Пьера: «И тотчас же ему пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, потому что еще прежде, чем князю Андрею, он дал также князю Анатолю слово быть у него; наконец, он подумал, что все эти честные слова – такие условные вещи, не имеющие никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или он умрет, или случится с ним что-нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни честного, ни бесчестного». Иногда персонажи Толстого вообще не способны, в силу тех или иных причин, выразить свой внутренний мир, и он выражается несловесно – например, в мимическом движении. С позиций толстовских принципов психологизма такие ситуации тоже требуют комментария, потому что внешнее выражение может быть по-разному психологически интерпретировано, а Толстому нужна абсолютная ясность. Вот, например, портретный штрих в изображении Наташи после ее неудавшегося побега с Курагиным: «Она оглянулась на него, нахмурилась и с выражением холодного достоинства вышла из комнаты». Это «выражение холодного достоинства», пожалуй, более всего шокирует Пьера и заставляет его думать о Наташе «с презрением и даже отвращением». Но «он не знал, что душа Наташи была преисполнена отчаяния, стыда, унижения и что она не виновата была в том, что лицо ее нечаянно выражало спокойное достоинство и строгость» (курсив мой. – Л.Е.). Пьер, сторонний наблюдатель, не знал того, что знает всезнающий повествователь, чей комментарий здесь поэтому безусловно необходим.
В ключевые моменты нравственных переломов, когда герою открывается что-то чрезвычайно важное с точки зрения Толстого, автор вообще отказывается от воспроизведения внутреннего голоса героя, – все психологические процессы изображаются исключительно в рассказе повествователя. Автор как бы опять не доверяет слову героя, его умению сжато, обобщенно, но в то же время максимально ясно изобразить те душевные процессы, состояния и движения, в которых открывается истина или частица истины, – с этой задачей в состоянии справиться только слово автора, повествователя. Вот, например, изображение нравственных сдвигов в сознании Пьера, которые произошли во время плена:
«Он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде. Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою... он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путем мысли, – и все эти искания и попытки обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве. Те страшные минуты, которые он пережил во время казни, как будто смыли навсегда из его воображения и воспоминания тревожные мысли и чувства, прежде казавшиеся ему важными».
Авторское психологическое повествование играет безусловно решающую роль в системе толстовского психологизма. Из других повествовательных форм следует в первую очередь отметить, конечно, внутренний монолог, в построении которого, по всеобщему признанию, Толстому удалось достичь исключительного жизнеподобия и психологической достоверности, передать поток душевного состояния с присущими ему реальными закономерностями. Удивительная естественность толстовских внутренних монологов создает впечатление «подслушанных мыслей», реальной необработанности и прихотливости потока внутренней жизни. У психологического процесса своя логика, его развитие подчиняется интуиции, иррациональным ассоциациям, немотивированным на первый взгляд сближениям представлений и т.п. Все эти процессы с уникальной точностью запечатлены во внутренних монологах романа – в таких, например, как следующий:
«"Должно быть, снег – это пятно; пятно – une tache", – думал Ростов, – "Вот тебе и не таш..."
"Наташа, сестра, черные глаза. На... ташка... (Вот удивится, когда я ей скажу, как я увидал государя!) Наташку... ташку возьми... Да, бишь, что я думал? – не забыть. Как с государем говорить буду? Нет, не то – это завтра. Да, да! На ташку наступить... тупить нас – кого? Гусаров. А гусары и усы... По Тверской ехал этот гусар с усами, я еще подумал о нем, против самого Гурьева дома... Старик Гурьев... Эх, славный малый Денисов! Да, все это пустяки. Главное теперь – государь тут. Как он на меня смотрел, и хотелось ему что-то сказать, да он не смел... Нет, это я не смел. Да это пустяки, а главное – не забывать, что я что-то нужное думал, да. На-ташку, нас-тупить, да, да, да. Это хорошо"».
Внутренний монолог здесь почти переходит в несколько иную форму изображения, которую в литературоведении называют «потоком сознания», – эта форма создает иллюзию абсолютно хаотичного, неупорядоченного движения мыслей и переживаний. «Поток сознания» начал активно применяться писателями-психологами только в XX веке; Толстой, таким образом, опередил художественное развитие психологизма лет на пятьдесят.
Исключительного жизнеподобия достигает Толстой и в такой форме психологического изображения, как сон. Сны часто применяются Толстым как форма изображения душевных движений (хотя и не играют в его психологизме такой роли, как у Чернышевского и Достоевского); они выполняют свою естественную функцию – раскрыть подсознательные процессы, игру сознания, неподконтрольную разуму. Своеобразие толстовского психологизма в том, что состояния сна, а также – и особенно – перехода от бодрствования к сну и обратно запечатлены Толстым в максимальном соответствии с реальными психическими закономерностями. Особенно удается Толстому передать характерное для сна слияние разнородных психических элементов в едином эмоциональном ощущении, как, например, в следующем, отрывке:
«"Кто они? Зачем они? Что им нужно? И когда все это кончится?" – думал Ростов, глядя на переменявшиеся перед ним тени. Боль в руке становилась все мучительнее. Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные круги, и впечатление этих голосов и этих лиц и чувство одиночества сливались с чувством боли. Это они, эти солдаты, раненые и нераненые, – это они-то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, и жгли мясо в его разломанной руке и плече. Чтобы избавиться от них, он закрыл глаза.
Он забылся на одну минуту, но в этот короткий промежуток забвения он видел во сне бесчисленное количество предметов: он видел свою мать и ее большую белую руку, видел худенькие плечи Сони, глаза и смех Наташи, и Денисова с его голосом и усами, и Телянина, и всю свою историю с Теляниным и Богданычем. Вся эта история была одно и то же, что этот солдат с резким голосом, и эта-то вся история и этот-то солдат так мучительно, неотступно держали, давили, и все в одну сторону тянули его руку. Он пытался устраниться от них, но они не отпускали ни на волос, ни на секунду его плечо. Оно не болело, оно было бы здорово, ежели бы они не тянули его; но нельзя было избавиться от них».
Здесь в едином эмоциональном потоке неразделимо слиты мысли, реальные и фантастические представления, воспоминания, физиологические ощущения – все это и создает то уникальное состояние полусна-полубреда, в котором находится раненый Ростов.
Одним из приемов психологического анализа становится передача впечатлений героев от внешнего мира. В описательных деталях и подробностях Толстой впервые в литературе ощутимо переместил акценты: основное внимание сосредоточено не на самих предметах и явлениях внешнего мира, а на том, как воспринимает их персонаж, какое эмоциональное освещение и осмысление они получают в его сознании. Иными словами, предметная изобразительность в большой степени была поставлена писателем на службу психологизму. Не случайно в его творчестве так часто встречается повествование, ведущееся как бы от лица нейтрального рассказчика, но с точки зрения какого-то конкретного героя, как бы через призму его сознания. При этом и сами явления действительности могут быть показаны в необычном ракурсе, свежо и впечатляюще, и, главное, характер восприятия внешнего мира очень много говорит о психологическом состоянии человека. Вот, например, впечатления Наташи от театрального зрелища:
«На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья... В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то».
Здесь в восприятии Наташи предельно обнажена условность театрального действия, которая кажется героине фальшью, и Толстой, отталкиваясь от внешнего впечатления, немедленно объясняет, почему Наташа не могла иначе воспринять оперу:
«После деревни и в том серьезном настроении, в котором находилась Наташа, все это было дико и удивительно ей. Она не могла следить за ходом оперы, не могла даже слышать музыку: она видела только крашеные картоны и странно наряженных мужчин и женщин... она знала, что все это должно было представлять, но все это было так вычурно-фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то смешно на них».
Точно воспроизведенным впечатлением здесь подчеркивается обычный толстовский психологический контраст – между правдой и ложью, искренностью и фальшью. Передача впечатлений от внешнего мира становится важной формой психологизма, как и во многих других сценах: картина Островненского боя дана в восприятии Николая, эпизод Бородинского сражения и казнь пленных – в восприятии Пьера, купающиеся в пруду солдаты – как впечатление князя Андрея. Эти и другие подобные эпизоды неизменно важны для нравственного развития героев.
Особое значение приобретают внешние детали-впечатления в ключевых сценах романа, в переломные моменты душевного развития героя. В этих сценах деталь внешняя, иногда даже случайная, вдруг становится центром внутреннего мира: она собирает вокруг себя, организует все те смутные, иногда интуитивные душевные движения, которые неосознанно накапливались в подсознании. Очень выразительные эпизоды этого плана – две встречи князя Андрея со старым дубом по дороге в Отрадное и обратно, его впечатление от «высокого, бесконечного неба» на Аустерлицком поле. Деталь-впечатление становится здесь последней точкой, делающей ясной для самого героя его психологическое состояние.
В заключение обратим внимание на организацию художественного времени при психологическом анализе. Для Толстого характерно расхождение между тем временем, в которое реально проходило переживание, и временем рассказа о нем. Длительность повествования о чувстве или эмоциональном состоянии не зависит от того, как долго длилось само это состояние. Анализ переживания, продолжавшегося секунды, у Толстого может занимать абзац, период, страницу – словом, столько, сколько нужно, чтобы исчерпывающе раскрыть все составляющие внутреннего мира и до конца, ясно и точно объяснить их. Еще Чернышевский обратил внимание на эту особенность толстовского психологизма, отметив внутренний монолог Праскухина из «Севастопольских рассказов»: там на полутора страницах передается то, что герой подумал и почувствовал за доли секунды. По тем же принципам строится художественное время и в «Войне и мире». Вот, например, изображение мыслей и чувств княжны Марьи (внутренний монолог, произнесенный между репликами в диалоге, т.е. за очень короткий промежуток времени):
«"Так вот отчего! Вот отчего! – говорил внутренний голос в душе княжны Марьи. – Нет, я не один этот веселый, добрый и открытый взгляд, не одну красивую внешность полюбила в нем; я угадала его благородную, твердую, самоотверженную душу, – говорила она себе. – Да, он теперь беден, а я богата... Да, только оттого... Да, если б этого не было..." И вспоминая прежнюю его нежность, и теперь глядя на его доброе и грустное лицо, она вдруг поняла причину его холодности».
Здесь одномоментное по сути психологическое состояние развернуто во времени, исчерпывающе воссоздано и объяснено в подробном внутреннем монологе.
Подобная организация художественного времени позволяла Толстому донести до читателя все богатство внутреннего мира своих героев, подробно и до конца объяснить психологические процессы и состояния.
Стремление Толстого максимально точно передать психологическую динамику, сделать четким и понятным все смутное во внутреннем мире героев, объяснить и растолковать любое душевное движение, вскрыть его нравственный смысл делало психологизм Толстого чрезвычайно подробным и глубоким. Это, в свою очередь, обусловило необычайно сильное эстетическое воздействие толстовского психологизма: необходимый писателю эффект «заражения» читателя чувствами и мыслями персонажей (а через них и авторскими) достигался в максимальной степени. Огромной заслугой Толстого было то, что он последовательно распространил психологический анализ на динамику душевной жизни, художественно освоил «диалектику души». Все это, в сочетании с огромным для эпоса объемом психологического изображения и подчеркнутым, пристальным вниманием к процессам душевной жизни, создало Толстому заслуженную славу крупнейшего художника-психолога не только в русской, но и в мировой литературе.
Ф.М. Достоевский «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Ф.М. Достоевский вошел в историю мировой литературы как писатель-философ. Практически в каждом произведении Достоевского мы погружаемся в мир «последних вопросов», сталкиваемся с настойчивыми попытками разрешить коренные загадки человеческого бытия, с напряженными идейно-нравственными поисками. В силу особенностей миросозерцания философская проблематика всегда была в центре внимания писателя, составляя содержательный стержень его романов.
Однако Достоевского интересовала не абстрактная философская истина, а та идейно-нравственная правда, которая пережита и лично выстрадана человеком; правда, обретенная им в итоге нелегкого пути проб и ошибок, заблуждений, сомнений, прозрений. Искание и постижение универсальной философской истины в процессе личностных идейно-нравственных поисков – основная проблематика произведений Достоевского.
Личностный характер философской проблематики закономерно выдвинул на первый план вопрос о нравственной ответственности человека за все, что происходит в мире. Проблема добра и зла – центральная в романах Достоевского – решается писателем не отвлеченно, а применительно к конкретному человеку, в плане его личной причастности к тому и другому. Герои Достоевского крайне остро и болезненно воспринимают чужое горе и страдание, постоянно чувствуя, что боль других имеет к ним самое непосредственное отношение. Так, Раскольников ощущает личную ответственность не только за судьбу матери и сестры, но и за страдания семьи Мармеладовых, и за неизвестную ему девочку, и за те сотни жизней, которые «попадают в процент» и «уходят куда-то... к черту, должно быть», – в конечном счете, герой чувствует нравственную причастность ко всем людям, потребность найти корень зла и уничтожить его.
Раскрытие такой проблематики естественно вело к появлению в произведениях Достоевского глубокого психологизма. Своеобразие его психологического стиля во многом определялось и особым характером изображенных им героев. Как и у Толстого, герои у Достоевского разрешают проблемы, которые волнуют самого автора. Им свойственны, следовательно, исключительная философичность мышления, обостренная эмоциональная чуткость, неординарность внутреннего мира. Такие черты были необходимы для того, чтобы философская проблематика романа была поставлена и разрешена на авторитетном уровне.
Но если персонажи Толстого во многом погружены в конкретную бытовую жизнь, то герои Достоевского последовательны и целенаправленны в стремлении разрешить мучающие их «проклятые вопросы»: По выражению одного из персонажей, «им не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить». Практически-житейской стороной жизни они явно пренебрегают: Раскольников, как мы помним, совершенно не заботился об условиях своего существования, о платье, даже о еде – мысль его полностью сосредоточена на философской проблеме, не разрешив которую ему жить невозможно, – на проблеме нравственного самоопределения: «Тварь ли я дрожащая или право имею...»
Герои полностью поглощены своей «идеей». В научной литературе о Достоевском для таких персонажей сложилось обозначение «герой-идеолог». Это значит, что определенная «идея», концепция мира составляет сущность характера, вне ее героя невозможно представить. Человек определяется тем, как он понимает мир и себя в мире, и вся система изобразительных средств подчинена раскрытию «идеи» персонажа и показу ее динамики.
Обратим внимание на ряд связанных с героем-идеологом особенностей. «Идея» героя – это не только рациональное построение, логическая «казуистика»; это – сердцевина личности, она эмоционально переживается, захватывает целиком душевный мир человека. Отсюда небывалая в литературе острота и напряженность душевной жизни героев Достоевского, их идейно-нравственных поисков, полная сосредоточенность на своей «идее».
С другой стороны, «идея» героя никогда не выступает как непреложная истина даже для него самого, она всегда – проблема, гипотеза. Она требует проверки – и рациональным осмыслением с разных сторон, и эмоциональными переживаниями, и, главное, личной практикой, собственной судьбой. «Идея» эта, как правило, внутренне противоречива; противоречиво и эмоциональное отношение героя к ней; он то верит своей «мечте», то отвергает ее, то сомневается, то снова возвращается к ней с удвоенным энтузиазмом.
С первых же страниц романа мы погружаемся в противоречивую психологическую динамику: Раскольников идет «делать пробу» и в то же время говорит себе: «Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно». Но он, «несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, „безобразную“ мечту свою как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил». Называя свою мечту «безобразною», Раскольников тем не менее считает ее уже почти предприятием; говорит себе очень настойчиво, что не способен на это, а между тем знает, что только поддразнивает самого себя, что идея «преступления по теории» уже захватила его и определяет все его действия.
Делая «пробу», он уже подсознательно уверен, что дойдет и до «дела»: запоминает внутреннее расположение комнат, отмечает в четвертом этаже пустую квартиру («Это хорошо... на всякий случай...»), соображает, где могут лежать деньги, и т.п. Любопытен и такой штрих: Раскольников замечает, что комната старухи ярко освещена заходящим солнцем. «"И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!.." – как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова». Эта «невзначай» мелькнувшая мысль выдает уверенность героя в том, что роковое «тогда» непременно настанет, ясно указывает на его решимость совершить задуманное. Но через несколько минут после «пробы» состояние уже совершенно противоположное: «О Боже, как все это отвратительно! И неужели, неужели я... нет, это вздор, это нелепость! – прибавил он решительно. – И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!..»
На протяжении всего романа Раскольников будет переживать подобные колебания, сомнения, непрекращающуюся внутреннюю борьбу противоречий, которые странным образом сходятся: «И если бы даже случилось когда-нибудь так, что уже все до последней точки было бы им разобрано и решено окончательно и сомнений не оставалось бы уже более никаких, – то тут-то бы, кажется, он и отказался от всего, как от нелепости, чудовищности и невозможности».
Такое развитие философской идеи – через непрерывную смену душевных состояний, через воодушевление, сомнения, отчаяние – создает чрезвычайную интенсивность и напряженность внутренней жизни героя.
В разрешении нравственных вопросов герои Достоевского идут до конца, максимально заостряя философскую проблематику. Это также способствует тому, что внутренняя жизнь героев приобретает напряженность и остроту[45].
Надо отметить, что внутренний мир предстает в особом ракурсе: мы почти не увидим у Достоевского изображения нейтральных, обычных психологических состояний – душевная жизнь изображается в ее крайних проявлениях, в моменты наибольшей психологической напряженности. Герои всегда на грани нервного срыва, истерики, внезапной исповеди, бреда и т.п. Достоевский показывает нам внутреннюю жизнь человека в те моменты, когда максимально обострены мыслительные способности и чуткость эмоциональных реакций, когда переживание предельно интенсивно, когда внутреннее страдание почти невыносимо. Отметим и то, что Достоевский обычно сосредоточивает внимание на мучительных психологических состояниях. Тем самым акцентируется интенсивность идейно-нравственных поисков и личная, жизненная заинтересованность героя в истине. Идея проверяется собственной судьбой, философские искания пронизывают внутренний мир, а это всегда вызывает психологическую напряженность и душевную боль. «Страдание и боль всегда обязательны для глубокого сознания и широкого сердца», – говорит Раскольников, и он знает, что говорит: эта мысль тоже выстрадана собственным опытом.
Показывая психологические состояния в их максимальном развитии, а переживания и чувства в предельно обостренном виде, Достоевский проникал в самые глубинные пласты человеческой психики – обнажалась неисчерпаемая сложность натуры человека, ее бесконечная противоречивость. Изображение душевной жизни в полярной противоположности ее составляющих является другим важнейшим принципом психологизма Достоевского. Один из персонажей романа «Братья Карамазовы» говорит о карамазовской натуре, способной созерцать «две бездны разом»: бездну добра, любви, сострадания – и бездну зла, ненависти, разврата. Противоречивое единство этих «двух бездн» в душе человека и определяет рисунок внутреннего мира, именно к ним, к их обнаружению и стремится психологический анализ.
Поэтому и динамика внутренней жизни в изображении Достоевского носит особый характер. В отличие от Толстого он воспроизводит не столько «поступательное движение» внутреннего мира, сколько постоянные психологические колебания от одной крайности к другой, «маятниковые» движения сознания и подсознания между двумя безднами. В этом состоянии постоянно находится Раскольников: и когда он то отрекается от своей «безобразной мечты», то твердо решает ее осуществить; и когда, собираясь донести на себя, то застывает в покорном смирении, идет к Сонечке «за крестами», то вдруг впадает в «какое-то внезапное бешенство», более чем когда-либо убежденный, что преступления с его стороны не было, а была просто собственная «низость и бездарность»; и когда, «устыдясь через минуту своего досадливого жеста рукой Дуне», через минуту забывает об этом и восклицает: «О, как я их всех ненавижу!»
Противоречивость человеческого сознания и подсознания осваивается Достоевским, пожалуй, глубже, чем любым другим писателем XIX века. Он показывает не просто сосуществование и борьбу в душе героя противоположных мыслей, ощущений и желаний, но и их странный, парадоксальный переход друг в друга, когда в мучении и страдании есть своеобразное наслаждение, а в самой радости – что-то темное и тяжелое. «Он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих. Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная»; «Так мучил он себя и поддразнивал этими вопросами, даже с каким-то наслаждением»; «Он вышел, весь дрожа от какого-то дикого истерического ощущения, в котором между тем была часть наслаждения, – впрочем, мрачный, ужасно усталый»; «Прежнее, мучительно-страшное, безобразное ощущение начинало все ярче и живее припоминаться ему... и ему все приятнее и приятнее становилось». Подобных психологических парадоксов немало на страницах романа.
Не просто алогичные, а сознательно противоречащие логике поступки и душевные движения составляют основу внутренней жизни героев. «Назло себе», вообще «назло» неизвестно кому и чему, – это часто определяющий мотив действия. Вот, например, Разумихин, терзая себя угрызениями совести (именно «терзая себя»: нарочно растравляя свои душевные раны) за позорное, как ему кажется, поведение с Авдотьей Романовной, говоря себе, что «конечно, всех этих пакостей не закрасить и не загладить теперь никогда» и что «уж конечно, теперь все погибло», так готовится к встрече с ней: «Он осмотрел свой костюм тщательнее обыкновенного. Другого платья у него не было, а если бы и было, он, быть может, и не надел бы его, – "так, нарочно бы не надел"... Когда же дошло до вопроса: брить ли свою щетину иль нет... то вопрос с ожесточением даже был решен отрицательно: «Пусть так и остается! Ну, как подумают, что я выбрился для... да непременно же подумают! Да ни за что же на свете!»»
И... и, главное, он такой грубый, грязный, обращение у него трактирное; и... и, положим, он знает, что и он, ну хоть немного, да порядочный же человек... ну, так чем же тут гордиться, что порядочный человек?.. Ну да, черт! А пусть! Ну, и нарочно буду такой грязный, сальный, трактирный – и наплевать! Еще больше буду!» (курсив мой. – А.Е.).
Мало того, что душевная жизнь героя исполнена внутренними противоречиями и всяческими «нарочно», «и пусть», «и наплевать», весь «план поведения» Разумихина – это сплошное «назло»: ведь он уже любит Авдотью Романовну самой чистой и преданной любовью. Это – Разумихин, вообще-то не склонный к психологическим эксцессам и не отличающийся особой внутренней противоречивостью. Что же говорить про главного героя, наделенного этими свойствами с избытком! В его поведении и переживаниях мотив «действия вопреки» прослеживается постоянно и очень ясно – как, например, в следующем самоанализе:
«"Я это должен был знать, – думал он с горькою усмешкой, – и как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться. Я обязан был заранее знать... Э! да ведь я же заранее и знал!.." – прошептал он в отчаянии... "Эх, эстетическая я вошь, и больше ничего, – прибавил он вдруг рассмеявшись, как помешанный... – Потому, потому я окончательно вошь, – прибавил он, скрежеща зубами, – потому, что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу это себе уже после того, как убью!"».
Герой прекрасно знает свой внутренний мир, с самого начала осознает всю подсознательную логику своих настроений, с точностью предвидит, какие переживания вызовут в нем те или иные поступки, – и все-таки действует вопреки предвидению, вопреки, казалось бы, всякой очевидности, подчиняясь чему-то более глубокому в своей душе, «бездне», до которой даже психологический анализ не всегда дотягивается. «Заметим кстати одну особенность по поводу всех окончательных решений, уже принятых им в этом деле. Они имели одно странное свойство: чем окончательнее они становились, тем безобразнее, нелепее тотчас же становились и в его глазах. Несмотря на всю мучительную внутреннюю борьбу свою, он никогда, ни на одно мгновение не мог уверовать в исполнимость своих замыслов». Стало быть, и ключевое действие – убийство – тоже совершено «вопреки»: вопреки осознанию «безобразия», «нелепости», вопреки даже отсутствию уверенности, хотя бы минутной.
«Я убежден, что слишком сознавать – это болезнь», – заявляет герой романа Достоевского «Записки из подполья». Главные герои «Преступления и наказания», и прежде всего Раскольников, «слишком сознают», и они на свой лад больны – буквально «больны идеей». Оттого их внутренний мир предельно чуток и напряжен, оттого он и так сложен, что временами сам автор отказывается исчерпывающе объяснить эту сложность, художественно осветить все тайны человеческой души.
Неисчерпаемость психологических глубин, невозможность до конца объяснить все душевные движения с давних пор художественно запечатлевались в лирике. Достоевский же был первым из писателей, кто художественно освоил эту глубинную непостижимость внутреннего мира в рамках эпического рода, т.е. в широком, подробном психологическом повествовании. Человеческая душа, по убеждению Достоевского, во многом необъяснима и загадочна, особенно в самых последних и подспудных ее пластах, и здесь самый проницательный психолог вынужден отступить. Непредсказуемость, не до конца постижимая сложность внутреннего мира постоянно подчеркиваются писателем при изображении Психологических состояний и процессов. Для их характеристики типичными являются слова и конструкции: «странно», «странное чувство», «неожиданно для себя», «как бы невольно», «какое-то непонятное ощущение» и т.п. Передаче психологических переломов почти всегда сопутствует слово «вдруг», да и сами изменения душевного состояния часто действительно внезапны и необъяснимы. Внутренний мир нередко представляет собой такой хаос разноплановых душевных движений, что в них не только самому герою, но и нейтральному повествователю разобраться очень сложно.
Иногда картина внутреннего мира дается Достоевским даже не как абсолютно достоверная, а как возможная, приблизительно точная: «Под конец он вдруг стал опять беспокоен; точно угрызение совести вдруг начало его мучить: "Вот сижу, песни слушаю, а разве то мне надобно делать!" – как будто подумал он» (курсив мой. – А.Е.). Точное обозначение душевных состояний в подавляющем большинстве случаев дополняется оговорками: слова «казалось», «как будто», «как бы», «словно», «почти» сопровождают психологическое описание постоянно: «Вдруг в сердце своем он ощутил почти радость»; «Скоро он впал как бы в глубокую задумчивость»; «...произнес Заметов почти в тревоге»; «Минутами он чувствовал, что как бы бредит»; «Странно, сон как будто все еще продолжался» и т.п. Такой прием придает картине внутреннего мира нечеткость, зыбкость; введением этих конструкций Достоевский как бы намекает на то, что внутреннее состояние героя значительно сложнее, чем можно передать точными словами, что оттенки чувства и состояния можно обозначить лишь с известной долей приближения.
Словом, в психологическом повествовании Достоевского внутренний мир предстает как объясненный и истолкованный не до конца; писатель намекает на существование таких темных глубин в душе человека, куда не достает луч даже самого изощренного психологического изображения. При этом, в отличие, например, от романтиков, загадочность внутреннего мира идет у него не от намеренной недосказанности, а наоборот: анализ стремится к исчерпывающе ясному знанию о душе человека и все же не достигает его. У романтиков была таинственность, у Достоевского – тайна. Писатель со своей стороны шел к освоению психологической достоверности: он показал душу человека во всей ее реальной глубине, объемности, временами неисчерпаемой сложности.
В этой связи надо сказать несколько слов о психологическом анализе в системе психологизма Достоевского. Разумеется, без подробного, расчленяющего изображения нельзя было обойтись, воспроизводя столь сложные и противоречивые состояния души, какие свойственны его героям, да и отмеченная выше «полнота самосознания» героя требовала аналитических форм. В этом поэтика психологического повествования Достоевского сходна с поэтикой Толстого. Однако в отличие от него Достоевский не стремится в анализе к исчерпывающей полноте, а установка на объяснение, присущая всякому анализу, ограничивается пониманием того, что глубинные психологические процессы вообще не могут быть объяснены и художественно запечатлены с рациональной четкостью[46]. Вот характерный образчик психологического повествования Достоевского, которое подробно-аналитично и в то же время не объясняет психологического мира до конца, оставляя самую глубину души неосвещенной:
«Все это его мучило, и в то же время ему было, как-то не до того. Странное дело, никто бы, может быть, не поверил этому, но о своей теперешней, немедленной судьбе он как-то слабо, рассеянно заботился. Его мучило что-то другое, гораздо более важное, чрезвычайное, – о нем же самом и ни о ком другом, но что-то другое, что-то главное. К тому же он чувствовал беспредельную нравственную усталость, хотя рассудок его в это утро работал лучше, чем во все эти последние дни».
Если представить себе подобный отрывок в системе психологизма Толстого, то за ним неизбежно последовал бы авторский комментарий, который раскрыл бы, прояснил для читателя то, что неясно самому герою, расставил бы нравственные акценты, подвел бы итог. Ничего этого у Достоевского нет. Психологический анализ не становится главной, универсальной и самой надежной формой постижения психологических состояний и процессов, он применяется во взаимодействии с другой важнейшей формой – воспроизведением эмоционального состояния в слитном, нерасчлененном виде[47]. Художественное внимание Достоевского распределяется между двумя задачами: во-первых, проанализировать сложные психологические состояния и процессы и, во-вторых, воссоздать в романе определенную психологическую атмосферу, а именно: атмосферу предельного психологического напряжения, часто страдания, душевной муки.
Для выполнения второй задачи анализ уже не подходит – применяются иные средства психологизма. В первую очередь психологическая атмосфера создается путем подбора словесных определений, характеризующих душевное состояние героя. Эпитеты, обозначающие чувства, ощущения и их телесные выражения, указывают на крайнюю степень внутренней напряженности: «ужасно странно», «в страшной тоске», «чувство бесконечного отвращения», «безобразная, соблазнительная дерзость», «неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти», «до муки заботливый взгляд», «мнительность его... уже разрослась в одно мгновение в чудовищные размеры», «это страшно опасно» и пр. При этом Достоевский повторяет синонимичные или однопорядковые слова, постоянно сгущая атмосферу душевного страдания, нагнетая психологическое напряжение. В сцене второго разговора Раскольникова с Соней внутреннее состояние участников характеризуется таким словесным рядом: «ужас и страдание», «выстрадав столько», «впечатления, становившиеся невыносимыми», «страшно тревожило», «предчувствовал страшное мучение», «внезапное обессиление и страх», «мучительное сознание своего бессилия», «страдание выразилось в лице ее», «и так мучений довольно», «испугавшись», «вскричал раздражительно», «в мучительной нерешимости», «рассеянно и в тревоге», «с беспокойством», «с отвращением», «угрюмо», «с страданием», «не выдержала и вдруг горько заплакала», «в мрачной тоске». Все эти обозначения однородных психологических примет сконцентрированы на двух с половиной страницах – плотность более чем достаточная, чтобы не только создать, но и предельно сгустить тяжелейшую психологическую атмосферу.
Далее, для воссоздания психологической атмосферы используются детали внешнего, предметного мира, тоже отобранные соответствующим образом и тоже повторяющиеся в своем эмоциональном значении, – это предметы и явления, производящие на душу героев тяжелые, неприятные, болезненные впечатления: «Он... с ненавистью посмотрел на свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко»; «Все было глухо и мертво, как камни, по которым он ступал, – для него мертво, для него одного». Даже те внешние раздражители, которые на обычного человека производят, благоприятное впечатление, болезненно действуют на возбужденную психику героя: «Солнце ярко блеснуло ему в глаза, так что больно стало глядеть, и голова его совсем закружилась»; «Но скоро и эти новые, приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие».
Через весь роман проходит определенная гамма цветов и запахов: раздражающий, угнетающий желтый цвет, в который окрашено все, начиная от стен и кончая человеческими лицами, даже вода в стакане имеет желтоватый оттенок; вонь, несущаяся из подвалов и распивочных. И погода становится средством воссоздания гнетущей психологической атмосферы. «Через весь роман, – пишет В.В. Кожинов, – пройдет атмосфера невыносимой жары, духоты, городской вони, сдавливающих героя, мутящих его сознание до обморока. Это не только атмосфера июльского города, но и атмосфера преступления»[48].
Необходимо отметить одно свойство психологизма Достоевского, во многом определившее своеобразие его стиля. Это свойство в том, что у него, пожалуй, впервые в русской литературе психологизм стал всеобъемлющей стихией повествования. При всем внимании к внутреннему миру человека у Лермонтова, Л. Толстого, Тургенева и других писателей-психологов в их произведениях все же содержится довольно большое количество фрагментов, не имеющих прямого отношения к изображению психологических процессов: различного рода описания, воспроизведение сюжетной динамики как таковой, не связанные с психологизмом авторские отступления и т.п.; эти формы в повествовании имеют относительную самостоятельность. У Достоевского же во всей структуре повествования нет буквально ни одной детали, ни одного слова, которые не работали бы на психологизм, не служили бы прямому или косвенному воспроизведению внутреннего мира. Объективная действительность в романе как бы не существует сама по себе – она пропущена через призму обостренного восприятия героя. Нарушены привычные соотношения между внешним и внутренним: бытие становится как бы порождением сознания, часто болезненного. События во внешнем мире фиксируются чрезвычайно избирательно: внезапно из их пестроты, которая проходит мимо сознания героя, занятого своими размышлениями, выхватывается лицо, случай, сцена, почему-то вдруг приковавшие внимание персонажа. Эти фрагменты внешнего мира не имеют собственной логики, иногда не имеют ни начала, ни конца, отчего приобретают впечатление призрачности: были они или только представились больному воображению?
Таков загадочный для Раскольникова «человек из-под полу», говорящий ему страшное слово «убивец», – пока Раскольников не вспоминает, кто он и откуда, этот человек кажется ему, каким-то мистическим, как будто не из этого мира. Женщина, бросившаяся в воду, появляется как «дикое и безобразное видение» Раскольникова: «Он почувствовал, что кто-то стал подле него, справа, рядом; он взглянул – и увидел женщину». Откуда и как она подошла, Раскольников, конечно, не заметил, поэтому и возникает впечатление, что не подошла, а просто возникла. Чем закончился эпизод – тоже остается неизвестным: «Народ расходился, полицейские возились еще с утопленницей, кто-то крикнул про контору... Раскольников смотрел на все с странным ощущением равнодушия и безучастия. Ему стало противно». После этого повествование уже полностью переключается на мысли и переживания Раскольникова, женщина исчезает из повествования, как будто ее и не было.
Да и в самом деле, была ли она? Ведь не было же дикой сцены на лестнице, когда Илья Петрович бил хозяйку Раскольникова, – привиделась ему эта сцена; а между тем она описана без всяких указаний на то, что это картинка, рожденная болезненным сознанием, бред, и даже начинается абзац со слов: «Он очнулся». Ведь думает же Раскольников, увидев при пробуждении у своей постели Свидригайлова: «Неужели это – продолжение сна?» Не было и описанной ярко и подробно сцены с пятилетней развратницей – и она привиделась, теперь уже Свидригайлову. Но бредовые видения и реальные картины изображены в романе одинаково достоверно, при помощи одних и тех же приемов. Достоевский часто не предупреждает читателя в начале эпизода, что все последующее – только игра воспаленного сознания, и это вызывает очень сильный художественный эффект: мы как бы переносимся сами в состояние бреда, кошмара, когда нельзя понять, реальность перед нами или картины воображения. От этого и сама реальность становится зыбкой: мы никогда почти не можем быть уверены, что изображенная Достоевским картина не окажется в конце концов только порождением болезненного сознания героя. Между сном, бредом и явью нет резкой границы, потому что эмоциональный тон у видения и реальности один и тот же – герои переходят из кошмарного сновидения в кошмарную действительность.
Сны и видения стали одной из важнейших форм психологического изображения у Достоевского[49]. Нетрудно заметить при этом, что легких или хотя бы нейтральных по настроению снов у его героев не бывает: психологические страдания не только продолжаются во сне, а даже усиливаются, потому что в бессознательном состоянии свободнее проявляется тот ужас, который носят герои в душе.
Чрезвычайно существенна функция, которую выполняют сны в системе психологического изображения: в большинстве случаев они доводят до логического конца «идею» героя, стержень его внутренней жизни, и притом в такой яркой образной форме, что заставляют героя ужаснуться своей «идее» в ее законченном виде. Так, Свидригайлову привиделась в кошмаре пятилетняя проститутка – это оказалось логическим завершением его реального сладострастия, и оно ужасает героя даже во время сна, а ведь Свидригайлов – циник и, кажется, ничему ужаснуться уже вообще не может. Так, Раскольников после своего сна о забитой лошади восклицает: «Да неужели ж, неужели ж, я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?» Бредовые сны Раскольникова в эпилоге – это квинтэссенция его «идеи», логический ее результат: «право на кровь» и всеобщее разъединение людей оказываются неразрывно связанными.
Достоевский свободно владеет всеми способами и приемами психологического анализа, даже, пожалуй, не отдавая предпочтения, какому-либо из них, а естественно применяя тот или иной в зависимости от конкретных задач. В этом смысле его психологизм, наряду с толстовским, – один из самых разработанных и художественно совершенных.
Остановимся еще на нескольких способах психологического изображения, в которых ярче всего проявилась оригинальность Достоевского-психолога.
Уже говорилось, что повествование у Достоевского сплошь пронизано психологизмом. Однако в структуру художественного текста, кроме повествования, входит у него еще прямая речь героев – диалоги и монологи, каковых необычайно много. Свидетельством того, что психологизм стал абсолютной стилевой доминантой и организующим принципом стиля, служит использование внешней речи для целей психологического изображения. По своему содержанию высказывания героев – это чаще всего психологический анализ. Так, монологи Порфирия Петровича прямо или косвенно объясняют психологические механизмы «убийства по совести»; попутно Порфирий психологически же доказывает, что этого преступления не мог совершить Миколка. Внутренние мотивы преступления дважды пытается объяснить Соне Раскольников. Прочие герои постоянно беседуют именно о внутреннем, уделяя самое минимальное внимание обсуждению даже важнейших событий. Заметим здесь, что взаимный психологический анализ не расходится с авторским, герои строят гипотезы, совпадающие в общем тоне и смысле, но расходящиеся в акцентах и нюансах, что лишний раз подчеркивает относительность знания о внутреннем мире человека, неисчерпаемую глубину его психологического мира.
Достоевский достиг чрезвычайной психологической выразительности внешней речи героев: в самом тоне и строе высказываний уже запечатлено определенное эмоциональное состояние; его воспроизведению помогают и авторские ремарки, указывающие на характер речи. Вот, например, отрывок из монолога Раскольникова во время второй встречи с Соней (его речь характеризуется сбивчивостью и в то же время упрямой сосредоточенностью на какой-то одной идее, параллельными ходами мысли, повторами, незаконченными конструкциями, восклицаниями, обращениями; она ярко изображает определенное эмоциональное состояние):
« – Нет, Соня, это не то! – начал он опять, вдруг поднимая голову, как будто внезапный поворот мыслей поразил и вновь возбудил его, – это не то! А лучше... предположи (да! этак действительно лучше!), предположи, что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну... и, пожалуй, еще наклонен к сумасг шествию. (Уж пусть все зараз!..) Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог?.. Да я озлился и не захотел. Именно озлился (это слово хорошее!). Я тогда, как паук, в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела... О, как я ненавидел эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел. Нарочно не хотел!.. Я лучше любил лежать и думать. И все думал... И все такие у меня были сны, странные, разные сны, нечего говорить, какие! Но только тогда начало мне тоже мерещиться, что... Нет, это не так! Я опять не так рассказываю!»
Монолог с двух сторон обрамлен авторским комментарием, указывающим на то, в каком состоянии он произносится: «Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка бродила на его губах. Сквозь возбужденное состояние духа уже проглядывало страшное бессилие. Соня поняла, как он мучается... И странно он так говорил: как будто и понятно что-то, но...» Это перед монологом, а вот после: «Раскольников, говоря это, хоть и смотрел на Соню, но уже не заботился более: поймет она или нет. Лихорадка вполне охватила его. Он был в каком-то мрачном восторге».
Одно лишь авторское описание неспособно было бы точно обозначить это внутреннее состояние, очень сложное, сочетающее в себе «мрачный восторг», экзальтацию, страшную усталость, стремление объяснить Соне и понять самому, осознание неточности собственных объяснений и т.п. Особенности речи как бы погружают читателя в психологическое состояние героя; темп и ритм монолога становятся сильнейшими средствами психологического изображения, потому что рисуют эмоциональное состояние непосредственно, не аналитически.
Таким образом, не только повествовательная речь, но и вся речевая структура «Преступления и наказания» проникнута психологизмом. Это делает возможными взаимопроникновения и взаимопереходы разных форм речи – внутренней, внешней, повествовательной. Обычно писатель ведет психологическое повествование в форме несобственно-прямой речи, в которую незаметно включаются формы внешнего и внутреннего монолога:
«И вдруг Раскольникову ясно припомнилась вся сцена третьего дня под воротами; он сообразил, что, кроме дворников, там стояло тогда еще несколько человек... Так вот, стало быть, чем разрешился весь этот вчерашний ужас. Всего ужаснее было подумать, что он действительно чуть не погиб, чуть не погубил себя из-за такого ничтожного обстоятельства. Стало быть, кроме найма квартиры и разговоров о крови, этот человек ничего не может рассказать. Стало быть, и у Порфирия тоже нет ничего, ничего, кроме этого бреда, никаких фактов, кроме психологии, которая о двух концах, ничего положительного. Стало быть, если не явится никаких больше фактов (а они не должны уже более являться, не должны, не должны!), то... то что же могут с ним сделать? Чем же могут его обличить окончательно, хоть и арестуют? И, стало быть, Порфирий только теперь, только сейчас узнал о квартире, а до сих пор и не знал».
Первые две фразы отрывка – типичное психологическое повествование от третьего лица, а затем начинается постепенный и незаметный переход этой формы во внутренний монолог, только не зафиксированный кавычками, а поданный в виде несобственно-прямой речи. Сначала возникают слова, характерные для мышления героя, а не повествователя, – они выделены курсивом самим Достоевским. Затем имитируются структурные речевые особенности внутреннего монолога: двойной ход мыслей (обозначенный скобками), отрывочность, паузы, риторические вопросы – все это свойственно внутренней речи вообще, и Раскольникову в частности. Наконец, фраза в скобках – это прямое обращение героя к самому себе, внутренний приказ, здесь образ повествователя уже полностью «растаял». И далее, непонятно почему Раскольников называется в третьем лице: то ли так его называет повествователь, что естественно, то ли сам Раскольников говорит о себе «он», «ему», что тоже нередко во внутренней речи такого типа. Форма несобственно-прямой речи, помимо того что разнообразит повествование, делает его психологически более насыщенным и напряженным – вся речевая ткань произведения оказывается пропитанной внутренним словом героя. Что же касается внешней речи, которая произносится в одиночестве, без слушателей, то она практически равна внутренней – герои обычно сами не замечают, как начинают мыслить вслух. «Вы выходите из дому – еще держите голову прямо, – говорит Свидригайлов Раскольникову. – С двадцати шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, очевидно, ничего ни пред собою, ни по бокам уже не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой, причем иногда высвобождаете руку и декламируете».
Иногда даже наличие реальных активных собеседников не препятствует Раскольникову говорить вслух с самим собой: так происходит в наиболее напряженные моменты диалогов с Сонечкой, Порфирием, Разумихиным. Из этого ясно, что вся речевая ткань романа Достоевского исключительно психологична.
Очень оригинальны в произведениях Достоевского соотношения психологизма с сюжетностью. Интенсивный психологизм обычно в той или иной степени ослабляет сюжетность, переключая интерес с «подробностей событий на подробности чувства», по выражению Толстого. Однако у Достоевского сюжетность и психологизм в иных отношениях. Сюжет не ослабляется, но полностью подчиняется целям и задачам психологического изображения. Как бы ни были значительны события романа сами по себе, они приобретают смысл и интерес только в психологическом истолковании и наполнении. Поэтому крупные и мелкие события часто, могут уравновешиваться в сознании героя, а тем самым и в композиционной структуре – все зависит от того, какая субъективная важность придается событию, какой психологический подтекст за ним угадывается или подозревается. Так, появление мещанина, назвавшего Раскольникова убийцей, производит на того впечатление сродни впечатлению собственно от убийства; на протяжении довольно длительного времени это событие чрезвычайно занимает и Раскольникова и читателя, а в конечном счете оказывается пустяком, случайностью (с точки зрения сюжета, разумеется). И наоборот, событие, которое могло оказать решающее влияние на судьбу героев, оказывается вовсе не важным, вообще выпадает из их размышлений, а следовательно, и из композиции – так происходит, например, когда Свидригайлов подслушивает разговор Раскольникова с Соней. Раскольников просто выбрасывает это обстоятельство из головы, а ведь, казалось бы, Свидригайлов со своим «фактом» для него куда опаснее, чем тот мещанин с «психологией».
В этих условиях сюжет может строиться сколь угодно динамично и интригующе – он уже не перемещает на себя «центр тяжести» читательского внимания. Получается даже наоборот: сюжеты Достоевского чрезвычайно напряженны, остры, заключают в себе множество внезапных поворотов, – но именно это и усиливает интерес к психологической стороне дела. Острый и динамичный сюжет ставит героев в экстремальные ситуации и тем самым провоцирует их на крайние, поступки и высказывания, до предела обостряет внутреннюю напряженность, заставляет мысль работать интенсивнее, все время подбрасывает герою новые, поражающие его сознание и психику факты и впечатления (так, психологическое напряжение Раскольникова усиливается неожиданным письмом матери, внезапным приездом Свидригайлова, историей семьи Мармеладовых, различными ходами в «игре» Порфирия и т.п.). Немаловажно и то, что крутые сюжетные повороты в романе провоцируют идейно и психологически насыщенные диалоги, исповеди, рефлексию и другие формы психологической речевой активности.
Еще одной своеобразной формой психологического изображения стало у Достоевского использование портретных деталей, причем и здесь, как всегда, он весьма оригинален. Если, по известному выражению, «глаза – это зеркало души», то у Достоевского таким зеркалом гораздо чаще становятся губы – их мимические движения у героев гораздо выразительнее. Любимое мимическое движение – улыбка, усмешка, причем каждый раз иная, соответствующая психологическому состоянию. В эпитетах, проясняющих внутренний смысл этой внешней детали, Достоевский просто неистощим: «подумал со странной улыбкой», «странно усмехаясь», «ядовито улыбнулся», «какое-то новое раздражительное нетерпение проглядывало в этой усмешке», «насмешливая улыбка искривила его губы», «холодно усмехнулся», «прибавил он с осторожною улыбкой», «скривив рот в улыбку», «задумчиво улыбнулся», «напряженно усмехнулся», «неловко усмехнулся», «с нахально-вызывающей усмешкой», «горькая усмешка», «неопределенно улыбаясь», «скривя рот в двусмысленную улыбку», «язвительно улыбнулся», «язвительно и высокомерно улыбнулся», «слабо улыбнулась», «с жесткой усмешкой», «что-то бессильное и недоконченное сказалось в его бледной улыбке», «с грустной улыбкой», «почти надменная улыбка выдавилась на губах его», «злобно усмехнулся», «улыбка его была уже кроткая и грустная», «странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния», «безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его устах»...
Трудно сказать, чему удивляешься больше: тому ли, какое разнообразнейшее содержание может выражать всего лишь одна портретная черта, или же тому, насколько нерадостны все эти улыбки, насколько не соответствуют естественному, первичному смыслу этого мимического движения.
Наконец, отметим еще одну оригинальную форму психологического изображения, которая получила широкое распространение у Достоевского. Как уже отмечалось, психологическая атмосфера в повествовании настолько сгущенна и напряженна, а внимание читателя к внутреннему миру героев настолько прочно, что это дает возможность писателю применять прием полного или частичного умолчания о душевном состоянии героя, – как, например, в следующем случае:
«С минуту они смотрели друг на друга молча. Разумихин всю жизнь помнил эту минуту. Горевший и пристальный взгляд Раскольникова как будто усиливался с каждым мгновением, проницал в его душу, в сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное как будто прошло между ними... Какая-то идея проскользнула, как будто намек; что-то ужасное, безобразное и вдруг понятное с обеих сторон... Разумихин побледнел как мертвец».
Здесь даны лишь самые общие и неопределенные указания на содержание психологических процессов: несколько обычных для Достоевского в таких случаях неопределенных местоимений сконцентрированы в трех строчках. А между тем, несмотря на абстрактность и неопределенность психологических обозначений, эта сцена – одна из выразительнейших в романе. Достоевский не договаривает, умалчивает о самом главном – что «прошло между ними»: то, что внезапно Разумихин понял, что Раскольников убийца, и Раскольников понял, что Разумихин это понял.
Понять-то Разумихин понял, но не хочет он понимать этого, сознательно или подсознательно уходит от ясного понимания. Ну, а что в это мгновение чувствовал Раскольников, – можно, очевидно, только догадываться. Прием умолчания применяется Достоевским именно в такие моменты, когда выявляются самые глубокие пласты психики и внутреннее состояние становится настолько противоречивым, сложным и смутным, что не поддается иным формам изображения. Умолчание намекает на неисчерпаемую душевную глубину, тем самым еще более усиливая психологическое напряжение.
Главные черты уникального психологического стиля Достоевского – предельная сосредоточенность на сложнейших, глубинных пластах внутреннего мира человека, умение захватить читателя изображением напряженнейших душевных состояний, художественное освоение «двух бездн» в душе человека.
РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ А.П. Чехова
А.П. Чехов, создавший, по выражению Л.Н. Толстого, «новые для всего мира формы письма», был смелым новатором и в области психологизма. Заслуга Чехова здесь тем более велика, что он пришел в литературу после таких крупнейших, всемирно признанных знатоков человеческой души, как Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский. Если перефразировать известное выражение М. Горького, можно сказать, что Толстой и Достоевский «убивали психологизм»: идти по их пути в постижении и изображении внутреннего мира было уже практически невозможно, ибо в их творчестве психологический анализ, безусловно, достиг своего расцвета. Чехову приходилось искать новые дороги, создавать новые приемы и принципы художественного освоения внутреннего мира человека.
Новаторство Чехова в области психологизма во многом обусловлено выбором особого героя для изображения, а также своеобразным подходом Чехова к этому герою. В отличие от большинства своих предшественников Чехов сосредоточил внимание на идейно-нравственном состоянии и внутреннем развитии обыкновенных людей, а не исключительных личностей. Его в первую очередь интересует духовное, нравственное развитие такого человека, который в силу тех или иных причин весь погружен в поток повседневной материальной жизни, для которого обращение с обиходными предметами и вещами привычнее, чем операции с абстрактно-философскими понятиями и категориями. Одним словом, Чехов художественно исследовал, осмыслял внутреннее нравственное движение так называемого обыденного сознания.
В 1889 году Чехов предлагал А.С. Суворину: «Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, – напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая». Многие из рассказов и повестей зрелого Чехова и представляют собой реализацию этого замысла, воплощенного в разных вариантах, в разных человеческих судьбах.
Процесс пробуждения обыденного сознания представляет собой основной проблемный стержень зрелого творчества Чехова. Но писатель не мог обойти вниманием и обратный процесс, также характерный для «среднего» человека, для развития обыденного сознания. Постепенная утрата человеком естественных человеческих ценностей, подчинение себя «силе и лжи», потеря эмоциональной чуткости, переход к духовно ограниченной, сытой и довольной жизни – этот процесс постепенной духовной и нравственной деградации Чехов также изображал и осмыслял «изнутри», раскрывая психологические механизмы, превращающие в конце концов человека в раба («Ионыч», «Крыжовник»).
Одной из важных особенностей идейно-нравственного развития личности в чеховском изображении было то, что развитие это совершалось не целенаправленно, сознательно и последовательно, а как это обычно и бывает в повседневной жизни «рядового» человека – как будто бы случайно, стихийно; непосредственными поводами для него служили отдельные, не связанные между собой и часто малозначительные бытовые факты. Решающая роль в этом процессе принадлежала не рациональной, а эмоциональной сфере, не мыслям, а переживаниям, иногда даже – смутным, неосознанным или полуосознанным настроениям. Личность нравственно менялась не столько через активную работу мысли, сколько через накопление однопорядковых настроений и переживаний.
Так, нравственный перелом в сознании Никитина («Учитель словесности») начинается с дурного настроения по неизвестной причине: то ли из-за пустякового карточного проигрыша, то ли из-за замечания партнера, что «у Никитина денег куры не клюют», то ли вообще «просто так»: «Двенадцати рублей было не жалко, и слова партнера не содержали в себе ничего обидного, но все-таки было неприятно». До этого же вообще все было хорошо, если не считать тяжелого чувства в день похорон Ипполита Ипполитовича да постоянного раздражения против кошек и собак, которых Никитин «получил в приданое». Потом Никитин начинает размышлять, почему же ему все-таки неприятно, но так ничего и не может придумать, а только понимает, что «эти рассуждения уже сами по себе – дурной знак». А дома у Никитина возникает раздражение против белого кота в спальне, потом – неожиданно – против любимой Манюси; потом – снова мысли о себе, о своей бездарности и о том, что он живет не так, как надо; новые мысли «пугали Никитина, он отказывался от них, называл их глупыми и верил, что все это от нервов, что сам же он будет смеяться над собой...». И на следующий день он действительно смеется над собой, но уверенности нет в этом смехе. Все, что он наблюдает (все те же мелочи повседневной жизни, незначительные сами по себе и, в общем-то, случайные), подкрепляет и усиливает его новое психологическое состояние: неудовлетворенность собой и окружающими, стремление бежать в какой-то иной мир. Это уже «новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем». Нравственный перелом произошел, но причиной его стали не значительные события в жизни героя, а поток бытовой повседневности.
Одна за другой угнетают «мелочи» и Рагина из «Палаты № 6», доводя его в конце концов до психического срыва; постоянно и по разным поводам чувствует тоску, неудовлетворенность и раздражение Гуров («Дама с собачкой»); тяжелые, грустные настроения накапливаются в душе преосвященного Петра («Архиерей»). Везде решающую роль играют переживания и эмоциональные состояния, а размышления – это момент вторичный, не столь важный, хотя и необходимый. Существенны, как правило, не мысли, которые обычно смутны, незаконченны, часто «не ухватывают» главного и ничего толком не проясняют, – важен в первую очередь сам факт появления этих мыслей (как у Никитина: он понимал, что уже сами по себе эти рассуждения – дурной знак) и их эмоциональная окрашенность.
В этих условиях главное внимание в изображении внутреннего мира естественно переключалось на воссоздание смутных, не всегда осознанных душевных движений малой силы и интенсивности, отдельных настроений, постепенного накопления впечатлений – словом, на наиболее скрытые и труднее всего поддающиеся художественному воспроизведению и анализу пласты внутренней жизни. Важными и подлежащими изображению становились не столько отдельные психологические состояния, сколько общий эмоциональный тон, который их пронизывает. Как правило, это ощущения тоски, смутного беспокойства, неудовлетворенности, иногда страха, дурных предчувствий и т.п.; иногда наоборот – возбуждение, стремление к лучшему, предчувствие положительных перемен. Этот тон и составляет подводное течение чеховских рассказов, он существует в подтексте и составляет «базу» внутренней жизни героя, над которой уже надстраиваются отдельные мысли и переживания по разным конкретным поводам.
Воссоздание такого внутреннего мира требовало, естественно, особых принципов и приемов психологического изображения.
Кратко особенность чеховского психологизма можно выразить так: это психологизм скрытый, косвенный, психологизм подтекста. Способы и приемы психологического изображения у Чехова во многом отличаются от тех, которые мы наблюдали у его предшественников.
Начнем с того, что в рассказах и повестях Чехова внимание к процессам внутренней жизни никогда не заостряется и не подчеркивается в той степени, как у Лермонтова, Толстого, Достоевского. Внутренние монологи персонажей, занимающие целые страницы, – явление в прозе Чехова чрезвычайно редкое. О душевных движениях повествуется на равных правах с внешними событиями, а иногда и вообще как бы между прочим, мимоходом. Так, в третьей главе рассказа «Именины» изображение чувств и мыслей Ольги Михайловны занимает в целом очень небольшой объем текста – психологическое изображение «вкраплено» в обстоятельное повествование о подробностях лодочной прогулки, пикника, возвращения домой и т.д. Мысли героини все время отвлекаются на разные детали и происшествия. Оставшись на короткое время одна, она начинает думать: «Господи, Боже мой, – шептала она, – к чему эта каторжная работа? К чему эти люди толкутся здесь и делают вид, что им весело? К чему я улыбаюсь и лгу? Не понимаю, не понимаю!»
В художественной системе Толстого или Достоевского эти слова скорее всего стали бы началом большого внутреннего монолога, который герой довел бы до логического или эмоционального конца. У чеховского персонажа на это «нет времени»: «Послышались шаги и голоса. Это вернулись гости».
Композиция эпизодов всегда выдержана Чеховым так, что если до прихода гостей осталось, положим, три минуты, то читателю будет рассказано только о тех чувствах и мыслях, которые реально можно пережить именно в эти три минуты, не больше. Подробной детализации внутренних движений при этом, естественно, нет, но ведущий эмоциональный тон уже воссоздан, причем очень ненавязчиво и незаметно.
Чехов не стремится сконцентрировать все штрихи, так или иначе характеризующие внутренний мир персонажа в данный момент, в относительно законченном фрагменте текста, – наоборот, «разбрасывает» их по тексту, постоянно перемежая собственно психологическое изображение деталями сюжета и предметного мира. Психологическое состояние персонажа, складываясь из этих штрихов, выясняется постепенно и незаметно для читателя, у которого не остается впечатления пристального авторского внимания к внутреннему миру героя.
Так, в рассказе «Случай из практики» изображение душевного состояния главного героя Ковалева и его ночных размышлений начинается с короткого замечания о том, что ему «не хотелось спать, было душно и в комнате пахло краской». Затем следует описание фабрики, бараков, складов и сказано, что в одном из бараков багрово светились два окна. Потом следуют размышления Ковалева о рабочих и хозяевах, о бессмысленности положения и тех и других. Эти размышления прерываются «странными звуками» – сторожа бьют одиннадцать. Дальше следует фраза, которая формально не принадлежит Ковалеву, но, по существу, характеризует, конечно, его внутренний мир: «И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал тех и других». Ковалев выходит со двора в поле:
« – Кто идет? – окликнули его у ворот грубым голосом. "Точно в остроге...", – подумал он и ничего не ответил».
Здесь психологическое изображение вновь прерывается описанием майской ночи, за которым следуют опять размышления Ковалева, поданные в форме несобственно-прямой речи и прерванные в самом конце краткой пейзажной зарисовкой, которая плавно переходит в продолжение размышлений:
«Между тем восток становился все бледнее, время шло быстро. Пять корпусов и трубы на сером фоне рассвета, когда кругом не было ни души, точно вымерло все, имели особенный вид, не такой, как днем; совсем вышло из памяти, что тут внутри паровые двигатели, электричество, телефоны, но как-то все думалось о свайных постройках, о каменном веке, чувствовалось присутствие грубой, бессознательной силы...»
Только к этому моменту картина психологического состояния героя обретает четкость, его настроение становится ясным для читателя. К постепенно сложившемуся впечатлению остается добавить один-два штриха: снова сторожа отбивают время, и Ковалев думает: «Ужасно неприятно!» И, наконец: «Ковалев посидел еще немного и вернулся в дом, но долго еще не ложился». В этой фразе психологического изображения как такового нет, но за умолчанием мы легко читаем настроение героя.
Таким образом, общий психологический тон, общее настроение героя складываются здесь из ряда фрагментов, которые даны вперемешку с непсихологическими деталями и картинами; каждый из фрагментов сам по себе неполон, не исчерпывает душевного состояния и достаточно краток.
Чехов использует одновременно разные формы психологического изображения. Так, в приведенном выше отрывке использован внутренний монолог, несобственно-прямая речь, авторское психологическое сообщение, психологическая деталь-впечатление, прием умолчания. У всех этих форм одна и та же задача – воссоздать психологическое состояние героя, – но внешне они весьма несхожи и поэтому на первый взгляд даже не связываются друг с другом, не осознаются как части единого целого. Такой прием разбивает впечатление авторской сосредоточенности исключительно на изображении внутреннего мира, нарушает некоторую монотонность длительного и непрерывного психологического анализа.
Чеховское психологическое повествование не нарочито, и картина душевного состояния персонажа возникает в сознании читателя как бы сама собой, без целенаправленных усилий автора.
Еще одна важная черта чеховского психологизма: он не детализирует внутренний мир героев, т.е. не стремится последовательно описать и разъяснить каждое душевное движение, каждый элемент внутренней жизни. Чехов старается найти и художественно воссоздать основу, доминанту внутренней жизни героя, передать ведущий эмоциональный тон, психологический настрой персонажа, воспроизвести внутренний мир не аналитически, а синтетически. Он как бы минует стадию расчленения психики на составляющие, сразу воссоздавая ее во всей целостности. Вот как, например, это делается: «Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова» («Попрыгунья»), Или вот еще: в рассказе «Ионыч» герой, разговаривая с Катериной Ивановной, в которую когда-то был влюблен, испытывает поначалу приподнятое настроение, но вдруг вспоминает про деньги, которые получает от пациентов, – «и огонек в его душе погас». Метафора раскрывает самую суть психологического состояния.
Внимание сосредоточено на сердцевине переживания, а не на нюансах и подробностях душевных движений; психологическое состояние схвачено разом, мгновенно, одной деталью. В этом вообще одна из главных особенностей чеховского психологизма (как, впрочем, и поэтики в целом): психологическое повествование необычайно концентрировано, сжато, избегает развернутого описания внутреннего мира, наглядного установления причинно-следственных и ассоциативных связей между мыслями, эмоциями, впечатлениями и т.п., словом, той самой «диалектики души», которая составляла главную особенность его ближайшего предшественника – Толстого.
Это специфическое качество чеховского психологизма находится в теснейшей связи с преобладанием в его творчестве малой повествовательной формы – рассказа и повести, для которых необходима максимальная емкость каждого элемента стиля, в том числе и элементов психологического изображения.
Интересно, что многое в сфере человеческой психики у Чехова остается необъясненным: «Настроение переменилось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это робкое, почтительное выражение лица и голоса, зачем оно, и не узнавал ее. Стало грустно, досадно» («Архиерей»); «Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу» («У знакомых); «От усталости сами закрывались глаза, но почему-то не спалось; казалось, что мешает уличный шум» («Архиерей»); «Эти слова, такие обыкновенные, почему-то вдруг возмутили Гурова» («Дама с собачкой»).
Чехов, конечно, легко мог бы объяснить то, что непонятно герою, художественно вскрыть его подсознание и тем самым снять все эти «почему-то». Но у писателя другие цели. Ему важно зафиксировать внутреннее состояние героя, отметить, что какие-то процессы в его душе идут и что он сам их не понимает и не может объяснить. Важно именно то, что герой сам не понимает своего эмоционального состояния, важно потому, что это симптом общего эмоционального тона и подспудной, очень смутной внутренней работы, неустойчивых пока изменений, не приведших еще к определенному результату душевных движений.
Поэтому Чехов руководствуется особыми художественными принципами: он предпочитает сделать психологическое явление понятным из самого его изображения, ничего дополнительно не объясняя. Он не стремится сделать смутное четким, выразить невыразимое, но воспроизводит это смутное и невыразимое с таким мастерством, что читатель невольно проникается эмоциональным состоянием персонажа, чувствует его без всяких объяснений.
Такой подход к внутреннему миру позволил Чехову достичь исключительного совершенства в художественном изображении эмоциональных состояний человека.
Легко представить себе, что после Толстого и Достоевского, с их смелым психологизмом, прямо и открыто вторгавшимся в самые сокровенные глубины человеческой психики, обращение Чехова к скрытому психологизму, к формам косвенного воспроизведения внутреннего мира таило в себе опасность утратить глубину и полноту проникновения в душевную жизнь, тонкость и точность в изображении душевных движений. Однако Чехову удалось счастливо избежать этой опасности и создать психологизм, не уступающий по познавательной значимости и художественному совершенству психологизму предшественников.
За счет чего же удается Чехову достичь глубины и тонкости психологического изображения и сочетать эти качества с экономностью и ненавязчивостью своего психологизма? По-видимому, прежде всего за счет активного обращения к читательскому сопереживанию, сотворчеству. В чеховской художественной системе особая авторская и читательская позиция по отношению к персонажу. Чехов стремится к тому, чтобы читатель невольно поставил себя на место персонажа, отчасти даже отождествил себя с ним, почувствовал себя в той психологической ситуации, в которой оказался персонаж в рассказе.
«Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам» (Суворину, 1 апреля 1890 г.). Чехов написал это, объясняя специфику выражения авторской позиции в своих рассказах, но не подлежит сомнению, что сфера действия этого принципа гораздо шире: он выступает как один из важнейших и определяющих моментов во всей поэтике Чехова[50]. Действует он и в сфере психологизма. Чехов активно подключает ассоциации, воспоминания, впечатления – словом, весь читательский опыт для создания психологического образа.
Вот, скажем, пример из повести «Мужики»: «Николай, который не спал всю ночь, слез с печи. Он достал из зеленого сундучка свой фрак, надел его и, подойдя к окну, погладил рукава, подержался за фалдочки – и улыбнулся. Потом осторожно снял фрак, спрятал в сундук и опять лег».
Скрытность и неакцентированность чеховского психологизма не помешали здесь писателю изобразить довольно сложный комплекс эмоций. Психологическое изображение получилось необычайно емким: в нем сосредоточены и воспоминания Николая о жизни в Москве, и грусть, и сожаление, и мысль о том, что его жизнь уже кончилась, и еще множество других оттенков. Но все это присутствует в отрывке не прямо, а в подтексте, душевное состояние героя изображено при помощи скрытых форм психологизма. Читатель, активно сопереживая герою, получает художественной информации о его внутреннем мире больше, чем ее формально содержится в тексте; видя только отдельные штрихи, он может по ним дорисовать всю картину в своем воображении. Чеховское психологическое повествование перспективно, оно не ставит все точки над «i», а позволяет читателю идти в глубину этой перспективы, не сковывая его воображения, а лишь направляя его. В то же время основной психологический тон ситуации задан достаточно четко; общее эмоциональное состояние Чеховым обозначено так, что возможность того, что читатель «пойдет не в ту сторону», ошибется, «подбавляя недостающее», практически исключена. При этом читателю вовсе не надо прикладывать какие-то особые усилия, для того чтобы проникнуться настроением персонажа, – это получается как бы само собой, а вернее, с помощью особой системы «вех», намеков, которые заставляют невольно проникнуться нужным настроением. Чехов удивительно умеет насыщать произведение определенным эмоциональным тоном, так что читателя неизбежно охватывает совершенно определенное настроение, которое как будто даже и не принадлежит исключительно персонажу, а разлито в тексте, пропитывает его.
Эффект сопереживания и сотворчества в прозе Чехова достигается с помощью ряда художественных приемов. Система элементов его стиля организована таким образом, что стимулирует читательскую активность, намечая лишь основные контуры психологического состояния, а в остальном вполне полагаясь на читателя.
Одной из таких форм является несобственно-прямая внутренняя речь, во многом потеснившая ту форму внутреннего монолога, которая была характерна для предшественников Чехова и получила наиболее совершенное воплощение в творчестве Л. Толстого. Приведем пример несобственно-прямой внутренней речи и посмотрим, какими художественными особенностями и преимуществами она обладает:
«Ей казалось, что в городе все давно уже состарилось, отжило и все только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего. О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет! Ведь будет же время, когда от бабушкина дома... не останется и следа, и о нем забудут, никто не будет помнить» («Невеста»).
Вся гамма оттенков эмоционального состояния передана исключительно отчетливо, ощутимо, но не прямо, а через обращение к сопереживанию читателя. Мысли героя даны нам непосредственно, ощущение же его эмоционального состояния – скрыто, в подтексте, и реализация этого подтекста в читательском сознании становится возможной именно благодаря несобственно-прямой внутренней речи.
Внутренний монолог в его традиционной форме (объективная передача внутренней речи, субъект которой – только персонаж и никто другой) несколько отдаляет автора и читателя от персонажа, или, может быть, точнее: он нейтрален в этом отношении, не предполагает какой-то определенной авторской и читательской позиции, и читатель вполне может рассматривать изображение внутреннего мира несколько со стороны, не проникаясь душевным состоянием персонажа. При этом авторский комментарий к внутреннему монологу четко отделен от самого монолога, автор знает больше, анализирует внутреннее состояние точнее, чем сам герой. Таким образом, позиция автора довольно резко обособлена от позиции персонажа, так что здесь не может быть речи о том, чтобы индивидуальности автора (и соответственно читателя) и героя совмещались. Чеховская же несобственно-прямая внутренняя речь, у которой как бы двойное авторство – повествователя и героя, – наоборот, активно способствует возникновению того авторского и читательского сопереживания герою, которое лежит в основе чеховского психологизма. Мысли и переживания героя, автора и читателя как бы сливаются, в значительной мере их уже невозможно отделить друг от друга, и, таким образом, внутренний мир персонажа становится для нас близким и понятным. Психологизм здесь действует незаметно, но тем не менее полностью достигает своей цели.
Одним из наиболее действенных способов вызвать читательское сопереживание и сотворчество является использование деталей-намеков, своего рода вех, которые помогают читателю «подбавить недостающее» в соответствии с авторским замыслом. Такого рода детали – незаменимый прием для создания в произведении определенной атмосферы, настроения, эмоционального тона. Вот пример из рассказа «У знакомых»: «Он... вдруг вспомнил, что ничего не может сделать для этих людей, решительно ничего, и притих, как виноватый. И потом сидел в углу молча, поджимая ноги, обутые в чужие туфли» (курсив мой – А.Е.).
В начале рассказа эти самые туфли были просто «старые домашние туфли» хозяина, герой чувствовал себя в них очень удобно и уютно, а вот теперь – «чужие». Психологическое состояние героя, перелом в настроении практически исчерпывающе переданы одним-единственным словом – пример редкой выразительности художественной детали.
Близко к описанному приему и использование Чеховым художественной детали в психологическом пейзаже. Если кратко охарактеризовать главную особенность его пейзажа, то можно сказать, что психологическое состояние персонажей не прямо воссоздается, а «приписывается» нейтральным самим по себе картинам природы: «Над садом светил полумесяц, и на земле из высокой травы, слабо освещенной этим полумесяцем, тянулись сонные тюльпаны и ирисы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви». Так воссоздано в рассказе «Учитель словесности» счастливое состояние Никитина и Манюси. Душевный настрой героев привносит в картины природы тот смысл, которого в них объективно нет. Этот способ психологического изображения не только позволяет воспроизвести психологическое состояние косвенно, довольно тонко и в то же время художественно экономно, но и дает широкие возможности для того, чтобы создать определенную психологическую атмосферу, помочь читательскому сотворчеству.
Детали «мира вещей» чаше всего используются Чеховым как форма психологического изображения самым простым и естественным способом: в повествовании подчеркнуто, что детали предметного мира даны в субъективном восприятии героев. Эту особенность чеховского стиля Г.Н. Поспелов называет «двойной функцией предметных деталей»: с одной стороны, детали характеризуют бытовую среду, внешний мир, окружающий героя, с другой – становятся приемом психологического изображения. «В своем повествовании писатель раскрывает процесс переживаний своих персонажей не только в его собственно психологическом содержании, но очень часто и в его связи с различными подробностями жизни, с которой они сталкиваются.
жПри этом он обращает преимущественное внимание на те впечатления, которые его герои получают от окружающей их среды, от бытовой обстановки их собственной и чужой жизни, и изображает эти впечатления как симптомы тех изменений, которые происходят в сознании героев»[51].
Любопытно отметить один повторяющийся прием в чеховском изображении тех впечатлений, которые герои получают от окружающей среды. Часто восприятие персонажем той или иной детали, реакция на тот или иной факт действительности внешне как будто не соответствуют самому явлению, кажутся нелогичными и немотивированными самому герою, как, например, в неоднократно цитировавшемся многими исследователями эпизоде из «Дамы с собачкой» – об «осетрине с душком».
Впрочем, восприятие детали предметного мира используется Чеховым для воссоздания не одних только отрицательных эмоций по поводу грубости и пошлости жизни. Не менее важно для него умение героя видеть в деталях обыденного «красоту и правду». Обостренное восприятие как негативных, так и поэтических сторон жизни – это две грани одного и того же качества, которое Чехов очень ценит в своих героях: большой эмоциональной чуткости, способности живо и остро реагировать на действительность. Поэтому мы нередко встречаем у его героев и такое, например, восприятие вещей обыкновенных:
«Дома он увидел на стуле зонтик, забытый Юлией Сергеевной, схватил его и жадно поцеловал. Зонтик был шелковый, уже не новый, перехваченный старою резинкой; ручка была из простой, белой кости, дешевая. Лаптев раскрыл его над собой, и ему показалось, что около него даже пахнет счастьем» («Три года»).
Важнейшую роль в системе чеховского психологизма играют формы замаскированного психологического изображения, когда формально о внутреннем мире человека как будто вообще ничего не сообщается, а на самом деле происходит скрытое воссоздание настроения, эмоционального состояния путем активного подключения читательского сотворчества.
Так, например, в повести «Новая дача» сцена драки отца и сына Лычковых дана как будто бы чисто объективно, вне чьего-либо восприятия. Но на эту сцену смотрит инженер с семьей, и мы не можем не представить себе того впечатления, которое производит драка на инженера, на Елену Ивановну и их дочь. А чтобы читатель «не забыл» наполнить эту сцену психологическим содержанием, Чехов направляет его восприятие, в следующем же абзаце переключая внимание с Лычковых на семью инженера: «На другой день утром Елена Ивановна уехала с детьми в Москву. И пошел слух, что инженер продает свою усадьбу...» Очевидно, тяжелое впечатление от этой дикой, бессмысленной сцены оказалось последней каплей; настроение тоски и безнадежности окончательно захватывает героев и делает невозможной их дальнейшую жизнь в усадьбе.
Таким образом, один из ключевых моментов в психологическом движении характеров читатель должен полностью домыслить самостоятельно. Это становится возможным благодаря тому, что читателю известны предшествующие переживания героев, постепенные изменения в их настроениях. Да и впечатление, произведенное дракой Лычковых на этих мягких и интеллигентных людей, нетрудно себе представить – в сущности не может быть вариантов в эмоциональной окрашенности их мыслей и переживаний.
Другой пример – из рассказа «Невеста»: «В саду было тихо, прохладно, и темные, покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная и прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого грешного человека. И хотелось почему-то плакать».
Формально эти впечатления «ничьи», но по существу они, конечно, характеризуют внутренний мир Нади. Благодаря этому в образ героини входят все те детали, которые поначалу кажутся чисто внешними. В то же время в изображении отчетливо ощущается и авторская субъективность. Таким образом, возникает специфическая форма психологизма, во многом схожая с несобственно-прямой внутренней речью; по аналогии ее можно было бы назвать «несобственно-прямым переживанием». Это переживание или впечатление также имеет двойное авторство – повествователя и героя.
В систему чеховского психологизма органически вошла и такая своеобразная форма изображения, как умолчание о процессах внутреннего мира. Чаще всего она применяется Чеховым в кульминационные моменты повествования, для описания наиболее острых, напряженных душевных состояний. Вот как описывается, например, трагическое событие в рассказе «В овраге»: «Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора. После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве, и не верилось, что небольшое, слабое существо, как Липа, может кричать так». Чехов изображает потрясение Липы очень скупо, осторожно, как бы стесняясь или сомневаясь в том, возможно ли вообще передать подобное состояние, а если возможно, то позволительно ли его анализировать. И в то же время он «вполне рассчитывает на читателя» и поэтому может ничего не прибавлять, к сказанному, не давать собственно психологического изображения: читатель уже почувствовал психологическое состояние Липы сам, проникся им.
В использовании приема умолчания принцип чеховского психологизма – расчет на читательское сотворчество – проявляется наиболее отчетливо. Причем надо заметить, что мы представляем себе не стереотипное переживание, а чувства именно данного персонажа. В приведенном примере этому способствует, во-первых, то, что мы уже хорошо знаем характер Липы по предыдущим событиям, а во-вторых, единственная названная Чеховым деталь – как всегда, максимально выразительная: «...не верилось, что небольшое, слабое существо, как Липа, может кричать так».
Чрезвычайно своеобразно используется Чеховым изображение внутренних процессов через их внешние проявления – мимику, телодвижения, речь и пр. Внешнее выражение у героев Чехова почти всегда не совпадает с внутренним состоянием, иногда парадоксально ему не соответствует: «...герой говорит о постороннем, чтобы отвлечь себя и других, или молчит, или... свистит, как Астров в "Дяде Ване"»[52] – и все это в момент сложного, иногда тяжелого переживания. Вероятно, это происходит потому, что основа психологического мира героев – настроение, эмоциональный тон, тонкие душевные движения, на которые Чехов обращает главное внимание, вообще с трудом поддаются внешнему выражению, не находят соответствующей формы, а если находят – то не вполне точную.
Так, например, беспричинное, казалось бы, раздражение Анны Акимовны («Бабье царство»), истеричность Веры Кардиной («В родном углу»), резкая вспышка Якова Бронзы, ни с того ни сего обругавшего Ротшильда («Скрипка Ротшильда»), – все это так или иначе выражает общее состояние этих героев – состояние неудовлетворенности, тоски, смутных порывов к лучшему и т.д., но выражает очень приблизительно, неадекватно, условно. Перед нами скорее не изображение (подобное в существенных чертах изображаемому), а намек, знак внутренних процессов и состояний, который с самими этими процессами и состояниями имеет иногда очень мало общего. Здесь опять-таки активная роль выпадает на долю читателя; ему предстоит «расшифровать» этот знак, угадать его подлинное психологическое содержание. Внешнее выражение как симптом, знак переживания подталкивает читателя к сотворчеству: не будь этого намека, читательское внимание сосредоточилось бы на внешних событиях, а не на внутреннем состоянии героя; будь на месте этого намека развернутое психологическое описание или вполне адекватное внешнее выражение чувства, сотворчество вообще было бы ненужным.
Для того чтобы вызвать читательское сопереживание и создать определенный психологический рисунок, Чехов часто использу ет темповую и ритмическую организацию речи. Большая роль темпоритма в системе психологизма, направленного прежде всего на воссоздание эмоционального мира личности, вполне понятна: ведь разные типы темповой и ритмической организации прямо и непосредственно воплощают в себе определенные эмоциональные состояния и обладают способностью с необходимостью вызывать именно эти эмоции в сознании читателя, слушателя, зрителя. В таких искусствах, как музыка, танец, эта закономерность видна очень ясно. Для чеховского психологизма, рассчитанного на читательское сопереживание и сотворчество, эти свойства темпоритма были буквально неоценимы[53].
Проиллюстрируем сказанное небольшим отрывком из «Дамы с собачкой»: «Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки – моря, гор, облаков, широкого неба, – Гуров думал о том, как в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве».
Роль особого, плавного, размеренного построения фразы в создании эмоционального колорита этой сцены очевидна, она ощущается без всякого анализа. Торжественный и возвышенный строй мыслей героя представлен здесь с помощью ритмической и темповой организации текста буквально с физической ощутимостью. О том же самом можно было бы сказать иначе – короткими фразами, например, и тогда тут же пропала бы особая психологическая атмосфера, перед нами был бы уже совсем иной внутренний мир, иное эмоциональное состояние. И вот что интересно: о душевном состоянии персонажа Чехов говорит очень скупо, а мы его представляем себе необычайно полно и живо – благодаря тому, что темпоритм несет дополнительную художественную информацию об эмоциональном мире героя. Темпоритм – это тоже своего рода намек, стимулирующий и направляющий читательское сотворчество.
Темпоритм чеховской фразы – одно из самых мощных и действенных средств создания у читателя определенного психологического настроя. А в то же время это средство действует наиболее тонко и ненавязчиво: читатель невольно подчиняется ритму, незаметно для себя погружается в психологическую атмосферу, начинает испытывать те же чувства, что и персонаж.
Заслуга Чехова в развитии психологизма состоит прежде всего в том, что в его творчестве получили художественное освоение новые формы и аспекты внутренней жизни человека. «Приблизив» свой психологизм к сознанию обыкновенного человека, раскрыв поток повседневной психологической жизни, Чехов показал, как малозаметные, скрытые душевные движения могут приводить к серьезным жизненным результатам, как они становятся формой идейно-нравственных исканий, меняющих в конечном счете духовное содержание человеческой личности.
ОБ АВТОРЕ
ЕСИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ (1954-2000) известный литературовед и культуролог.
А.Б.Есин – автор более 80-ти печатных работ по теории и истории русской литературы и культурологии; в том числе таких книг, как «Русская литература XIX века. Краткая летопись: Справочник» (1984, 1999), «Литературное произведение: типологический анализ» (1992), «Как самостоятельно подготовиться к экзамену по литературе» (1992, 1996), «От Пушкина до наших дней» (1995), «Русская литература XIX века: задачи, тесты, полезные игры» (1997, 1998, 2000), «Принципы и приемы анализа литературного произведения» (1998, 1999, 2000), «Введение в культурологию: основные понятия культурологии в систематическом изложении» (1999), «Литературоведение. Культурология: Избранные труды» (2002).
Книги А.Б. Рейна пользуются заслуженным признанием как у преподавателей, студентов, абитуриентов, так и у широкого круга читателей.
Примечания
1
На самом деле этих значений больше, и проблема «психология и литература» чрезвычайно многогранна. О некоторых интересных ее аспектах, не вошедших в настоящую книгу, можно узнать из следующих работ: Бурсов Б.И. Личность Достоевского. – Л., 1979; Выготский Л. С. Психология искусства. – М., 1968; Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. – М., 1977.
(обратно)2
См., например: Бочаров С.Г. Психологическое раскрытие характеров в русской классической литературе и творчество Горького // Социалистический реализм и классическое наследие. – М., 1960.
(обратно)3
Мышковская Л.М. Мастерство Л.Н. Толстого. – М., 1958. – С. 5 – 6. (Курсив мой. – А.Е.)
(обратно)4
См.: Карлова Т.С. Вопросы психологического анализа в наследии Л.Н. Толстого. – Казань, 1959. – С. 37.
(обратно)5
Чернышевский Н.Г. Детство и отрочество. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого //Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч. – М., 1947. – Т. 3. – С. 425.
(обратно)6
Там же. – С. 425.
(обратно)7
Там же. – С. 422, 425.
(обратно)8
Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. – М., 1950. – Т. 7. – С. 856 – 857.
(обратно)9
Пушкин А.С. Поли. собр. соч. – М.; Л., 1949. – Т. 12. – С. 159 – 160.
(обратно)10
Сеченов И.М. Кому и как разрабатывать психологию? // Вестник Европы. – 1873. – Т. 2. – С. 550.
(обратно)11
Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. – 1968. – № 8. – С. 76 – 77. (Курсив мой. – А.Е.).
(обратно)12
Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой. – М., 1922. – С. 11.
(обратно)13
Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве: В 2 ч. – Саратов, 1973. – Ч. 1. – С. 4.
(обратно)14
Скафтымов А. П. О психологизме в творчестве Стендаля и Толстого // Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. – М., 1972. – С. 175.
(обратно)15
См.: Лессинг Г. Лаокоон, или О границах живописи в поэзии. – М., 1957. – С. 168 – 176, 184.
(обратно)16
Хемингуэй Э. Избранные произведения: В 2 т. – М., 1959. – Т. 2. – С. 188.
(обратно)17
Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч. – М., 1947. – Т. 3. – С. 425.
(обратно)18
Там же. – С. 426.
(обратно)19
Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч. – М., 1948. – Т. 6. – С. 681.
(обратно)20
Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч. – М., 1947. – Т. 3. – С. 425. (Курсив мой. – А.Е.)
(обратно)21
Заметим, что И.В. Страхов не ставит специальной задачей решение вопроса о факторах, порождающих психологизм, – говорит об этом в связи с другими проблемами и достаточно кратко.
(обратно)22
См., например: Введение в литературоведение / Под ред. Г.Н. Поспелова. – М., 1983. – С. 56 – 60.
(обратно)23
Карлова Т.С. Вопросы психологического анализа в наследии Толстого. – Казань, 1959; Бойко М. Внутренний монолог в произведениях Толстого и Достоевского // Л.H. Толстой: Сборник статей о творчестве. – М.: МГУ, 1959; Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве: В 2 ч. – Саратов, 1973. – Ч. 1; Бочаров С.Г. Психологическое раскрытие характеров в русской классической литературе и творчество Горького // Социалистический реализм и классическое наследие. – М., 1960. – С. 89 – 210.
(обратно)24
Лихачев Д. С. Движение русской литературы XI – XVII веков к реалистическому изображению действительности. – М., 1956. – С. 6.
(обратно)25
Слово стиль употребляется в филологии по меньшей мере в двух значениях. В узком смысле под стилем понимают речевые особенности произведения, «язык» писателя. В более широком и универсальном значении термин стиль обозначает единство всех элементов художественной формы, подчиненной определенному содержанию. (Подробнее об этом можно прочитать в кн.: Соколов А.Н. Теория стиля. – М., 1968. – С. 5 – 27.). Мы в нашей работе употребляем термин стиль только во втором значении.
(обратно)26
См. об этом: Основин В.В. Психологический анализ и структура сюжетного времени в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» // Толстовский сборник. – Тула, 1970.
(обратно)27
См., в частности: Урнов Д.М. Внутренний монолог // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1978. – Т. 9. – Ст. 194 – 195 и библиография к этой статье.
(обратно)28
Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве: В 2 ч. – Саратов, 1973. – Ч. 1. – С. 52. О снах как форме психологизма см. также: Безрукова 3. Формы психологического анализа в романах Л.Н. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина»// Л.Н. Толстой: Сборник статей о творчестве. – М., 1956. – С. 87 и сл.; Билинкис Я.С. «Анна Каренина» и русская литература 1970-х годов. – Л., 1970. – С. 59 – 62; Щенников Г.К. Художественное мышление Ф.М. Достоевского. – Свердловск, 1978 (глава «Функции снов в романах Достоевского»).
(обратно)29
Достоевский Ф.М. Письма. – М., 1959. – Т. IV. – С. 117.
(обратно)30
Кожинов В. Сюжет, фабула, композиция // Теория литературы: В 3 т. – М., 1964. – Т. 2. – С. 436.
(обратно)31
Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. – Л., 1971. – С. 70 – 71.
(обратно)32
Бахтин М.М. Эпос и роман // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 476-477.
(обратно)33
Там же. – С. 477.
(обратно)34
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. – М., 1972. – С. 203.
(обратно)35
Бочаров С.Г. Характеры и обстоятельства // Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении: В 3 т. – М., 1962. – Т. 1. – С. 428.
(обратно)36
Подробнее о психологизме в советской литературе можно прочесть в кн.: Компанеец В.В. Художественный психологизм в советской литературе: 1920-е годы. – Л., 1980.
(обратно)37
Более подробно с литературой этих направлений можно познакомиться по следующим работам: Критический реализм XX века и модернизм / Ред. коллегия: Н. Н. Жегалов и др. – М., 1967; О современной буржуазной эстетике. – М., 1963. – Вып. 1; Днепров В. Черты романа XX века. – М.; Л., 1965; Мотылева Т.Л. Зарубежный роман сегодня. – М., 1966; Урнов Д.М. «Потока сознания» литература // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1968. – Т. 5. – Ст. 917.
(обратно)38
Гегель. Энциклопедия философских наук: Философия духа. – М., 1977. – Т.З. – С.7.
(обратно)39
Подробнее о философско-нравственной проблематике «Героя нашего времени» можно прочитать в статье: Виноградов И. Философский роман М.Ю. Лермонтова // Русская классическая литература; Разборы и анализы. – М., 1969.
(обратно)40
О проблематике тургеневского романа и особенностях его психологизма можно прочитать: Бялый Г.А. Русский реализм конца XIX века. – Л., 1973; Маркович В.М. Человек в романах Тургенева. – Л., 1975.
(обратно)41
Говоря о вкладе Чернышевского в развитие художественного психологизма, автор не останавливается на сопутствовавших этому потерях (необязательных для данного процесса, носящих субъективный характер), в частности, на снижении интеллектуального уровня психологического анализа, на лексической обедненности внутренних монологов и авторских разъяснений. – Ред.
(обратно)42
См. об этом: Морозенко Л.Н. О психологизме Л.Н. Толстого и Н.Г. Чернышевского // Русская литература и общественно-политическая борьба XVII – XIX веков. – Л., 1971.
(обратно)43
Укажем важнейшие современные работы о психологизме Толстого: Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». – М., V978; Бурсов Б.И. Лев Толстой и русский роман. – М.; Л., 1963; Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. – Л., 1977; Громов П.П. О стиле Льва Толстого: Становление «диалектики души». – Л., 1971; Громов П.П. О стиле Льва Толстого: «Диалектика души» в «Войне и мире». – Л., 1977; Развитие реализма в русской литературе. – М., 1973. – Т. 2. – Кн. 2.; Скафтымов А.П. Идеи и формы в творчестве Л. Толстого. О психологизме в творчестве Стендаля и Толстого // Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. – М., 1972; Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник. – М., 1978.
(обратно)44
Я вас люблю (фр.).
(обратно)45
Подробнее о проблематике «Преступления и наказания» и об особенностях поэтики, строения образа у Достоевского можно прочитать в работах: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1978; Корякин Ю.Ф. Самообман Раскольникова. – М., 1976; Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. – М., 1970; Кожинов В. В. «Преступление и наказание» Достоевского // Три шедевра русской классики. – М., 1971.
(обратно)46
Об этой особенности психологизма Достоевского см.: Назиров Р.Г. Творческие принципы Достоевского. – Саратов, 1982. – С. 127 – 135; Чирков Н.М. О стиле Достоевского. – М., 1963. – С. 58 – 79.
(обратно)47
О различии между «аналитическим» и «синтетическим» психологизмом см.: Громов П.П. О стиле Льва Толстого: Становление «диалектики души». – Л., 1971. – С. 70 – 75; Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. – Л., 1977. – С. 271.
(обратно)48
Кожинов В.В. «Преступление и наказание» Достоевского // Три шедевра русской классики. – М., 1971. – С. 121.
(обратно)49
См. об этом: Щенников Г.К. Художественное мышление Ф.М. Достоевского. – Свердловск, 1978. (Глава «Функции снов в романах Достоевского»).
(обратно)50
Значение этого принципа для чеховского творчества не раз отмечалось литературоведами; см. например: Бердников Г. «Дама с собачкой» А.П. Чехова. – М., 1976; Дерман А.Б. О мастерстве Чехова. – М., 1959; Громов М.П. Портрет, образ, тип // В творческой лаборатории Чехова. – М, 1975.
(обратно)51
Поспелов Г.Н. Проблемы литературного стиля. – М., 1970. – С. 323.
(обратно)52
Полоцкая Э.А. Человек в художественном мире Достоевского и Чехова // Достоевский и русские писатели. – М., 1977. – С. 214 – 215.
(обратно)53
Анализ темповой и ритмической организации чеховского повествования см.: Гиршман М.М. Ритм художественной прозы. – М., 1982. – С. 203 – 241.
(обратно)
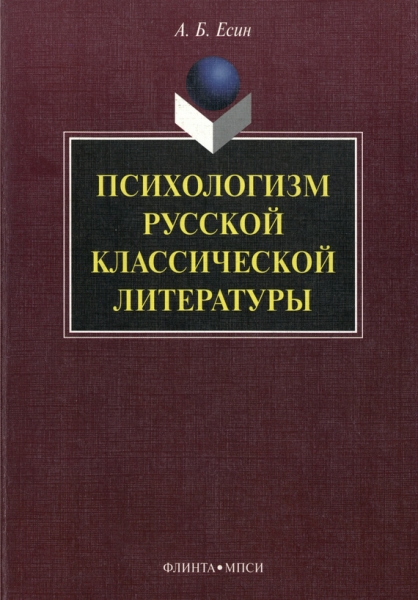
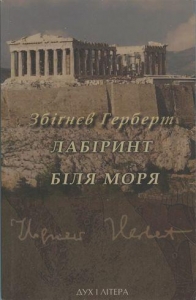


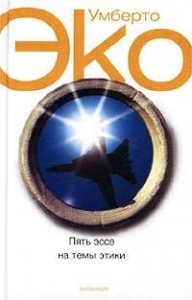


Комментарии к книге «Психологизм русской классической литературы», Андрей Борисович Есин
Всего 0 комментариев