Моей семье
Введение
Осознание современным литературоведением недостаточности традиционных подходов к осмыслению литературы (метод, жанр, стиль) побуждает искать новые пути, адекватные универсализму современного научного знания и позволяющие воссоздать в целостном виде принципы функционирования литературы в различные исторические эпохи. В последние десятилетия внимание исследователей все более привлекают «надсистемные» и «надструктурные» категории «художественного сознания» (В. В. Заманская, М. Л. Гаспаров, В. И. Тюпа), «художественного мышления» (В. И. Хрулев, З. Я. Холодова), «метасюжета» как «идеи времени» (Н. В. Барковская), мета-текста. Одной из таких интегрирующих категорий, реализующихся в поэтике произведения, является литературная саморефлексия.
В отечественном литературоведении неоднократно отмечалось, что становление собственно художественной прозы (отделение ее от эпистолярной, критической, деловой и проч.), обретение ею собственного языка неразрывно связано с потребностью осознания себя, своей природы. По мнению исследователя литературы первой трети XIX века, русская проза этого периода одновременно желала быть и теорией прозы, в которой повествование представляет собой «сплав художественного изображения с демонстрацией творческих принципов», помещенных в саму ткань рассказов о тех или иных событиях и людях.[1] Переходная эпоха ХХ века актуализировала литературную саморефлексию как один из основных способов сохранения ее идентичности, что определяет необходимость ее научного описания и исследования. Язык прозы – это, в первую очередь, повествование и сюжет, поэтому формы самосознания прозы прежде всего обнаруживаются в особой «литературоцентричности» сюжета и повествования, характерной именно для русской литературы, берущей на себя в новое время функции других форм общественного сознания, в том числе религии и философии.
Проблема литературной рефлексии разрабатывалась в исследованиях Д. М. Сегала, В. М. Петрова, В. И. Тюпы, Д. П. Бака, М. Н. Липовецкого, Н. С. Бройтмана, М. П. Абашевой, в коллективной монографии «Формы саморефлексии литературы ХХ века: метатекст и метатекстовые структуры».[2]
Д. М. Сегал, работам которого принадлежит приоритет в разработке рассматриваемой проблемы в прозе, писал в 1979 году: «В наших текстах самосознание литературы – это процесс не «внутрилитературный», а «внутритекстовой», он относится не к литературному процессу (быту, факту), а к миру, литературно творимому, становясь, таким образом, парадигмой миротворчества (курсив автора. – М. X.) в рамках текста».[3] В другой работе 1981 года исследователь утверждает, что «литература представляет (…) своего рода симулирующее устройство – моделирование моделирования. Она «работает» двояким образом: во-первых, литература может выполнять функции моделирования первого порядка, создавая модель внетекстового мира и задавая программу поведения; во-вторых, литература рассматривает, описывает, оценивает самые различные варианты – действительные, потенциальные, мнимые, реальные и ирреальные – самого этого моделирования первого порядка».[4]
Художественная саморефлексия обостряется в переходные моменты истории искусства, когда происходит массовая смена одних типов художественных структур другими. В. М. Петров отмечает, что «эти процессы в первую очередь имеют место в творчестве больших художников – новаторов, «первопроходцев», открывающих новый этап в развитии искусства».[5] В качестве репрезентативных фигур приводятся имена Сервантеса, Стерна, Пушкина, уделявших значительное внимание рефлексии – отражению литературной ситуации и изображению непосредственного процесса написания произведения в самом же произведении.[6]
Проблема литературной рефлексии в теоретическом и историческом аспектах была поставлена в работах В. И. Тюпы и Д. П. Бака «Эволюция художественной рефлексии как проблема исторической поэтики» и Д. П. Бака «История и теория литературного самосознания: творческая рефлексия в литературном произведении».[7] В первом исследовании выделены исторические формы литературной рефлексии: традициональная («риторическая рефлексия» в литературе до XIX века) и антитрадициональная («творческая рефлексия» в литературе XIX–XX веков, соответственно классическая и неклассическая).[8] Д. П. Бак отметил, что «идея самосознания литературного творчества – ключевая для формирования исторической поэтики»; «усиление рефлективности литературного развития происходит на фоне «угасания традиционности».[9] Если в начальный период своего функционирования творческая рефлексия была направлена «на смену риторических канонов, – знаменовала поворот произведения искусства к построению саморазвивающейся реальности», то позднее она стала означать «свободу складывания антитрадиционального произведения», «которая оказалась замкнутой на самой себе»: в терминах М. М. Бахтина можно было бы сказать, что непомерно разросшееся «событие рассказывания» перечеркнуло, поглотило «рассказываемое событие».[10] Д. П. Бак выделил две типологические формы бытования литературной рефлексии. Первая идет от повествователя, «сверху»; вторая – от персонажа, «снизу» (вставной текст): «Авторскую «рефлексию сверху» можно было бы определить как рефлексию текста; «рефлексию снизу» – как самосознание действительности».[11]
Теоретическую ценность представляет выработанное Д. П. Баком понятие «рефлективного произведения». Исследователь подчеркивает, что оно не сводится к формально-риторической модели «романа в романе», «текста в тексте». Рефлективное произведение – это «особый тип авторства, возникающий в случае непосредственного вхождения литературных задач в жизненную проблемность»; оно не может быть «готовым», известным заранее либо созданным «в стороне» от непосредственной проблематики произведения «объемлющего», а «должно складываться на наших глазах, так или иначе исследовать само себя и тем самым прямо влиять на постепенное формирование произведения внешнего».[12] Вслед за Бахтиным такой тип «кризиса авторства», связанный с персонажем-писателем, создающим нечто альтернативное данному произведению, Бак считает «продолжением романтического варианта кризиса». Другим, развивающим «реалистический» тип «кризиса авторства», является случай, когда «рефлексия персонажа, его творческая самореализация не связана с художеством, когда персонаж напрямую бросает вызов авторскому завершению; стремится жизненным поступком отменить эстетическую деятельность, направленную на него извне».[13] Именно такая, более скрытая, форма литературной рефлексии становится предметом анализа в работе Д. П. Бака, осуществленного на материале русской и зарубежной прозы и драмы (Б. Пастернак, А. Мердок, Н. Саррот, Л. Пиранделло и др.).
Литературная рефлексия рассматривается Д. П. Баком в качестве «возможности литературной традиции нового типа», «общего знаменателя всех так называемых «формальных поисков» в литературе ХХ века», нарушающих былую трансгредиентность эстетической деятельности событийному миру и изображающих «само событие перехода жизни в слово».[14]
В «Исторической поэтике» С. Н. Бройтмана[15] становление языка литературы рассматривается в границах «большого времени» и «большого диалога» (М. Бахтин). Выделяя три стадии в развитии эстетического объекта – «поэтику синкретизма», «эйдетическую поэтику» и «поэтику художественной модальности», – автор фиксирует возникновение и развитие форм литературного самосознания от риторической эпохи к неклассической. «Роман романа» (Сервантес, Стерн, Пушкин, Пруст и др.) не исчерпывает, по Бройтману, этих форм. В этой связи продуктивным становится сравнение скрытой и явной рефлексивности в прозе Джойса и Пруста: «… „Улисс“, как и „В поисках утраченного времени“, не только роман героев, но и роман романа, хотя эта „метароманность“ приняла у Джойса иную форму, чем у Пруста. У Пруста (…) изображение сопровождается анализом самой возможности автора что-то излагать. У Джойса специальный словесный анализ такой возможности отсутствует: он не пишет о том, как он пишет роман, не рассуждает прямо о своей авторской позиции. Он поступает иначе: вместо того чтобы давать отдельно форму и отдельно размышления о ней, он вводит рефлексию внутри самой формы. Поэтому форма у Джойса становится не только сотворенной, но и рефлексирующей над самой собой, вторично разыгранной, а значит, оказывается чем-то большим, чем просто форма…».[16]
Проблема литературного самосознания – основная и в книге М. П. Абашевой «Литература в поисках лица (русская проза конца XX века: становление авторской идентичности)».[17] Несмотря на то, что автора интересует специфика художественного сознания современных прозаиков как проблема персональной идентичности,[18] М. П. Абашева интерпретирует именно повествовательные практики, в которых эксплицируются законы этого сознания: метатексты, «текст как поведение и поведение как текст» в мемуаристике, устные автобиографии писателей. В работе М. П. Абашевой самосознание прозы, проявленное в художественных дискурсивных практиках, предстает как проблема философская, психологическая и историко-литературная, интегрирующая на определенном историческом этапе «многие аспекты литературного развития».
Исследование различных аспектов рассматриваемой проблемы осуществляется в коллективном сборнике «Формы саморефлексии литературы XX века: метатексты и метатекстовые структуры».[19] Как показывают конкретные работы, литературная рефлексия становится механизмом жанрово-родовых трансформаций, воплощает концепцию творчества в архитектонике самого произведения, в творческом диалоге с другой культурой, художественной системой и типом дискурса.
Повышенный интерес современного литературоведения к проблеме литературной рефлексии осуществляется в основном на материале вершин мировой литературы – признанных «метатекстов» русской и зарубежной литературы второй половины XX века, рубежа XX–XXI веков,[20] что вполне объяснимо: формы рефлексивности в современной литературе достигли апогея своего развития. Менее изученным, носящим точечный характер (в границах индивидуальных поэтик О. Мандельштама, В. Набокова, М. Булгакова, К. Вагинова) остается формирование новой рефлексивности в начале XX века, отмеченного в русской литературе не только сменой художественных парадигм (реализм – модернизм – авангард), но и расколом на культуру метрополии и диаспоры. Параллельность кризисных эпох рубежа XIX–XX и XX–XXI веков обусловливает закономерность постановки проблемы саморефлексии и в русской прозе начала XX века. Исследователи неоднократно отмечали, что в эпохи социально-исторических сломов и потрясений в культуре и литературе как семиотических системах «включаются» и вырабатываются механизмы самосохранения, основанные на принципах переключения с референции как указания на реальность на автореференцию как указание на самих себя с одновременной актуализацией интенции к автономному существованию от внетекстовой реальности. Рефлексивность (и использующиеся в исследовательской литературе синонимы, восходящие к термину Р. Якобсона «литературность»,[21] – «литературоцентричность», «металитературность») выражается как в «подключении» к уже существующим в культуре формам, моделям и типам, так и в переосмыслении, «переосвоении» уже известных приемов, сюжетов, литературных схем. Оба процесса сопровождаются намеренным «обнажением приема» – демонстрацией независимости и самодостаточности художественной реальности, существующей по своим собственным законам.
Проблема саморефлексии в литературе XX века впервые была поставлена представителями московско-тартуской школы, исследующими поэзию символизма и акмеизма и стуктуру «текст в тексте».[22] Панэстетический неомифологизм символистов и центонная поэтика акмеистов были осмыслены как формы самосознания литературы. Р. Д. Тименчик, например, писал, что ориентация языка акмеизма на ранее существующие тексты «вызвана установкой текста на самопознание, поисками мотивировки его права на существование (…), рефлексией над собственными генератическими. и типологическими параметрами (…) Текст у акмеистов есть одновременно повествование о событиях и повествование о повествовании в сопоставлении с другими текстами, т. е. сбалансированное соотношение собственно текстового, метатекстового и «цитатного» аспектов».[23] Поиск новой литературности, основанный на разрыве с предшествующей традицией, был выявлен и в поэтическом авангарде (футуризме): продуцирование «самовитого слова вне быта и жизненных польз» (В. Xлебников) и поэтики «зауми» как «установки на спонтанность и непредсказуемость формы-действия».[24] Параллельные процессы усиления литературности, сигнализирующие о нарастании литературной саморефлексии, происходили и в прозе начала века.
Появление в литературе Серебряного века «избыточно литературных» поэтик А. Белого, А. Ремизова, Ф. Сологуба, В. Брюсова, Е. Замятина, развивающих гоголевско-лесковскую линию русской прозы, совершенно справедливо объясняется возникновением модернистской системы творчества, однако этой причиной не исчерпывается, так как захватывает и другие эстетические феномены, в частности, реалистические. Показательным явлением для прозы начала XX века является феномен «неореализма», который, с подачи критики 1910-х годов и теории Е. Замятина начала 1920-х, квалифицировался как промежуточный между реализмом и модернизмом. Однако непрекращающиеся дискуссии по поводу эстетической природы неореализма свидетельствуют о том, что на путях метода проблема вряд ли может быть решена; неореализм – это некое «надсистемное» образование, возникшее на основе общности поэтик эстетически разных художников – модернистов, реалистов и писателей «переходного» типа между реализмом и модернизмом (Л. Андреев, А. Ремизов, Е. Замятин, Б. Зайцев, М. Осоргин, С. Сергеев-Ценский, И. Шмелев и др.),[25] которые использовали литературоцентричные формы символизации, лейтмотивизации, мифологизации повествования и архетипизации сюжета, ритмизации прозы, прочно вошедшие в арсенал модернистского искусства, но используемые и художниками-реалистами, например, И. Буниным.[26]
Другим знаменательным явлением прозы начала XX века стала кампания обвинений многих писателей в плагиате. Симптоматично, что наибольшую огласку получило обвинение в «списывании» фольклорных произведений автора-стилизатора, сознательно ориентированного на книгу, литературный текст как источник творчества, – А. М. Ремизова.[27] Можно утверждать, что литературность как одна из основных тенденций прозы не сразу была осознана и читателями, и самими авторами.
В. Жирмунский, разделивший в начале 1920-х годов прозу XIX–XX веков на «чисто-эстетическую», «поэтическую» (Гоголь, Лесков, Ремизов, Андрей Белый, Серапионовы братья) и «нейтральную», «коммуникативную» (Стендаль, Толстой) и отметивший особое отношение к слову в первой, высказал принципиальную для концепции нашей работы мысль о наличии другой (нестилистической, неязыковой) литературности в «коммуникативной» прозе: «…Самая нейтрализация воздействия словесного стиля есть также результат поэтического искусства и может рассматриваться в системе поэтических приемов, рассчитанных на художественное воздействие».[28]
Развивая мысль ученого, можно выделить две сферы проявления литературности: эксплицитную (явную) литературность, эксплуатирующую сферу языка, стиля произведения, и имплициную (скрытую) литературность, существующую на других уровнях поэтики произведения.
Литературная рефлексия, проявляющиеся на повествовательном уровне художественного целого, имеет разные формы бытования, что проявляется в многозначности стоящего за ней термина «метаповествование»: от отношений с традицией («метадискурс» Ж.-П. Лиотара) и контекстом, другими текстами (интертекст) – к осмыслению смены культурных кодов (стилизация, пастиш, коллаж, центон) и собственной творческой манеры (метатекст). Вслед за Д. М. Сегалом под саморефлексией литературы чаще всего понимают внутритекстовое «двойное моделирование»: метатекст как автокомментирование и различные варианты интертекста. В отличие от названных работ Д. П. Бака, исследующего саморефлексию персонажа и повествователя, а следовательно, и автора, и М. П. Абашевой, изучающей самосознание писателей, «культурные формы новой писательской идентичности XX–XXI веков», под «литературностью» мы понимаем «сверхлитературность», «избыточную» литературность не только текста (мета-текст как «текст о тексте» и различные виды интертекста – цитаты, аллюзии, реминисценции и проч.), но и возникающей за ним художественной реальности, разные уровни которой в поэтике произведения, в том числе в повествовании и сюжете, намеренно обнаруживают свою моделирующую природу и, соответственно, литературоцентричность, «созданность» «сигнификативного бытия» (Г. Шпет) художественной реальности. Поэтика литературности отражает поиск автором своего кода, языка описания; создания этого языка из арсенала имеющихся в культуре средств: мифологических и литературных образов, «готовых» сюжетов и типов повествования.
В 1920-1930-е годы повышенной эстетизацией отмечена не только проза метрополии (представители орнаментальной прозы – Е. Замятин, Серапионовы братья, Б. Пильняк, Л. Леонов; М. Булгаков, К. Вагинов, О. Мандельштам и др.), но и диаспоры (И. Бунин, А. Ремизов, М. Осоргин, В. Набоков, Г. Газданов, Б. Зайцев и др.). Это позволяет говорить об универсальном характере процесса саморефлексии прозы, обнаруживающегося в литературоцентричной поэтике и характерного не только для определенного типа творчества (модернизма), но и всего литературного процесса первой трети XX века.[29]
Наиболее убедительным аргументом активизации рефлективных процессов в русской прозе этого периода является феномен метапрозы, обединивший литературу метрополии и диаспоры, с одной стороны, и эстетическую и изобразительную, с другой (О. Мандельштам, К. Вагинов, Д. Хармс, Е. Замятин, М. Булгаков, В. Набоков, М. Осоргин, Г. Газданов, Н. Берберова и др.). Работы Д. М. Сегала, развивающие идеи московско-тартуских структуралистов, дают импульс конкретным исследованиям метапрозы («текста о тексте», «романа о романе» и др.). Наибольшее внимание исследователей привлекли романы В. Набокова и М. Булгакова, что объясняется повышенным интересом к их творчеству в целом. Если говорить о метароманной структуре, то более изученной на сегодняшний день является авангардная линия метапрозы (Д. Хармс, К. Вагинов, С. Кржижановский),[30] что порой вызывает ошибочные представления о метатексте как порождении авангардной и постмодернистской поэтик. Изучение метатекста как наиболее репрезентативной формы саморефлексии литературы, в том числе и в литературе первой трети XX века, нуждается в расширении материала исследования. Метапроза Е. И. Замятина, М. А. Осоргина и Н. Н. Берберовой, объединяющая писателей метрополии («Мы»), старшего («Вольный каменщик») и младшего («Аккомпаниаторша») поколений эмиграции, принадлежащих к разным типам творчества (модернизму и реализму), не только «достраивает» типологию «романа о романе», но и открывает неповторимо-индивидуальные варианты саморефлексии русской литературы первой трети XX века, позволяющие обнаружить и общие тенденции функционирования этого феномена в литературе названного периода.
Помимо метапрозы, русская литература этого периода вырабатывала оригинальные концепции риторической рефлексии. Эстетика Е. И. Замятина продолжала и развивала в постсимволистском пространстве символистские, акмеистические, современные философские и лингвистические идеи, переплавляя их в современную концепцию синтетического искусства.
Особое качество «эстетической» прозы начала XX века состоит не только в языковой орнаментальности (достаточно исследованной в творчестве А. Белого, А. Ремизова, Л. Леонова, Б. Пильняка, И. Бабеля), но в особой организации повествования. Литературоцентричные повествовательные стратегии Е. И. Замятина (орнаментальный сказ, разные виды стилизации, персональное повествование) являются «формами времени», широко распространенными в творчестве других писателей, и отражают установку эстетической прозы на самопознание.
Интерес представляет и исследование скрытой литературности в творчестве писателей, не прибегающих к языковой игре (И. Бунин, А. Куприн, М. Горький и др.). Изучение прозы Б. К. Зайцева дает основание говорить о перемещении литературной рефлексивности на сюжетный уровень: культурные аллюзии существенно трансформируют каноническую семантику «готового» сюжета и становятся средством эстетизации прозы, способом литературного самоопределения.
Исследование исторических форм саморефлексии прозы побуждает обратиться к творчеству эстетически неблизких писателей – Е. И. Замятина, Б. К. Зайцева, М. А. Осоргина и Н. Н. Берберовой, – принадлежащих к разным художественным системам (Замятин и Берберова – модернисты, Зайцев и Осоргин – реалисты). Кроме того, они представляют разные поколения эмиграции: Замятин и Зайцев заявили о себе в дореволюционной России, Осоргин как писатель сформировался в эмиграции, Берберова принадлежала к младшему поколению первой волны; Замятин оказался в эмиграции почти на десятилетие позже всех остальных. Но еще дореволюционная критика воспринимала Зайцева, Замятина и Осоргина в одном ряду писателей, обновляющих поэтику реализма модернистскими принципами, – «неореалистов».[31] Позже итальянский профессор-славист Э. Ло Гатто проницательно укажет на личностную и творческую близость Замятина и Осоргина.[32] Г. Струве напишет об эстетическом влиянии «Замятина и советских неореалистов» (имея в виду учеников Замятина – серапионов) на становление поздней художественной манеры Осоргина в романе «Вольный каменщик».[33]
Наличие литературоцентричной поэтики в творчестве писателей, имеющих разные мировоззренческие установки и принадлежащих к различным типам творчества, не может быть объяснено случайным совпадением или данью литературной моде, а сигнализирует о концептуальной близости. Все четыре автора близки эстетическим отношением к творчеству как истинной реальности и представлением об этической позиции художника, ответственного перед миром. В этом смысле Замятин, Зайцев, Осоргин и Берберова продолжают в эмиграции линию неотрадиционализма (В. И. Тюпа), представленную в литературе метрополии творчеством Мандельштама, Пастернака, Булгакова, Платонова, Пришвина – логоцентричного и созидательного искусства, противостоящего разрушительности авангарда и утопическим химерам соцреализма. Несмотря на неповторимо-индивидуальные варианты саморефлексии, творчество избранных писателей в полной мере позволяет ощутить центростремительные, культуросохраняющие усилия русской литературы и метрополии, и диаспоры.
Отдельные разделы о творчестве Е. И. Замятина ранее публиковались в малотиражном издании.[34]
Автор приносит глубокую благодарность своим учителям – преподавателям кафедры истории русской литературы XX века Томского университета во главе с заведующим кафедрой, научным консультантом Вячеславом Алексеевичем Сухановым – Анне Сергеевне Сваровской, Татьяне Леонидовне Рыбальченко, Ольге Анатольевне Дашевской, Зинаиде Анатольевне Чубраковой, а также преподавателю кафедры общего литературоведения Татьяне Леонидовне Воробьевой, профессору Института филологии Сибирского отделения РАН Игорю Витальевичу Силантьеву, коллегам из центра по изучению творчества Е. И. Замятина в Тамбовском университете под руководством профессора Ларисы Васильевны Поляковой, без неизменной поддержки, творческого участия и ценных замечаний которых книга не могла быть написана.
Глава 1 НЕСОБСТВЕННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ САМОРЕФЛЕКСИИ АВТОРА (Е. И. ЗАМЯТИН)
Активизация процессов саморефлексии в литературе в переломные эпохи влечет за собой изменения и в «окололитературном» пространстве критики, осмысливающей литературу. Исследование критики Серебряного века позволяет увидеть «оттеснение профессиональной критики на второй план и преобладание писательских эссе», жанрово-стилевая палитра которых значительно шире, чем в статьях критиков-профессионалов (литературный портрет, дневники писателя и читателя, исповеди, афоризмы-шаржи и памфлеты, парадоксы и иронические панегирики, травестированные трактаты, драмы и поэмы в миниатюре и т. п.).[35] Прямая риторическая писательская рефлексия если не предшествует художественной, то сопровождает последнюю; она является традиционной и исторически более ранней формой литературного самосознания.[36] Критика писателя как взгляд изнутри литературного развития ценна именно с точки зрения саморефлексии литературы.[37]
В постсимволистской литературе, развивающей подхваченные символистами эстетские представления о «критике как художнике» (О. Уайльд), имена Н. Гумилева, О. Мандельштама, В. Xодасевича, Г. Адамовича, М. Цветаевой, А. Платонова, Е. Замятина свидетельствуют о наличии различных типов риторической авторефлексии. Если критика Гумилева и Мандельштама стала программой «органической», или «семантической», поэтики как жизнеспособного искусства, приходящего на смену символизму, то публицистическая саморефлексия Замятина завершила эстетические искания Серебряного века (дискуссии о постсимволистском развитии русской литературы, проблемы «неореализма» и синтетизма) и связала их с пореволюционным развитием русской прозы (сказ, сюжетность, орнаментальность прозы, пути развития серапионов и наиболее талантливых молодых прозаиков – М. Булгакова, Б. Пастернака, Б. Пильняка, Л. Леонова, И. Бабеля).
Из выбранных нами, кроме Замятина, прозаиков только Н. Н. Берберова в американский (преподавательский) период творчества выработала некую эстетическую программу, которая, однако, принадлежит принципиально иной эпохе (второй половины XX века) и англо-американской традиции. Исследователи отмечают близость позиции Берберовой к представителям «новой критики», развивающей идеи формального метода[38] (статьи «Подстриженными глазами», 1951; «Владислав Xодасевич – русский поэт (1886–1939)», 1951; «Набоков и его «Лолита», 1959; «Великий век», 1961; «Сов. критика сегодня», 1966; книга «A. Blok et son temps»). Несмотря на огромный публицистический корпус произведений Б. К. Зайцева и, особенно, М. А. Осоргина, удельный вес критики в нем невелик. Риторические выступления Зайцева и Осоргина не оформились в оригинальную эстетическую концепцию, а оказались включенными в смысловое поле общеэмигрантской дискуссии о миссии и путях развития русской литературы за рубежом, о сохранении традиции, о Пушкине как символе русской культуры и т. п.[39]
Имеющая характер современной эстетики и завершенной теории риторическая рефлекия Замятина, находящаяся в диалоге с важнейшими философскими и эстетическими концепциями времени (общенаучными идеями энтропии / энергии, синтеза; идеями Опояз, диалогической философии, лингвистическими учениями о языке художественной литературы и литературном языке) выполнила ту же консолидирующую роль для литературы метрополии, что и критика В. Xодасевича и Г. Адамовича[40] – в зарубежье. Если ставить своей задачей изучение эстетики и поэтики, риторической и художественной рефлексии писателя-прозаика в их целостном единстве, то творчество Е. И. Замятина представляет оформившуюся в осознанной саморефлексии эстетическую концепцию, оказавшую влияние не только на современную, но и последующую эстетическую мысль (идеи синтеза, энтропии / энергии в литературе XX века, диалогической природы искусства, теории «неореализма» и проч.).
1.1. Проблема соотношения этического и эстетического в ранней публицистике Е. И. Замятина
«Мастерство» как определенное понимание писательства осмысливается в критической и теоретической рефлексии Е. И. Замятина не в меньшей степени, чем в художественном творчестве,[41] что заставляет исследователей устанавливать связи его эстетики с теоретической рефлексией символизма в лице А. Белого.[42] Название же сохранившихся конспектов лекций, прочитанных Замятиным в 1919–1921 годы начинающим писателям по поэтике прозы – «Техника художественной прозы»,[43] – отсылает к терминологии формалистов,[44] литературоведческие достижения которых были для Замятина несомненными.[45] Остается недооцененной эстетико-теоретическая близость Замятина к акмеизму, о которой косвенно говорил сам писатель: «Символизм явно для всех состарился уже в начале войны, и наилучшим доказательством этого служит то, что даже апостолы символизма – Сологуб, Белый, Брюсов – заговорили на ином языке, языке неореализма (...). Неореализм (и, в сущности, целиком укладывающийся в него акмеизм) – несомненно, является единственным жизнеспособным литературным течением»[46]; «Серапионовы братья на первое место выдвинули вопросы мастерства и протестовали против обязательного требования от писателей работ на злободневные темы. Эта позиция, а также элементы романтизма (построенные, однако, не на абстракциях, как у символистов, а как бы экстраполирующие реальность), сближает «Серапионовых братьев» с петербургским течением акмеистов».[47] А. Генис в статье «Серапионы: опыт модернизации русской прозы» устанавливает связь Замятина с акмеизмом также через посредство «Серапионовых братьев»: «"Серапионы", преодолевая дуализм символизма, упраздняли границу, отделяющую запредельный, трансцендентный мир. «Невидимое» они считали продолжением видимого, ирреальное – законной и бесспорной частью реального. Возможно, не без влияния новых веяний в естественных науках, за развитием которых столь внимательно следил их наставник Замятин, они исповедовали «физикальность» духа. Искусство реально, как сама жизнь. Все это роднит «серапионов» c поэтикой акмеистов, к которым они относились с особым уважением. (…) Между Сциллой реализма и Xарибдой символизма «серапионы» шли курсом, проложенным акмеизмом».[48] Р. Грюбель в своей типологии автопредставлений художников к типу автора-мастера относит акмеистов и учеников Замятина «серапионов».[49]
Проблема диалога Замятина с акмеизмом поставлена в статье В. Десятова, где исследован аллюзивный «акмеистский» план романа «Мы», отмечено использование Замятиным терминов «гумилевского происхождения» («интегральный» образ, «путь наибольшего сопротивления»), проанализирован характер общения Замятина с Гумилевым и Ахматовой.[50] Проблема эстетико-теоретической близости Замятина к акмеизму остается неразработанной, тогда как именно схождение с акмеистской концепцией творчества, как и отталкивание от нее, способствует пониманию неповторимой и, одновременно, глубоко укорененной в современности эстетической доктрины Е. И. Замятина. Проследим эволюцию эстетических представлений писателя в их связи с художественным творчеством.
Первый этап критической деятельности Е. И. Замятина совпадает с началом художественного творчества и связан с сотрудничеством в «Ежемесячном журнале» В. С. Миролюбова. Небольшое количество и достаточно случайный характер рецензий на сборники и альманахи, как и собственные признания автора в письме к Миролюбову,[51] подчеркивают вторичность критической деятельности по отношению к творчеству. Несмотря на то, что потребности осмысления собственного творчества еще не возникает и Замятин выступает в своих рецензиях скорее как образованный и требовательный читатель, уже здесь формируется единство этической и эстетической установки Замятина-критика: 1) литература не должна быть успокаивающим, уводящим от жизненных проблем развлекательным чтивом («Журнал для пищеварения»); 2) художник профессионально ответственен за качество выпускаемого продукта; и главное внимание Замятин уделяет не своеобразию сюжета («Человеку с даром мало-мальским – не нужен ему мудреный сюжет»[52]), а языковому мастерству («Энергия», «Сирин»). Рецензия на альманах «Сирин» почти полностью посвящена критике языковых излишеств романа А. Белого «Петербург», которым Замятин противопоставляет гармонию ремизовских сказов: «Жалко Андрея Белого, когда станешь роман его «Петербург» читать. Легко ли это – кренделем вывернуться, голову – промеж ног, и этак вот – триста страниц передышки себе не давать? Очень даже трудное ремесло, подумать – сердце кровью обливается»[53]; «У Ремизова не суть только, но и внешность его сказов – русская, коренная».[54] Внимание к языку и повествовательной ткани произведения, высокая оценка языковых поисков Ремизова совершенно закономерны для Замятина-критика 1910-х годов, разрабатывавшего в своем художественном творчестве сложнейшие формы орнаментального сказового повествования («Уездное», «На куличках», «Алатырь», «Непутевый», «Чрево», «Старшина», «Кряжи» и др.).
Ранние критические опыты Замятина органично вписываются в основной корпус его публицистики и подготавливают более поздние статьи с их жесткой логической последовательностью и иронией, характерными и для художественной системы писателя. Уже в начале 1910-х годов Замятин воспринимает писательство не только как дар, но и каждодневный труд, ремесленную работу. В одном из писем В. С. Миролюбову в августе 1913 года он «прозаизирует» известную мандельштамовскую поэтическую формулу «красота – не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра»: «…Полежал рассказ, перечитал я его еще раз – тут, на мой глаз, торчит, там торчит – надо еще постругать немного».[55]
Командировка в Англию на время прерывает критическую деятельность Замятина, которая возобновляется по возвращению писателя в Россию. 1918 год издатели сборника критических статей Е. И. Замятина «Я боюсь» называют «подлинным началом Е. И. Замятина – критика и публициста».[56]
В 1918-1919-х годах Замятин сотрудничает в органе правых социалистов-революционеров «Дело народа» как публицист под псевдонимом Мих. Платонов. Проблематика статей Замятина этого периода («Елизавета Английская», «Презентисты», «Скифы ли?», «О служебном искусстве», «Домашние и дикие», «О лакеях», «О равномерном распределении», «Они правы», «Бунт капиталистов», «Великий ассенизатор», «Последняя страница», «Беседы еретика», «Завтра» и др.) остро политическая. Замятин обвиняет победившую власть в предательстве собственных идеалов и, прежде всего, идеи свободы и сосредоточивается на осмыслении свободы печати, роли искусства и литературы в новом обществе. «Еретическая» позиция как единственно возможная этическая модель поведения художника в любом обществе («наш символ веры – ересь», «мир жив только еретиками») явилась и продолжением более ранних представлений Замятина о литературе как совести нации, и реакцией на массовое приспособленчество деятелей культуры к политике новой власти. Резкой критике Замятина подвергаются не только пролетарские писатели и футуристы, но и «Скифы», и даже А. А. Блок. Пафос послереволюционных статей Замятина связан с отстаиванием свободного слова, роль которого в эпохи подавления личности государством неизмеримо возрастает: «И они правы: те, кто поил цикутой Сократа; те, кто распинал Галилеянина; те, кто гнал в каторгу революционеров; те, кто теперь заткнул рот печати. Они правы: свободное слово сильней тяжеловооруженных, сильней легионов, сильней жандармов, сильней пулеметов».[57] Тема свободы личности (и свободы слова) стала личной замятинской темой еще до революции. В Англии были написаны «Островитяне» и «Ловец человеков», а в России – «Сказки про Фиту», явившиеся «подготовительной работой» к роману «Мы», в котором свобода личности неразрывно связана с пониманием сути писательства.
Статьи «Беседы еретика», «Завтра» (1919), «Я боюсь», «Рай», «Пора» (опубл. в начале 1921), несмотря на злободневный материал (критику «придворной» литературы, «католицизма» новой власти), приобретают философскую формульность и афористичность. Публицистика, наряду с художественным творчеством, становится способом воплощения философских идей и приобретает в сознании писателя тот статус, который до сих пор не имела: деятельности, столь же важной, как и художественное творчество.
Разговор о литературе дает возможность Замятину выразить свою точку зрения на противоречия мира и человеческого существования: мир полифоничен, Бог и сатана воплощают это отсутствие монизма («Рай»); человек и литература – это Фауст и Мефистофель, «рай земной, сегодняшний – скучен» так же, как и воплощенная мечта; новая утопия, ересь – вот цель настоящей литературы («Я боюсь», «О зеркалах»). В статье «Завтра» Замятин впервые использует гегелевскую диалектическую триаду: «Сегодня – отрицает вчера, но является отрицанием отрицания – завтра: все тот же диалектический путь, грандиозной параболой уносящий мир в бесконечность. Тезис – вчера, антитезис – сегодня, и синтез – завтра».[58] Проблематика романа «Мы», над которым Замятин работал параллельно, составляет единое смысловое поле со статьями 1919–1921 гг: авторские «еретические» формулы в романе переданы Мефи и I-330.
Большой общественно-политический резонанс статей Замятина,[59] обусловленный их общественно-политической направленностью, заслонил для читателя собственно эстетический дискурс. Именно в начале 1920-х годов эстетико-теоретические представления писателя складываются в стройную систему. Искусство – зеркало жизни, но оно свободно и развивается по своим внутренним законам. Новые темы еще не создают нового искусства: «Пролетарские писатели и поэты усердно пытаются быть авиаторами, оседлав паровоз. Паровоз пыхтит искренне и старательно, но не похоже, чтобы он поднялся на воздух. За малыми исключениями (…) – у всех пролеткультовцев революционнейшее содержание и реакционнейшая форма».[60] Анализируя современное состояние русской литературы в статье «Я боюсь» (вторичность имажинистов, «придворную болезнь» футуристов), Замятин впервые называет постсимволистский модернизм неореализмом и, что особенно важно, включает в него акмеизм (см. цитату на с. 1 из черновика статьи «Я боюсь»).
Помимо собственно художественного творчества и публицистики Замятин в послереволюционный период активно включается в культурные и издательские проекты литературного Петрограда, участвует в «Вавилонской башне» горьковских культурных предприятий. Понимание утопичности культурных замыслов и программ Горького[61] и представителей новой власти не останавливало Замятина от участия в них. Достаточно обозначить широкий спектр разнообразной деятельности Замятина по строительству культуры и литературы в новом обществе от переводческой, издательской, организационной до преподавательской и педагогической, завершившейся созданием собственной школы в акмеистском духе – литературного объединения «Серапионовы братья»,[62] чтобы понять, что культуртрегерская деятельность писателя являлась не вынужденной государственной службой, а отвечала его личным представлениям об устройстве культуры и необходимости ее непрерывного созидания. Не случайно из широкого круга бывших литераторов, работавших на благо советской культуры в начале 1920-х годов, в своей культурной деятельности Замятин оказывается наиболее близок Н. Гумилеву, который, параллельно с Замятиным, занимающимся с начинающими писателями техникой художественной прозы, вел студию техники стиха в литературной студии «Дома искусств» и возрождал третий «Цех поэтов».
1.2. «Техника художественной прозы»: концепция диалогического языка. Проблемы повествования
Лекторская деятельность Замятина явилась важным катализатором для становления его эстетики. В лекциях по технике художественной прозы писатель обобщает свой десятилетний художественный опыт и выстраивает перспективу будущего развития русской прозы.[63]
Обучая начинающих писателей основам сюжетостроения, способам создания образов-персонажей, архитектонике, звукописи, инструментовке, Замятин, вопреки собственным декларациям о важности возрождения «сюжетной» занимательной прозы в русской литературе,[64] главное внимание уделяет «диалогическому языку» нового искусства. В лекциях Замятин высказался почти по всем животрепещущим проблемам современной ему филологии: проблемам «поэтического» (языка прозы и поэзии), «народного», «разговорного», книжного, «внутреннего» («мысленного») языков, что свидетельствует об особой филологической активности Замятина, направленной в первую очередь на эстетические концепции формалистов, Московского лингвистического кружка, круга М. М. Бахтина, школы Фосслера. Анализ концепции «диалогического языка» дает основание утверждать, что под языком Замятин понимает не только стиль писателя, но и тип повествования в прозе: автор конституирует коммуникативную природу повествования. Сходство представлений Замятина о роли повествования в прозе с более поздними положениями статьи «Лесков и современная проза» (1925) Б. Эйхенбаума несомненно.[65]
Начиная разговор о поэтике с разграничения поэзии и прозы, точнее их сходства, возникающего на основании поэтического языка (лекция «О языке»), Замятин, как орнаменталист и стилизатор, отстаивает право прозы на один и тот же язык с поэзией и сближается в этом с А. Белым, представителями МЛК, например, Г. О. Винокуром, говоря о поэтическом языке как функции литературного языка, в противоположность идеям раннего формализма:
Ср.: «В чем разница между поэзией и прозой? И есть ли она? Поэты-стихотворцы все еще оспаривают привилегию составлять особую художественную церковь. Но для меня ясно: между поэзией и художественной прозой нет никакой разницы…».[66]
А. Белый: «…Между поэзией и прозой художественной нет границы; признаки поэтической и прозаической речи одни: тут и там цветы образов; тут и там(…) фигуры и тропы; размеренность характеризует хорошую прозу; и эта размеренность приближается у лучших прозаиков к определенному размеру, называемому метром (…) Нет прозы в «прозе» художников слова».[67]
Б. Эйхенбаум: «Стих – явление языка прежде всего».[68]
Границу между прозой и поэзией, по Замятину, «прочерчивает» организация прозаического повествования: «Рассказчиком, настоящим рассказчиком о себе является, строго говоря, только лирик. Эпик же, т. е. настоящий мастер художественной прозы – всегда является актером, и всякое произведение эпическое – есть игра, театр. Лирик переживает только себя: эпику – приходится переживать ощущения десятков, часто – тысяч других, чужих личностей, воплощаться в сотни и тысячи образов».[69] Эпический автор, по Замятину, – гениальный актер,[70] который должен все «персонажные миры» сыграть. Аргументируя идеями Станиславского внесубъектное присутствие автора в неореалистической прозе, Замятин призывает авторитеты Мопассана и Флобера. Ср.: 1) «В произведении эпического склада автора не должно быть видно (...). Читатель должен видеть и слышать автора в той роли, в том гриме, который нужен для воспроизведения духа изображаемой среды».[71] 2) «Автор в своем произведении должен, подобно Богу во вселенной, присутствовать везде, но нигде не быть видимым».[72]
Автор, присутствующий везде и нигде персонально, выражает свою позицию через роли, маски, т. е. разные версии самого себя. Замятин, как писатель XX века, рефлексирующий по поводу повествовательных возможностей языка прозы и осознающий нераздельность и неслиянность «я» и «другого», помимо «сюжета персонажей» озабочен и «построением фигуры самого романиста» (М. К. Мамардашвили).[73]
Замятинское «перевоплотиться целиком» имеет истоком широко распространенную в начале XX века философскую интуицию «вчувствования», введенную И. Г. Гердером и наличествующую в совершенно разных философских системах – А. Шопенгауэра, Т. Липпса, Г. Когена, А. Бергсона, фоссле-рианцев. Понятие Einfuhlung «означает своеобразный экстаз субъекта – его выход из себя ради погружения в объект», т. к. чужую жизнь можно постигнуть только путем вчувствования.[74] Одухотворяя объект «вчувствования», субъект испытывает к нему «симпатию». Замятин эту эстетическую (или «интеллектуальную» – у Бергсона) симпатию называет «влюбленностью автора в созданный им образ»: «…Для художника творить какой-нибудь образ – значит быть влюбленным в него. Гоголь непременно был влюблен – и не только в героического Тараса Бульбу, но и в Чичикова, в Хлестакова, в лакея Петрушку. Достоевский был влюблен в Карамазовых – во всех, и в отца, и во всех братьев (…). Я помню отлично: когда я писал «Уездное» – я был влюблен в Барыбу, в Чеботариху – как они ни уродливы, ни безобразны».[75]
Творчество, по Замятину, как и влюбленность, – «радостный и мучительный процесс». «Еще ближе, – продолжает писатель, – (…) другая аналогия: с материнством. Недаром же у Гейне (...) есть такой афоризм: "Всякая книга должна иметь свой естественный рост, как дитя. Честная женщина не рожает своего ребенка до истечения 9 месяцев. Эта аналогия самая естественная: потому что ведь и писатель, как женщина-мать, создает живых людей, которые страдают и радуются, насмехаются и смешат. И так, как мать своего ребенка, писатель своих людей создает из себя, питает их собою – какой-то нематериальной субстанцией, заключенной в его существе».[76] В другой лекции – «О сюжете и фабуле», говоря начинающим писателям об «искусстве зачеркивания», Замятин вновь сравнивает произведение с живым организмом: «Все что можно выбросить, надо безжалостно выбросить: пусть останется только одно яркое, одно ослепительное, одно необходимое. Ничего лишнего: только тогда вы можете сказать, что ваше произведение создано и живет. В живом нет ничего лишнего: все выполняет какую-нибудь необходимую жизненную функцию…».[77] Отметим, что манифестируемое Замятиным представление о творчестве как рождении органического целого, сближающее его с акмеистами, найдет свое художественное воплощение во многих произведениях, в том числе в романе «Мы».
Итак, в авторской схеме повествовательных инстанций «актер» снимает противопоставленность субъекта и объекта и выполняет функцию и повествователя, и персонажа.[78] По Замятину, повествователь, рассказчик – это представитель определенной социальной среды и исторического времени: «Писатель должен перевоплощаться целиком в изображаемых им людей, в изображаемую среду»; «вытекающее из всего сказанного требование относительно языка в художественной прозе: язык – должен быть языком изображаемой среды и эпохи. Автора совершенно не должно быть видно (…). Я распространяю этот тезис – на все произведение целиком: языком изображаемой среды должны быть воспроизведены и все авторские ремарки, все описания обстановки, действующих лиц, все пейзажи».[79] Т. е. языковой мир произведения равен сознанию и, следовательно, позиции повествующего субъекта.
Для Замятина важно не столько «посредничество» повествователя, помогающего передать достоверную и объективную информацию (акцент на фабуле), сколько рассказчика, находящегося «целиком внутри изображенной реальности»,[80] что сообщает «событию рассказывания» статус предмета изображения (акцент на субъектном представлении фабулы). Кроме того, в своих исканиях «духа языка» изображаемой среды («Каждой среде, эпохе, нации – присущ свой строй языка, свой синтаксис, свой характер мышления, ход мыслей»[81]) Замятин близок фосслерианцам, развивающим идеи Гумбольдта и Потебни (см. название книги К. Фосслера «Культура Франции в отражении развития языка»[82]): «формы мышления» народа можно изобразить только воспроизведением языка народа. Потому, совсем в духе Л. Шпитцера (на знакомство с работами которого может указывать использование Замятиным имени А. Барбюса в качестве примера разговорного языка в произведениях современной зарубежной литературы,[83] являвшегося объектом исследования и для Лео Шпитцера), Замятин и выстраивает свою синонимическую триаду «народный» – «разговорный» – «диалогический» язык.[84] Обучая молодых писателей этому новому языку современной литературы (лексическим, синтаксическим, словообразовательным и стилистическим приемам), Замятин указывает на источники, к которым следует прибегать художнику, преобразующему традиционный язык прозы: 1) фольклор; 2) памятники традиционной культуры (старославянские, церковнославянские и древнерусские); 3) провинциализмы, устаревшие слова; 4) авторские неологизмы. Главное внимание уделяется диалогу разговорного и литературного языков, который, по Замятину, является не только требованием времени («Я считаю это явление – сближение литературного и разговорного языков очень жизненным; оно идет в ногу с общей исторической тенденцией к демократизации всей жизни»[85]), но и одним из постоянных путей обновления литературного языка. История литературы – это смена языков, обогащение традиционного литературного языка языком «не ораторским, не литературным, не корсетным», а «живым», «динамичным» разговорным, что подтверждает, по Замятину, давний спор шишковистов и карамзинистов. Продолжая символистскую дискуссию «архаистов» (Вяч. Иванов) и «новаторов» (А. Белый),[86] парадоксалист Замятин занимает промежуточную позицию: он ратует не только за оживление литературного языка разговорным, но и за сохранение архаических пластов языка. Ближайшим опосредующим звеном между символизмом и современной литературой стали для Замятина эстетические искания А. Ремизова, продолжателя лесковских традиций в русской литературе.[87] Замятин разделяет взгляды Ремизова (и Н. С. Гумилева) на работу писателя как на ремесло (научить можно писательскому ремеслу, искусству научить нельзя), он вслед за Ремизовым (как и футуристы) использует термины изобразительного искусства в анализе литературного произведения: одна из лекций названа «Фактура, рисунок»; он часто сравнивает поэтику прозы с техникой импрессионистов. Наконец, в «цеховой», акмеистской работе Замятина с молодыми писателями можно усмотреть продолжение усилий Ремизова по организации «школы». М. Пришвин, другой ученик Ремизова, позднее вспоминал, что у учителя была «настоящая студия, как у художников», и что он хотел быть «таким художником слова, у которого слово было единственным свидетельством его дела…».[88] Критик и переводчик А. Я. Левинсон, работавший с Замятиным в редколлегии издательства «Всемирная литература», позднее в Париже так вспоминал о работе «мастера» с «Серапионовыми братьями»: «Артель свою он (Е. И. Замятин. – М. X.) дрессировал у меня на глазах. Воспитывал в «цеховых» свой вкус (…). Молодую стихию он подчинял дисциплине. Умел указать ученику прием, точно рассчитанный и скупой, сберегающий энергию и бьющий в цель. Так Замятин применял к литературным опытам юных дикарей, не читавших Тургенева, но разбирающих Бориса Пастернака, «как по-писанному», – трудовую систему Тейлора».[89]
Понятие «диалогического языка» в эстетике Замятина многозначно и многомерно. Во-первых, речь идет о диалоге разных культурных языков в авторском языке для продуцирования новых смыслов, оформляющемся в бинарные оппозиции: устный / письменный; народный / официальный; фольклорный / книжный; традиционный / современный; диалогический / монологический; свой / чужой. Восходящая к «биполярной» языковой картине А. Ремизова, концепция «диалогического языка» Е. Замятина вплотную приближается к открытию чужого слова М. Бахтина: «одна культура есть там, где есть как минимум «две» культуры (и сама эта культура – «амбивалентна», т. е. отстранена от себя самой, способна себя видеть, слышать, преображать – со стороны»).[90]
Во-вторых, диалогическая позиция в отношении языка искусства приводит Замятина к обоснованию сотворчества автора и реципиента: «Творчество, воплощение, восприятие – три момента. Все три в театре разделены. В художественном слове – соединены: автор он же актер, зритель – наполовину автор».[91] С. Ю. Воробьева, рассматривающая фазы формирования принципов «эстетики диалогического» Замятина на уровне «автор – читатель», подчеркивает, что писатель приходит к «фактическому утверждению креативного равенства автора и реципиента».[92] Новейшие исследования по акмеизму показывают, что проблема читательского восприятия как конструктивного принципа художественного текста была поставлена именно акмеистами.[93] В статьях О. Мандельштама «О собеседнике»(1913), Н. Гумилева «Читатель» и «Анатомия стиха» (1921–1922) и художественных произведениях акмеистов была провозглашена установка на воспринимающего, «провиденциального собеседника» (О. Мандельштам), который, как авторский двойник, «переживает творческий миг во всей его сложности и остроте» (Н. Гумилев). Как акмеисты видели в читателе дешифровщика своих центонных текстов, так и Замятин оставляет за читателем статус «нового контекста», в который помещается авторский текст: «диалог автора с адресатом осознается как возможность постоянного актуализирования своего присутствия в мире и «разрастания» культуры за счет рождения новых смыслов».[94]
В русле сотворчества автора и читателя Замятин выстраивает еще один тип диалогических отношений: внешний / внутренний («мысленный») языки: «…Воспроизводя этот эмбриональный язык мысли, вы даете мысли читателя только начальный импульс и заставляете читателя самого вот эти отдельные вехи мыслей связать промежуточными звеньями ассоциаций или нехватающих элементов силлогизма. Нанесенные на бумагу вехи оставляют читателя во власти автора, не позволяют читателю уклониться в сторону; но вместе с тем пустые, незаполненные промежутки между вехами, – оставляют свободу для частичного творчества самого читателя соучастником творческой работы, а результат личной творческой работы, а не чужой – всегда укладывается в голове ярче, резче, прочнее».[95] Идея контрапункта в изображении внутреннего языка оказалась продуктивной для последующей литературы, поскольку означала возможность контекстуальных приращений смысла читателем.
В противовес формалистским идеям о произведении искусства как автономном объекте, Замятин отстаивает представление о дискурсивной природе творчества: произведении как процессе, создающемся в акте отправления (автором) и получения (воображаемым читателем). По Замятину, работа автора должна быть направлена на организацию воспринимающего сознания. Повышенное внимание к активизации сознания адресата вписывает эстетику Замятина в пространство диалогических идей времени, усвоенных и переработанных позднее представителями рецептивной эстетики. Что касается современных Замятину эстетических концепций, то своим «мысленным языком» писатель включается в актуальный лингво-философский разговор о знаковой природе мышления, о соотношении знака и смысла, внешней и внутренней речи. Его представление о неразрывности мышления и слова, «выражаемого» и «выражающего», близко идеям Г. Шпета, М. Бахтина, источниками которых, в свою очередь, называется переведенный на русский язык в 1920 г. труд Б. Кроче «Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика».[96] Позже Л. Выготский, занимавшийся происхождением внутренней речи, отметит, что при переводе внутренней речи во внешнюю происходит «переструктурирование», сложная динамическая трансформация с одного языка на другой. Замятин в своих лекциях, по сути, иллюстрирует это переструктурирование, увязывая принципы изображения «мысленного», т. е. внутреннего языка героев, с импрессионистическими приемами – «приемом пропущенных ассоциаций», «приемом реминисценций», «намеков», «ложных отрицаний и утверждений» и др. В. Н. Волошинов назовет это «импрессионистической модификацией косвенной речи»: «В русском языке может быть указана еще и третья, довольно существенная модификация косвенной конструкции, применяемая главным образом для передачи внутренней речи, мыслей и переживаний героя. Эта модификация очень свободно трактует чужую речь, сокращая ее, часто намечая лишь ее темы и доминанты, и потому она может быть названа импрессионистической. Авторская интонация легко и свободно переплескивается в ее зыбкую структуру».[97]
Диалог с реципиентом завершает коммуникативную цепь замятинской схемы повествовательных инстанций: автор – актер (повествователь, рассказчик, персонаж) – читатель (соавтор). Причем важнейшее здесь звено «актер» порождает новые возможности преобразования языка литературы с помощью языка театра: «Неореалисты не рассказывают, а показывают, так что и к произведениям их более подходило бы название не рассказы, а показы. Теория сказа»[98]; «Показ. Показывание все в действии. Мы переживаем не когда-то, задолго до рассказа, а переживаем теперь. Следствие – импрессионизм. Исключаются описания: все движется, живет, действует. Динамика. Динамические пейзажи и обстановка достигаются связью их с действующими лицами».[99]
«Показ» для Замятина – не просто фабульное действие, интрига, а действие автора в роли, в гриме, маске (автор – актер). Показывает рассказчик, поэтому образцом повествовательного показа для Замятина в начале 1920-х годов является сказ.[100] Логика авторской мысли в лекциях сосредоточена в первую очередь на «событии рассказывания» («языке», «диалогическом языке», «инструментовке», «расстановке слов», «фактуре, рисунке», «стиле» – названия лекций), а не на «событии, о котором рассказывается» («сюжет, фабула»). Несмотря на то, что Замятин призывает молодых литераторов обращать больше внимания на («бедную» в русской литературе) фабулу, и предлагает ряд приемов по оживлению последней, основное внимание уделяется событию коммуникации: «кто» говорит, «как» и «кому». В то время как работа над фабулой мотивируется потребностями времени и изменившегося кругозора читателя,[101] к «показу», «языку прозы», «диалогическому языку» автор настойчиво возвращается вновь и вновь, обособляя момент «опосредования» истории в акте коммуникации между автором и читателем.
Свое эстетическое кредо Замятин неоднократно демонстрирует и в публичных выступлениях.[102] В докладе «Моя работа над „Блохой“», прочитанном 20 ноября 1926 года в Комитете по изучению художественного слова при государственном институте истории искусств в Ленинграде, Замятин сравнивает народную комедию с театрализованным сказом: «Мне хотелось и в данном случае применить на сцене полную сказовую форму – какая взята и у Лескова: весь рассказ – со всеми авторскими репликами – ведется неким воображаемым автором-туляком (…). Задача взять форму народной комедии показалась мне тем более увлекательной, что этой формой драматурги наши до сих пор почти не пользовались. Темы народных комедий – были использованы, но форма – нет. А форма подлинной народной комедии – по существу является драматизированным сказом».[103] Спонтанность («показ») и разговорность («народность») – обязательные условия возникновения сказа. Диалогический язык для Замятина – это и основа сказовой формы повествования (статьи «О'Генри», «О сегодняшнем и современном»). По поводу рассказов Вяч. Шишкова Замятин, например, пишет: «Когда-нибудь у автора, пожалуй, выйдет и сказ: диалогическим языком он владеет и чувствует свойственный народной речи юмор».[104] О творчестве О'Генри: «Тип рассказов О'Генри больше всего приближается к сказовой форме (до сих пор еще одной из излюбленных форм русского рассказа): непринужденно-диалогический язык, авторские отступления, чисто-американские (орфография Замятина. – М. X.) трамвайные, тротуарные словечки, каких не разыщешь ни в каком словаре. Впрочем, до конца заостренной формы сказа, когда автора – нет, автор – тот же актер, когда даже авторские ремарки даются языком, близким к языку изображаемой среды-у О 'Генри нет».[105] «Показ», т. е. представление, театрализация повествования, делает Замятина продолжателем традиции Гоголя.[106] Кроме того, в попытках соединить возможности печатного слова (текст) с «показом» (зрительный образ) и установкой на устный рассказ (слуховой образ) в результате чего создается новый тип произведения, преодолевающий статику традиционного литературного текста, Замятин является последовательным воспреемником Ремизова.[107]
Таким образом, «диалогический язык» – это и диалог языков разных искусств в языке прозы, источником которого является чрезвычайно популярная в начале века идея взаимопроникновения искусств.[108] В статье «Новая русская проза» Замятин пишет: «Вс. Иванов – живописец бесспорный, но искусство слова – это живопись + архитектура + музыка. Музыку слова он слышит еще мало, и архитектурные формы сюжета ему еще не видны; оттого со сложной, полифонической конструкцией романа («Голубые пески») он не справился».[109] В результате филологической работы Замятин приходит к идее синтеза, которая явилась попыткой рационалистического преодоления антиномичности мира и творческого сознания («О синтетизме» и другие статьи). Синтетизм Замятина, оформленный гегелевской триадой, обнаруживает свою несомненную генетическую связь с синтетизмом символистским[110] (который, в свою очередь, усвоил синтетические поиски немецких романтиков[111]). Однако замятинский синтез лишен символистской религиозно-мистериальной семантики.[112] Он мыслится писателем культурно-исторически: как неизбежный результат диалектического развития жизни (гегелевкая «оболочка» идеи синтеза) и диалогической природы культуры и ее языка. В лекциях и статьях Замятина акмеистская «настойчивая идея рукотворного созидания» (выражение Е. В. Ермиловой) является определяющей.[113] Все варианты синтеза, предлагаемые автором, имеют чисто художественную задачу – усовершенствовать: 1) литературу с помощью художественных возможностей других искусств («искусство слова-это живопись + архитектура + музыка»); 2) поэтику прозы («синтетического характера формальные эксперименты»); 3) структуру образа («синтетический образ в символике»); 4) способы изобразительности («синтез фантастики и быта»); 5) авторскую концепцию («опыт художественно-философского синтеза»); 6) литературное направление («реализм – тезис, символизм – антитез, и сейчас – новое, третье, синтез»). Не случайно Л. Геллер заметил, что замятинский синтез распространяется только на искусство, но не на жизнь: «…Замятин говорит о диалектике по Гегелю (…), но он не совсем последователен в своем гегельянстве: ссылки на диалектику не проясняют, как осуществляется синтез противоположных явлений вне области искусства, где синтез не только прокламируется, но и обосновывается теоретически, и реализуется на практике самим писателем. Другое дело в его размышлениях об истории, об обществе, о мироздании. Тут противоположности не преодолеваются, энтропия и энергия обречены на вечную борьбу, и каждая остается при этом собой…».[114]
Идея диалогизма (синтетизма) Замятина имеет общекультурный и философский характер и вырастает из принципа диалогичности слова культуры (близость с идеями М. М. Бахтина). В то же время «диалогический язык» Замятина становится и предпосылкой теоретического обоснования коммуникативной модели повествования, использованной позднее нарратологами для решения чисто технических, интерпретативных задач.[115] Однако важно подчеркнуть, что замятинская концепция диалогизма направлена на утверждение статуса автора как хранителя культуры: идея синтеза противостоит «кризису авторства» поиском новых повествовательных возможностей для воплощения авторского сознания.
Идея синтеза диалогична по своей природе и неразрывно связана с отношением к художественному творчеству как мастерству; декларированная символистами, она не случайно получает свое развитие и воплощение в творчестве акмеистов.[116] Не только «цеховое мастерство», филологический сциентизм, но и понимание языка искусства как диалогического языка, вытекающее из мифопоэтической художественной практики,[117] роднит эстетику Замятина с теоретическими поисками акмеистов.[118] Художественный язык как часть культуры несет в своей памяти прежний художественный опыт: «Искусство развивается, подчиняясь диалектическому методу. Искусство работает пирамидально: в основе новых достижений – положено использование всего, накопленного там, внизу, в основании пирамиды. Революций здесь не бывает, больше, чем где-нибудь – здесь эволюция. И нам надо знать то, что в области техники художественного слова сделано до нас. Это не значит, что вы должны идти по старым путям: вы должны вносить свое. Художественное произведение только тогда и ценно, когда оно оригинально и по содержанию, и по форме. Но для того, чтобы прыгнуть вверх, надо оттолкнуться от земли, надо, чтобы была земля», – пишет Замятин совершенно в духе акмеистских манифестов Н. Гумилева и О. Мандельштама в лекции «Психология творчества».[119] Когда Л. Геллер характеризует замятинский синтетизм, он, по сути, видит своеобразие художественной системы писателя в главной черте позднеакмеистской поэтики – центонности, вырастающей из идеи художественного синтеза: «Уникальность замятинского почерка кроется в синтезе, в синтетизме. Так же, как разные предметы смещаются и совмещаются у него в зрительном синтезе, так смещаются и совмещаются фрагменты из разных книг, разных поэтик, разных философских учений. Замятин обладает необыкновенным чутьем – он улавливает и вылавливает отовсюду то, что носит в себе печать современности. Его синтетизм можно рассматривать и в этой перспективе: как индивидуальную процедуру переплавки разных и разнородных элементов модернизма в одно целое. Творчество Замятина, взятое в целом, в разных аспектах и жанрах, становится чрезвычайно последовательным, схематично-строгим воплощением модернистской „парадигмы“.[120] Важно и то, что филологическая деятельность Замятина начала 1920-х годов осуществлялась в атмосфере активного профессионального сотрудничества с Н. С. Гумилевым и дружбы с А. А. Ахматовой, возрождения третьего «Цеха поэтов», ставшего толчком к дальнейшей разработке теории акмеизма. Именно в статьях О. Мандельштама и Н. Гумилева начала 1920-х годов происходит осмысление акмеистской философии культуры, теории слова и взаимоотношений автора и читателя как культурно-исторического диалога. Дополнительным аргументом близости эстетико-теоретических представлений Замятина к акмеизму является теория неореализма, вырастающая из идеи синтеза.
1.3. Теория неореализма Замятина
Полемика вокруг замятинской концепции неореализма связана с тем, что понимается под неореализмом – реализм или модернизм. На модернизм указывает несколько обстоятельств: 1) художники, творчество которых Замятин причисляет к неореализму, – это – в большинстве – модернисты: Пикассо, Серра, Гоген, Уитмен, Ницше, Ю. Анненков, А. Блок, А. Белый, Б. Григорьев, Ф. Сологуб, С. Сергеев-Ценский, И. Шмелев, М. Булгаков, серапионы; 2) включение всех акмеистов в неореализм, 3) в «Записных книжках», обозначая философскую базу «неореализма», Замятин признает преобладание авторского сознания над реальностью в символизме и неореализме, в отличие от классического реализма: «Неореализм. Философская основа. Шопенгауэрианство: мир как мое представление. Соответственно, изображается не мир, а я. Изображение всегда „в себе“. (нрзб) – бесплотность, бескрасочность, символизм. Возврат философии к реализму. Лосский – философия неореалистов в англосаксонских странах. И соответственное течение неореализма в литературе. Выражают уже не себя, а мир внешний так, как он кажется (Лосский), не стараясь изображать его таким, каким мы его знаем…».[121] Ссылки на Н. О. Лосского важны для понимания общей для акмеистов и Замятина идеи «мира как органического целого» (название работы Н. О. Лосского 1915 года).[122] Приписывая развитию литературы форму диалектической спирали, Замятин симптоматично называет ее «органической кривой».[123]
Главным в размышлениях писателя о неореализме является утверждение онтологической ценности бытия, когда мир реальный, быт эстетически равноценен бытию и не нуждается в оправдании. Открыть бытие в быте, философию – в жизни, трансцендентное как имманентно присущее земному – вот задачи истинного искусства: «Неореалисты вернулись к изображению жизни, плоти, быта. Но, пользуясь материалом таким же, как реалисты, т. е. бытом, писатели-неореалисты применяют этот материал главным образом для изображения той же стороны жизни, как и символисты»[124]; «…Реалисты изображали кажущуюся, видимую простым глазом реальность; неореалисты чаще всего изображают иную, подлинную реальность, скрытую за поверхностью жизни так, как подлинное строение человеческой кожи скрыто от невооруженного глаза».[125] Realiora у Замятина содержится в realia, они онтологически тождественны,[126] что подтверждает фантастичность современной реальности в изображении Ю. Анненкова: «Каждую деталь – можно ощупать; все имеет меру, вес, запах; из всего – сок, как из спелой вишни. И все же из камней, сапог, папирос и колбас – фантазм, сон (…) Фантастический его (Ю. Анненкова. – М. X.) гармонист верхом на звездах, и свинья, везущая гроб, и рай с сапогами и балалайкой – это, конечно, реальность, новая, сегодняшняя реальность; не realia – да, но – realiora».[127] Для Замятина важно равновесие духовного и телесного, вещная, телесная оформленность духовного – «синтез фантастики с бытом». Но познать истинную суть мира дано только непредвзятому взгляду (нового) Адама («О синтетизме») или ребенка (народа): «Сейчас в литературе нужны огромные, мачтовые, аэропланные, философские кругозоры, нужны самые последние, самые страшные, самые бесстрашные „зачем?“ и „дальше?“ Так спрашивают дети. Но ведь дети – самые смелые философы. Они приходят в жизнь голые, не прикрытые ни единым листочком догм, абсолютов, вер. Оттого всякий их вопрос так нелепо-наивен и так пугающе-сложен (…). Гениальные философы, дети и народ – одинаково мудры: потому что они задают одинаково глупые вопросы».[128]
«Закон тождества» акмеистов является следствием логоцентрических представлений о мироустройстве. Л. Г. Кихней пишет: «Мир представлялся акмеистам не хаотическим нагромождением элементов, на которое наше сознание, согласно Канту, набрасывает сетку понятийных категорий, но неким органическим целым, в котором всякое явление или событие существует не само по себе, но как элемент живой системы»;[129] «Мир – един, поэтому он подчинен неким общим закономерностям, которые равно проявляются на разных уровнях».[130] Сходство с подобными представлениями можно обнаружить и в публицистике, и в художественном творчестве Замятина. В статье «О литературе, революции, энтропии и о прочем»: «…У домашних кур крылья только для того, чтобы ими хлопать. Для идей и кур – один и тот же закон: идеи, питающиеся котлетками, беззубеют так же, как цивилизованные котлетные люди».[131] О глубокой осознанности идеи тождества, единства мира свидетельствует «Рассказ о самом главном» (1923), во многом экспериментальное произведение Замятина, вызвавшее резкую критику современников.[132] Думается, что «конструктивистская» форма произведения и использование сразу нескольких научных концепций для миромоделирования «затемнили» авторский замысел. Произведение было воспринято как иллюстрация некой научной идеи или картины мира,[133] тогда как различные научные концепции-мифы использовались автором как язык описания для создания глобальной картины единства мира, в котором все связано со всем. Доказательством этого является мифопоэтическая модель мира,[134] основанная на метафоризации и изоморфизме, «матрешечном» хронотопе, фантастическом сюжете и особой структуре субъектной организации. Системность и упорядоченность структуры рассказа, как и акцентирование телесных и витальных жизненных начал, могут быть интерпретированы и как следствие «органической идеи» мироустройства ее автора – мастера.
В программной статье Замятина «О синтетизме» синтез должен стать адекватным изо– и антропоморфному мироустройству приемом в искусстве: «Реализм видел мир простым глазом: символизму мелькнул сквозь поверхность мира скелет – и символизм отвернулся от мира. Это – тезис и антитеза; синтез подошел к миру со сложным набором стекол[135] – и ему открываются гротэскные, странные множества миров: открывается, что человек – это вселенная, где солнце – атом, планеты – молекулы, и рука – конечно, сияющее необъятное созвездие Руки; открывается, что Земля – лейкоцит, Орион – только уродливая родинка на губе, и лет Солнечной системы к Геркулесу – это только гигантская перистальтика кишок. Открывается красота полена – и трупное безобразие луны; открывается ничтожнейшее, грандиознейшее величие человека; открывается – относительность всего».[136] Нетрудно заметить, что конец резко противоречит самому высказыванию. В этом противоречии заключено существенное отличие в представлении о единстве мира у акмеистов и Замятина. Место Божественного Логоса акмеистов у Замятина занимает другая субстанция, ибо «течение неореалистов… антирелигиозное. Трагедия жизни – ирония».[137] Исследователи ищут мировоззренческую опору Замятина в науке,[138] в народно-поэтических, языческих представлениях,[139] в близости к природному бытию.[140] Это справедливо относительно мифотворческой (собирающей, синтезирующей) составляющей художественной индивидуальности писателя, но есть и противоположная, релятивистская тенденция, которая, пусть даже языком сциентистского мифологизаторства, подрывает саму возможность утопии: «Если бы в природе было что-нибудь неподвижное, если бы были истины (…) Но, к счастью, все истины ошибочны: диалектический процесс именно в том, что сегодняшние истины – завтра становятся ошибками; последнего числа нет. Эта (единственная) истина – только для крепких: для слабонервных мозгов – непременно нужны ограниченность вселенной, последнее число, «костыли достоверности» – словами Ницше. У слабонервных не хватает сил в диалектический силлогизм включить и самих себя».[141] В данной фразе исследователи обычно видят характерные для стройных схем логические выпрямления, однако она закономерна для ученого, не доверяющего науке: для Замятина наука является таким же мифом, текстом о мире, как и искусство. «Наука и искусство – одинаковы в проектировании мира на какие-то координаты»;[142] «. Миф всегда, явно или неявно, связан с религией, а религия сегодняшнего города – это точная наука, и вот – естественная связь новейшего городского мифа, городской сказки с наукой».[143] Жизнь неумолимо разрушает мифы сознания, но «дело настоящей литературы – создавать новые утопии»,[144] которые способны заполнить пустоту: «Разрушено все, что было нужно, – и все, что было можно: пустыня, соленый, горький ветер – и вот застроить, заселить пустыню. Horror vacui (страх пустоты) – есть не только в природе, но и в человеке», – писал Замятин в статье «Новая русская проза».[145] Поэтому путь художника, и по Гумилеву, и по Замятину, – это мужественное преодоление «сопротивления материала» жизни, путь «наибольшего сопротивления» ее хаотическому началу.[146]
Но, сближаясь с акмеистами в представлениях о смысле творчества, Замятин оказывается далек от них мировоззренчески. Переплавляя бергсоновскую концепцию бытия как цепи непрерывных превращений, теорию относительности и второе начало термодинамики, Замятин творит новую утопию: закон мироустройства, который не совпадает с синтетическим законом искусства, – закон энтропии / энергии (революции), который «в равной мере подчиняет себе и молекулу и человеческое общество».[147] В представлении о мире как «энергийном действе» Замятин близок авангарду: энергетика внешнего мира-хаоса воспринимается им как данность: «Революция – всюду, во всем; она бесконечна, последней революции – нет, нет последнего числа. Революция социальная – только одно из бесчисленных чисел: закон революции не социальный, а неизмеримо больше – космический, универсальный закон (universum) – такой же, как закон сохранения энергии; вырождения энергии (энтропии). Когда-нибудь установлена будет точная формула закона революции. И в этой формуле – числовые величины: нации, классы, молекулы, звезды – и книги».[148] Однако, признавая огромную роль футуристов в смене языка искусства, в утверждении новой поэтики «смещения планов», Замятин видит причину кризиса футуристского искусства в изображении распадения, расщепления мира вместо собирания, интегрирования («синтеза»): «Кубизм – искусство распыляющее», – запишет он в 1921 году.[149] Футуристы, «как первокурсник», поставили «в божницу себе дифференциал без интеграла – это котел без монометра. И оттого у них мир – котел – лопнул на тысячу бессвязных кусков, слова разложились в заумные звуки», в синтетизме же «изкусков – всегда целое». Поэтому «кубизм, супрематизм, „беспредметное искусство“ – были нужны, чтобы увидеть, куда не следует идти…».[150] Замятин принципиально расходится с авангардистами в этической позиции, представлении о диалогической природе искусства, в культе упорядочивающего автора – «мастера» (ср. у Крученых: «Любят трудиться бездарности и циники»), в конструктивном диалоге с читателем, в антиутопизме.
1.4. Экзистенциальные и психоаналитические мотивы в публицистике Е. И. Замятина второй половины 1920-1930-х годов
В начале 1920-х годов выходит на поверхность основное противоречие мировоззрения писателя: создание «логоцентрического» мифа о единстве мира и его разрушение. Жажда собирания, строительства, заполнения пустоты – «синтеза» – явилась и идеей времени (всеобщего «духа строительства»), и попыткой преодолеть собственную экзистенциальную раздробленность, которую Замятин вполне осознавал. В письме к будущей жене Л. Н. Усовой от 6 апреля 1906 года он писал: «Расколотый я человек, расколотый на двое. Одно „я“ хочет верить, другое – не позволяет ему, одно – хочет чувствовать (…), другое – смеется над ним, показывает на него пальцами. Одно – мягкое, теплое, другое – холодное, острое, беспощадное, как сталь…».[151] Эта раздвоенность автора реализовывалась в сосуществовании утопической и антиутопической линии уже в начале творчества, в 1910-е годы. В рассказах «Непутевый», «Кряжи», «Чрево», «Полуденница», «Письменно», «Старшина» воссоздается утопический национальный миф, тогда как в «уездной» трилогии, «английских» повестях, сказках, рассказах «Север», «Африка» раздробленность бытия и человеческого сознания оформлялись постоянным обозначением экзистенциальных оппозиций. Начало 1920-х годов, отмеченное взлетом замятинского сциентистско-философского утопизма, дает наибольшую амплитуду колебаний «мировоззренческих качелей»: утопические «Знамение», «Сподручница грешных», «чудеса», «Русь», «Блоха» чередуются с антиутопическими «Мы», «Пещера», «Мамай», «Дракон», «Землемер», «Огни св. Доминика» и др.
С середины 1920-х годов в жизни и творчестве Замятина наступает перелом, который меняет и отношение к литературе. Публикация на Западе романа «Мы» и независимая позиция писателя приводят к тому, что он становится объектом травли РАППовской критики, его не печатают, а пьеса «Атилла», над которой писатель работал 3 года, запрещена к показу. Смерть Блока и гибель Гумилева, которые он очень глубоко пережил, критика со стороны прежних товарищей обострили одиночество. В этой ситуации проблема формы в искусстве, столь актуальная для Замятина «синтетического» периода начала 1920-х годов, отходит на второй план. Главное внимание, как и в пореволюционные годы, писатель обращает на нравственное содержание и роль литературы в обществе. Если в начале 20-х годов критика отмечала сходство эстетических оценок Замятина и Тынянова, Эйхенбаума, то через несколько лет Замятин резко полемизирует с формалистами, которые «видят только тело литературы» и «препарируют трупы», устраняясь от проблем современности. Он напоминает, что главное в литературе – это все-таки смысл:[152] «Нужно заниматься исключительно анатомией, телом литературы, как Эйхенбаум, чтобы не видеть того, что творится в душе литературы. Кризис – именно там. Болезнь литературы сейчас – болезнь психики, это психическое ее вырождение: физическая сторона – форма – в благополучном, часто даже цветущем состоянии (…). Как это ни странно все будет услышать от меня, но я считаю, что в своих суждениях о литературе – по крайней мере, в основной, отправной точке зрения – гораздо больше правы критики коммунистические, которые все время говорят об идеологии в художественной литературе – об идейной ценности художественной литературы».[153] В статье «О сегодняшнем и о современном» (1924) «сусальности» «сегодняшней» литературы Замятин противопоставляет необходимость художественной правды, делающей литературу по-настоящему современной, ибо творчество – это «художественный документ эпохи»: «Если в нашей литературе все останется по-прежнему – тела нашей правды потомки не узнают, художественных документов они не получат или получат их гораздо меньше, чем могли бы».[154] Замятин не устает выступать против конъюнктурной литературы и критики в защиту истинной, «большой» литературы. «Ошибки Пильняка» для него «ценнее самоуверенности фельдшеров (от литературы. – М. X.): это ошибки человека, который ищет».[155] Главная задача «Русского современника», последнего свободного журнала в советской прессе, в котором Замятин работал вместе с К. Чуковским и А. Эфросом, видится писателю в служении «большой литературе».[156]
Для художника важно отыскать в судьбах выдающихся собратьев различные варианты экзистенциального самоопределения человека в мире. Очерки, некрологи и литературные портреты Замятина 1920-30-х годов посвящены, в первую очередь, не писателям, а духовно независимым, честным и смелым людям, ведь «настоящий художник и писатель – всегда на один шаг впереди своего времени и своего общества; поэтому положение настоящего писателя при всех обстоятельствах одно и то же: положение еретика».[157] 14 очерков Замятина (о Белом, Блоке, Горьком, Чехове, Сологубе, Франсе, Уэллсе и др.), составившие сборник «Лица», который так и не вышел при жизни автора, воссоздают «биографию духа» художников, «умеющих смотреть в бесконечность», близких автору духовной неуспокоенностью и внутренней независимостью, – «болезнью лучшей части нашей интеллигенции». В жанре литературного портрета анализ произведений, реалии биографии того или иного художника, как и опыт личного общения Замятина с ним, не имеют самоценного статуса, а подчинены задаче выявить источники самостояния личности в эпоху кризиса веры и художественно, метафорически определить такой тип поведения («белаялюбовь», «донкихотство» – о Ф. Сологубе, «рыцарство» – о А. Блоке и Ф. Сологубе). Например, в эссе о Горьком автор заявляет, что не творчество является предметом его осмысления, а «человек с большой биографией», сама жизнь которого – «это увлекательный роман».[158] Сборник становится «романом» о духовном противостоянии человека в мире: автор выбирает кризисные, поворотные моменты судьбы героя, а этапы его творчества, его тексты лишь «отмечают», иллюстрируют эту борьбу с Историей, Жизнью и Судьбой. Писатель проникает в мир «человеческой субъективности», чтобы разрушить шлейфы стереотипов, сопровождающих его знаменитых героев. Форма парадокса, обнажающая противоречия, болевые точки, пограничье в человеке, оказывается наиболее продуктивной, а потому и повторяемой: «Горький и Пешков», «математик и поэт» (о Белом), «рыцарское лицо и смешная американская кепка» (о Блоке). Замятин неизменно подчеркивает трагедийное мироощущение своих героев, коренящееся в ситуации богооставленности, напряженное переживание каждым из них жизни и смерти. В некрологе «Анатоль Франс» цитируется персонаж Франса, говоривший, как трудно умирать, «требуется недюжинная сила души, чтобы быть неверующим». «Но к этому стоит прибавить, – продолжает Замятин, – что требуется еще большая сила души, чтобы быть неверующим, скептиком, релятивистом – и все-таки жить полной жизнью, все-таки любить жизнь».[159]
По мере усиления социального давления на Замятина, которое к 1929 году стало «делом Пильняка и Замятина», растет и внутренняя независимость художника, желание отстоять неподвластную обществу, «непроницаемую» личность. В художественном творчестве конца 1920-х годов (в рассказах «Икс», 1926; «Ела», 1928; «Наводнение», 1929) утверждается автономность внутренней жизни личности.[160] Использование фрейдистских образов для изображения человеческой психики и творческого процесса встречается уже в лекциях по технике художественной прозы, но именно в предэмигрантский период психоанализ становится обобщающим мифологическим кодом, организующим как художественное, так и «эстетическое» пространство Замятина. «Бессознательное», «тайное» становится последним прибежищем для свободного человеческого духа. В это же время Замятин задумывает сборник «Как мы пишем», в который приглашает разных по своим эстетическим установкам современных писателей (А. Белого, А. Толстого, Вяч. Шишкова, О. Форш, В. Шкловского, М. Зощенко и др.). Сборник, посвященный внутрилитературным проблемам («дать хотя бы краткие и не вполне систематизированные очерки технологии литературного мастерства»[161]), получает широкий общественный резонанс,[162] ибо покушается на святая святых – связь художника с государством. Несмотря на то, что некоторые участники сборника (М. Зощенко, Н. Никитин и особенно Б. Пильняк) также признают важность подсознательной работы, «сна» для творческого процесса, именно статья Замятина «Закулисы» утверждает особое, интимное право художника на «синий свет» сознания в творчестве. Процесс творчества – это сублимация бессознательной внутренней жизни:[163] «…Укромные углы есть внутри каждого из нас. Я (бессознательно) вытаскиваю оттуда еле заметных пауков, откармливаю их, и они постепенно вырастают в моих мистеров Краггсов, Азанчеевых, викариев Дьюли, строителей Д-503. Это – нечто вроде фрейдовского метода лечения, когда врач заставляет пациента исповедоваться, выбрасывать из себя все „задержанные эмоции“».[164] Статья «Закулисы» развивает основные идеи более ранней лекции «Психология творчества» (из «Техники художественной прозы»)[165] и свидетельствует о глубоком усвоении Замятиным психоаналитической философии, которая для многих его современников была лишь модой. «В спальных вагонах в каждом купе есть такая маленькая рукоятка, обделанная костью: если повернуть ее вправо – полный свет, если влево – темно, если поставить на середину – зажигается синяя лампа, все видно, но этот синий свет не мешает заснуть, не будит. Когда я сплю и вижу сон – рукоятка сознания повернута влево, когда я пишу – рукоятка поставлена посередине, сознание горит синей лампой. Я вижу сон на бумаге, фантазия работает так же, как во сне, она движется тем же путем ассоциаций, но этим сном осторожно руководит сознание»; «Самое трудное – начать, отчалить от реального берега в сон (.). И наконец, на какой-то день работы приходит настоящее, когда начатый сон уже становится неотвязным, когда ходишь загипнотизированный им, когда думаешь о нем на улице, на заседании, в ванне, в концерте, в постели. Тогда уже знаешь, что пошло, что вещь выйдет – тогда работать весело, хорошо, пьяно».[166] Однако, как в лекциях после «Психологии творчества» следуют разделы по технологии писательского мастерства, так и в «Закулисах», обозначив источник авторства – подсознание, Замятин переходит к описанию вполне сознательной работы по воплощению замысла: от образа, возникшего из ассоциации – к слову, в котором «цвет и звук: живопись и музыка дальше идут рядом», к ритму как «основе всей музыкальной ткани», «дыханию фразы», «звуковым и зрительным лейтмотивам», «интегральным» образам, экономии художественных средств для активизации читательского восприятия и, наконец, поэтапной работе с рукописью. «Полусознательность» творчества, по Замятину, – это нарабатываемое годами умение художника «одновременно управлять и движением сюжета, и чувствами людей, и их диалогами, и инструментовкой, и образами, и ритмом».[167] Она не имеет ничего общего с безответственностью автора: «Все сложности, через которые я шел, оказывается, были для того, чтобы прийти к простоте («Ела», «Наводнение»). Простота формы – законна для нашей эпохи, но право на эту простоту нужно заработать. Иная простота – хуже воровства, в ней есть неуважение к читателю: «чего тратить время, мудрить – слопают и так». Я трачу времени много, вероятно – гораздо больше, чем это нужно для читателя. Но это нужно для критика, самого требовательного и придирчивого критика, какого я знаю: для меня самого. Обмануть этого критика мне никогда не удается, и, пока он не скажет, что сделано все, что можно, – поставить точку нельзя».[168]
Не будет преувеличением сказать, что к концу 1920-х годов Замятин оказывается даже ближе к акмеистской «двуипостасной» концепции творца «как харизматического лидера, связанного с божественными энергиями Логоса и как мастера-ремесленника, трудящегося в поте лица».[169] Если в начале 1920-х годов в лекциях он утверждал, что «можно научить малому искусству, художественному ремеслу», большому же искусству, художественному творчеству научить нельзя, признавая тем самым наличие метафизического источника творчества, то теперь доказательством существования этой другой реальности становится «тайное подсознание». Кроме того, Замятин разделит с акмеистами тяжелую ношу общественной этической позиции, ориентированной на ценности человека, преодолевающего трудности и не подчиняющегося преходящим историческим обстоятельствам. Письмо Замятина к Сталину является своеобразной «эстетической декларацией», отстаивающей право художника на «возможность писать» и не предавать собственных «детей» – свои книги. Творчество по-прежнему имеет для Замятина абсолютную ценность. В наброске конца 1928 года он записывает: «Когда мои дети выходят на улицу плохо одетыми – мне за них обидно, когда мальчишки швыряют в них камнями из-за угла – мне больно, когда лекарь подходит к ним со щипцами или ножом – мне кажется, лучше бы резали меня самого. Мои дети – мои книги, других у меня нет (…). Человек перестал быть обезьяной, победил обезьяну в тот день, когда написана была первая книга».[170]
В эмиграции деятельность критика для Замятина становится едва ли не основной. Кроме портретов-некрологов «Андрей Белый» (1934) и «М. Горький» (1936), с 1933-го по начало 1937-го года Замятин напишет 4 обзора современной русской (советской) литературы для французского еженедельника «Marianne» и несколько статей. Публицистика Замятина этого периода носит ярко выраженный репрезентативный характер: писатель знакомит западного читателя с политической атмосферой в Советской России («Советские дети», 1932; «Actualites sovietiques», 1936), новыми именами в советской литературе (обзоры «Русская литература» – I, II, III, IV), классиками русской литературы XX века («Андрей Белый», «М. Горький») и собственной жизнью и творчеством («О моих женах, о ледоколах и о России», 1933). Концептуальным центром эмигрантской публицистики Е. И. Замятина является эссе 1933 года «Москва – Петербург». Издатели сборника публицистики Замятина предполагают, что статью, опубликованную в берлинском журнале «Slavische Rundschau», заказал Замятину Р. Якобсон, с которым писатель встречался в Праге в декабре 1931 года. Статья явилась важным художественным и эстетическим «документом» Замятина. В ней со всей очевидностью обнажилась традиционность авторской мифологии: представление о современной русской культуре оформлено в традиционных для нее антиномиях – западное / восточное, мужское / женское, Петербург / Москва. Объемная картина современной русской литературы создается объединением двух подходов – «синтетического» и «психоаналитического». Литература (как средоточие «элементов всех искусств: в композиции – архитектура, в типах – резец, в пейзаже – краска, в стихе – музыка, в диалоге – театр»[171])дает, по Замятину, «более всего материала» для создания мифа о современном русском искусстве. Анализируя современное состояние русской литературы и других видов искусств в психоаналитических категориях (рационального / эмоционального как мужского / женского, западного / восточного, московского / петербургского, американского / европейского), Замятин, задолго до В. Вейдле,[172] создает концепцию «петербургского искусства», «петербургской поэтики», основанной на фундаменте западной, рациональной, интеллектуальной культуры и продолжающей традиции русской классики (к которой относит акмеистов в поэзии, «Серапионовых братьев» – в прозе, формалистов – в критике), в противовес авангардистскому искусству «американизованной» Москвы (футуризм, имажинизм, конструктивизм), разрывающему с традицией. Все важнейшие достижения современного искусства лежат для Замятина на «петербургской линии», в основании которой – акмеистский постсимволизм («неореализм»): «Компас акмеизма – явно указывал на Запад, рулевой акмеистического корабля стремился рационализировать поэтическую стихию и ставил во главу угла работу над поэтической технологией»; «…Блок шел один, за ним не было никого. Это стало особенно ясно, когда на перевыборах председателем петербургского Совета поэтов выбран был, вместо Блока, Гумилев. В истории новой русской литературы он должен занять место как крупный поэт и глава типично петербургской поэтической школы „акмеистов“…»[173]; «Исходя из определения сущности искусства как суммы приемов мастерства, формалисты задачей литературного критика ставили объективный анализ приемов, применяемых писателем. Правда, в этой концепции критика оказывалась только отвлеченной анатомией, в ней не было еще начала живой медицины (что только и дает смысл существованию критики) и все же, рядом с формализмом все остальные критические методы, приписывавшие литературе самые разнообразные рецепты, были не более чем знахарством».[174] Роспуск РАПП в апреле 1932 года видится Замятину из эмиграции победой «петербургской» линии русской литературы, служащей не государству, а великому Искусству.
Завершая разговор о связи эстетических исканий Е. И. Замятина с акмеизмом, нужно назвать еще одну точку соприкосновения – художественную игру, вырастающую из символистской идеи жизнетворчества. Активное участие Замятина в «Обезвелволпале» А. М. Ремизова и «Тетради примечаний и мыслей Онуфрия Зуева» (цикл шутливых обзоров в «Русском современнике»,[175] материал к которым собирал целый коллектив единомышленников – К. Чуковский, М. Зощенко, П. Щеголев, А. Эфрос и др., – но автором был Замятин) – это дань эстетической игре, собственно художественной деятельности, которая существовала в пространстве литературы и не претендовала на жизнетворение, но обусловливалась представлением о художественном творчестве как сакральной деятельности. Культурно-мифологические травестийные маски Епископа Обезьянского и Онуфрия Зуева позволяли обнажать тайники души автора, играть «другое существо» (И. Хейзинга) во имя сохранения культуры.
Синтетическое мышление Е. И. Замятина было открыто не только достижениям символизма и авангарда (о чем неоднократно писали исследователи), но и диалогической и экзистенциальной философии, психоанализу и акмеистской концепции творчества. Расходясь с акмеистами в вопросе веры, Замятин разделяет с ними абсолютную веру в искусство, способное преодолеть «расколотость» современного мира и человеческого сознания «интегральным» изображением органически целостного единого космоса. Интегрирующая идея художественного синтеза явилась ответом Замятина на вопрос о смысле творчества, понятого модернистски (акмеистически): «пустоту» жизни можно заполнить только творческим созиданием. Мастерство, работа над литературной техникой в такой системе не самоцель, а показатель ответственности художника перед культурой.
Таким образом, несобственно художественная саморефлексия Е. И. Замятина была направлена на строительство новой, эстетической утопии как опоры в ситуации крушения утопии социальной. Культуро– и литературоцентричные параметры этой утопии утверждают понимание самодостаточности художественной реальности писателем-модернистом.
Глава 2 ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЧНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ КАК СПОСОБ МИФОЛОГИЗАЦИИ ПРОЗЫ: ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ СКАЗ, СТИЛИЗАЦИЯ, ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ (Е. И. ЗАМЯТИН)
Проблемы повествования актуализируются в переломные периоды эстетического самосознания литературы, поиска нового языка прозы. В. Ш. Кривонос писал по поводу классического этапа русской литературы начала XIX века: «Становление новой русской прозы выдвигает проблемы повествования на первый план как ключевые. Поиск прозой собственного языка предельно обострил интерес творцов русского романа и русской повести к самому процессу повествования, к различным повествовательным формам, к «личности» повествующего лица».[176] Внимание к повествованию не в меньшей степени характерно и для русской прозы первой трети XX века, переживающей смену парадигм художественности. Исследовательница символистского романа Л. Силард отмечала, что «открытие новых форм повествования и структурирования прозы явилось существенным вкладом символизма в русскую литературу».[177] Сосуществование разнонаправленных повествовательных стратегий (преобразованного реализма, символизма, постсимволизма и авангарда)[178] свидетельствует о том, что не только вопрос о судьбе России, но и проблема истинного искусства, конгениального кризисной современности, становится «полем яростных схваток» (В. Келдыш). В прозе, как и в литературе и культуре в целом, ощущается исчерпанность прежних художественных форм и поиск нового повествовательного языка.
В конце 1900-х и в 1910-е годы в прозе символизма (Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Белый, Ремизов) и постсимволизма, или неореализма (И. Шмелев, С. Сергеев-Ценский, Е. Замятин, М. Пришвин, А. Толстой, Б. Зайцев), происходит оживление литературоцентричных повествовательных стратегий (сказ, разные виды стилизации, орнаментализм, лирическое повествование, ритмическая проза, сложное взаимодействие речи героя и повествователя в несобственно-авторской и несобственно-прямой речи), развивающих классическую повествовательную линию Гоголя – Лескова – Мельникова-Печерского и проч. Литературность, эстетизация повествования в творчестве представителей данного литературного ряда была сразу замечена критикой, а позднее подверглась теоретической рецепции формалистов, В. Виноградова, Е. И. Замятина и других (глава 1 нашего исследования). В. М. Жирмунский назвал эту линию литературы «чисто эстетической прозой», противопоставив ее повествовательно нейтральной прозе реалистов (А. Куприна, И. Бунина, М. Горького).
Феномен прозы Е. И. Замятина в аспекте повествования уникален. С одной стороны, Замятин принадлежал к наиболее авторитетным прозаикам заявившей о себе литературы неореализма, причем его самого эстетского крыла – «Белый – Ремизов», или «школе Ремизова»; с другой, сказово-орнаментальная линия будет продолжена и развита (не без участия Замятина) литературой метрополии 1920-х годов: в творчестве учеников Замятина – серапионов (Вс. Иванов, М. Зощенко, В. Каверин, Л. Лунц, Н. Никитин) и орнаменталистов – И. Бабеля, Б. Пильняка, Л. Леонова.
Есть и другие причины, побуждающие исследовать литературоцентричное повествование Замятина. Замятин по-прежнему остается наиболее дискуссионной фигурой с точки зрения творческого метода. Мнения исследователей о природе замятинского творчества расходятся кардинально: часть ученых относит творчество Замятина к реализму (отечественная традиция), вторая часть – к авангарду (в основном, представители западного литературоведения, но и ряд российских ученых). Третья позиция, развивающая концепцию В. Келдыша о «промежуточной эстетической природе» («синтез»), проблему не решает, так как встает вопрос о реалистической или модернистской доминанте творчества писателя. Кроме того, Замятин – авторитетный теоретик нового искусства. Он, как никто другой, осознавал как исчерпанность традиционного реализма и символизма, так и крайности народившегося в лице футуризма авангарда. Корпус статей и лекций конца 1910-х – начала 1920-х годов свидетельствует о целостности эстетики и художественного творчества писателя: творчество развивается в логике эстетических представлений Замятина, эстетика становится способом «самоосмысления» прозы. Проблему нового языка прозы Замятин назвал «техникой художественной прозы» (название его лекций), или «технологией писательского мастерства» (в предисловии сборника «Как мы пишем»,[179] написанного Замятиным). И, наконец, в своем художественном творчестве Замятин дал «энциклопедию» повествовательных форм своего времени: «характерный» и орнаментальный виды сказа, разные типы стилизации и орнаментализации прозы, «текст в тексте», персональное повествование и др.
Творчество Е. И. Замятина, особенно роман «Мы» (1921), по-прежнему остается в центре активного исследовательского внимания. Отечественное замятиноведение существенно продвинулось в культурологическом осмыслении творчества писателя в контексте «оценок истории русской литературы XX века» (Л. В. Полякова), традиций русской классики (И. М. Попова) и «русской народной культуры» (Н. Н. Комлик), «неореалистической прозы» 1910-1930-х годов (Т. Т. Давыдова), «истории культуры XX века» (М. Ю. Любимова). Не смотря на большое количество диссертаций, статей, учебных пособий и монографий,[180] регулярные международные Замятинские чтения в Тамбовском университете, проблема целостного изучения творчества Замятина остается открытой.[181]
Исследование повествования как принципа организации художественного целого является важной историко-литературной и теоретической проблемой. Начав оформляться в трудах представителей формальной школы, В. Виноградова, М. Бахтина, В. Волошинова, В. Проппа в 1920-е годы, русская теория повествования получила дальнейшее развитие в исследованиях структуралистов (Ю. Лотмана, Б. Успенского и др.), Д. Лихачева, А. Чудакова, Б. Кормана, Н. Гея, Ю. Манна и других ученых. В 1990-е годы в отечественном литературоведении появляются работы как по исследованию отдельных повествовательных форм и повествовательных стратегий в конкретных художественных системах, так и исторической поэтики повествования (работы Ю. Манна, В. Кривоноса, Н. Гея, Г. Мосалевой, В. Тюпы по поэтике повествования в реалистической прозе XIX века; В. Левина, Е. Скороспеловой, Е. Галимовой, Н. Грякаловой, Е. Хрущевой – по «неклассическому» повествованию в литературе XX века). Но, как отмечает немецкий нарратолог В. Шмид, несмотря на то, что современная нарратология сформировалась «под значительным влиянием русских теоретиков и школ», «нарратология как особая общегуманитарная дисциплина в России в настоящее время только формируется».[182]
Многозначность и научная неопределенность самого термина «повествование» породили различные представления исследователей о предмете поэтики повествования.[183] Как господствующая в отечественном литературоведении традиционная теория повествования, так и нарратология исходят из бахтинского определения структуры произведения как «двойного события»: «события, о котором рассказывается» и «события самого рассказывания».[184] В нарратологии, развивающей идеи формальной школы и структурализма, повествование – это наррация, событие референции и коммуникации (В. И. Тюпа), «повествуемого и повествующего миров» (В. Шмид).[185] Наррация, таким образом, включает в себя сюжет. Традиционная теория повествования, напротив, разводит понятия повествования и сюжета. Не ограничиваясь субъектной организацией текста и учитывая коммуникативную природу произведения искусства, поэтику композиции, вырастающую из концепции «точки зрения» и «перспективации» (П. Лаббок, Б. Корман, Д. Вилперт, Б. Успенский), представители традиционной теории повествования понимают под последним «событие рассказывания» в отличие от «события бытия».[186]
Обобщая опыт поэтики повествования, Н. Д. Тамарченко дает следующее определение термина: «Повествование – «событие рассказывания», т. е. общение повествующего субъекта (повествователя, рассказчика) с адресатом – читателем; совокупность композиционных форм речи, связывающих читателя с изображенным миром и приписанных автором повествователю или рассказчику. Это и отличает повествование от сюжета, т. е. развертывания «события, о котором рассказывается» в произведении. Специфический признак повествования – его «посредническая» функция; осуществление контакта читателя с миром героев. При этом «не только субъект речи определяет речевое воплощение повествования, но и сами по себе формы речи вызывают с известной определенностью представление о субъекте, строят его образ…».[187]
Опираясь в нашей работе на понимание повествования как «опосредованности», мы в первую очередь руководствуемся спецификой исследуемого материала. Проза Е. И. Замятина продолжает гоголевско-лесковско-ремизовскую линию в русской литературе, репрезентирующую самоценность субъектного и языкового представления фабулы; «кто» и «как» говорит является определяющим для этой литературы. Инструментарий нарратологии, не имеющей в своем арсенале термина «рассказчик», невольно ограничивает описание всего многообразия повествовательных форм, выработанных художественной системой Замятина. Xотя в отдельные моменты представляется продуктивным обращение и к нарратологическим методам анализа (например, в изучении орнаментального сказа).
К повествованию как организующему принципу прозы так или иначе обращались все писавшие о Замятине, но предметом целостного и системного изучения повествование Замятина до сих пор не стало.[188] Однако совершенно очевидно, что именно поэтика повествования определяет специфику неповторимой замятинской прозы (организацию сюжета, хронотопа, субъектной сферы, концепции слова, авторского стиля) и может явиться основанием для решения проблемы метода.[189] Кроме того, именно повествование Замятина («перефункционирование» традиционных форм сказа, стилизации, персонального повествования и проч.) несет в себе семантику литературности, своей структурой рефлексируя по поводу себя самого.
2.1. Поэтика орнаментального сказа в ранней прозе Е. И. Замятина
Теория сказа и эстетика орнаментального сказа Е. И. Замятина
Традиционно активизация сказового повествования в те или иные эпохи объясняется развитием национального самосознания, формированием нового типа авторства в литературе в периоды социальной нестабильности в обществе, когда автор отказывается от позиции «всеведения» и делегирует свои функции герою. Возвращение русской прозы к сказу в начале XX века связывается с демократизацией жизни, с осознанным стремлением писателей предоставить носителям массового сознания «возможности заговорить непосредственно от своего имени».[190] Но сказ в творчестве модернистов, создававших неклассическую прозу, явился и мощным средством обновления языка: «литературно-художественное повествование обогатилось новыми ритмами и интонациями; новая литературная школа «встряхнула» (…) синтаксис художественной прозы, придала ему невиданную ранее динамичность, актуализировала находившиеся в пренебрежении речевые структуры».[191] Разные эстетические устремления породили и разные типы сказа: «орнаментальный» (Б. Эйхенбаум), «авторский», пик которого пришелся на 1910-е годы, и традиционный, «характерный» сказ демократического рассказчика, бурное развитие которого наблюдалось в послереволюционный период.
Впервые систематическое осмысление сказа как способа повествования и разграничение двух типов сказа было предпринято формалистами в начале 1920-х годов, которые, как пишет О. А. Xанзен-Леве, оказались «единодушны в признании роли посредников за Ремизовым и Замятиным (и Белым) при трансформации фольклорного сказа Лескова и сказа «натуральной школы» (прежде всего Гоголя) в «орнаментальный сказ» «Серапионовых братьев» и «революционного романтизма» начала 20-х годов».[192] В программной статье Б. Эйхенбаума «Лесков и современная проза» (1925) будет сформулировано понятие «орнаментального», «стилизованного» сказа: «От Ремизова через Замятина сказовые формы переходят к молодому поколению беллетристов, иногда переплетаясь с декламационной и «поэтической орнаментикой», как у Пильняка или у Вс. Иванова. Такой орнаментальный сказ, имеющий уже очень мало общего с устным рассказыванием, становится на некоторое время очень распространенной повествовательной формой. В нем сохраняются следы фольклорной основы и сказовой интонации, но рассказчика как такового, собственно, нет. Получается своего рода стилизация сказа».[193] Эйхенбаум назовет «проблему повествовательной формы» «основной проблемой современной русской прозы», в которой «фабульное построение отошло на второй план»:[194] «…Появление в повествовательной прозе сказовых форм имеет не только классификационное, но и принципиальное значение. Оно знаменует собой, с одной стороны, перенос центра тяжести от фабулы на слово (курсив автора. – М. Х.) (тем самым от «героя» на рассказывание того или другого события, случая и т. д.), а с другой – освобождение от традиций, связанных с письменно-печатной культурой, и возвращение к устному, живому языку, вне связи с которым повествовательная проза может существовать и развиваться только временно и условно».[195] «Тяга к сказовым формам», «установка на слово, на интонацию, на голос», поясняет Б. Эйхенбаум, – это естественное возвращение литературы к традициям русской словесности, «повествования к рассказыванию».[196] Попытки «победить Запад», возродить «разные формы авантюрного и детективного романов» критик называет искусственными, лежащими вне основной линии современной русской прозы. Анализ сказово-орнаментального повествования приводит представителей формальной школы к разграничению «языковой» и «сюжетной» орнаментальности, а М. М. Бахтина – к выделению в повествовании «события реальности» и «события рассказывания». В работе «Проблема сказа в стилистике» (1925) В. В. Виноградов сформулировал близкие Е. Замятину представления о театрализованности художественной прозы: «За художником всегда признавалось широкое право перевоплощения. В литературном маскараде писатель может свободно, на протяжении одного художественного произведения, менять стилистические маски (…) Консерватизм письменной литературной речи парализуется вливом живых разнодиалектических элементов и их индивидуальных, искусственных имитаций через посредство сказа как передаточной инстанции между художественной стихией устного творчества и устойчивой традицией литературно-стилистического канона».[197]
В нарратологии закрепится идущее от Б. Эйхенбаума и В. Виноградова представление о двух типах сказа: Сказ I – «орнаментальный», «стилизованный» сказ, восходящий к авторскому сознанию, и Сказ II – «характерный» сказ субъекта речи, дистанцированного от автора.[198] «Орнаментальный сказ – это гибридное явление, основывающееся на парадоксальном совмещении исключающих друг друга принципов характерности и поэтичности. От собственно сказа сохраняется устное начало, следы разговорности и жесты личного рассказчика, но все эти характерологические черты отсылают не к единому образу нарратора, а к целой гамме разнородных голосов, не совмещающихся в единство личности и психологии».[199]
В отечественном литературоведении получило развитие бахтинское представление о сказовом слове как «чужом» авторскому. В. Левин, например, пишет: «…Для Розанова, Ремизова, Белого принципиально не характерна ориентация на чужое, неавторское слово. Здесь нет рассказчика, носителя чужого автору языка – ни композиционно, ни стилистически; как бы ни был язык насыщен здесь приметами устной речи, он остается авторским. Поэтому повествование названных авторов, вопреки сложившейся в научной литературе традиции, надо вывести за пределы сказа…».[200] Отсутствие целостного «чужого» сознания рассказчика в ранней прозе Замятина становится основанием для выведения такого повествования за границы собственно сказа и определения его (повествования) как «сказового» или «сказоподобного».[201] «Непоследовательная» повествовательная структура повестей «Уездное» (1912), «На куличках» (1913), «Алатырь» (1914) смущала исследователей, неоднократно отмечавших смену повествовательных фокусов в кругозоре нарратора от представителя «уездного» сознания до противопоставленного ему автора-повествователя. Переключение повествовательных «регистров», выражающееся в чередовании сказового слова, несобственно-авторской речи и несобственно-прямой речи персонажей, чаще всего объяснялось формальными стилизаторскими устремлениями писателя, не связанными с концепцией про-изведения.[202]
В прозе Е. И. Замятина 1910-х годов обнаруживаются обе сказовые тенденции. Рассказы «Старшина», «Кряжи», «Правда истинная», «Письменно», созданные в традициях характерного сказа, объединены субъектом речи и сознания, противопоставленного автору и близкого изображаемой среде. Тяготеющие к фольклорной стилизации, эти произведения утверждают ценности национального бытия, жизнеспособные основы русского национального характера в период неприятия автором исторической реальности. Но ключевые произведения этого периода, которые открыли Замятина русскому читателю, написаны в манере орнаментального сказа. Антиномичная повествовательная стратегия, при которой «стилизованный» сказ повестей и сказок оказался симметричен «характерному» сказу рассказов, обозначила основное противоречие двойственного сознания автора и его художественного мира: стремление уравновесить всеразрушающий релятивизм незыблемым идеалом, трезвый, иронический взгляд на современный мир – сказкой национального бытия.
Если вернуться к теории «диалогического языка», сформулированной Замятиным в лекциях по технике художественной прозы и статьях начала 1920-х годов, то можно обнаружить связь замятинских представлений о сказе с концепциями М. М. Бахтина и В. В. Виноградова. Сказовое слово диалогично, поэтому сказ для Замятина становится наиболее продуктивной формой нового искусства. Во-первых, сказ предполагает встречу устной и письменной речи, народной и официальной культур, двух типов национального сознания, выраженных в соответствующих языковых формах. Во-вторых, при помощи сказа создается новый тип произведения, где печатное слово синкретично вбирает слуховой («рассказ») и зрительный («показ») образы. Театральность сказа позволяет соединить достоинства прозы и драмы, выстроить диалог автора с читателем: «Творчество, воплощение, восприятие – три момента. Все три в театре разделены. В художественном слове – соединены: автор он же актер, зритель – наполовину автор».[203] Сказ осознается Замятиным инструментом диалогического искусства, дающим автору возможность разыграть «чужое слово»: автор художественной прозы – актер, всякое эпическое произведение – «игра, театр».[204] Осознание диалогической природы творчества, установка на воспринимающее сознание актуализируют проблему маски: автор – актер, надевающий маску.[205]
Литературная маска – «способ сокрытия писателем собственного лица с целью создания у читателя иного (отличного от реального) образа автора».[206] Н. В. Беляева выделяет ряд дифференциальных признаков маски: «1) ее диалогическую природу – маска отделяет «лицо» автора в произведении и вне его; 2) «диалог» маски ориентирован прежде всего на читателя, 3) при этом читатель вовлекается в рамки текста как участник диалога; 4) маска является сознательным конструктом своего субъекта; 5) в «программу» конструирования входит иронический / остраняющий / игровой модус».[207] Очевидно, что в начале 1920-х годов представления Замятина о сказе, вытекающие из собственного «сказового» этапа творчества 1910-х, утверждают модернистскую концепцию «орнаментального» или «стилизованного» сказа как способа выражения авторского сознания. «Сказовая концепция» Замятина развивала символистские представления об образе автора как «имперсонализированной множественности», тяготеющей к «масочности», а прямыми предшественниками Замятина можно назвать А. Белого и А. Ремизова.[208]
«Уездное» (1912): принцип смены нарративных масок
Обратимся к предшествующей «практике» Замятина и проследим варианты сказового слова в повестях и сказках 1910-х годов. Е. И. Замятин входит в русскую литературу со сказовой повестью «Уездное» (1912) и за четыре года создает ряд повестей («На куличках», 1913; «Алатырь», 1914; «Север», 1916), рассказов («Непутевый», 1913; «Африка», 1915; «Кряжи», 1915; «Письменно», «Правда истинная», «Старшина», 1916) и сказок («Бог», «Дьячек», «Петр Петрович», «Ангел Дормидон», «Электричество», «Херувимы», «Дрянь-мальчишка», «Картинки», 1914–1917 гг), прочно закрепивших за ним репутацию писателя ремизовского круга. При анализе сюжета повести «Уездное» исследователи неоднократно отмечали переворачивание традиционных тем, образов, мотивов (блудного сына, богатырства, окаменения, грехопадения, пути, града Китежа, нарушения христианских заповедей), жанров (жития, былины, сказки, легенды).[209] Однако автор не только создает неомифологический подтекст бытового сюжета, но и строит сюжет по законам мифа.[210]
Индетерминистские принципы создания образов-персонажей Замятина отмечены И. Шайтановым: «Действию, поступку предшествует пространственное обозначение характера. Первое впечатление не обманывает – зрительное или слуховое (звук имени) оно получает в дальнейшем подтверждение и развитие».[211] У Замятина имя не только внешняя характеристика героя, но и знак его внутренней сущности, связано с народно-фольклорной традицией: в народном сознании имя отождествляется с душой его носителя, становится источником силы и процветания. По мере продвижения к желанной цели Барыба меняет имя – из Анфимки превращается в «победителя» Анфима Егорыча. В создании имени героя писатель следует как традиции «говорящих» имен литературы XVIII века, унаследованной и классикой XIX века («твердокаменный» и «четырехугольный» Барыба, подмигивающий Моргунов, медведеподобный Яков Ломайлов и т. д.), так и открытиям символистской прозы начала ХХ века: суть личности закодирована в имени. Исследователь символистского романа отмечал, что «проза ХХ века стала вуалировать не только прямые значения имен персонажей, но и оттенки их значений (коннотации). Очень часто все семантическое поле такого имени участвует в создании образа действующего лица и определяет его индивидуальную структуру. В этих случаях этимологические истоки значений имени могут выступать как определяющие.[212]
Сюжет «Уездного» родственен мифологическому и фольклорному построениям, когда «значимость, выраженная в имени персонажа и, следовательно, в его метафорической сущности,[213] развертывается в действие, составляющее мотив; герой делает только то, что семантически сам означает», т. к. «мотивы не только связаны с персонажем, но и являются его действенной формой».[214] Показательно, что и в лекциях Замятин советует начинающим писателям работу над сюжетом начинать не с фабульной схемы или расстановки характеров, а с «оживления» главных действующих лиц: «Падо, чтобы вы знали, как кто ходит, улыбается, здоровается. Затем вы должны подметить особенности в манере говорить у каждого из действующих лиц. Т. е. вы должны судить о своих персонажах так же, как вы судите о незнакомом человеке; вы наблюдаете его извне, и отсюда, индуктивным путем, от частностей – восходите к целому, общему. Когда вы узнаете действующих лиц снаружи, вы будете детально знать их и внутри; вы будете детально знать характер каждого из них, вам будет совершенно безошибочно ясно, кто что из них может и должен сделать. Тогда определится и сюжет, определится окончательно и правильно. И только тогда можно набросать план».[215]
Сюжет «Уездного» разворачивается как пародирование пути мифологического героя со сменой имени, переодеванием, освоением мифологического пространства во имя «достижения его сокровенных ценностей».[216] Жизненный путь Анфима Барыбы не только «держит» фабулу произведения, но и является основой мифологического сюжета.[217]
Помимо семантики имени автор дает и другую возможность мифологической интерпретации событий – смена одежды, «переодевание». В мифе, а потом и в литературе, «перемена одежды стала представляться переменой самих сущностей людей. (…) Одежда получила такую же стабильную семантику, как маска, и каждый актер на сцене, жрец в храме и человек в быту оказались наделенными раз навсегда данной характеристикой платья, маской платья, семантизирующей его социальное положение, возраст, пол и характер. Одежда действующих лиц в литературном произведении (…) оказалась связанной с перипетией самого сюжета: такова эпическая роль бедной и грязной одежды, рубища и проч. или животворящая значимость богатой, светлой, яркой и, главное, новой одежды. Эта сюжетная перипетия достигается поэтому одним переодеванием героя в платье, соответствующее той фазе, – смерти или обновления, – которую он переживает».[218] С этим связана и семантика цвета: белый цвет соотносится «со светом, жизнью, счастьем, радостью».[219] Смена «дырявых штанов» (жизнь на балкашинском дворе, с собаками) на бархатный жилет, брюки «на улицу», «сапоги-бутылки», часы серебряные на шейной цепочке, «калоши новые, резиновые» (у Чеботарихи), а затем – на длиннополый сюртук «вроде купецкого» («в свидетелях» у адвоката Моргунова) и, наконец, – на долгожданный «белый, ни разу не стиранный еще китель» с «золотыми жгутами на плечах» и «ясными пуговицами» – для Барыбы и уездников это этапы успешного продвижения героя к желаемой цели. Новое платье действительно меняет саму сущность Барыбы, требует выполнения новой социальной роли – жандармской.
Сюжет повести мифологизируется хронотопом. Замкнутость и изолированность малого мира отождествляется с градом Китежем: «Пе-ет, до нас не дойдет, – говорил Тимоша уныло – куды там. Мы вроде как во град-Китеже на дне озера живем: ничегошеньки у нас не слыхать, над головой вода мутная да сонная. А наверху-то все полыхает, в набат бьют»[220] [С. 120]. Существование «чужого» разомкнутого мира, звуки которого доносятся в замкнутый мир уездных обывателей, лишь подразумевает наличие «своего», а вовсе не отменяет законов мира «собственных имен» (В. Топоров). Для уездников их мир – истинное православное царство, куда не доносятся звуки «антихристовых волнений» большого, разноязыкого и пестрого мира «Вавилонов»: «Это уж пусть себе они там в Вавилонах с ума-то сходят. А нам бы как поспокойней прожить» [С. 120]. Профанируя семантику града Китежа как истинного, праведного места, автор объясняет кризисное состояние русского общества утратой им народных, национальных ценностей.
Освоение пространства осуществляется в мифе движением по пути; достижение цели субъектом влечет за собой повышение социального и сакрального статуса. Путь Барыбы – это пародирование пути мифологического героя. Чтобы подчеркнуть крайнюю степень падения своего героя, автору недостаточно социальной оценки его деяний – превращения в жандарма, он заставляет Барыбу последовательно нарушать универсальные законы человеческого существования – христианские заповеди. Причем акцент ставится на негомогенности пути, который строится по линии все возрастающих трудностей и препятствий, как в мифе: сначала Барыба голодает, потом продается Чеботарихе за сытую жизнь, насилует Польку, крадет последние деньги у монаха Евсея, зарабатывает лжесвидетельством и отправляет на виселицу своего приятеля Тимошу.
Естественное начало пути – это дом, который также имеет мифологическую семантику «обжитого и упорядоченного мира, огражденного стенами от безбрежных пространств хаоса».[221] Наказание отца, выгоняющего сына из дома за лень, воспринимается как нарушение «духовного и душевного мира», «семейного лада», психологически кажется чрезмерным. Так обнажается оппозиция «школы» и «жизни», «культуры» и «природы»: «трясина природы», утроба засасывает Барыбу, обходящегося без культурных ценностей.
Путь Барыбы «размечен» на участки, что композиционно соответствует делению на главы. Каждая глава – определенный отрезок «хождений» Барыбы и, одновременно, представление жизни того или иного социального слоя России начала века: купечества, духовенства, ремесленников, трудового люда. Набор топосов в повести постоянен, как в сказке: дом, школа (уездное училище), (балкашинский) двор, базар, трактир, монастырь, церковь, площадь. Все эти места «характеризуются скоплением народа, толпой, втягивающей героя в свой водоворот и побуждающей его к тем или иным действиям и поступкам».[222] Кульминационный отрезок пути – муки совести за то, что Барыба отправляет на смерть Тимошу.
Конец пути, цель движения, «его явный и тайный стимул», в нем «находятся высшие сакральные ценности».[223] Ценности уездного мира – материальные ценности, социальный статус – место урядника – можно обрести, устранив препятствия, нравственные законы. Барыба, попирая эти законы, поднимается по служебной лестнице, получает новый статус «господина урядника» и новый китель, которому поклоняются уездники, однако ему необходимо, чтобы и прогнавший его отец «подтвердил» успех. В разрушении связей между отцом и сыном усматривается противоестественность деяний Барыбы. Вернувшись в дом отца, «мифологический герой» не находит ожидаемого признания своего нового социального статуса, блудный сын не получает прощения. Ложные идеалы уездного осмеиваются: половой Митька в трактире выражает почтение господину уряднику одной щекой, но ухмыляется другой, обращенной к приказчикам. Но развенчание Барыбы не означает победы над ним. Барыба остается для автора опасной силой: символом самодержавной государственности и национальной косности, неизменной и архаичной невыделенности сознания личности из мифологического мира себе подобных.
Однако, осознавая противоположность материально-телесного и духовного существования, художник обнаруживает их взаимопритяжение. Утробное существование Барыбы, его стремление обладать (едой, одеждой, женщиной, должностью), «опрочнеть» – это естественно-природная сила жизни. Истончение плоти ведет к зарождению духа: Барыба после болезни, «с тенями серыми, осенними на лице», «попрозрачнел как-то, почеловечел». Муки совести («мураш надоедный») после преступления против Тимоши и монашка снимаются оправданием нежизнеспособности жертв: «Дунуть, вот – и потухнут и свечка, и монашек» [С. 107]; «Да и жизни-то в нем полвершка (Барыба – о Тимоше. – М. X.)» [С. 130].
Тимоша, «бестелесная духовность», тянется к Барыбе из-за страха развоплощенности и стремления обрести почву под ногами. Сомневающийся в существовании Бога, вопрос о материальности мира Тимоша решает по-шопенгауэровски: «И завел свое – о боге: нет, мол, его, а все выходит, жить надо по-божьи. – Вот, кажется иной раз – есть. А опять повернешь, прикинешь – и опять ничего нет. Пичего: ни бога, ни земли, ни воды – одна зыбь поднебесная. Одна видимость только… Одна видимость. Дойти-то до этого, что-о! Пет, а вот с одним ничем-то этим с глазу на глаз пожить, воздухом-то попитаться. Вот тут, брат. » [С. 95]. Страх перед «кажимостью» жизни, когда нет ни Бога, ни связи с материей жизни, ведет к самоистреблению человека (чахотка, постепенное умирание). Неукорененность в жизни делает зыбкой духовную связь между близкими людьми: Тимоша бьет жену, совершает чудовищный экперимент над своими детьми, заставляя их есть из своей миски. Такая «духовность» не способна одушевить зоологический мир «барыб» и «чеботарих», а потому уничтожается этим миром.
Итак, фабула «Уездного» (жизненный путь Барыбы) строится в соответствии с традиционной для модернизма архетипической схемой пародирования пути мифологического героя. Ее конкретные культурные проекции («грехопадение», «окаменение», «псевдобагатырство», переосмысление сюжета Блудного сына и града Китежа и др.) доказывают, что миф о национальном мире создается по законам «антимира», утратившего всякие ценности, и языческие, и христианские.
Мифологизация сюжета свидетельствует о близости последнего законам модернистской неомифологической прозы Ф. Сологуба, А. Белого, А. Ремизова, использующей тексты культуры как «строительный материал» для создания мифа о современной действительности. Однако пародийное переосмысление известных читателю культурных мифов, призванное зафиксировать кризис современного национального мира, не воспринимается как новый, неповторимый и оригинальный сюжет. В терминологии формалистов в повести действует сознательная авторская установка на «механизацию», «автоматизацию» фабулы, о чем свидетельствует и следующая повесть – «На куличках», обнажающая прием узнавания литературных прототекстов: «Городок Окуров», «Мертвые души», «Мелкий бес» и др. Автор переносит в «узнаваемом» сюжете «центр тяжести» с события на его представление, что должно «вывести сознание из привычного автоматизма» (В. Жирмунский). Главное внимание сосредоточивается не на «событии реальности», а на «событии рассказывания» – «показе» в форме сказа.
В «сказовом представлении» «Уездного» участвуют несколько нарративных масок, которые примеривает автор. Во-первых, это маска уездного рассказчика, слово которого открывает повествование и служит самораскрытию мифологического «мы»-сознания. Этот авторский лик впоследствии будет осознан Замятиным как необходимый в любом произведении «язык изображаемой среды»: «…Язык (в произведении. – М. X.) – должен быть языком изображаемой среды и эпохи. Автора совершенно не должно быть видно (…) Я распространяю этот тезис – на все произведение целиком: языком изображаемой среды должны быть воспроизведены и все авторские ремарки, все описания обстановки, действующих лиц, все пейзажи (…) не буквальный язык среды, а художественный синтез языка среды, стилизованный язык среды».[224] В «Уездном» единство рассказчика с окружающей его национально-исторической стихией работает на создание мифологической картины мира, где личность, идентифицирующая себя с другими, рассказывает о своем мире изнутри: «И верно: как газеты почитать – с ума сходят. Почесть, сколько веков жили, бога боялись, царя чтили. А тут – как псы с цепи сорвались, прости господи. И откуда только из сдобных да склизких вояки такие народились? Ну, а у нас пустяками этими разными и некогда заниматься: абы бы ребят прокормить, ведь ребят-то у всех угол непочатый» [С. 120–121]. Энтропийность уездного мира и уездного сознания представлена в грамматических глагольных формах времени рассказывания – вечно длящегося настоящего: «Да, тут уж не то, что на балкашинском дворе, жизнь. Па всем готовеньком, в спокое, на мягких перинах, в жарко натопленных старновкою комнатах. Весь день бродить в сладком безделье. В сумерках прикорнуть на лежачке рядом с мурлыкающим во все тяжкие Васькой. Есть до отвалу. Эх, жисть!» [С. 88]. Изоморфность «коллективной маски» сознанию «барыб» и «чеботарих» проявляется порой в неразграничении слова нарратора и персонажа. Равноправное присутствие среди других голосов слова «уездного» персонажа свидетельствует об авторском восприятии массового сознания как реальной, объективной силы, которую «уловить и победить категориями мысли нельзя» (М. М. Бахтин):[225] 1) «Ушел дьякон – еще того хуже: нейдет из головы Анфимка проклятый. А она-то его холила, а?» [С. 98] – слово Чеботарихи; 2) «Весело отбивал Барыба поклоны в спальне, рядом с Чеботарихой, и благодарил неведомых каких-то угодников: миновало, пронесло, не сказал Урванка» [С. 99] – слово Барыбы.
Исследователи отказывают повести Замятина в смене социальных масок,[226] однако, на наш взгляд, сатирический модус произведения возникает в столкновении трех «языков», трех субъектов речи. Кроме названного уездного рассказчика, это маски традиционного фольклорного сказителя и нейтрального книжного повествователя (обозначим эти маски соответственно Маска 1, Маска 2 и Маска 3). Уже в первой главе при изображении главного героя уездным рассказчиком (Маска 1) возникает другая повествовательная инстанция: герой показывается извне, слово нарратора[227] утрачивает зависимость от сознания героя и приобретает поэтическую составляющую (Маска 2). Два субъектно разнородных фрагмента разделены репликой (выделенной курсивом) другого персонажа (отца): «Встанет Барыба наутро смурый и весь день колобродит, зальется до ночи в монастырский лес. Училище? А, да пропадай оно пропадом! Вечером отец возьмется его бузовать: «Опять сбежал, неслух, заворотень?» А он хоть бы что, совсем оголтелый: зубы стиснет, не пикнет. Только еще колючей выступят все углы чудного его лица. Уж и правда: углы. Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжкие железные челюсти, широченный, четырехугольный рот и узенький лоб: как есть утюг, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых углов. По так одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад какой-то выходит: может, и дикий, может, и страшный, а все же лад» [С. 80–81]. Если первую повествовательную позицию можно условно назвать сказом рассказчика, воспроизводящего сознание и слово героя, то вторая – принципиально иное образование, воспроизведение авторского сознания, имитирующего стиль примитива.
Последовательность смены нарративных масок может быть и обратной: от сказителя – к уездному рассказчику. В 9 главе первый абзац, поэтически воссоздающий «под Ильин день вечер», стилистически инороден последующему изображению Чеботарихи в церкви. Однако границы между повествовательными масками подвижны. Маска сказителя иногда «сползает», и ей на смену приходит нейтральный повествователь: «Чеботариха стояла, как всегда, впереди, у правого клироса. Сложила на животе руки и уперлась глазами в одну точку, на правом дьяконовом сапоге. К сапогу прилипла какая-то бумажка» [С. 98]. Но после изображения внутренней речи героини нейтрального повествователя сменяет уездный рассказчик: «"Педугующих и страждущих"… „И меня, стало быть, страждущую. Ах ты, Господи, ну и подлец же Анфимка!“ Кланялась в землю, а бумажка на сапоге – вот она, так и мельтешится перед глазами. Ушел дьякон – еще того хуже: нейдет из головы Анфимка проклятый. А она-то его холила, а? » [С. 98].
Переключение позиции рассказчика с внутренней по отношению к уездникам на внешнюю (смена Маски 1 на Маску 2) и укрепление внешней точки зрения провоцирует в финале «срывание масок», когда прямое авторское слово завершает повествование: «Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громыхая, задвигался к приказчикам. Будто и не человек шел, а старая воскресшая курганная баба, нелепая русская каменная баба» [С. 135].
Таким образом, современная провинция изображается Замятиным не только «на фоне интеллигенции»,[228] но и на фоне народной традиции, стилизуемой в слове народного сказителя как одного из «авторских» рассказчиков (Маска 2). Орнаментальная оформленность этой повествовательной инстанции онтологизирует народную традицию, узаконивая ее этические и культурные ценности в пространстве текста. С этим «всезнающим» рассказчиком, близким автору и читателю, связан критический пафос повести, ирония. Ирония – двойственный взгляд, совмещающий «внутринаходимость» и «вненаходимость», при сохранении дистанции между субъектом повествования и повествуемым миром. «Уездное» Замятина не только самоизобличается, но и оценивается субъектом, сознание которого выделилось из мифического мира и способно его критически осмысливать. Так, уже в первой повести «уездной трилогии» фольклорный код меняет смысловые функции: фольклорное слово, «обслуживающее» и авторские интенции, и мифологическое сознание уездников, утрачивает традиционные ценностные позиции и последовательно развенчивает «феномен провинции» и связанные с ней надежды на спасительность народной жизни.
Сказовая структура, основанная на смене повествовательных масок, позволяет прочитывать первую повесть Замятина не только в контексте реалистической традиции (воспроизведение русской провинции и национального сознания), но и в контексте модернистской прозы как воплощения мифа автора,[229] в сознании которого мир распадается на оппозиции: коллективное / индивидуальное, материя / сознание, природа / культура, народное / официальное. Неомифологизм проявляется и в фабуле, и в ее представлении: в смене повествовательных масок как олицетворенных метафор народной жизни и авторского сознания («сюжет – система развернутых в словесное действие метафор»; «снимая с лица сюжетного героя маску, мы держим в своих руках воображаемый мир»[230]).
«На куличках» (1913): игра повествовательными масками как способ мифологизации сюжета
В следующей повести Е. И. Замятина «На куличках» (1913) приоритет «показа», представления фабулы над оригинальностью самой фабулы (как цепи событий) сохраняется. Традиционность, если не банальность, сюжета повести стала объектом эпиграмм.[231] Повесть была воспринята читателями как развитие темы разложения армии («Поединок» А. Куприна, «Бабаев» С. Сергеева-Ценского и др.) и темы самого Замятина.[232] Исчерпаемость референтного события, проявившаяся в фабульных схождениях повести Замятина со своей знаменитой предшественницей, во многом определила «реалистическое» прочтение произведения, изображающего «типическое» в русской жизни.[233] На наш взгляд, «перелицовывая» Куприна, Замятин отталкивается от демократической реалистической традиции и вписывает свое произведение о кризисе современной русской жизни в символистскую парадигму. Фабула второй повести наряду с социально-историческим образным планом выстраивает фольклорно-христианский миф о Деве Марии в соответствии с символистским мифом о Вечной Женственности, а также мифологической (и символистской) идеей пути как духовного самоопределения личности. Сюжет, хронотоп, система персонажей повести моделируются по законам символистской дуальности.
В повести «На куличках» сущность персонажей также предопределена семантикой имени. Двойственность, противоречивость почти любого персонажа закодирована в имени: мужественность, храбрость и переменчивость, безвольная созерцательность в «кочевнике» Андрее Ивановиче Половце; русско-немецкое, безудержно-страстное, уязвимое и рациональное, жестокое, «каменное» начала – в Николае Петровиче Шмите; офольклоренный, сниженный вариант имени Маруси как свидетельство искренности, подлинности натуры – и указание на неполное соответствие образцу; двойственная коннотация имени Тихменя («тихий» мечтатель и «правый», «прямой» скептик[234]): глава, посвященная ему, так и называется «Два Тихменя». «Рыбья» неразвитость денщика Непротошнова контрастирует с его глубоким состраданием участи Маруси Шмит.
Двоится и художественное пространство: дальневосточные кулички противопоставлены «истинной» России – Тамбову, а пространство реальное («туман») – пространству мечты («голубое»). Эти оппозиционные миры воплощаются в символах: «паутина золотой богородицыной пряжи», «зелено-солнечный остров», солнце, заря – и «слякоть», «мокреть», «мутное озеро», «бредовый аквариум».
Однако, выстроив мир по законам символистской дуальности, автор лишает его главной, завершающей константы – Вечной Женственности. Ее образ витает над героями, но так и не воплощается. Скептик-идеалист Тихмень стесняется «убегов» в иную реальность, понимая утопичность своих надежд: «Выпивши, Тихмень неизменно мечтает: замок, прекрасная дама в голубом и серебряном платье, а перед нею – рыцарь Тихмень, с опущенным забралом. Рыцарь и забрало – все это удобно потому, что забралом Тихмень может закрыть свой нос и оставить открытыми только губы – словом, стать прекрасным. И вот, при свете факелов совершается таинство любви, течет жизнь так томно, так быстро, и являются златокудрые дети… Впрочем, протрезвившись, Тихмень костил себя олухом и карасем с не меньшим рвением, чем своих ближних, и исполнялся еще большей ненавистью к той субстанции, что играет такие шутки с людьми и что люди легкомысленно венчают индейкой» [С. 158]. На Марусю как земное воплощение Вечно Женственного уповают два главных героя – А.И. Половец и Н.П. Шмит. Для первого она – символ жертвенной, всеискупающей любви, для второго – непорочной чистоты и преданности. Земная Маруся не оправдывает идеалистических ожиданий героев: в мире, где нет Бога, паутинка не спасает – победить сознанием этот мир нельзя. Духовная и телесная сущность Женственного разделена на Деву Марию и Мать-сыру-землю, Марусю и капитаншу Нечесу. Несостоятельность имитации символистских устремлений героев корректируется автором введением мифологемы деторождения. Бездетность «культурных», стремящихся выделиться из мифологического лона героев, усилия Тихменя по установлению своего отцовства, приведшие его на колокольню («в небо»), тематизация оппозиции Маруся – капитанша Нечеса свидетельствуют об авторской саморефлексии по поводу культурного и природного в человеке. Не является ли превращение личности в «человечьи кусочки» в «бредовом аквариуме» жизни законом мироздания, когда плодоносящая почва поглощает неукорененную в ней культуру?
Фабула выстраивает миф о современной России и русском национальном характере (развенчивает символистский миф). Субъектная организация свидетельствует о том, что акцент (в отличие от «Уездного») смещается на индивидуальное сознание. Система повествовательных масок дает целый спектр «индивидуальных языков» и поведенческих вариантов.
Как и в первой повести, автор здесь маркирует сказовое слово как коллективное: «Пу ладно. Пу родила капитанша Печеса девятого. Пу, крестины, как будто что ж тут такого? А вот у господ офицеров – только и разговору, что об этом. Со скуки это, что ли, от пустоты, от безделья? » [С. 141]. Стилизованное под устную речь слово рассказчика, «язык данного круга», «общее мнение», «ходячая точка зрения и оценка» (в терминологии М. М. Бахтина), обнаруживает игровую природу, «многомасочность». Кругозор такого нарратора, в зависимости от ситуации, то сужается, то расширяется, меняется фразеология и идеологическая оценка, нарушая ожидания читателя и обнажая разную степень авторского присутствия в тексте. Рассказчик может выполнять изобразительную функцию, используя фольклорные средства: «Бывают в лесу поляны – порубки: остались никчемушные три дерева, и от них только хуже еще, пустее. Так вот и зал генеральский: редкие стулья, как бельмо – на стене полковая группа. И как-то некстати, ни к чему, приткнулась генеральша посередь зала на венском диванчике» [С. 140]. Но за повествовательной маской вдруг обнаруживается воспринимающее разорванность мира и абсурд происходящего модернистское сознание, для которого жизнь – это «бесконечный круг слов»: «Качались, мигали в тумане человечьи кусочки: красные лица, носы, остеклевшие глаза. Кто-то запел, потихоньку, хрипло, завыл, как пес на тоскливое серебро месяца. Подхватили в одном конце стола и в другом, затянули тягуче, подняв головы кверху (…) Часы пробили десять. Заколдовал бессмысленный, как их жизнь, бесконечный круг слов, все выли и выли, поднявши головы. Пригорюнились, вспомнили о чем-то. О чем?» [С. 157–158].
Однако речь «многоголосого» рассказчика не является в повести доминирующей, она скрепляет персональное повествование, с точки зрения разных субъектов: 1) Половца: «Что же, так теперь и прокисать Андрею Ивановичу субалтерном в Тамбове каком-то? Ну уж это шалишь: кто-кто, а Андрей Иваныч не сдастся. Главное – все с начала начать, все старое – к черту, закатиться куда-нибудь на край света. И тогда любовь – самая настоящая, и какую-то книгу написать и одолеть весь мир…» [С. 136]; 2) Тихменя: «Подоконник – страсть какой грязный, все руки измазал Тихмень. Но о сюртук вытереть жалко. Ну, уж как-нибудь так. Вылезал все больше… ах, конца этому нету: ведь он такой длинный» [С. 189]; 3) Шмита: «Письменным приказом Шмит был наряжен на поездку в город. Шмит удивлен был немало. Оно, положим, что дело идет о приемке новых прицельных станков, но все же не такие дела, бывало, мелкота наряжалась, подпоручики. А тут вдруг его – капитана Шмита. Ну, ладно» [С. 163]. Использование персонального повествования традиционно объясняется как возможность объективировать чужую по отношению к автору позицию и связывается с эстетикой реализма. Но в повести Замятина такой повествовательный ход выполняет противоположную задачу: служит монологизации повествования. Право на свое слово получают только близкие автору персонажи (в первую очередь, Половец – в 14 главах из 24, Тихмень – в 5, Шмит и Маруся – в 3), а орнаментализация их «языков» (использование аллитерации, ассонанса, образов-символов, лейтмотивов и проч.), создающие в произведении «лирический накал»,[235] свидетельствует не только о воспроизведении языка «первоисточника» – символистской прозы А. Белого, Ф. Сологуба, А. Ремизова,[236] – но и о самоотождествлении автора с каждым из них. Не случайно трагедийные развязки мужских судеб имеют трагифарсовый характер, театрализуются, как будто автор их «примеривает» на себя: Тихмень падает с колокольни во время бала, устроенного в честь французов, как проваливаются и исчезают куклы в кукольном театре;[237] Шмит перед самоубийством выбирает удобную позу; Андрей Половец пляшет «барыню» на похоронах Шмита. Любимые герои Замятина воплощают и крайности русской души (идеализм, мечтательность, непрактичность, прямолинейность, жестокость, неумение прощать) и некие варианты alter ego автора. Смена повествовательных масок не только движет сюжет, в котором коллизии персонажей разворачиваются в их слове, но и создает параллельный – «авторский» – сюжет. Автор объективирует черты своей личности, свои психоаналитические проблемы в каждом из персонажей (рационализм и жесткость Шмита, умозрительность Тихменя, романтизм Половца, проблемы веры, любви, деторождения и др.), создавая произведение и о себе, о противоречиях собственного бытия и сознания. В финале, в авторском завершающем слове, большой и малый миры (внешний мир «куличек» и внутренний мир главного героя Половца, миф о России и судьба отдельного человека) взаимоотражаются, утверждая неразграниченность личности и мира, материи и сознания, «я» и «мы»: «И когда нагрузившийся Молочко брякнул на гитаре «Барыню» (на поминальном-то обеде) – вдруг замело, завихрило Андрея Иваныча пьяным, пропащим весельем, тем самым последним весельем, каким нынче веселится загнанная на кулички Русь» [С. 211].
Повести Замятина 1910-х годов исследователи справедливо называют «уездной трилогией». Межтекстовую художественную целостность создает не только общий объект осмысления (национальная история и ментальность), но и циклическая структура, исследующая этот объект с разных сторон. В первой повести феномен «уездного», коллективного бытия и сознания осмысливается как мифический мир с мифическим героем – Анфимом Барыбой – в центре. В «На куличках» акцент сделан на личности, противопоставляющей себя массе и стремящейся выделиться из национальной почвы. В третьей повести – «Алатырь» (1914) – миф о России собирается, структурируется из наиболее привлекательных для национального сознания начала XX века мифов: об идеальном народном бытии, спасительности науки, прогресса и социальных изменений, религии или искусства.
«Алатырь» (1914): орнаментальный сказ – способ модернистского миромоделирования
«Алатырь» – наиболее сложное произведение Замятина 1910-х годов, в котором неомифологические поиски писателя воплотились в полной мере. Повесть насыщена фольклорно-мифологическими, литературными, философскими аллюзиями. Размытость социально-исторической тематики, «десоциологизация» истории (по сравнению с предыдущими повестями, содержащими ярко выраженный социально-критический пафос) сама по себе значима, т. к. актуализирует мифологический сюжет, делает именно его носителем авторской концеп-ции.[238] Нарушение логики социально-исторического развития событий и характеров, да и формальной логики (безграмотный почтмейстер оказывается князем, неразвитый мальчик-телеграфист создает поэтические тексты в символистском духе, плодородие и бесплодие поражают Алатырь «вдруг» и т. д.), убеждает, что автор руководствуется законами сюжетосложения, «разрешающими» логические противоречия, а оформление тривиальной фабулы (поиск жениха) сказочным хронотопом укрепляет мифологическую основу сюжета.
Место действия – замкнутое пространство русской провинции, которое, в отличие от метафорических номинаций предыдущих произведений, получает собственное имя. Название провинциального городка, совпадающее с именем камня, вокруг которого он расположен, – придает пространству «признаки отграниченности» и конечный, считаемый характер.[239] Авторский миф создается по аналогии с космогоническим мифом: «всем камням мать», бел-горюч камень Алатырь упоминается в стихе «Голубиная книга»[240] как мифологический центр мира.[241] В пространстве Алатыря-камня разворачиваются основные события повести: и любовь Кости к Глафире, и свидание Варвары с князем, и побег протопопа от дьявола – все нити ведут к сакральному центру.
Фантасмагоричность современного национального бытия «требует» «языка сказки», на структуру и семантику которой проецируется основной конфликт («бесплодие» – «потеря»), сюжет, повествование и хронотоп (замкнутость пространства и цикличность времени, размеченного народно-христианскими праздниками). Субъект повествования – сказитель, имитирующий сказочного рассказчика. Его слово канонизировано фольклорной традицией, поэтому только условно может быть названо сказом; изустность и спонтанность утрачивается, что позволяет определить такую повествовательную манеру как фольклорную стилизацию: «Па том самом месте, где раньше грибы несчетно сидели кругом алатыря-камня, – тут нынче город осел. И у жителей тех, видимо, дело – от грибов принаследно, пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят оптом, дюжинами. Проезжая осталась только одна улица: вышел указ – по прочим не ездить, не подавить бы младенцев, в изобилии ползающих по травке» [С. 255].
В «Алатыре» фабула закодирована в названии текста и топоса: 1) «бесплодие» в Алатыре – следствие «переворота», «новых порядков или беспорядков»,[242] разрушения традиции; 2) Алатырь (алтарь) вводит мотив поиска новой веры, исцеления,[243] в русском фольклоре неизменно связанного с образом Богородицы. С помощью новой веры алатырцы надеются устранить «недостачу» – преодолеть разлад с естественно-природными законами прошлого.
Сюжет повести проверяет основные спасительные идеи времени, персонифицированные в главных героях, чем мотивируется в «Алатыре» использование персонального повествования: носитель идеи становится субъектом речи. Каждая маска движет свой мотив, встраиваясь в общий сюжет со сказочным нарратором.
Мифологическими персонификациями «матери сырой земли» Алатыря выступают в повести женские образы – невесты, ждущие женихов для устранения «неплодия». Глафира, ее сниженный, темный двойник Варвара, воплощают материально-телесную мир, что поддерживается сближением женских образов с животными: Глафира – кошка, Варвара – собака. Культурная, интеллектуальная состоятельность героини («на рояле Глафира может: Касту Диву, Дунайские волны» [С. 255], она самая способная ученица эсперанто, учительница Кости) не сдерживает ее «телесные» устремления (найти жениха) и жизненное предназначение (родить). Повествование с точки зрения Глафиры (гл. 2) позволяет понять несоответствие ее сущности восприятию ее Костей и князем Вад-больским как воплощения Вечно Женственного (это выразилось в письме Варвары князю в 8 главе). Трагикомическое изображение женских образов вскрывает противоречивое отношение к ним автора: образы женщин пародируют символистский идеал, но вызывают сострадание к нереализован-ности их природного предназначения (материнства). Они безрассудны в стремлении слиться с кем-либо, несамостоятельны и подвластны ложным идеям (Глафира и Варвара учат эсперанто, Потифорна продает алатырцам калачи из голубиного помета в благодарность исправнику за устройство сына на службу). Слово Глафиры, «подсвеченное» авторским состраданием и иронией одновременно, балансирует между мукой неосуществленности и слащавой сентиментальностью: «Поутру на Покров нашлась кошка Милка исправницкая. Теперь лежала белая Милка в Глафириной комнатушке на антресолях, лежала – и молоком кормила своих четырех младенцев. Мурлыкала, жмурилась, вся извивалась белая Милка, сладко терзаемая четверкой розовых ртов. Так это пронзило Глафиру, так затомилась, вся не целованная, так запросила грудь касаний нежного рта, что хоть на стену лезь» [С.259].
Вера в научный прогресс, изменение жизни с помощью научных изобретений воплощена в образе местного исправника Ивана Макаровича (Макар – «блаженный», «счастливый»), который изобретает во благо человечества. Абсурдность, непредсказуемая бессвязность деяний исправника явлена «изнутри», в его слове: «Уж если по правде – так только в кабинете у Ивана Макарыча и была настоящая жизнь. Пезабвенные часы тут проводил Иван Макарыч, здесь возникали все великие и многочисленные его изобретения: состав для полнейшей замены дров в безлесных местах; тайна приготовлять не уступающий настоящему искусственный мрамор особливый способ домашним путем производить отменные стекла для зрительных труб. И, наконец, это многообещающее открытие последних дней: секрет печь хлебы не на дрожжах, как все, а на помете голубином, отчего хлебы будут вкуснейшие и дешевые гораздо» [С. 198, 200]. Если в символистской традиции (Ремизов, Белый) «обман науки» связывается с западным влиянием, то у Замятина искусственная идея князя обретается в толще алатырской жизни. Голубиный образ Духа Святого низводится до голубиного помета, а естественные, природные проявления жизни подменяются искусственными аналогами (будь то «великие открытия» исправника или искусственный язык князя). Посрамлению исправника (27 декабря, на третий день святок, в день св. Стефана – в праздник дураков) предпослан его рецепт непромокаемого сукна: «Для сего надо в первую очередь изрубить возможно мелко потребное количество высшего английского сукна. Засим холстину намазать клейким составом, который содержит: во-первых, двенадцать долей именуемого в просторечии сапожного вару…» [С. 284]. «Текст в тексте», профанирующий сказочную мудрость «супа из топора», предвосхищает смеховое разоблачение спасителя от науки.
В комедийном ключе выдержан финал и другой сюжетной линии, проверяющей состоятельность традиционных христианских ценностей – местного протопопа. Роль отца Петра как хранителя сакрального места поддержана именем: «Ты еси Петръ, и на сем камени созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей» (Матф. XVI, 18). Однако дочь протопопа Варвара – ведьма,[244] сам он, «мохнатенький», «темный», бежит от своей службы к рюмке баклановки, к общению с коземордым: «Песть числа у него в соборе говельщиков было. Кликали колокола целый день, шел тучей народ. Слюбострастием вспоминали все мелочи куриных грехов: медленный, мешкотный шепот в уши лез без конца. Уходил протопоп из собора – будто медом обмазан и вывалян весь в пуху: мешает, пристало по всему телу. Одно только спасенье было: придя домой – выпить рюмку баклановки. Перво-наперво после той рюмки – пойдет тончайший туманец в глазах, и все денное, налипшее, гинет. Тихо – не спугнуть бы, пригнувшись, сидит отец Петр. А протрет глаза – и уж ясно видит, настоящее, яснее в сто крат, чем днем. Тотчас за окном – веселая козья морда кивает…» [С. 270–271]. «Демонологические» интересы отца Петра (автора сочинения «О житии и пропитании дияволов», любящего поговорить «отвлеченно» с читателем своей книги дворянином Иваном Павловичем о болотной нечисти) профанируют его духовную роль в Алатыре, а его слово, изображающее выход в «иную реальность», но только после принятия горячительного, сближает его «бесовское» существование дьявольскими проектами князя,[245] который на протопопа и возлагает свои надежды: «Последняя у князя надежда была – на о. Петра: отец Петр способен – от мира сего вознестись к возвышенному» [С. 273].
Если исправник и протопоп – алатырцы, их деяния укоренены в национальной почве, то мессианская идея объединения человеческого «стада» единым языком эсперанто заезжего князя Вадбольского привнесена в Алатырь извне. Фамилия князя[246] и род его занятий – почтмейстер – программируют его образ как распространителя дьявольской идеи. Он говорит алатырцам: «В стаде разве по-разному блеют? А мы – кто по-каковскому, всяк по-своему. Отсюда и война, и всякая такая дрянь, а ежели бы как стадо. на одном на великом языке эсперанте весь мир – то настала бы жизнь прекрасная и всеобщая любовь. До последнего окончания мира…» [С. 274]. Эсперанто в сознании современников Замятина – не просто аналитический язык, а способ нивелировки культуры.[247] Идея князя – идея построения земного рая – ведет к стадной, животной жизни: «Господа! По евангелию… – у князя дрогнул голос, – несть ни эллин, ни иудей, ни кто там. Все – одно стадо» [С. 274]. Отсылкой к ремизовским образам (стада, коровьего колокольчика – в «Крестовых сестрах») становится и сон Кости Едыткина, попавшего под влияние идей князя: «Почью Костя – и спал и не спал. Глаза закроет – и сейчас же ему видится: будто он над епархией летает, а епархия – зелененькая и так, невеличка, вроде, сказать бы, выгона. И машут ему платочками снизу. » [С. 278].
Местный поэт Костя Едыткин, посвящающий князю восторженные графоманские стихи, – пародийный двойник князя: они оба транслируют в мир идеи преображения действительности (символически связаны работой на почте); оба тянутся к Глафире.[248] Сюжетом князя и Кости проблематизируется еще один смысл слова «алатырь»: «бестолковый, косноязычный, немой».[249] Жители уездного города поражены немотой; бесплодие в Алатыре – это утрата животворящего слова: «Исправник – сидел рядом с князем, погибал: надо было ему с князем разговор начать – и хоть бы одно проклятое навернулось слово!» [С. 266].[250] Эсперанто князя и поэзия Кости – различные варианты поиска исцеляющего Слова. Безграмотные тексты Кости Едыткина – прошение о приеме на работу, стихотворения, посвященные князю и Глафире, «символистское» сочинение в десяти главах «Внутренний женский догмат божества» («о служении женщинам; о любви вне пределов, вне чисел земных; о восьмом вселенском соборе, где возглашен будет символ новой веры: ведь бог-то, оказывается, – женского рода.») – выявляют вторичность его «религии» обожествления женственного, обнаруживают связь его искусства с устремлениями князя: «Глафира – супруга моей жизни, это уж нерушимо. А после ней первый человек – господин почтмейстер, в связи его международного языка. Ежели стихи пропечатать на международном языке, так это уж будут знать во всем мире…» [С. 275]. В главе 7, имеющей название «В серебряные леса», стилистическому канону символистского текста следует слово князя Вадбольского; утопия мистериального преображения мира смыкается с утопией социальной переделки: «Длинным вьюжным вечером смотрел князь в узорно-морозные окна, потихоньку бродил меж серебряных деревьев – и все возвращался к одному: к несказанному, к мелькнувшему. Ее – никогда не называл князь: Глафира (…), а всегда говорил: она. Неприметно и плавно, как цветы расцветают, она медленно зрела из исправниковой Глафиры – и вот в декабре она уже стала жить самолично, сама по себе. По-прежнему все записки от нее написаны были на эсперанто: получи теперь князь от нее хоть слово по-русски – он счел бы это противоестественным, был бы даже оскорблен. Помалу связал ее князь с великим языком воедино. Всякое эсперантское слово – теперь вдвойне сладко князю: это – ее слова. В ее синих, глубочайших глазах – пленен весь мир. И равно – всем миром владеет язык эсперанто. » [С. 281–282].
Однако между «косноязычием» Кости и князя такая же разница, как между идеей в искусстве и ее воплощением в жизни. Отношение нарратора к слову персонажей в границах одной «двуакцентной» фразы (М. М. Бахтин) различно. Слово Кости (как и о. Петра, исправника) «подсвечено» ироничным отношением повествователя («Костя дошел до восьмой главы, самой лучшей и самой возвышенной: о Восьмом вселенском соборе. Голосом выше забрал, вдохновился, стал излагать проект всеобщей религиозно-супружеской жизни» [С. 279]. Хаотичные, деструктивные элементы в повествовании от имени почтмейстера – «князя мира» – обнажают разрушительную природу его упований на переделку мира и человека: «…Князь глазами набрел наконец на исправников серебряный погон – пальцем ткнул радостно:
– А-а у меня вот тоже.
– Ага, да-да-да, так, так, – закивал, засиял исправник.
– …у брата, то есть. Брат в Москве приставом, четыре тыщи в год, без доходов» [С. 266].
Косноязычие и безграмотность князя на фоне его притязаний на изменение мира сообщают ему черты самозванца: «Князь писал письмо в город Сапожок. В правом углу на бумаге была вытеснена коронка. «Милая Лена. У меня от подъемных еще осталось 21 ру. Не надо ли тебе? Потому что здесь – жизнь очень простая, яйца лутшие – 18 копеек, я скучаю и мне денег не надо. Кланяйся Васи, я сердца не него не имею, лишь бы ты была счаслива»» [С. 209]. Аллюзия на героев Чернышевского лишний раз подчеркивает утопическую, а не просветительскую природу деяний князя.
Прозреть истинную сущность «князя мира», распространителя мертвого языка, дано незадачливому поэту. Поэт Костя во сне видит последствия устремлений князя: «Присыпался все один и тот же, несуразный и будто ничего не значащий сон: забыл будто Костя, как его зовут, забыл – и весь сказ, и весь страшный сон тут» [С. 284].[251] Пародирование символистского мистериального жизнетворчества не разрушает у Замятина статуса искусства как хранителя сакрального Слова. Костя изгоняется «немым» Алатырем, но блаженный Ипат «награждает» его пятаком; пятак затоптан толпой, однако Костя отмечен свыше. В финале «синкретичный» сказитель объемлет голоса персонажей, утверждая позицию мифа: «Костю вели в острог – окружили толпой: не вырвался бы, убивец проклятый. Ну и народ же пошел. а еще чиновник! Па князя нашего покусился, а? Алатырь проснулся, галдел, махал руками. Поднимались на цыпочки – на убивца поглядеть (…) Костя покорно взял пятак, улыбнулся покорно. По тут же и разжал руку. И пропал Ипатов пятак: затоптали» [С.288].
В повести «Алатырь» повествовательная стратегия предыдущих повестей обретает логическую стройность. Орнаментальный сказ со сменой повествовательных масок нарратора и героев обеспечивает разворачивание мифологического сюжета: имя (метафорическая сущность персонажа) – слово (повествовательная маска нарратора и героя) – мотив – сюжет. Уровень «презентации наррации» (В. Шмид) обеспечивается повествовательными масками, в которых закодированы мотивы новой веры (в науку, искусство, религию, социальную идею, материнство как способ природного существования).
Сказки Замятина: парадокс в повествовании
В сказках Е. И. Замятина, на первый взгляд, используется классический сказ, слово рассказчика или «сказителя», близкого героям, вещающего народную мудрость и здравый смысл. Такой рассказчик из народной среды сигнализирует об использовании автором «чужого» голоса, однако автор только имитирует «характерность» своего повествователя.[252] Постепенно «обман» обнаруживается: характерные языковые средства вступают в конфликт с кругозором нарратора, не совпадающим с сознанием демократического рассказчика из народной среды. Рассказчик оказывается не тем, за кого себя выдает. Он лишь играет роль, а его ирония, переходящая в сарказм, глубина оценок и всеведение явно выходят за рамки этой нарративной роли: «Пашел Сеньку Мизюмин в своем скробыхале (.) и на стену посадил: ползи. По Сенька даже и ползти не может, прямо очумел: до чего нестерпимо велик бог, до чего милосерд, до чего могущественен. А бог, почтальон Мизюмин, хлюпал и подолом розовой рубашки утирал нос»[253] [С. 8]. Рассказчик формально близок к герою, функционально же – к автору; это не единый субъект речи, а различные авторские маски. В сказках 1915-16 годов «Бог», «Дьячек», «Петр Петрович», «Ангел Дормидон» рассказчик, имитирующий речь героев, позволяет изобразить изнутри ограниченность человеческого сознания, необоснованность претензии на истину. Однако внутренняя точка зрения меняется на внешнюю в границах одного предложения («А бог, почтальон Мизюмин. »); носитель этой внешней точки зрения – ироничный нарратор, близкий автору. Комический эффект возникает в момент смены кругозоров нарраторов. Сюжетный пуант (обман ожидания читателя) подготовлен сменой повествовательных масок, ироничной повторяющейся характеристикой рассказчика: «Умнее Петра Петровича в целом свете нету: и все думает, и все думает, сопли распустит – и думает (…); на одну ногу станет – и думает» [С. 21].
Если в дореволюционных сказках и повестях возникает смена нарративных авторских масок как следствие неоднозначной оценки изображаемого, то в «аллегорических» «Большим детям сказках» (1917–1920) парадоксальную ситуацию создает контраст повествования и сюжета. В сказках «Иваны», «Хряпало», «Халдей», «Четверг», «Херувимы», «Бяка и кака», «Церковь божия» рассказчик близок бесстрастному сказителю фольклорной сказки. Внешняя по отношению к изображаемому миру позиция сказочного повествователя не мешает истории «самораскрыться». Автор использует остраняющие возможности сказа. Субъектно не выражая свою позицию, автор открывает парадоксальность не в сознании субъекта, а в самой действительности, где реализуются утопические проекты. Парадоксально их бесстрастное, домашнее изложении: о страшном говорится обыденным языком: «Развел Иван костер под кустом, осенил себя крестным знамением – и стал купцу лучинкою пятки поджаривать» («Церковь божия», с. 25); «…Зарубил меньшенького большенький (брат. – М. X.) топором – и под лавку. Вытопил печку, разговелся большенький чем Бог послал, под святыми сел – доволен» («Четверг», с. 30); «Па острове на Буяне – речка. Па этом берегу – наши, краснокожие, а на том – ихние живут, арапы. Нынче утром арапа ихнего в речке поймали. Ну так хорош, так хорош: весь – филейный. Супу наварили, отбивных нажарили – да с лучком, с горчицей, с молосольным нежинским. Напитались: послал Господь!» («Арапы», с. 20).
В миниатюрах «Картинки», «Дрянь-мальчишка», «Электричество», «Огненное А» жанровый канон сказки не выдержан, анекдотичность взрывает стереотипы человеческого сознания; «разрушает ожидание» и диалог персонажей, являющийся сюжетообразующим, и речь нарратора. Основной повествовательной маской оказывается маска обыденного сознания («доксы»), которая разоблачается внезапным переломом в повествовании, структурирующим анекдот: «Петьку выдрали: глупый мальчишка – будет знать, как игрушки портить. Говорено сколько раз: игрушки для игры, а не хочешь играть, дрянь-мальчишка, отдай другому. А то ишь ты: внутри ему глядеть надо, ломать ему надо.
– Не ломать, не ломать, не ломать! Так его» («Дрянь-мальчишка» [С. 27]).
Особую группу составляют четыре сказки про Фиту (1917–1919), в которых проявились стремления Замятина переосмыслить архаическую жанровую форму сказки. Используя свойства сказки, хранящей и архаические черты человеческого мышления, и национальные идеалы, Замятин трансформирует «утопию» сказки в антиутопию. Парадокс разрушает «жанровые ожидания» читателя. Жанровый канон антиутопии формирует все уровни сказок про Фиту – сюжетно-композиционный, пространственно-временной, повествовательный. Двунаправленный диалог с «историей одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина (как некой культурной моделью национальной истории) и следующим за сказками романом «Мы» (1921) доказывает укорененность тоталитаризма в русской истории. Пространство замятинских сказок заполнено силами нравственного зла, бесчеловечный режим Фиты нарушает один из главных принципов сказочного мира – «принцип родственности»:[254] в государстве Фиты утеряны человеческие связи – семейные, культурные, религиозные, национальные. Автор не оставляет читателю никаких иллюзий относительно добрых сил, способных освоить «злое» пространство: здесь отсутствует традиционный сказочный герой, призванный победить зло.
Анализ субъектной организации позволяет понять, что «держит» сказочную структуру, как выполняется в сказках про Фиту главный сказочный закон – закон нравственный. В «Первой сказке про Фиту» выдерживается победа добра над злом: появление Фиты (сил зла) – победа жителей над ним – кончина Фиты. Сохраняется и единая повествовательная позиция: мудрый рассказчик является носителем коллективной точки зрения, он близок жителям и противостоит власти Фиты: «Почесались жители и миром решили: докторов вернуть и за скопским хлебом послать. А Фиту из канцелярии вытащили и учить стали, по-мужицки: народ необразованный, темный» [С. 36]. Инверсивное изложение событий («добрый финал» предшествует изображению дьявольских деяний Фиты в последующих трех сказках) и «открытый» финал последней сказки свидетельствуют о том, что автор не в состоянии свести рассказанное к вымыслу. Повествование балансирует на границе сказочной повествовательной структуры: рассказчик вводит читателя в фантастическую атмосферу (названием, в котором значится слово «сказка», невероятным появлением на свет Фиты и т. д.), но «забывает» обернуть историю правления Фиты в шутку.
Во второй сказке речь рассказчика теряет народную «характерность», но точка зрения повествователя остается прежней – внешней по отношению к миру Фиты и родственной – жителям: «Тут вспомнили жители: не больно давно приходил по собор Мамай татарский, от Мамая откупились – авось, мол, и от Фиты откупимся» [С. 39]. Но в последнем предложении неожиданно меняется субъект речи. Появление книжного ироничного «голоса» дробит единую повествовательную инстанцию: «Базарная площадь была наконец приведена в культурный вид» [С. 39].
В третьей и четвертой сказках структура повествования меняется. Жители окончательно подчиняются новой власти, и голос «сказочного повествователя» становится рупором государства Фиты. Внешняя точка зрения уступает место внутренней; речь повествователя, которая ранее резко контрастировала со словом указов Фиты (документами новой власти), теперь сближается с ними: «И предписал Фита: «Воров и душегубов предписываю выгнать из острога с позором на все четыре стороны». Воров и душегубов выгнали на все четыре стороны, и желавшие жители помаленьку в остроге разместились» [С. 40]. Вытеснение мудрого сказочного повествователя «рассказчиком Фиты» свидетельствует о победе зла, реального во времени и пространстве. Но голос культурного («авторского») повествователя, раз возникнув в конце второй сказки, не исчезает и в последующих, а продолжает создавать ироничный противовес миру Фиты, подвергая сомнению абсолютность завоеваний последнего. Противоречивой, парадоксальной становится структура фраз «официального» рассказчика, в нее вклиниваются оценки другого сознания: «Друг перед дружкой наперебой жители ломились посидеть в остроге: до того хорошо стало в остроге – просто слов нету» [С. 40]; «Пустил Фита по мурьям вольных в чуйках – вольные убеждали жителей не стесняться, потому нынче – воля, убеждали в загривок и под сусало и, наконец, убедили» [С. 41]. В финале («И зажили счастливо. Нету на свете счастливее петых») этот голос получает статус субъекта речи. Ирония рассказчика способна противостоять зловеще-утопическому миру Фиты, она и выполняет функции сказочного героя. Однако «объективизация сознания» (Л. Силард) свидетельствует не о победе над миром Фиты, а о равновесном напряжении между одним из субъектов повествования и повествуемым миром: сознание рассказчика (и автора) не властно над реальным злом, отсюда и трагизм иронии. Игровая структура повествования сказок про Фиту наполняет универсальную (утопическую) жанровую модель сказки антиутопическим содержанием.
В сказках Замятина остраняющая функция сказа усиливает парадокс. Задача разрушения стереотипов сознания, догм, затверженных истин не может быть решена прямо, «в лоб», поэтому парадокс оказывается наиболее адекватной художественной формой, воплощающей относительность истины. Игровая повествовательная позиция свидетельствует о «парадоксах сознания» самого автора: «сознание выступает здесь не как «органический центр», но как расколотый организм, который запускает мысль (и – мир), несущую в себе закон «раскола».[255] Преодолевая национальные мифы с помощью перекодировки традиционных жанровых моделей (сказки – в «антиутопию») и повествовательных структур («характерного сказа» – в «стилизованный», «орнаментальный»), в которых «отвердели» ценности народной культуры, художник использованием фольклорных структур обнаруживает связь с этими ценностями и зависимость от них.
Игра масками как основа орнаментального сказа Замятина – это, в первую очередь, принцип модернистского текстопорождения: мифологический сюжет создается разворачиванием «метафорической сущности» персонажей, закодированной в их именах и речевых масках. «Неосинкретичная» форма стилизованного сказа Замятина, имитирующая неразграничение голосов (масок) автора и персонажей, утверждает неклассическую позицию автора как «неопределенного» и вероятностно-множественного субъекта, который не предшествует повествованию, а порождается им, формируется в его процессе».[256] Масочная структура орнаментального сказа проявляет антиутопическую позицию: перебирание и смена масок не способствует абсолютизации какой-то одной точки зрения, а предполагает диалог. Стилизация сказа совмещает миф о мире с мифом о творчестве,[257] о противоречиях творческого сознания, ибо последнее для модерниста – это единственная реальность, способная противостоять «распылению» национального космоса. Вопрос об адресате орнаментального сказа однозначно решается в пользу адресата модернистской прозы: воспринимающее сознание, способное реконструировать мифологический сюжет, должно быть конгениально авторскому. Как следствие внутренних установок автора может быть понята и поведенческая театральность Замятина-модерниста, который прибегал к смене масок не только в творчестве повествования, но и, как уже говорилось, в жизнетворчестве: от псевдонима Мих. Платонов в постреволюционной публицистике – до епископа Замутия в Обезвелволпале А. Ремизова и автора пародийных литературных обзоров в журнале «Русский современник» Онуфрия Зуева.
2.2. Стилизация в прозе Е. И. Замятина 1910-20-х годов
Рассказы 1910-х годов: от «характерного» сказа – к фольклорной стилизации
Понятие стилизации в литературоведении имеет и широкое, «родовое» значение, куда помимо собственно стилизации входят такие смежные повествовательные формы, как пародия и сказ, и более узкое – собственно стилизация. Последняя отличается от сказа своей ориентированностью «на воспроизведение стиля, четко фиксированного, освещенного культурной традицией, воплощенного в устоявшихся, канонических формах».[258] Различение источников стилизации служит основанием для выделения трех основных ее типов: фольклорной, исторической и стилизации авторской манеры (стилизуются соответственно народно-поэтический стиль, литературный стиль определенной эпохи и индивидуальный авторский стиль).
1910-е годы не случайно называют периодом «стилизаторского бума»: в это время стилизации отдали дань не только модернисты, с именами которых связывается ее литературное возрождение (А. Ремизов, М. Кузмин, В. Брюсов, А. Белый, С. Ауслендер, Б. Садовский, Л. Андреев и др.), но и реалисты, продолжающие стилевые традиции литературы XIX века (И. Бунин, М. Горький, А. Куприн). Среди многочисленных социокультурных и лингвостилистических причин, вызвавших стилизаторский подъем в начале века, важнейшие, на наш взгляд, связаны со стремлением художников эстетически осмыслить национальный вопрос – судьбу России – в активном диалоге с чужими культурами, «чужой» стилевой манерой. Прошлые эпохи и другие культуры используются как «вечные» модели, образцы для понимания и современности, сущности национального бытия.
Увлечение фольклором художников разных эстетических направлений может быть объяснено стремлением воссоздать народное сознание посредством языка народной культуры. Фольклорная норма, утверждающая себя фольклорной стилизацией, становится главной смыслопорождающей единицей, так как эффект, уже заложенный в формах чужого стиля, становится и средством выражения авторского отношения к изображаемому и основанием для авторского диалога с ним.[259] Обращение Е. И. Замятина к фольклорной стилизации имеет как автобиографические причины (родился и вырос писатель в национальной глубинке – в г. Лебедяни, Тамбовской губернии), так и собственно литературные, во многом обусловленные первыми (увлечение творчеством Гоголя и Лескова в детстве и влияние ремизовского фольклоризма в начале писательского пути).
В объеме всей малой прозы Замятина удельный вес стилизованных рассказов невелик: это «Старшина» (1914), «Кряжи» (1915), «Правда истинная» (1916), «Письменно» (1916), «Куны» (1923) и «Русь» (1923). Однако они принадлежат двум этапам творчества (1910-м и 20-м годам), концептуально значимы, т. к. создают ценностный противовес сатирическому, «антиутопическому» корпусу текстов Замятина, написанных в это же время орнаментальным сказом («Уездное», «На куличках», «Алатырь», сказки). Стремление художника обрести почву в глубинных основах национальной жизни, в коллективном мироустройстве, органично вписывалось в искания русской прозы 1910-х годов. Поэтому нельзя согласиться с поверхностным восприятием критики данных рассказов только как стилевых опытов писателя, попытке создать традиционные образы деревенской Руси.
Названные произведения Замятина созданы по законам классического, «характерного» сказа. Автор не прибегает к смене повествовательных регистров; субъект повествования постоянен, целостен и может быть обозначен как фольклорный сказитель – обобщенный носитель народной традиции. Однако авторами коллективной монографии «Поэтика сказа» было замечено, что «хотя фольклору присуща «изустность», стилизация под фольклор сказовой «изустности» не способствует, поскольку возникает оглядка не на живую, свободную от канонической завершенности речь, а на речь художественно организованную, жестко канонизированную. Коль скоро устная поэзия становится объектом стилизации, она приобретает в своей художественной организованности характер если не письменно-книжного, то уж, во всяком случае, и не устно-разговорного первоисточника».[260] «Литературность» фольклорной стилизации имеет далеко идущие последствия: несмотря на то что фольклорная стилизация, как и характерный сказ – двуслойное образование, в котором «чужое» фольклорное слово существует на фоне современной литературной нормы, «авторского» слова, осуществляя связь творчества с достойными культурными предшественниками, мы попытаемся показать, что направлена она не столько на осмысление «чужого» сознания (как в традиционном сказе), сколько на модернистское самопознание и самоидентификацию автора. Фольклорная стилизация, как всякая другая стилизация, становится авторским метаприемом: «масковый механизм»[261] запускает игровую ситуацию «мышления стилями» по поводу ценностей, закодированных в этих стилях и представляющих для автора особый интерес. Не случайно первыми стилизаторами фольклора были немецкие и русские романтики, а в начале XX века – их восприемники в искусстве – символисты.
В рассказе «Старшина» (1914) главный герой Иван Тюрин, казалось бы, являет собой вариант Анфима Барыбы: и внешний вид персонажа («сиволапый, громадный, косный»), и его неспособность учиться («Все, бывало, молится: „Господи, да пошли же ты, чтоб училишша сгорела и мне ба туда не итить…“»[262] [С. 227], и получение должности волостного старшины – все воспринимается как своеобразные знаки жизни главного героя «Уездного». Более того, изображается почти анекдотическая ситуация: старостой становится наиболее неразвитый и безграмотный мужик, который усердно служит начальству и не понимает, что становится орудием свободомыслия, неповиновения. Однако авторское представление о сущности народного бытия и сознания является сложным, неоднозначным. И организация повествования, движущегося от сказа к фольклорной стилизации, помогает высветить то идеальное, что автор усматривает в старшине как носителе народной традиции.
В отличие от «Уездного», написанного орнаментальным сказом со сложной, многомасочной субъектной организацией, повествование в «Старшине» не знает смены повествовательных масок. В монографии «Поэтика сказа» «Старшина» и «Кряжи» называются сказовыми новеллами, в которых «резко активизируются ресурсы однонаправленного сказа».[263] На наш взгляд, это определение нуждается в уточнении.
Повествование в «Старшине» действительно выдержано в едином стилистическом ключе: субъект – представитель народной среды, и его речь от начала и до конца – речь народная, изобилующая разговорной лексикой («рыскали тараканы», «жиляли блохи»), фразеологией («зазнали и там с ним горя»), синтаксисом с инверсией, уточняющими членами и т. п.
(«Собрали сход мужики, загалдели»; «И пошли, все до единого, разве старики какие недужные остались»). Однако эти языковые средства могут использоваться не только в сказе, но и в любом типе повествования. Если же главными дефинициями сказа считать изустность и спонтанность слова демократического рассказчика, то можно убедиться, что в произведении сосуществуют противоборствующие повествовательные тенденции: собственно сказ и фольклорная стилизация, разрушающая устно-разговорную стихию первого и подчиняющая его законам письменно-книжного повествования:
«Хоть и перевалил октябрь за середину, а еще погожие были дни, сухмень, теплынь. Гурьбой шли через село к Русину мужики, а бабы на токах цепами стучали, и таково было весело всем, – беда!
Русинский белый с зубцами забор; над забором – листья на древах уцелели, где золотенькие, где красные, а на дому на русинском – крыша ясная, как жар горит (…).
Вышел к воротам генерал сам. Красный, ну, чисто сейчас вот из бани, с полка» [С. 230].
Несмотря на сложность разграничения сказа и фольклорной стилизации, в процитированном отрывке способ повествования от абзаца к абзацу меняется: сказ – стилизация – сказ. На сказовость в первом абзаце указывает, в первую очередь, особое устно-разговорное строение предложений: синхронность обдумывания и произнесения, интонационная прерывистость, которая достигается инверсивным порядком слов (Ср.: «Мужики гурьбой шли через село к Русину»), наличием уточняющих членов, сообщающих пояснительную интонацию («а еще погожие были дни, сухмень, теплынь»), и, наконец, эмоциональной реакцией рассказчика («и таково было весело всем, – беда!»). Во втором абзаце сама конструкция сложного предложения, состоящего из трех простых частей, две из которых осложнены обособленными определениями, придает речи характер продуманности, организованности, даже фольклорной ритмичности, проявляющейся не только в интонационном строении фразы («Русинский белый с зубами забор»), но и в поэтическом параллелизме (листья – «где золотенькие, где красные», «крыша – ясная, как жар горит»). Становится уместным и употребление старославянизма (древах), и образного, фольклорного сравнения («как жар горит»), что также свидетельствует о канонизированности речи повествователя, ее ориентации на фольклорный стиль. В последнем же абзаце изустная, сказовая речь опять побеждает, чему способствует иллюзия сиюминутно произнесенного слова («красный»), как и «разжижение» текста частицами (ну, вот), часто сопровождающими спонтанную речь. Однако влияние фольклорной стилизации, как речи художественно завершенной, жестко канонизированной, на сказ столь велико, что сказ утрачивает свою истинную – диалогическую – природу, стирается дистанция между героем, рассказчиком и автором. «Однонаправленный сказ» (М. М. Бахтин) работает на стилизацию, т. к. объединяющее, центростремительное начало подчиняет себе множественность точек зрения, многоголосие жизни.
Так как к источнику стилизации автор-стилизатор испытывает самый глубокий пиетет (отсюда и отношения согласия между героем, рассказчиком и автором), то именно в источнике целесообразно искать авторское отношение к изображаемой действительности и своему герою. Иван Тюрин для автора – представитель народной толщи, которая живет по законам, установленным предками. Его ограниченность никак не мешает умению хозяйствовать, жить, как все, исполнять свое предназначение трудящегося человека. Он живет по народному календарю, и это следование коллективной традиции уберегает не только его самого от жизненного хаоса, но и окружающих людей, доверившихся ему. Показательно избрание Тюрина волостным старшиной. Он борется с холерой, но не отменяя указом, как Фита, а обращаясь к богу, а затем уже к докторам. И даже курьезный финал рассказа лишь подтверждает, что почвенная, крестьянская основательность ведет человека по жизни, давая ему уверенность в себе и защищая от ударов судьбы.
Вместе с тем, герой рассказа «Старшина» явно не выдерживает «нагрузки» идеального национального типа. Снижению образа способствует иронический фон, возникающий, казалось бы, независимо от рассказчика, который лишь объективно описывает события жизни Ивана Коныча и воспроизводит его речь. Сам отобранный автором «материал» жизни героя вызывает комический эффект:
«В солдаты пошел Иван – зазнали и там с ним горя (…)
Последнее дело – винтовку кликать, как след, и тому Тюрин Иван не обучился (…)
Спрашивали Ивана:
– Что такое выстрел? Ну, живо? Иван отвечал:
– Этта… когда… пуля из ружа лезя…» [С. 227].
Так возникает двойная оценка: говоря «да», утверждая сам принцип коллективного, народного бытия, автор не может не видеть те опасности, которые таит в себе мифологически-нерасчлененное существование, и авторская ирония есть свидетельство трезвого отношения художника к жизни и таким типам сознания, каким обладает старшина. Идиллию разрушает и новеллистическое начало. Неожиданный сюжетный поворот, составляющий кульминацию, когда правоверный, преданный властям старшина, сам того не понимая, затевает бунт и попадает под суд за то, что изъял землю у помещика Русина и поделил между крестьянами, помогает вскрыть главное противоречие в восприятии автором «платонокаратаевского» типа. Герой явно не дотягивает до уготованной ему культурной роли носителя неумирающей коллективной традиции; косность его сознания вступает в неразрешимое противоречие с представлениями автора о естественности и жизнеспособности народного мировосприятия и бытия.
Если в «Старшине» автор демонстрирует в целом благотворное влияние национальной жизни на любого, самого неразвитого человека, и в руководстве его судьбой, то в новелле «Кряжи» (1915) художник пытается создать идеальные характеры и идеальные отношения между людьми. Цельную, страстную, почти сказочную любовь Ивана и Марьи, как и их красоту и гордыню, могла взрастить такая же органичная, сказочная народная жизнь. Торжество коллективной точки зрения (и образа жизни, существования) достигается единением, слитностью фольклорного повествователя и автора со всем миром, с коллективным «мы». Фольклорная норма здесь еще жестче, чем в первом рассказе, организует речь повествователя и героев, поэтическая традиция объявляет себя как книжная, канонизирующая устную неорганизованную речь. И в этом смысле фольклорная стилизация окончательно побеждает сказовое повествование: «Наране Петрова дня уехали мужики невод ставить на Лошадий остров, где поножь лошадиная каждый год. А день – красный, солнце костром горит, растомились сосны, смола течет» [С. 233]. Использование диалектизмов (наране, поножь), народно-поэтических метафор (день – красный, солнце костром горит, сосны растомились), сложного синтаксиса, ритмически организующего повествование (день, солнце, сосны, смола – и их состояние, характеристика), как уже говорилось, указывает на стилизацию народно-поэтической речи. Даже включение несобственно-прямой речи персонажей не снижает нормативности, т. к. первая теряет свои индивидуализирующие возможности. Это не индивидуальный, а коллективный голос, голос среды: «Эх, хороша девка, брови-то как нахмурила соболиные»; «У Ивана дух перехватило – от злости или еще от чего, бог его знает» [С. 232]. Здесь несобственно-прямая речь только формально принадлежит Ивану, т. к. могла бы быть и речью повествователя и любого человека из окружения героев (Ср. несобственно-прямую речь мужиков: «Сторговались за два рубля. Отсчитали девкам – чтоб их нелегкая! – два рубля, забрали невиданного сома мужики» [С. 234]).
Однако стилизация в «Кряжах» проявляет себя не только на языковом (как в «Старшине»), но и на жанровом уровнях. Проникновение фольклорных жанров в структуру рассказа – народной песни и, прежде всего, сказки – выполняет жанрообразующую роль. Традиции народного песенного творчества формируют общий стилистический фон произведения, участвуют в создании образов персонажей: Марья – «веселая, червонная, пышная», «брови соболиные», «богатыриха», «только и славили, что Марью одну, только и выбирали, все Марью да ту же, „ой Машеньку, высошеньку, собой хорошу“»; Иван – «богатырь», «дыкудрявый, дыстатный»; «оба – кряжи, норовистые». Есть и буквальное включение народной песни в текст рассказа:
Как по травке – по муравке Девки гуляли… [С. 234].
Элементы сказочной поэтики, рассыпанные в тексте рассказа, воссоздают волшебную атмосферу, особый сказочный мир народной жизни, где любая идеализация уместна и не выглядит нарочитой: «Выплыл месяц, медным рогом Ивана боднул – и побежал Иван к Унже» [С. 235]. Более того, сказочные реалии участвуют в организации сюжета, мотивируя поведение и чувства героев: «В запрошлом году рыли овин у попа – и откопали старое идолище. Там – Никола себе Николай, и все-таки и к нечисти надо с опаской: кабы какой вреды не вышло. И тайком от попа, с почетом, вынесли нечисть за прясло, там и поставили у дороги. Через эту самую нечисть и пошла вражда между Иваном да Марьей» [С. 232]. Иван да Марья живут в сказочном мире, рядом с фантастическими существами (змеем, идолищем, шишигой), поэтому и способны действовать как сказочные герои. Они – богатыри, кряжи[264] в жизни и в чувствах, и этим восхищается автор.
Таким образом, если в повествовательной структуре «Старшины» еще присутствует сказовое начало, то «Кряжи» можно назвать сказочной стилизацией, рассказом-сказкой. Однако и здесь атмосфера благостности, идилличности разрушается конфликтностью жизни и любви героев. Конец рассказа, который является и событийной кульминацией, драматизирует повествование: нешуточные страсти управляют этим «сказочным» миром, где человек из-за собственной гордыни может расстаться с жизнью.
В рассказе «Письменно» (1916) фольклорная стилизация как основа повествования сохраняется. Однако это уже не чистая стилизация «Кряжей». Начинается еле заметное движение от коллективной точки зрения – к точке зрения героя. Повествование индивидуализируется, внешнее изображение героя уступает место традиционному психологизму. Чтобы проникнуть во внутренний мир человека из народа, автору необходимо посмотреть на жизнь его глазами. Главная героиня рассказа – Дарья – продолжает ряд замятинских идеальных женских типов. Женское начало утверждается как основа русского национального характера. Автор вновь обыгрывает знакомую по рассказам «Чрево» (1913), а позднее и «Русь» (1923), коллизию «нелюбимого мужа». Но здесь совершенно другой и неожиданный вариант разрешения конфликта. Из всей сложной гаммы составляющих женственное у Замятина избирается жертвенность, сострадательность, полное отсутствие эгоизма. Включение в речь повествователя несобственно-прямой и внутренней речи Дарьи, когда тягостные события жизни героини подаются сквозь призму ее сознания, создает эффект достоверности. Чем больше страданий выпадает на долю героини, тем более высоко оценивается автором ее искренняя жертвенность, неспособность быть счастливой, не выполнив свой моральный – человеческий и женский – долг. Однако истоки индивидуальной стойкости и всепрощающей сострадательности Дарьи усматриваются в едином народном существовании. Неслучайно искреннее чувство Дарьи – разделить судьбу мужа на каторге – совпадает с традиционным представлением о долге жены. Эта важная для художника мысль о национальной укорененности женственного, сострадательного в русском характере воплощена и в ответном письме Дарьи мужу, изобилующему традиционно-народными формулами: «Любезный наш дружечка, Еремей Василич. На кого же вы нас покинули и как жить без вас будем. А еще кланяюсь вам с любовью от лица земли и до неба, сапоги купила вчерась, и как есть все ночи не сплю. А еще кланялась вам…» [С. 241]. В оформлении исповеди жены фольклорным жанром плача обнаруживает себя стойкая народная традиция, формирующая личность и управляющая как душевными движениями героини, так и ее поступками.
Поглощение характерного сказа фольклорной стилизацией в творчестве Е. Замятина 1910-х годов знаково и выполняет ту же роль, что и орнаментальный сказ в других произведениях этого периода. Осмысление художником национального бытия неразрывно связано с переводом современной национальной жизни в текст культуры. «Литературность» повествовательной стратегии (орнаментального сказа, фольклорной стилизации), сообщающая прозе Замятина 1910-х годов качества метапрозы, сигнализирует о том, что познание национального бытия важно и для авторской идентификации (национальная ментальность как составляющая авторского сознания, той стихии жизни, к которой автор причастен и которой сформирован). Любопытно, что единственный рассказ этого периода, написанный от имени героя в перволичной форме и воспроизводящий стихийную, неорганизованную речь человека из народа – крестьянской девушки Дашутки – «Правда истинная» (1916), и тот «переведен» в текст, – это письмо героини из города в родную деревню. Возможно, форма письма остраняет авторские размышления о неизбежном отпадении от «национального тела» даже самих его «частей», людей из народа, что настойчиво проводится и в «диалектической триаде» композиционного строения (Дашутка хвалится матери своей жизнью в городе, потом жалуется, но в результате осознает отрыв от национальной почвы как неизбежность), и в столкновении в речи героини крестьянского просторечья с городскими клише.
Орнаментальное повествование в рассказах Е. И. Замятина начала 1920-х годов
О том, что исследованием национального бытия в стилизованных рассказах Е. Замятина 1910-х годов моделируется «утопическая» составляющая не только авторского мифа о мире, но и о себе, свидетельствует продолжение этой линии в творчестве 1920-х годов, трансформирующем фольклорную стилизацию в орнаментальное повествование.
В 1923-24 годах, пережив период разочарования в революции, социального критицизма и сомнений (роман «Мы», политические сказки, рассказы «Дракон», «Пещера», «Детская», «Мамай» и др.), Замятин вновь обращается к «утопии стилизации» как способу утверждения позитивного, даже идеального начала в русской истории и национальном бытии. Ностальгически пронзительно звучит его голос в рассказах «Куны» (1923) и «Русь» (1923), увековечивающий былую прекрасную сказочную жизнь: «Может, распашут тут неоглядные нивы, выколосится небывалая какая-нибудь пшеница (…), может, вырастет город – звонкий, бегучий, каменный, хрустальный, железный – и со всего света, через моря и горы будут, жужжа, слетаться сюда крылатые люди. Но не будет уже бора, синей зимней тишины и золотой летней, и только сказочники, с пестрым узорочьем присловий, расскажут о бывалом, о волках, о медведях, о важных зеленошубых столетних дедах, о Руси, расскажут для нас, кто десять лет – сто лет – назад еще видел все это своими глазами, и для тех, крылатых, что через сто лет придут слушать и дивиться всему этому, как сказке» [С. 403].
Знаменательно сотрудничество писателя в этот период жизни с Б. М. Кустодиевым, рассказ «Русь» был написан как текст к «Русским типам» художника, а Кустодиев, в свою очередь, стал автором эскизов к костюмам и декорациям для известной постановки «Блохи» в Москве и Ленинграде. На какой-то момент устремления таких разных художников совпали, о чем позднее писал Замятин: «Кустодиев видел Русь другими глазами, чем я, – его глаза были куда ласковее и мягче. ». Но к моменту знакомства «пышная кустодиевская Русь лежала уже покойницей. О мертвой – теперь не хотелось говорить так, как можно было говорить о живой (…) Так вышло, что Русь Кустодиева и моя – могли теперь уложиться на полотне, на бумагу в одних и тех же красках».[265]
Нельзя не заметить, что рассказы «Куны» и «Русь» образуют своеобразные пары с «Кряжами» и «Письменно»: повторяются не только имена главных героинь, но и основные сюжетные ходы (в первой паре – страстная любовь, во второй – тема нелюбимого мужа). Явный повтор не случаен и сигнализирует о возвращении автора к нерешенным внутренним проблемам.
Кустодиевскому буйству красок в «Кунах» соответствует орнаментальное письмо. Идеализация прошлого достигается здесь не только своеобычными характерами или сюжетной оригинальностью, сколько намеренно украшенным словом, которое становится самоценным и тождественным предмету изображения.[266] Однако не всякое украшательство есть орнаментальность. В рассказе «Куны» можно наблюдать, как идея «затрудненной формы» (В. Шкловский) достигается уже известными нам средствами фольклорной стилизации (инверсивный синтаксис с препозицией сказуемого, фольклорные сравнения и эпитеты и др.). Как и в стилизованных рассказах, повествование в «Кунах» одноголосо, не осложнено вмешательством точек зрения, отличных от точки зрения повествователя (и автора), ибо его задача близка задаче живописца, его слово – «изображающее» слово. Поэтому и поэтические средства, к которым прибегает повествователь, скажем, аллитерация, служат задачам изобразительным. Так нагнетание звуков ш-ч-х создает впечатление непоседливых, шныряющих ребят: «Ребята вьются, шныряют где-то под ногами, получают подзатыльники, хнычут и, глядишь, опять уже хихикают, неслухи, опять невесть что выкамаривают» [С. 398].
Звукопись вызывает определенное психологическое состояние у читателя. Например, в первом абзаце рассказа многократное повторение звука «п» воссоздает «телесное», почти физиологическое состояние – «в сетях русалки»: «Вороха лучей насыпаны в ржаном поле (…) В поповом саду погасли все нежные весенние цветы, горят только (…) спелые пионы и пьяные маки (…) Пруд весь зарос темной зеленью (…) Из пруда по ночам выходят русалки и напролет, до утра (…) тоскуют на берегу; уже поздно (…) прошла русалочья неделя, не успели залучить себе парня, девушками останутся на целый год. Одна надежда на ильинские куны: закружатся парни в кунных кругах, завихрят их девки, запутает в серебряную паутину паук – месяц: может, попадет какой по ошибке в русалочий хоровод. » [С. 398]. Звукопись отрывка ассоциативно взаимодействует и с названием рассказа (куна – (ряз., тамб.) пригоршни, горсть, горсточка; кунка – ночка; оковы, железная цепь, вязы и т. д.)[267] и выводит на авторский замысел: куны – россыпи народной жизни, народных традиций, но и «железные цепи», оковы этих традиций, их важность для человека.
Помимо звукописи, близость орнаментального слова к стихотворной речи достигается своеобразным «непрозаическим» словоупотреблением: слово утрачивает «неподвижность, неразложимость, прямую соотнесенность с предметом» и «легко выходит за границы, поставленные ему языковой нормой».[268] Использование неожиданной, нетрадиционной для литературного языка сочетаемости не только обнажает самоценность слова в данном контексте, но и распространяет его влияние на большие фрагменты текста, являясь основой для лейтмотива. Проследим, например, как создается метафора в рассказе Замятина: а) предметы и их определения могут быть из разных семантических рядов: «веселый колокол», «душная трава», «спелые пионы»; б) определяемое и определяющее антиномичны по смыслу: «весела злоба»; в) или синонимичны: «хитрые сети». Однако важнейшее свойство орнаментальной прозы – лейтмотивность.[269] Центральной лейтмотивной темой, вбирающей в себя боковые, периферийные, становится тема солнца, солнечного. С нее начинается повествование: «Все выше взмывает солнце, все беспощадней. Вороха лучей насыпаны в ржаном поле – рожь стоит золотая, жаркая» [С. 398]. Подруги Марьи – «пестрые, красные, солнечные»; «звонит солнце», «солнце между скученных оглобель» и т. д. Солнце – веселое, звонкое состояние природы и состояние души, отсюда и настойчивые параллели со звонящим колоколом: «Звонит веселый колокол. Звонит солнце».
Жара и жаркий – боковая тема, вариант солнечного состояния. Солнечное состояние – это интенсивность природы, жизни и чувства: «за обедней жара, чуть не гаснут свечи», Марька в церкви «молится с жаркой любовью и ненавистью», Яша «стоит жаркий, измученный», «жаркое девичье тело, белея, раскидывается в темноте». Но солнечность – это и опьянение, дурман: «все быстрее кружится солнце, травы и деревья расплываются в жарком дурмане». «Разомлевший», «пьяный» – другая вариация темы солнца: «запыленное, разомлевшее солнце», «пьяные пионы», «пьяные кузнечики поют песни», «завертели русалки по дороге пьяненького дядю». С этим мотивом связано все неявное, тайное, бессознательное – русалочьи куны как сны: «Медленным чародейным хороводом обходят вокруг ветхих избушек сны и все позволяют». Так переплетением, взаимодействием повторяющихся мотивов рождается образ утраченной сказочной жизни – «жизни неспешной, древней, мерным круговоротом колдующей, как солнце». Языческая семантика солнца как главного божества, управляющего миром, скрепляет внешний, событийный и внутренний, онтологический планы произведения: Ильин день – древний языческий праздник и отражение в нем, как в капле воды, сущности народной, «солнечной» жизни. Троекратное лейтмотивное повторение мотивов и образов («так уж заведено», «но так уж заведено», «такой уж обычай» [С. 400]; «звонит веселый колокол. Звонит солнце», «звонит колокол. Звонит солнце. Но все где-то далеко, во сне», «звонит где-то далеко колокол, звонит солнце, кружится голова» [С. 399–401] сообщает тексту сказочную ритмичность, а вместе с концовкой, оборачивающей все изображенное в сон, ирреальность («Эх, сны! Милый, безумный мир – единственный, где люди свободны» [С. 402]), обнаруживает мягкую авторскую самоиронию, насмешку над собственной сентиментальностью.
Однако у читателя возникает сложное восприятие изображаемого, стилизация как будто не совсем достигает цели. Противоречивость, внутренняя конфликтность идеализируемого бытия задана и двойственностью народного праздника, организующего сюжет (Ильин день – это обедня в церкви и русалочьи куны, христианское и языческое), и характером главной героини, в котором сосуществуют крайности – святость (неистово молится в церкви у Спасова образа) и греховность (она – русалка). Марька (значимо здесь и имя – сниженный, разговорный вариант Марии) не любит Яшку-кузнеца, в ней нет цельности Марьи («Кряжи»), это осколочный образ.[270] Русалочье начало в Марьке (и русском характере) непредсказуемо и губительно: «Эх, потешиться над этим (Марька о Яшке. – М. X.), замучить, защекотать по-русалочьи – все равно, кто ни попадись по дороге» [С. 401]. Сказочную идиллич-ность разрушает и таинственность, недосказанность в сюжете: встреча Марьки и Яшки – сон ли это пьяного Африканыча или явь? Автор, «прикрывающий» события сказочной пеленой, как будто признается читателю в своем бессилии проникнуть в сущность этой жизни, где странным образом сосуществуют красивое, благостное и губительное, страшное.
В рассказе «Русь» (1923), явившемся иллюстрацией к «Русским типам» Б. М. Кустодиева, фольклорная стилизация и орнаментальность уступают место иной повествовательной манере, которую сам Замятин назвал «импрессионизмом стиля». Автор воплощает непосредственное впечатление от картин Кустодиева, и этот «скользящий взгляд», обозревающий не только яркие народные типы, но и саму неспешную провинциальную жизнь, становится основой осмысления материала, определенным углом зрения повествователя. Импрессионистическая манера письма с назывными предложениями и перечислительной интонацией передает и кустодиевское изобилие натуры, красок, чувств, и сообщает изображаемому состояние вечности – жизни, которая «как на якоре – качается пристанью»: «…Русь, узкие улички – вверх да вниз, чтоб было где зимой ребятам с гиком кататься на ледяшках, – переулки, тупики, палисадники, заборы, заборы. Замоскворечье со старинными, из дуба резными названиями: с Зацепой, Ордынкою, Балчугом, Шаболовкой (…) с пароходными гонками, со стерлядями, с трактирами; и все поволжские Ярославли, Романовы, Кинешмы, Пучежи – с городским садом, дощатыми тротуарами, с бокастыми, приземистыми, вкусными, как просфоры, пятиглавыми церквями…» [С. 403–404]. Автор воскрешает ушедшую Русь в материальной достоверности, вписывает мельчайшие подробности быта в вещное пространство, и в этом желании увековечить любую предметную малость прошлого проявляются идиллические настроения повествователя: «Пост. Желтым маслом политые колеи (…) В один жалобный колокол медленно поют пятиглавые Николы, Введенья и Спасы. Старинные дедовские кушанья: щи со снетками, кисель овсяной – с суслом, с сытой, пироги косые со щучьем телесы, присол из живых щук, огнива белужья в ухе, жаворонки из булочной на горчичном масле» [С. 408].
Исследовательница творчества Б. М. Кустодиева проницательно отметила свойственный художнику «удивительно милый юмор, связанный с юмором народным. Этот юмор осложняет взгляд художника на изображаемый мир – здесь и веселье, и восхищение, и ликование вместе с народом, и поэтизация народных обычаев, здесь и мягкая ирония, ощутимая особенно в деталях, и отношение ко всему, как к чему-то сказочно-игрушечному (чуть-чуть!), к настоящему и не совсем настоящему».[271] Позиция Замятина очень близка к этому: детально выписанный народный быт (достоверность) и сказочная «приправа» к нему (условность). На сказочное «чуть-чуть» указывает, прежде всего, «снятие» драматизма в восприятии жизни и характеров. Жизнь и смерть осмысливаются со сказочным оптимизмом. Смерть родителей Дарьи, угодивших на тройке с седоками и кучером в весеннюю прорубь по «лихости», сопровождается неожиданным комментарием повествователя – «Добрый конец!». В соответствии со сказочным принципом «сказано – сделано» Дарья, в отличие от предыдущих замятинских героинь – Глафиры, Афимьи, Дарьи, сама устраивает свое счастье. Однако авторскому стремлению противопоставить неведомому будущему естественно-природное, гармоничное прошлое мешает трезвое понимание многосложности и противоречивости былого. Новеллистический пуант – убийство женой нелюбимого мужа – вызывает у читателя двойственную реакцию. С одной стороны, видно желание автора обернуть излюбленную трагедийную коллизию в шутку, отголосок давно рассказанной (и правдивой ли?) истории: описание смерти Вахромеева сопровождается предположительными «будто», «ли», «де», «мало ли кто что скажет». Но явственна и отсылка к «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова (замужество Дарьи, цыганские глаза ее возлюбленного, отравление мужа грибами), сообщающая произведению скрытый драматизм. Драматична и судьба отвергнутого, «канувшего в Сибири» Сазыкина. Сплетение сказочной идилличности и скрытого, но все же проступающего, драматизма, воплощается в прямом слове повествователя: круги разбегаются, но камень нешуточных, губительных страстей нет-нет да и бултыхнет в водяную дремь русской жизни; и подспудное клокотание этих страстей пугает. И все же в начале 1920-х годов художнику более важны позитивные константы народной традиции, он очень хотел бы верить, что «колокольный медный бархат» национального бытия способен смягчить удары судьбы и защитить человека.
Сказовое творчество Е. И. Замятина вполне отвечает двум способам действия литературной эволюции формалистов: орнаментальный сказ пародирует уже стершиеся приемы сказового творчества классиков (Гоголя, Лескова, Даля), фольклорная стилизация, воплощающая замятинскую концепцию диалогического языка, переносит маргинальные приемы фольклорных жанров в центр литературы. «В обоих случаях, – как замечает современный западный исследователь, – прерывность эстетики гораздо важнее, чем постоянство, и настоящее литературное произведение – это (…) произведение одновременно пародическое и диалогическое, на грани своего собственного и других жанров».[272]
Сообщение форме повествования (сказу, фольклорной стилизации, импрессионистическому письму) статуса предмета изображения в прозе Е. И. Замятина 1910-1920-х годов свидетельствует не о бессмысленном стилистическом украшательстве (как в отечественной науке нередко оцениваются языковые поиски Белого – Ремизова – Замятина), а о поиске метатекстовых структур как инструментов модернистского повествования, способных совместить воссоздание мифа о мире (национальном бытии) с мифом об авторе, противоречиях его сознания.
Стилизация древнерусских текстов («Чудеса»)
Неомифологические поиски Е. И. Замятина разнообразны. Структура мифа лежит в основе авторского миромоделирования и воспроизводится на всех уровнях текста: сюжетно-композиционном, пространственно-временном, повествовательном. В качестве мифологических моделей, художественных «отсылок для полемики» исследователи выявляют как христианские и фольклорно-языческие образы и мотивы, так и современные научные (теория тепловой смерти Вселенной, псиоаналитические концепции З. Фрейда и К.-Г. Юнга), литературные и философские тексты (В. Розанов, Л. Шестов, А. Ремизов, А. Куприн, В. Маяковский и др.). В качестве прототекстов писатель активно использует и произведения русской классики (Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, А. П. Чехова). Мифологизация у Замятина проявляет себя и в использовании жанров как готовых культурных моделей. Художник обращается к универсальным жанровым формам сказки, былины, жития и строит свою картину мира в диалоге с ценностями народной и официальной культур, «отвердевшими» в структуре канонических жанровых форм. «Жанровый анамнезис» является одним из обоснований эстетической концепции писателя – концепции «диалогического языка»: новое в искусстве есть развитие и переосмысление прежнего, ибо культура диалогична в своей основе и непрерывна. В лекции для начинающих писателей «Психология творчества» Замятин называет традиционность основным свойством культуры: «Искусство развивается, подчиняясь диалектическому методу. Искусство работает пирамидально: в основе новых достижений – положено использование всего, накопленного там, внизу, в основании пирамиды (…) Это не значит, что вы должны идти по старым путям: вы должны вносить свое. Художественное произведение только тогда и ценно, когда оно оригинально и по содержанию, и по форме. Но для того, чтобы прыгнуть вверх, надо оттолкнуться от земли, надо, чтобы была земля».[273] Писатель указывает на источники, которые необходимо использовать современному писателю, преобразующему язык прозы: фольклор, памятники традиционной культуры (старославянские, церковнославянские и древнерусские), провинциализмы, устаревшие слова, авторские неологизмы.[274] Под несомненным влиянием А. М. Ремизова Замятин создает свои «чудеса», стилизующие жанры древнерусской литературы: «О святом грехе Зеницы-девы. Слово похвальное» (1916), «О том, как исцелен был инок Еразм» (1920), «О чуде, происшедшем в Пепельную среду» (1924). Соотношение литературного (современного) и канонического (идущего от источника) в них разное, но сюжетной основой всех трех произведений является необходимый элемент житийного жанра – чудо. Однако чудо является и неотъемлемым свойством мифа.[275] Поэтому «Чудеса» Е. И. Замятина представляют исследовательский интерес не только для решения проблемы веры, религиозности писателя,[276] но и для реконструкции индивидуального авторского мифа.
«О святом грехе Зеницы-девы» формально является наиболее последовательной стилизацией жития. Исследователи неоднократно указывали на то, что сюжеты двух первых произведений «отсутствуют в христианской агиографии и являются плодом художественного воображения писателя»,[277] т. е. чистыми мистификациями. Нам же важно подчеркнуть тесную и непосредственную связь произведений Замятина с агиографическими источниками. Так сюжет первого чуда не только воспроизводит основные этапы жизни христианского святого, но и является своеобразной компиляцией из женских житийных историй. Зеница-дева («прозревающая») становится неким обобщающим образом святой мученицы. Как преподобная Синклития, она посвящает свою жизнь сирым и убогим. Ср.: «И веще отца своего и матери своей возлюбила нищих, голодных и сирых. и с ними пребывала все дни», хотя «многие мужи рода доброго и богатства немалого» хотели взять ее в жены[278] [С. 528]; «Когда же она достигла девического возраста, то многие благородные и богатые юноши, очарованные необычайною красотою ее лица и всеми признанным ее добронравием, искали вступить с нею в брак. Но она не хотела выходить замуж, еще с юности пламенея любовью к небесному Жениху Христу Богу».[279] Главное место в произведении уделено описанию подвига святой девы и божественного чуда как вознаграждения ей за праведную жизнь. Зеница-дева повторяет подвиг святой Луки: «браконеискусная» жертвует своей невинностью ради спасения своего народа от голода, мучений и притеснения готов. В ответе Зеницы царю Ерману, потребовавшему от нее любви, почти дословно воспроизводится речь мученицы Лукии языческому римскому правителю Пасхазию. Ср.: «Тело мое, если хочешь, можешь взять, ибо оно есть тлен, душу же – нет, скверненник: душа нерастленна есть» [С. 530]; «…Мою волю ты никогда не склонишь к согласию на грех, все. Что ты можешь сделать с моим телом, – все это презирает раба христова (…). Без произволения Духа никогда не может быть осквернено тело…».[280] Духовная сила героини, позволяющая ей вынести мучения Ермана (как св. Касинии ей «усекнули оба сосца» – ср.: Ермана, «лобызающего» отсеченные груди Зеницы-девы и св. Антония, взявшего отсеченные части тел своих родителей и лобызающего их,[281] вознаграждается «чудом милостивым»: «Три дня с молитвой и терпением добриим Зеница пребывала в студенце, гады же ей не вредили. Трем же дням мимошедшим трус был великий и буря. Вода из студенца вон исплеснулась – и вынесла на берег Зеницу-деву, и змий, и ехидн, и скарпий. И, расползшись по веси всей, уязвлять начали гады воинов готских, и без того трусом смятенных. И как диви лани от голоса человеча, так побежали готы из веси той (…) Зеница же, чудом милостивым, стала цела, как бы и не были перси ея усекновенны, красота же ея стала еще светлее» [С. 530]. Традиционен и конец жития праведницы, прожившей многие лета и имевшей в «преклонные дни» «образ юной девы». Ее благостная кончина, когда народ «весь плакался и смятение было», погребение и надпись на надгробном камне («Здесь погребена есть Зеница-дева, сия грехом милосердным нас спасла есть»), становятся завершающим тему аккордом, утверждающим значимость духовного подвига для личности и образца – для людей. Однако завороженный близостью к первоисточникам читатель не сразу задает себе вопрос: в чем же подвиг и что прозревает Зеница-дева? Героиня Замятина совершает свой грех «гонимых ради», а не во имя Жениха небесного, как житийные мученицы, и ее прозрение – в осознании всепобеждающей силы земной любви (не случайно подвиг Зеницы имеет свою синонимическую пару в поступке Маруси Шмид из повести «На куличках). Главное в содержании жития – «самоценность подданства»[282] – автором кардинально переосмысливается, ибо изображается подвиг земной любви и свободного творческого выбора: «Любовь – ведь только один из видов творчества», – напишет Замятин.[283] И тогда эротическое – скорее форма существования этой любви, чем «атаки норм христианской морали в области половых отношений».[284]
Авторский миф продуцирует и субъектная организация: повествование Замятина очень условно можно назвать житийным. Безличный рассказчик Замятина – вовсе не посредник от «подданного через иерархию к иерарху» (Б. И. Берман). За орнаментальным повествованием, «остраняющим» читательское восприятие, всегда стоит неповторимый образ автора; а ирония и поэтичность такой повествовательной манеры в определенной степени снимают жесткость полемики автора с христианством, с «миром отцов»: «Зеница-дева была млада и прекрасна, – всякого прекословия кроме – волосы же имела, как венец златый отрожденный, из злата червлена. Отец ея был муж нарочитейший словом и делом, у него много коней, и рабынь много, и бисера много бесценного» [С. 528].
Чудо «О том, как исцелен был инок Еразм» (1920) развивает и углубляет проблемы творчества и творца. Источниками стилизации здесь являются легенды из Киево-Печерского патерика об Еразме-черноризце[285] и Алимпии-иконописце.[286]
Из слова об Еразме Замятин использует только имя героя и некоторые фабульные моменты (подвиг Еразма состоял в том, что он растратил все свое имение на иконы и церковную утварь для Печерского монастыря), тогда как часть легенды об Алимпии является сюжетной основой произведения. Алимпий «отдан был родителями своими учиться иконописи».[287] Инока Еразма приводит в обитель к блаженному Памве его мать, т. к. уже в ее чреве он «посвящен был Богу». Замятин воспроизводит и житие св. пророчицы Анны, матери пророка Самуила: господь исцелил ее от бесплодия и даровал детей, т. к. первенца она отдала служить Богу.[288] В патериковом рассказе: «Отец и мать подвели Самуила к первосвященнику Илии, и Анна сказала ему: „Господин мой! Я – та женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу о семи детяти, и исполнил Господь прошение мое, чего я просила у Него: и я отдаю его Господу на все дни жизни его – служить Господу“».[289] У Замятина старец Памва говорит матери Еразма: «Отныне муж твой уже не будет подобен пахарю, возделывающему песок, и труд его принесет плоды. Но первенца твоего, когда он научится петь хвалу зародившему его и зарождающему тьмы, – первенца своего ты приведешь в обитель и оставишь мне» [С. 531]. Но если к Алимпию, украшавшему вместе с мастерами мозаикой алтарь в церкви, снисходит Дух святой от иконы Богоматери, то голуби, предающиеся «плотскому неистовству» в обители Памвы в момент появления там Еразма, напротив, являются знаком бесовских козней. Ср.: 1) «…Смотрят они на образ, и вот внезапно засиял образ владычицы нашей, богородицы и присно – девы Марии ярче солнца, так что невозможно было смотреть, и все в ужасе пали ниц. Приподнялись они немного, чтобы видеть свершившееся чудо, и вот из уст пречистой богоматери вылетел голубь белый, полетел вверх к образу спасову и там скрылся»;[290] 2) «В сей день брачной земли[291] – войди и живи с нами, отрок Еразм, – сказал старец Памва и уже поднял руку благословить отрока, но в тот же час два беса, принявшие образ голубиный, сев на кресте могильном и уронив на землю венок, предались плотскому неистовству» [С. 532]. Изначально «греховным», «телесным» становится и сам объект творчества: Богородицу заменяет Мария Египетская. Испытания Еразма проецируются и на легенду о раскаявшейся блуднице. Так вполне «житийная» фабула произведения (искушение инока бесами, преодоление искушения – исцеление и создание иконы преподобной Марии) служит у Замятина не религиозной цели, а «творческой». Сквозная, мучительная для автора коллизия взаимопроникновения духовной и материальной ипостасей бытия воплощается здесь с помощью «размывания» границ между христианским и языческим мирочувствованием.[292] Мудрость Памвы, благословляющего инока Еразма на плотское познание «честного тела преподобной», это не только (еретическое) расшатывание принципов христианской аскетики («Спусти стрелу, и ослабнет тетива, и уже не будет более смертоносен лук» [С. 539–540]), но – в произведении о художнике – и преодоление разрыва между трансцендентным и земным в искусстве. Абстрактная «бесполая» метафизичность первого варианта иконы должна была оплодотвориться знанием, ощущением и переживанием телесной ипостаси бытия. Т. о., чудо об Еразме можно прочитать не только как эротическую стилизацию, но и репрезентацию авторского мифа об искусстве. Замятин полемизирует с символистской теорией двоемирия и религиозной концепцией искусства. Совершенно в духе акмеизма здесь изображается творческий акт, в котором «идеал = трансцендентному = форме»:[293] в иконе девы Марии, связывающей воедино «божественное», вечное и телесное, «бренное», воплощены и увековечены «все тайны творца». Как и в других своих произведениях, в «чуде» об Еразме Замятин воплощает идеи органической целостности и онтологической ценности земного бытия, единства мира и «тождества» (А. Бергсона и П. Флоренского) как аксиологического равновесия «духовного» и «телесного», обнаруживая эстетическую близость к постсимволистскому модернизму (акмеизму). Поэтому и финал «жития», где изображается полное избавление от бесовских наваждений («Когда писал он лики святых – то писал, как все, во славу Божию, а не дьявольскую» [С. 540]), глубоко закономерен.[294] Художник, вовлеченный в борьбу с разрушительным хаосом (бесовским наваждением), преодолевает его «торжеством формы, меры, Логоса», ибо художественное творчество – аналог божественного творения.[295] Но авторский миф о творчестве включает в себя и фрейдовскую проблематику: творчество как сублимация эротического чувства. Хаос в монастыре, который провоцируется «эротической одаренностью» Еразма, имеет форму тотального вожделения, прекратившегося в момент реализации творческого акта: «И в то же мгновение опали цветы с деревьев и трав, истлели радужные крылья акрид, истаяли бесы, как воск, и, устыженная, во тьме разошлась братия по келиям (…). С того дня как бы отпали от Еразма невидимые бесовские цветы, и исцелел он от бывшего в нем одержания. Безбоязненно отпустил его старец Памва жить с братией, и когда читал во храме Еразм – не было уже соблазна от чтения его» [С. 540].
Если в первых двух «чудесах» формальное сохранение житийного канона создает парадоксальное напряжение между художественной формой и смыслом, то в последнем – «О чуде, происшедшем в Пепельную среду» (1924) – игровое, «камуфляжное» отношение автора к чуду переводит его в профанный план. Жанровое обозначение произведения мотивирует возможность невероятного события – рождения ребенка у мужчины. Но эпатажный замысел нельзя исчерпать только пародией на гомосексуальную линию в современной русской литературе (или творческим «состязанием» с А. Ремизовым и М. Кузминым[296]). Рассказ имеет метатекстовую структуру. Во-первых, в нем воплощаются мифологические представления автора о вечном природном круговороте жизни. Высшие силы, и не без участия дьявольских (настойчиво подчеркиваются рыжие рожки и козьи глаза доктора Войчека, который помог появиться ребенку на свет и «свято хранил тайну чуда»), дали жизни каноника Симплиция смысл в продолжении, что само по себе счастье (мальчика зовут Феликс, «счастливый»). Смерть каноника – это одновременно и вечное возрождение: «Каноник последний раз увидел: огромный, как у архиепископа, лоб Феликса, рыжие рожки доктора, что-то светлое – как слезы – в его козьих глазах, и, как это ни странно, канонику показалось, что доктор Войчек сквозь слезы смеется. Впрочем, все это смутно, издали, сквозь сон: младенец уже засыпал» [С. 546]. Во-вторых, «чудо» о канонике Симплиции может быть прочитано и сквозь психоаналитическую призму, как сублимация автором нереализованных отцовских чувств. Известно, что у Замятиных не было детей, и они создали культ двух кукол – Ростислава и Миши. В этой игре в Ростислава и Мишу участвовали и друзья дома. Имена кукол упоминаются не только в письмах Евгения Ивановича к жене, но и в корреспонденции «серапионов» и А. А. Ахматовой.[297] И, наконец, произведение является последней частью триптиха о творчестве как чудесном рождении органического целого по аналогии с божественным творением.[298] Осознание чуда творчества у Замятина связывается с наступлением энтропийной эпохи цивилизации: католичество как синоним выхолощенного, догматического существования[299] приходит на смену языческим и христианским метафорам двух предыдущих произведений. Появление ребенка у правоверного («молчащего») архиепископа Бенедикта и отмеченного печатью детскости (т. е. незаурядности, свободы – в художественной системе Замятина) каноника Симплиция («простой, ясный») – у «целостного» человека – это травестирование символистской концепции творчества. Искусство у Замятина не только иррационально (доктор Войчек, принимавший роды, не может научно объяснить появление ребенка у мужчины), внерелигиозно (рождение Феликса происходит в первый день католического поста – в Пепельную среду), но и телесно воплощено, оформлено (тогда как для символиста процесс воплощения не является определяющим: рождение от «андрогина» чудесно невозможно, избыточно).
Таким образом, «нечестивые рассказы»[300] Е. И. Замятина – это не только «антижития», развенчивающие абсолюты христианского (и любого догматического) сознания, но и воплощение авторских представлений о творчестве как «божественном» рождении органического целого. В отличие от устремлений символистов к «андрогинной» эротической целостности искусства, Замятин отстаивает иной тип творчества, связанный с претворением энергии эроса в органический феномен культуры, и потому эротические переживания и деторождение являются константами художественного мира писателя.
2.3. Семантика персонального повествования в поздних новеллах Е. И. Замятина («Ела», 1928; «Наводнение», 1929)
Причины обращения Замятина к психоанализу в предэмигрантский период творчества. Функции персонального повествования
В тяжелый период официальной травли («дело Пильняка и Замятина»), запрета на постановку пьесы «Атилла» Е. И. Замятин обращается к исследованию внутреннего мира человека как единственной возможности сохранения личности и ее экзистенции. Поиск основ в индивидуальном существовании побуждает писателя обратиться к чрезвычайно популярному в России начала 1920-х годов инструменту для исследования внутреннего мира личности – психоанализу. То, что Замятин и его ученики «серапионы» мыслят тайну творчества в психоаналитических категориях (сборник «Как мы пишем», 1930) и именно тогда, когда психоанализ не просто выходит из моды, а становится небезопасным, только подтверждает глубокую закономерность и осознанность его использования. Кроме того, необходимо помнить, что Замятин актуализирует психоанализ в его классическом значении – для исследования индивидуального сознания, а не во фрейдомарксистском варианте, направленном на переделку личности.
Публицистика Замятина конца 1920-1930-х годов пестрит психоаналитическими образами, связанными с пониманием природы душевной организации и сознания художника и его творчества. В статье «Закулисы» сборника «Как мы пишем» (1930) Замятин, как и его ученики – серапионы, мыслит тайну творчества психоаналитически: «В спальных вагонах в каждом купе есть такая маленькая рукоятка, обделанная костью: если повернуть ее вправо – полный свет, влево – темно, если поставить на середину – зажигается синяя лампа, все видно, но этот синий свет не мешает заснуть, не будит. Когда я сплю и вижу сон – рукоятка сознания повернута влево, когда я пишу, рукоятка поставлена посередине, сознание горит синей лампой. Я вижу сон на бумаге, фантазия работает как во сне, она движется тем же путем ассоциаций, но этим сном осторожно (синий свет) руководит сознание. Как и во сне – стоит только подумать, что это сон, стоит только полностью включить сознание и сон исчез»[301]; «Комната, где стоит мой письменный стол, подметается каждый день, и все-таки, если сдвинуть книжные полки – в каких-то укромных углах, наверно, найдутся пыльные гнезда, серые, лохматые, может быть даже живые комки, оттуда выскочит и побежит по стене паук. Такие укромные углы есть в душе каждого из нас. Я (бессознательно) выталкиваю оттуда едва заметных пауков, откармливаю их, и они постепенно вырастают в моих… (героев. – М. X.). Это нечто вроде фрейдовского метода лечения, когда врач заставляет пациента исповедоваться, выбрасывать из себя все задержанные эмоции».[302]
В новеллах Замятина конца 1920-х годов «Ела» (1928) и «Наводнение» (1929), исследующих внутренний мир личности, сознательное и бессознательное, страсти, совесть, природное и культурное в человеке, психоаналитический инструментарий становится языком описания экзистенциального самостояния личности.
В отечественном замятиноведении, развивающем идеи западной русистики, существует традиция идейно-тематической циклизации произведений Замятина, согласно которой «Ела» входит в «северную трилогию»[303] («Африка»,1915, «Север»,1918, «Ела», 1928) или «северно-русскую тетралогию»[304] (куда, помимо перечисленных произведений, включаются «Кряжи», 1915). Акцентирование национального генезиса экзистенциальных поступков замятинских героев-бунтарей – Ф. Волкова, Марея, Цыбина – не лишено оснований, но, думается, сужает многоуровневую концепцию человека в творчестве Замятина. На наш взгляд, феномен «Елы» (как и написанной в это же время повести «Наводнение»), напротив, свидетельствует об окончательном переключении авторского внимания с национальной проблематики на экзистенциальную, с русского характера – на человека как такового.[305] Несмотря на то что героями «Африки» и «Севера» владеет не только «русская», но и «общечеловеческая», экзистенциальная тоска, и автор именно в способности личности к рефлексии усматривает надежды на самовозрождение жизни в эпоху тотального разрушения ценностей, приоритет «национальной составляющей» утверждается самой материей сказового повествования. Герой, «выламывающийся из среды», является носителем национальной традиции, его голос звучит на фоне коллективного голоса. «Ела» лишь на первый взгляд является еще одним вариантом изображения русского богатыря с мечтой о «новой, прекрасной жизни», ибо изменение повествования сигнализирует об изменении концепции. Известно, что сам автор определил повествование в поздних новеллах как возвращение к простоте: «Все сложности, через которые я шел, оказывается, были для того, чтобы прийти к простоте» («Ела», «Наводнение»). Простота формы – законна для нашей эпохи, но право на эту простоту нужно заработать».[306] Однако это обманчивая простота орнаментализма[307] и флоберовского «персонального повествования».[308]
«Персональное» повествование – важнейшее повествовательное открытие литературы ХХ века – явилось, как показал Ю. В. Манн, фактором проявления различных художественных импульсов: «с одной стороны, стремление избежать комментариев и оценок от повествователя и переместить точку зрения в сферу персонажа отмечено тенденцией к объективности[309] (…). Но, с другой стороны, персональная повествовательная ситуация открывала возможность более широкого выхода на авансцену внутренних, иррациональных психологических потенций, освобожденных от фильтрации и цензуры сознания (…), возможность для большей субъективности».[310] В русской прозе начала ХХ века персональное повествование связано с именем А. П. Чехова, который был для Замятина не только одним из любимых писателей, но и бесспорным авторитетом в сфере писательского мастерства.[311]
Использование психоаналитических концептов и персонального повествования для исследования внутреннего мира личности и поиска основ индивидуального существования в мире без опор, как и общего «интегрального» психоаналитического символа – воды (моря, наводнения) для обозначения бессознательного, сообщает новеллам «Ела» и «Наводнение» статус эстетического, концептуального единства. Совсем не случайно и в том, и в другом произведении смыслопорождающей становится категория любви как главная психологическая проблема человека (и одна из важнейших тем замятинского творчества), а не просто прием сюжетной занимательности. Замятин в определенном смысле художественно предвосхищает одно из важнейших психологических открытий Э. Фромма о разных типах любви: «эксплуататорской» эгоистической любви-для-себя и «материнской» любви-для-другого. Уже в романе «Мы» главные героини воплощают два этих типа любви. В дилогии автор еще раз подтверждает существование продуктивной и непродуктивной любви, ведущих либо к победе «Оно», страсти, бессознательной жажде обладать (в «Еле»), либо к победе «Я», сознания (в «Наводнении»).
«Ела» (1928): персональное повествование как способ реализации психоаналитического кода
Главный герой первой новеллы Цыбин, стремящийся завладеть елой, – некий универсальный человек в погоне за счастьем. Автор и здесь верен мифологическому сюжетостроению: имена Цыбина и его «избранницы» кодируют сюжет. Цыбин (от укр. «циба» – длинная нога, «цибати» – шагать[312]) – шагающий «за счастьем, за удачей»,[313] ела для него, как «шинель для Башмачкина»,[314] возможность обрести «новую, великолепную жизнь»[315] [C. 124]. Увязывание основной коллизии произведения с ведущим концептом замятинского творчества – рождением и деторождением, материнством – лишь подчеркивает экзистенциальность устремлений героя: в противоположность «пустому» существованию с женой Анной («Вся Анна похожа была на пустой наполовину сверток – из свертка что-то потеряно, упаковка ослабла, и каждую минуту все могло рассыпаться» [C. 122]), «как ребенок внутри женщины, в этой коробке лежала их ела, трудно, медленно зрела, питаясь человеческим соком, – и, может быть, теперь уже близок был час, когда она наконец родится» [C. 122]. Но «Ела» – это еще и личное женское имя. Д. Ричардс писал о том, что Цыбин добивается елы как невесты, а ее покупка воспроизводит русский свадебный обряд.[316]
Однако структура повествования в изменчивых субъектных преломлениях героя, как бы не скорректированных автором, воплощает скорее страстность «любовного романа» между Цыбиным и долгожданной елой: «На темном, смоленом лице рот расцветал, зубы блестели, впереди было счастье. Он думал о корпусе, о тросах, о парусах, о конопатке, о пеке, о своей еле, – о том, о чем не спал ночью три года» [C. 128]; «Цыбин один полез в трюм, ощупал, обласкал каждый бимс, каждую доску, он улыбался – один, себе, руки у него тряслись. Еще какая-то тоненькая пленочка, волосочек, минута – и все это будет его!» [C. 130].
Борьба с соперником, еще одним покупателем судна, обнажает природное, даже звериное, бессознательное происхождение страсти Цыбина: «"Уходи… – сказал Цыбин чужим голосом и не глазами, а как-то зубами, оскаленными белыми зубами поглядел в пухлое бабье лицо. «Сам уходи! Ела не твоя…» Если бы он не сказал: «Ела не твоя» – может, ничего бы и не было. Но тут в Цыбине, внутри, будто прорвало шлюз, все хлынуло в голову. Он вытащил из кармана кулак с зажатым ножом, замахнулся. Все закричали. Фомич стиснул его руку, так что захрустело, хозяйка вырвала нож (…) «Ты убиваешь, нехорошо… – сказал Клаус». «Что ж, и убью! – крикнул Цыбин»» [C. 131–132].
Жизнь Цыбина обретает смысл именно в тот момент, когда он овладевает любовным объектом. Долгожданное счастье Цыбина – это полнота страсти; «острые груди» бывшей хозяйки елы «возместили» «недостачу» Анны, грудь которой «походила на мешочек с высыпавшимся наполовину зерном, а раньше была полная доверху» [C. 126]: «Цыбин обернулся еще раз на свою елу и смотрел, упиваясь, жадно глотая ее глазами. На самом носу стояла хозяйка, под белой кофтой у нее торчали широко расставленные, острые груди, она кричала что-то вслед Цыбину» [C. 132].
Композиция рассказа также воспроизводит «логику» развития губительной страсти: три главы посвящены соответственно ожиданию любви, ее обретению и гибели героя. Разбушевавшийся океан, в котором гибнет Цыбин со своей елой, становится прозрачной метафорой как всесокрушающей силы бессознательного в психике человека и его жизни, так и невозможности «закрепиться» на пике любви-страсти. «Вода, – писал К. Г. Юнг, – является чаще всего встречающимся символом бессознательного (…). Психологически вода означает ставший бессознательным дух».[317] Цыбин, как рыбак, стремится «выловить», поднять с «глубины вод» своего подсознания то неведомое, что там покоится, – ему нужно свое судно. Психоаналитическая мифологизация сюжета позволяет интерпретировать авторский замысел более широко, как процесс становления личности, обретение героем своего истинного лица. Ср.: «Тот, кто смотрит в зеркало вод, видит прежде всего собственное отражение. Идущий к самому себе рискует с самим собой встретиться (…). Такова проверка мужества на пути вглубь, проба, которой достаточно для большинства, чтобы отшатнуться, так как встреча с самим собой принадлежит к самым неприятным».[318]
Герой радостно идет на опасную встречу с самим собой – приветствует шторм как состояние сознания, близкого к осуществлению идеала: «Весь он (Цыбин. – М. X.) был напружен, как парус под ветром, когда все снасти дрожат от радости и поют. Ела шла сзади, чуть вспенивая штивнем воду, золотая верхушка ее мачты покачивалась в небе. Все было удивительное, голубое, прекрасное – и так останется навсегда» [C. 134–135]; «…Он знал: ничего теперь не могло, не должно случиться, все было счастливое, легкое, солнце летело (...) Эх, хорошо жить!» [C. 134]. Океан не вдруг превращается в бездну, стену, пустыню: «Впереди была вода, пустыня. На севере быстро вырастала, нагибаясь все ближе, тяжелая серая стена. Одну секунду солнце покачалось на краю стены – и сорвалось вниз. За стеной все вспыхнуло, несколько мгновений верхушка стены была медная, потом потухла – и оттуда вдруг дохнуло холодом, тьмой, как будто раскрылась дверь в подземелье» [C. 135]. Цыбин не хочет слышать голоса подсознания, в котором с самого начала фиксируются тревожные симптомы, «предупреждающие» о катастрофе: «…Цыбин заметил: чуть-чуть согнуто железное погудало от руля – должно быть, елу однажды хватило штормом. „Ничего! Эта – всякий шторм выдержит!“ – Цыбин влюбленно поглядел на елу» [C. 133]. Сатанинская подмена обретенного счастья гибелью «предсказывалась» и амбивалентным образом хозяйки елы – голубоглазой ундины с золотыми волосами, символизирующей фрейдистски и эрос, и танатос. В какой-то момент она замещает елу (искушение страсти) и, как сирена, увлекает, заманивает героя, лишает сознания: «Хозяйка медленно поднимала синие глаза. Глубоко посмотрела на Цыбина, может быть – увидела все, взяла деньги. Цыбин глядел, раскрыв рот, будто все еще не верил. Вдруг схватил норвежку, потянул ее к себе, притиснул и стал целовать ее щеки, губы, волосы. "Ты… ела! Ела – моя! – кричал он. – Моя ела! Моя!" Потом опять пили в кубрике, и пил Цыбин. Ему казалось, он все понимает, что говорит по-норвежски хозяйка. Клаус сказал: «Она тебе говорит, что теперь ела твоя, а за ела она возьмет тебя». Норвежка засмеялась и тронула рукой щеку Цыбина. Рука была холодная, как у мертвой, Цыбин отодвинулся, встал» [C. 132].
«Холодные руки» хозяйки станут повторяющимся сигналом подсознания о надвигающейся смерти, и это герой не хочет осознавать. Кроме того, троекратное повторение Фомичом слова «оно» в разное время, но всегда по поводу чрезмерных чувств Цыбина, проблематизирует идеи Фрейда о власти бессознательного в человеке и важности борьбы «сверх-я» с «оно» для сохранения «я» («Я и Оно»).
Обретение в страсти смысла жизни (а для героя Замятина и своего истинного «я») не может быть долговечным: «разбушевавшийся океан бессознательного» грозит поглотить не только Цыбина с его елой, но и окружающих людей, разрушив их судно (нормальную, повседневную жизнь); привязанная к боту ела во время шторма бьет в его корму. Цыбин признает право других людей на самосохранение, он вынужден смириться с тем, что елу отсекают от судна. Однако вернуться назад, в прежнюю жизнь, герой не может: «Елы больше не было, больше не было ничего» [C. 138]. Выбор героя между жизнью и любовью-для-себя оборачивается смертью.
Функции «потока сознания» и монтажа в повествовании рассказа «Наводнение» (1929)
Иное разрешение борьбы сознательного и бессознательного в психике человека представлено в новелле «Наводнение», составляющей своеобразную дилогию с «Елой» не только использованием архаической и психоаналитической семантики воды, но и (что неоднократно отмечалось исследователями) отсылкой к знаковым произведениям русской классики («Ела» – «Шинель», «Наводнение» – «Преступление и наказание»).
Коллизия преступления и нравственного покаяния является в произведении Замятина ключевой, она призвана утвердить победу сознания над тем, что «от живота». Поэтому трудно согласиться с выводами В. Шмида о том, что в «Наводнении» «история о преступлении и наказании (…) растворяется как нарративный, событийный сюжет и превращается в (…) «слово» о смерти и возрождении, о саможертвовании как условиях новой жизни» и что признание Софьи «не следует понимать в христианском смысле, как знак нравственного очищения и духовного развития», ибо она «переживает свое признание вполне телесно, как рождение, как физиологическую необходимость, как акт мифического катарсиса, не сопровождаемый ни покаянием, ни искуплением».[319]
Проблема мифического как подсознательного тщательно разработана в «Наводнении», но не исчерпывает авторской концепции. Кроме того, у Замятина между духовным и телесным нет непреодолимой пропасти: материнство Софьи – инстинкт, но и источник духовных сил. И в этом смысле можно сказать, что «Наводнение» начинается там, где заканчивается «Ела»: жизнью того и другого героя «правит» любовь, но это разные типы любви.
Вторая новелла почти буквально иллюстрирует логику известного труда З. Фрейда «Я» и «Оно»: «я» главной героини Софьи борется с темным подсознанием – «оно» – и эта борьба завершается победой «Сверх-Я» – покаянием в нравственном (и христианском – для героини) смысле.
Зафиксировав власть стихийно-природных, мифических, бессознательно-телесных (сексуальных, материнских, собственнических) сил в человеке, – власть «Оно» – автор повествовательно воссоздает сам механизм перехода бессознательного – в сознание, мифического – в личностное, «Оно» – в «Я», завершающегося победой совести («Сверх-Я»). Попробуем это доказать.
До момента убийства Софьей действительно владеет только «мифическая сверхзадача» (В. Шмид), «сформулированная ее сном»: чтобы заполнить «яму» в отношениях с Трофимом Иванычем, необходимо родить ребенка, а для этого должна пролиться кровь: «…Софья выбежала на улицу. Она знала, что конец, что назад уже нельзя. Громко, навзрыд плача, она побежала к Смоленскому полю, там в темноте кто-то зажигал спички. Она споткнулась, упала – руками прямо в мокрое. Стало светло, она увидела, что руки у нее в крови» [C. 158]. Сон Софьи – своеобразный фрейдовский «сон-желание», диктующий героине волю ее мифического «Оно». Эту волю Софья исполнит, доказательством чего явится почти полное перенесение обстоятельств сна в реальное захоронение Ганьки: «Софья спотыкалась. Она упала, ткнулась рукой во что-то мокрое и так шла потом с мокрой рукой, боялась ее вытереть. Далеко, должно быть на взморье, загорался и потухал огонек, а может быть, это было совсем близко – кто-нибудь закуривал папиросу на ветру» [C. 172].
Несмотря на то что руки Софьи бессознательно («совсем отдельно от нее») выполняли требования ее мифического «оно» и «ни страха, ни стыда – ничего не было, только какая-то во всем теле новизна, легкость, как после долгой лихорадки» [C. 170], уже в момент убийства появляется «вторая» Софья, обращающаяся к Богу: «Не думая, подхваченная волной, она подняла топор с полу, она сама не знала зачем. Еще раз стукнуло в окно огромное пушечное сердце. Софья увидела глазами, что держит топор в руке. «Господи, господи, что же это?» – отчаянно крикнула внутри одна Софья, а другая в ту же секунду обухом топора ударила Ганьку в висок, в челку» [C. 170]. «Жертвоприношение» соперницы совсем ненадолго освобождает Софью от страданий. Совершенно в духе героя Достоевского она вдруг осознает, что своим деянием навсегда отгородила себя от мира. «Камень» греха пришел на смену власти кровожадного «Оно»: «Она увидела ненавистные белые кудряшки на лбу – и в ту же секунду они исчезли: Софья вспомнила, что их нет и больше никогда не будет. "Слава богу. " – сказала она себе и сейчас же спохватилась: «Что „слава богу“? Господи!» опять заворочался Трофим Иваныч, Софья подумала, что ведь и его тоже нет и никогда не будет, ей теперь всегда жить одной, на скозняке, и тогда зачем же все это, что было сегодня? Трудно, ступенями, она стала набирать в себя воздух, она, как веревкой, дыханием поднимала какой-то камень со дна. На самом верху этот камень оборвался, Софья почувствовала, что может дышать. Она вздохнула и медленно стала опускаться в сон, как в глубокую, теплую воду» [C. 174].
«Сон бессознательного» пока еще владеет душой героини, но скорое пробуждение «Я» подсказано использованием не только архаической, мифической, но и христианской семантики воды как «интегрального» образа произведения (Е. Замятин): 1) вода становится «символом пребывающей во тьме души», бессознательного; «по-земному осязаема, она является текучестью тел, над которыми господствуют влечения, это кровь и кровожадность, животный запах и отягченность телесной страстью»;[320] 2) но погружение в глубины вод всегда предшествует подъему, «ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду; и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью» (Иоанн, гл. 5.4). «Выздоровление» Софьи начинается сразу после содеянного. Подсознательное чувство вины заставляет героиню смыть с себя (водой) тяжкий грех: «Дома Софья быстро вымыла пол, сама вымылась в лотке на кухне и надела на себя все свежее, как после исповеди перед праздником» [C. 172]. И даже исполнение «мифической сверхзадачи» – беременность и восстановление отношений с мужем – не освобождает героиню от неосознанного пока еще нравственного долга: «…Все тело у нее улыбалось, оно было полно до краев, больше туда уже ничего не могло войти. Ей только было страшно, что дни становились все короче, вот-вот догорят совсем, и тогда – конец, и нужно торопиться, нужно до конца еще успеть сказать или сделать что-то» [C. 178].
Прорыв чувства вины и потрясение от содеянного происходит в последнюю ночь перед родами, когда «я» Софьи идентифицируется с совершившей преступление: «Она стала вспоминать, как все это вышло, но ничего не могла вспомнить, долго лежала так. Потом, как будто совсем ни к чему, отдельно, увидела: кусок мраморной клеенки на полу, и муха ползет по розовой спине. У мухи ясно видны были ноги – тоненькие, из черных катушечных ниток. „Кто же, кто это сделал?“ Она – вот эта самая она – я… Вот Трофим Иваныч рядом со мной, и у меня будет ребенок – и это я?" Все волосы на голове у нее стали живыми. » [C. 179]. После этого Софья «перестала спать по ночам»: белые ночи (вытеснение бессознательного – «да и ночей уже почти не было») «отмечают» теперь уже не прекращающуюся работу сознания.
Материнство даруется Софье как возможность проникнуть в нравственный закон жизни, не остаться своим «биологическим двойником», однозначно живущим по законам «мифического» – Ганькой. Внезапное озарение перед родами – это знак того, что само мироздание «потребует» от Софьи искупления вины. Поэтому и счастье материнства, к которому приблизилась Софья («ради этой минуты она жила всю жизнь, ради этого было все»), обернулось болезнью – родильной горячкой; до момента признания героиня оказывается в пограничном состоянии между жизнью и смертью: «ее тянуло ко дну». Софью увозят в больницу рожать, но она прощается с прежней жизнью и думает о чем-то невыполненном: «Софью подняли на носилки и стали поворачивать к двери. Мимо нее прошло все, чем она жила: окно, стенные часы, печь – как будто отчаливал пароход и все знакомое на берегу уплывало (…) Софье показалось: надо здесь, в этой комнате, что-то еще сделать последний раз» [C. 181].
Бред Софьи, в котором многократно повторяется сцена убийства, выполняет в произведении роль фрейдовского сна-кошмара: героиней владеет мазохистское желание наказать себя. Софья понимает, «что она умирает и надо торопиться изо всех сил», она стремится материально, мифически возместить утрату убитой ею Ганьки – родить ее вновь: «Родить… родить скорее! – она схватила докторшу за рукав. «Спокойно, спокойно. Вы уже родили – кого ж вам еще?» Софья знала – кого, но ее имя она не могла произнесть. » [C. 182]. Но совершенное Софьей убийство телесно необратимо, «природно» Ганьку вернуть нельзя. Возможности телесного, утробного исчерпаны. Софья осознает, что убийство внутри нее и именно от этого ей нужно избавиться: «Она вспомнила эту ночь и сейчас же поняла, что ей нужно сделать, в голове стало совсем бело, ясно. Она вскочила, стала в кровати на колени и закричала Трофиму Иванычу: ««Это – я, я! Она топила печку – я ударила ее топором (…) Я – убила», – тяжело, прочно сказала Софья (…). Софье стало страшно, что ей не поверят. » [C. 182].
Только покаяние освобождает Софью от мучительных страданий, дарует жизнь и приносит такое же удовлетворение, что и долгожданное материнство. Ср.: 1) «Софья чувствовала, как из нее текут теплые слезы, теплое молоко, теплая кровь, она вся раскрылась и истекала соками, она лежала теплая, блаженная, влажная, отдыхающая, как земля…» [C. 180]; 2) «Все кругом было белое, было очень тихо, как зимой (…) Она (Софья. – М. X.) медленно, как птица, опустилась на кровать. Теперь было все хорошо, блаженно, она была закончена, она вылилась вся» [C. 183]. Эпитет «блаженный», объединяющий оба состояния Софьи, указывает не на «телесность» признания, отождествленного с материнством, а на духовность покаяния, укорененного в органике жизни и ставшего возможным благодаря материнству.
Изображению конфликта сознательного и бессознательного в психике человека в «Наводнении», как и в «Еле», способствует персональное повествование как инструмент для проникновения в иррациональную сферу человеческой души. Последовательно выдерживая повествование в кругозоре главной героини, автор, по сути, воспроизводит поток ее сознания, отождествляемого с реалиями внешнего мира.
Другим важным способом представления фабулы в «Наводнении» становится монтаж.[321]
Пик развития монтажного видения в русском кинематографе, литературе и науке приходится на 1920-е годы, но уже в 1910-х годах в прозе А. Белого, В. Розанова, А. Ремизова и других активно используется монтаж. Первые «монтажные» опыты Замятина обнаруживаются еще в «Уездном», однако функции монтажа в ранней прозе Замятина и творчестве, завершающем «советский» период, различны: в первом случае это в основном прием фрагментарной изобразительности, тогда как во втором – средство для проникновения во внутренний мир личности. Кроме того, монтажные поиски Замятина отвечают его эстетическим установкам, настойчивое требование от литературы философского синтеза, не изображения быта, а выражения бытия («Новая русская проза», «О синтетизме», «Цель» и др.) имеют непосредственный выход на монтажное сознание и монтаж как композиционный прием.[322]
В «Наводнении» принципиально не поддающееся изображению бытие – внутренние движения человеческой души, конфликт сознания и подсознания – воспроизводится через столкновение разноуровневых картин (природных, бытовых, социальных), уподобляя микромир человеческого сознания окружающему его макромиру.[323] Например, в начале 3 главы душевное состояние Софьи передано метонимическим «монтированием» в единый смысловой образ различных жизненных проявлений: муха под банкой, жара на Васильевском острове, тучи, которые не могут прорваться дождем. Ярче всего монтажная техника проявляет себя в кульминационной сцене рассказа – сцене покаяния. Неотвратимость покаяния обоснована самой формой передачи нравственных мучений героини. Трехкратное «видение» сцены убийства, выполненное по аналогии с кинематографическим приемом «наплыва», когда гибель Ганьки существует в сознании Софьи одномоментно со склонившейся над ней докторшей, сообщает переживаниям Софьи необратимый характер: содеянное «живет» в Софье как настоящее, но не как прошлое.[324] «Вошла Ганька – с полным мешком дров. Она села на корточки, широко раздвинув колени, оглянулась на Софью, ухмыляясь, встряхнула белой челкой на лбу. Сердце у Софьи забилось, она ударила ее топором и открыла глаза. К ней нагнулось курносое лицо в пенсне, толстые губы быстро говорили: „Так – так – так.“, пенсне блестело, Софья зажмурилась. Тотчас же вошла Ганька с дровами, села на корточки. Софья опять ударила ее топором и опять докторша, покачивая головой, сказала: "Так – так – так. " Ганька ткнулась головою в колени, Софья ударила ее еще раз» [C. 182].
Помимо «интегрального» образа воды, воплощающего бессознательное, природное начало в человеке, «Ела» и «Наводнение» объединяются жанром психологической новеллы с присущими данной жанровой форме специфическими чертами: однособытийностью, наличием кульминации в виде поворотного пункта композиционной «кривой», преобладанием (внешнего и внутреннего) действия над описательностью и, как следствие, драматизмом повествования.[325] Однако если в «Еле» новеллистический пуант – это изображение предполагаемой гибели героя в результате победы мифического, бессознательного «Оно» (по Фрейду) и эгоистической «эксплуататорской любви-для-себя» (по Фромму), то в «Наводнении» – момент покаяния героини (подключение к христианскому Сверх-Я), с помощью материнства («продуктивной любви») преодолевающей «захватнические» интересы своего «живота».
Таким образом, в тяжелейший для себя период официальной травли и экзистенциального одиночества подрывающий рациональные схемы релятивист Замятин действительно приходит «к простоте» – к утверждению вечных ценностей: отстаивает веру в разум (З. Фрейд) и способность человека к истинной любви и надежде на лучшее (Э. Фромм).
Литературоцентричные повествовательные стратегии орнаментального сказа, разных видов стилизации, персонального повествования в прозе Е. И. Замятина как представителя «эстетической линии» русской литературы начала XX века являются способом мифологизации изображаемого и, как следствие, модернистским миромоделирующим приемом. В данном случае «избыточно» литературное повествование обеспечивает разворачивание неомифологического сюжета и способствует созданию авторского мифа о мире и о себе. Назвав новое искусство «неореализмом», а тип художественного мышления – «синтетизмом», Замятин в своей концепции «диалогического языка» отстаивает не реалистический, а модернистский тип творчества, близкий к акмеизму: установка на сохранение и использование традиции с цитатностью и центонностью в поэтике, отношение к художественному творчеству как «мастерству», актуализация проблемы читателя как сотворца, представление о мире как органическом единстве и продукте творчества как рождении органического целого. Постсимволистская проблема реабилитации реальности не вытеснила у Замятина преобладание авторского сознания над этой реальностью: неореалист, по Замятину, должен выражать внешний мир «так, как он кажется» (курсив мой. – М. X.) автору («Записные книжки», с. 49).
Эстетический «неотрадиционализм» сближает Замятина с фигурами, далекими от него мировоззренчески, но родственными в задаче служения культуре и в оценках авангарда: с «логоцентричными» русскими философами – идеалистами (П. Флоренским, Н. Лосским, Н. Бердяевым, С. Франком, Л. Шестовым и др.) и писателями-эмигрантами, также ищущими антиавангардные повествовательные пути в искусстве (Б. Зайцевым, И. Шмелевым, М. Осоргиным и др.). С ними писатель и воссоединится в эмигрантском «послании» через десять лет после запланированной осенью 1922 года его высылки из страны.
Глава 3 СТРУКТУРА «ТЕКСТ О ТЕКСТЕ» КАК ВИД ЛИТЕРАТУРНОЙ САМОРЕФЛЕКСИИ (Е. ЗАМЯТИН, М. ОСОРГИН, Н. БЕРБЕРОВА)
В своей классической работе «Текст в тексте» Ю. М. Лотман обосновал собственно литературную семантику данной структуры, обусловленную двойственностью знаковой природы текста как «притворяющегося» самой реальностью и одновременно чьего-то создания, имеющего смысл: «Текст в тексте – это специфическое риторическое построение, при котором различие в закодированности разных частей текста делается выявленным фактором авторского построения и читательского восприятия текста. Переключение из одной системы семиотического осознания текста в другую на каком-то внутреннем структурном рубеже составляет в этом случае основу генерирования смысла. Такое построение, прежде всего, обостряет моменты игры в тексте: с позиции другого способа кодирования, текст приобретает черты повышенной условности, подчеркивается его игровой характер: иронический, пародийный, театрализованный и т. д. смысл».[326] Введение чужого по отношению к «материнскому» тексту семиозиса переключает внимание «с сообщения на язык как таковой», обнаруживая кодовую неоднородность «материнского» текста.[327]
Игра в семиотическом поле «реальность – фикция», осуществляемая при помощи разнообразных соположений разнородных текстов, обострилась в литературе и культуре XX века, имеющей в своем арсенале широкий спектр возможностей: от аллюзии и реминисценции – до зеркальности, двойничества и «текста о тексте». Наиболее изученным в этом смысле является «центонная» поэтика акмеистов как «повествование о событиях и повествование о повествовании в сопоставлении с другими текстамив».[328]
«Текст о тексте», или метатекст, предполагающий изображение самого процесса письма и его комментирования, является самым убедительным способом саморефлексии прозы. Как отмечает исследовательница современной метапрозы, «изучение метапрозы не только выявляет актуальные и идеальные писательские авторефлексивные репрезентации, но и правила литературного развития и даже «проигрывание», виртуальное переживание его не осуществленных, но возможных вариантов», «ни в каком ином жанре невозможно присутствие столь широкого спектра значений, существенно необходимых для понимания современного авторского сознания и литературного процесса в целом».[329]
На наш взгляд, наиболее полное определение метатекста сформулировано в книге М. Н. Липовецкого «Русский постмодернизм» и означает «тематизацию процесса творчества через мотивы сочинительства, жизнестроительства, литературного быта и т. д.; высокую степень репрезентативности «вненаходимого» автора-творца, находящего своего текстового двойника в образе персонажа-писателя»; а это воплощается в «зеркальности повествования, позволяющей постоянно соотносить героя-писателя и автора-творца», структуре «текста в тексте» и «рамочного» текста; метатекстовых комментариях, трактующих взаимопроникновение текстовой и внетекстовой реальностей; «обнажении приема», переносящем акцент с целостного образа мира, создаваемого текстом, на сам процесс конструирования этого еще не завершенного образа», что активизирует читателя, поставленного в положение соучастника творческой игры» и приводит к усилению «творческого хронотопа» (Бахтин), приобретающего равноправное положение по отношению к окружающим его «реальным» хронотопам».[330]
Метатекстовая структура («текст о тексте») как инструмент самопознания литературы оказалась востребованной в первой трети XX века и в литературе модернизма (в творчестве Е. И. Замятина и Н. Н. Берберовой), и в литературе реализма (М. А. Осоргин), объединяя мировоззренчески и эстетически разных художников.
3.1. Метатекстовая структура романа Е. И. Замятина «Мы»
«Сюжет письма» в романе «Мы»
В последние годы социально-философское прочтение романа Е. И. Замятина «Мы» (1921) уступает место осмыслению романной формы. Структура «текста в тексте», совпадение не только названий (записки Д-503 названы так же, как и роман автора, – «Мы»), но и границ сочинений автора и его героя сообщают «запискам», «конспектам», «дневнику» Д-503 статус предмета изображения.[331] Диапазон истолкования текстовой и повествовательной структур романа «Мы» достаточно широк. Б. Ланин и М. Боришанская, а позже В. Евсеев рассматривают дневник Д-503, перволичную форму повествования, в качестве регулярного признака антиутопии, построенной на обнажении подсознания героя и общества.[332] Р. Гольдт, М. Любимова выдвигают в центр каноническую семантику дневника, документальная и психологическая основа которого вписывается в «публицистический контекст» эпохи.[333] Е. Скороспелова, Н. Кольцова сравнивают повествование в «Мы» с «Записками сумасшедшего» Н. В. Гоголя, подчеркивая, что «дневник безумца» у Замятина, в отличие от классических «Записок», свидетельствует о возрождении личности героя.[334] Н. Скалон, напротив, связывает текст романа Замятина с «Записками из подполья» Ф. М. Достоевского: «герои одновременно ведут диалоги с самим собой и с воображаемым читателем – оппонентом их записок».[335] И. Петерс дает психоаналитическое истолкование записок героя как «личных записок автора о самом себе», основываясь на сближении «автора дневника» и «публицистического автора».[336] Ряд авторов, начиная с Г. Морсона,[337] связывают нарративную структуру романа с текстообразующей проблемой творчества. Е. Скороспелова, указывая на многожанровую природу романа Замятина, называет «Мы» «романом о романе», в котором онтологизируется рукопись погибшей личности.[338] С. Пискунова рассматривает роман Замятина в «историко-поэтологической перспективе» «философско-гносеологического романа».[339] Л. Геллер отмечает парадоксальность записок, которые ведутся от имени математика, обладающего глазами художника, живописца; преобладающие зрительные впечатления героя сближают автора с близкой авангарду живописью.[340] Л. Долгополов,[341] И. Доронченков,[342] Н. Скалон[343] и Л. Геллер[344] обосновывают литературную полемику Замятина с футуризмом, Пролеткультом, крестьянскими поэтами, конструктивизмом. Наконец, Б. Дубин исследует роман в аспекте «проблемы реальности, ее оснований и устройств, инстанций и способов ее удостоверения».[345]
Выделение «сюжета письма» в романе открывает метатекстовую структуру романа, один из уровней которого – сюжет творчества, ставший самоопределением автора (Замятина) в пространстве современной культуры. Время создания романа (конец 1910-х – начало 1920-х годов) совпадает с периодом эстетической рефлексии Замятина. В эти годы он читает начинающим писателям лекции по технике художественной прозы, в которых осмысливает опыт собственного творчества, активно выступает в периодике и по общественно-политическим проблемам, и по проблемам искусства. Идея нового языка искусства вызревала у Замятина параллельно созданию романа «Мы», о чем свидетельствуют текстуальные совпадения, перенесение основных концептов романа (энтропии/ энергии, бесконечной революции, разнополюсного устройства мира) в написанные позднее статьи «Рай» (1921), «О синтетизме» (1922), «Новая русская проза» (1923), «О литературе, революции, энтропии и о прочем» (1924).
Роман «Мы» – свидетельство творческой зрелости художника, аккумулирующее опыт предшествующего творчества. В повести «Островитяне» (1917), написанной в Англии и явившейся подготовительной работой к роману, фабулу и сюжет определяет проблема долга, закодированная в имени одного из главных героев – викария Дьюли (в англ. – dully – «должный, в должное время», но и «двойственный»). В литературе неоднократно отмечалась поляризация персонажей повести по наличию рационального / стихийного, аполлонического / дионисийского основ характера. Безусловная предпочтительность для автора второй пары оппозиций как будто не требует доказательств;[346] на наш взгляд, Замятин дает более сложную эстетическую оценку сознания человека. Внешний конфликт между миром Джесмонда и адвокатом О'Келли и Диди выражают противоборство между окончательно энтропиизировавшимся кантианством (категорический императив выродился в «Завет принудительного спасения» викария) и ницшеанством дионисийствующих несогласных. Однако изображение нецелостности, «текучести» внутреннего мира каждого из персонажей (почти все главные герои стремятся к противоположному полюсу, и даже викарий Дьюли спасается от внутреннего хаоса «расписанием») переводит конфликт во внутренний. Несовершенный человек – Кембл, выходящий из одного мира в другой благодаря любви, оказывается не нужным как миру догм, так и новой породе людей, взрывающей эти догмы. Если первые формализовали этическое до внешнего распорядка дня, то вторые лишены этики. О'Келли, защищающий личность адвокат, шутит, что главная привилегия «высшей породы интеллекта» – адвокатов – лгать, что он и проделывает с доверившимся ему Кемблом. Антиномии аполлони-ческого и дионисийского взаимопроникают, являются неотъемлемым свойством сознания, и авторского в том числе. Тотальная ирония повествователя и финал повести свидетельствуют, что противоречия собственного сознания и ценностный кризис автором осмыслены. Если бы автор в финале превратил Кембла в мистера Краггса из «Ловца человеков», как первоначально было задумано,[347] то можно было бы говорить о самоидентификации автора с дионисийско-ницшеанской стихией. Но герой «отказался быть негодяем»: Кембл убивает О'Келли, который по-ницшевски «ведет скверную игру» и «рискует собой»,[348] а Джесмонд казнит Кембла.
В замятиноведении неоднократно дневник героя романа «Мы» рассматривался как форма выражения пробуждающейся личности, как движение сознания героя от энтропии к энергии, от единого государства – к Мефи, от Аполлона – к Дионису.[349] Герой освобождается от долга нумера перед Единым государством, но другой идентичности не обретает: дионисийская свобода оказывается мифом. Исследователи останавливаются перед выводом о тотальном релятивизме автора, отмечая постоянные для Замятина ценности – любовь, материнство, органика жизни, письмо. Мы попытаемся показать, что эти ценности в романе не самодостаточны, но утверждают концепцию искусства как верховной реальности. Такое прочтение открывает анализ нарративной структуры романа: дневник Д-503 разворачивает две главные дискурсивные практики русской литературы послереволюционного времени – зарождающегося соцреализма и авангарда. (Социалистический реализм как литературное направление возникает позднее, но его дискурс формируется в конце 1910-х годов). Замятин, полемизирующий с пролетарской, крестьянской и авангардистской утопиями, использует языки «государственного искусства» и авангарда и для описания эволюции сознания своего героя, и для художественного самоопределения автора в современной культуре. Популярное в замятиноведении отождествление автора со своим героем можно принять лишь отчасти. Если для героя его записи являются актом самосознания, способом освобождения от ложного долженствования,[350] то выстраивание автором записей героя в соответствии с господствующими канонами ставит проблему искусства как верховной реальности, следовательно, искусство имеет миссию выстраивать, провозглашать идеальное, должное.[351]
Вспомним, какие варианты «должного» предлагала русская литература конца XIX – начала XX века. В противоположность реалистической традиции, отражающей мир как объективную данность, русский декаданс, ориентировавшийся на романтическую модель, бежит из мира, где «Бог умер», в зазеркалье авторского сознания: «Я – Бог таинственного мира, / Весь мир в одних моих мечтах…» (Ф. Сологуб); «Я люблю себя как Бога» (З. Гиппиус). Субъективистскую ограниченность декадентов пытались преодолеть символисты, эзотерические цели творчества которых состояли в соединении Высшего, ноуменального мира с феноменальным во имя Вселенского преображения. А. Белый писал: «Искусство жить есть искусство продлить творческий момент жизни в бесконечности времен, в бесконечности пространств; здесь искусство есть уже созидание личного бессмертия, т. е. религия».[352] Xудожник-символист – это медиум-посредник и пророк, через него говорит Бог, поэтому долг творца – созидать себя как теурга,[353] видеть знаки «тех миров» и стремиться, чтобы преображение свершилось.
Расколотости мира на земное и небесное в символизме акмеисты противопоставили идею целостности мира. Должное для акмеиста – мастера, ремесленника – повторять акт божественного творения; сохранять и возделывать «сад культуры» и культурную память.[354]
Авангард явился не только естественным развитием декадентства и символизма, но и реакцией на чрезмерную «оформленность» и «окультуренность» природы в акмеизме. Энергетика мира (т. е. материя в широком смысле) – источник творчества для авангардиста, главная задача которого – подключиться к энергетическому потоку, творить «иное» по собственным законам, словом агрессивно воздействуя на мир. Н. Бердяев одним из первых почувствовал опасности авангарда: «Нарушаются все твердые грани бытия, все декристаллизуется, распластывается, распыляется. Человек переходит в предметы, предметы входят в человека, один предмет переходит в другой предмет, все плоскости смещаются, все планы бытия смешиваются (…) Это – сплошное нарушение черты оседлости бытия, исчезновение всех определенно очерченных образов предметного мира.[355] Важно, что и Замятин, признавая большую роль футуристов в смене языка искусства, в утверждении новой поэтики «смещения планов», видит кризисность футуристического искусства в изображении распадения вместо собирания, «интегрирования» («синтеза»): «Кубизм – искусство распыляющее»;[356] футуристы поставили «в божницу себе дифференциал без интеграла – это котел без монометра. И оттого у них мир – котел – лопнул на тысячу бессвязных кусков, слова разложились в заумные звуки», поэтому «кубизм, супрематизм, «беспредметное искусство» – были нужны, чтобы увидеть, куда не следует идти…».[357]
Отталкиваясь от вседозволенности авангарда, соцреализм обнаруживает с ним генетическую связь: идея воздействия слова на мир доводится до предела, как и понимание цели искусства – стать руководством к действию, давать правила существования и образцы поведения.[358]
Тоталитарный и авангардный дискурсы в повествовании Д-503
В романе «Мы» художественные стратегии начала XX века оцениваются героем и автором, поэтому самоопределение героя происходит не только в социально-психологической сфере, но и в сфере эстетических ценностей.
В первой записи героя («конспекте») Единое государство представлено как «тотальное произведение искусства» (X. Гюн-тер),[359] у которого есть свой создатель (Благодетель), идея (постройка Интеграла), персонажи (нумера, «стальные шестиколесные герои великой поэмы»), стилистический канон (Государственная газета), монументальная символика (стали, камня, чугуна, машины и т. д.). Эстетизации изображаемой реальности способствует и отсутствие повествовательной рамки: пространство изображаемой действительности совпадает с пространством текста. Стиль записок Д-503 предопределен публицистическим каноном Государственной газеты, авторство героя условно; он, представитель массы, «мы», очерчивает принципы своего письма, своей работы на благо Единому государству в соответствии с главным принципом соцреалистического дискурса – дублировать фрагменты «канонического сверхтекста»,[360] отказавшись от индивидуального творчества: «Я просто списываю – слово в слово – то, что сегодня напечатано в Государственной Газете…»[361] [С. 211]. Следующий далее большой отрывок из сверхисточника лишь обосновывает диктатуру публицистичности в «государственном дискурсе», взятом героем на вооружение. Нумер Д-503, как и все нумера Единого государства, получает «приказ от имени Благодетеля» увековечить «красоту и величие» Единого Государства в «трактатах, поэмах, манифестах, одах или иных сочинениях». Творчество это вторично по отношению к жизненной практике (готовящийся запуск Интеграла) и подотчетно государству. Нумер Д-503 демонстрирует самозабвенное исполнительство и готовность без остатка раствориться в «мы»: «Я лишь пытаюсь записать то, что вижу, что думаю – точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «Мы» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет – верю и знаю» [С. 212]. Переписывание неких сверхидей в соответствии с социальным заказом требует человека в его социальной функции, которая заменяет ему имя. «Патетическая безымянность» (В. Тюпа)[362] героев Замятина пародирует самозабвение личности в литературе нарождающегося соцреализма: «Я, Д-503, строитель Интеграла, – я только один из математиков Единого Государства» [С. 212].
«Автор» записок и Главный строитель Интеграла Д-503 воплощает в себе конструктивистское отождествление инженера и художника[363] (позднее трансформировавшееся в сталинское «инженер человеческих душ»), для которого личность – лишь элемент технической и социальной системы: красота «машинного балета» уподобляется им «эстетической подчиненности, идеальной несвободе» танца, а «опережение мысли словом» О-90 – «опережению подачи искры в двигателе».
Постепенно нумер Д-503, оформляющий хаос окружающего мира в соответствии с «божественной прямой» линией Единого Государства, приводит почти все «аргументы» дискурсивной стратегии официального искусства. Он обосновывает разумность несвободы Единого государства (записи 2, 3), верит в науку (записи 3, 19 и др.), испытывает чувство авторитарной любви к сверх-я – Благодетелю («Боже правый» заменяет в его речи «Благодетель великий»), воспевает монументальность праздников и памятников Единого государства (записи 3, 24, 31, 36). Как Главный Строитель Интеграла, призванного покорить чуждые и враждебные миры, Д-503 представляет существование человека в тоталитарном государстве как хронотоп общего нескончаемого пути, где идущие – лишь строительный материал, «топливо»: «При первом ходе (= выстреле) под дулом двигателя оказался с десяток зазевавшихся нумеров из нашего эллинга – от них ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажи. С гордостью записываю здесь, что ритм нашей работы не споткнулся от этого ни на секунду, никто не вздрогнул; и мы, и наши станки – продолжали свое прямолинейное и круговое движение все с той же точностью, как будто бы ничего не случилось. Десять нумеров – это едва ли одна сто миллионная часть массы Единого Государства, при практических расчетах – это бесконечно малая третьего порядка. Арифметически – безграмотную жалость знали только древние: нам она смешна» [С. 283]. Полемика нумера Единого государства с Кантом («ни один из кантов не догадался построить систему научной этики, т. е. основанной на вычитании, сложении, умножении») обосновывает отношение государства к человеку, поскольку исключается трансцендентное, не сформулированное разумом.
Запись 12 полностью посвящена размышлениям о государственной поэзии. Исследователи обнаружили в романе многочисленные аллюзии на пролетарских поэтов и Маяковского,[364] но здесь структурированы философия и эстетика нового искусства: рационализм и механистичность; охранительная роль цензуры для поддержания прозрачности автора и читателя, а значит, общества; идеи общественно-политического служения и богостроительства; экспансия общего пути: «Наши поэты уже не витают более в эмпиреях: они спустились на землю; они с нами в ногу идут под строгий механистический марш Музыкального Завода (…) Наши боги – здесь, внизу, с нами – в Бюро, в кухне, в мастерской, в уборной; боги стали, как мы: эрго – мы стали, как боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно-разумной и точной, как наша. » [С. 257].
Встреча с I-330 (которая обращает внимание Д на его волосатые руки[365] и непохожесть людей друг на друга) провоцирует внутренний раскол героя. Д-503 оценивает свое новое состояние как болезнь, соответственно меняется и дискурс его записок: на смену «коллективистскому творчеству» приходит (в терминологии В. И. Тюпы) «альтернативность уединенного сознания». (Авангард и воспринимался последователями традиционного искусства как самообнажение больного сознания).
Идею личностного самоутверждения, бунт против этических и эстетических ожиданий воплощает вожак Мефи. Желтое платье героини указывает и на общекультурную символику (цвет измены, греховности, скандала, провокации, безумия, подсознания, общения и публичной репрезентации), и на эмблему двух типов творчества – символизма (декадентства) и авангарда (знаменитый журнал английского модернизма назывался «Yellow book» – «Желтая книга», а само последнее десятилетие XIX века вошло в историю культуры как «желтые девяностые»; семантика желтого отсылает к имени особо почитаемого Замятиным О. Уайльда и к скандальной саморекламе футуристов).[366] Таким образом, семантика желтого цвета, связанного с образом I-330, указывает на преемственность «отцов и детей», декаданса и авангарда. Образ I-330 имеет «модернистский код»: героиня, как постоянная посетительница Древнего Дома, наследует традиции предшествующей культуры и приобщает к этому Д-503, с ней связаны мотивы любви-страсти, опьянения (вино, сигарета, запрещенные в Едином Государстве), творческого безумия, эксцентричности поведения (с акцентом на самоценности внутреннего мира личности). Но притязания I-330 далеки от декадентского ухода в мир грез; ею движет идея свободы и изменения мира, где эта свобода ограничена и Мефи следуют принципу жизнестроения авангарда, главное в котором – движение, изменение, революционное политическое деяние как цель. I -330 излагает Д-503 идею самоценности перманентной революции – закона движения материи. Свобода или зависимость, движение или смерть – третьего не дано, поэтому все устремления Мефи направлены на разрушение энтропийного, с их точки зрения, Единого Государства, чтобы вернуть человечество за стеклянную стену цивилизации (или сознания) назад, к природе, к зверолюдям (подсознанию): желтая пыльца из-за Стены соотносится с цветом одежд героини. «Природный мифизм» авангарда дискредитируется Замятиным. Д-503 шокирует театральность, провокационность аффективного поведения I-330, сознание героя подвергается активной «переделке» в общении с возлюбленной. Положительная оценка героиней сатанинского, дьявольского начала в человеческой природе и истории делает I-330 выразителем авангарда.
Авангардистский отказ от должного во имя субъективного проекта должного относится не только к I-330 и Мефи, но и к Д-503. Герой начинает ощущать маргинальность и одиночество как следствие «болезни» отделения от коллектива, и его письмо меняется, по точному замечанию Е. Б. Скороспеловой, от «оды к исповеди». Пробуждение души перестраивает его письмо, приводит его в соответствие со свободным от социума искусством, хотя при исполнении I-330 музыки Скрябина нумер Д-503 называет творчество древних «душевной болезнью», формой эпилепсии. Жанровое мышление автора записок путается, стиль меняется: стройность конспектов рушится (название 11 записи – «…Нет, не могу, пусть так, без конспекта»; 27-й – «Никакого конспекта – нельзя»), нормативная «математическая поэма в честь Единого Государства» превращается в «фантастический авантюрный роман». Роман становится формой непредсказуемой жизни. Впервые рефлексия ненормативной формы романа возникает в 4 записи: «Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая скрижаль, Личные часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно – и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно, как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20-го века в своем романе пришлось объяснять, что такое „пиджак“, „квартира“, „жена“» [С. 217]. В 18 записи осознание жанровой трансформации записок связывается с проблемой видимой и скрытой реальности – сна и яви, души и тела, иррациональных и рациональных чисел – «на поверхности» и «там, за поверхностью»: «…Если этот мир – только мой, зачем же он в этих записях? Зачем здесь эти нелепые „сны“, шкафы, бесконечные коридоры? Я с прискорбием вижу, что вместо стройной и строгой математической поэмы в честь Единого Государства – у меня выходит какой-то фантастический авантюрный роман. Ах, если бы в самом деле это был только роман, а не теперешняя моя (…) жизнь» [С. 279]. В 31 записи Д уже уподобляет алогичность своих записок «какому-то древнему причудливому роману» [С. 332]. И, наконец, I-330 вербализует семантику романа как формы, воплощающей непрозрачность человека, в противоположность «ясности» нумеров Единого Государства: «Кто тебя знает… Человек – как роман: до самой последней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать. » [С. 319].
Постепенно жизненная реальность в записках Д начинает объясняться и подменяться текстовой: Д отмечает «неписанный текст улыбки» Ю [С. 294]; для него «весь мир разбит на отдельные, острые, самостоятельные кусочки (.). Как если бы черные, точные буквы на этой странице – вдруг сдвинулись, в испуге расскакались какая куда – и ни одного слова, только бессмыслица» [С. 349–350]; морщины на лбу соседа видятся Д «рядом желтых неразборчивых строк» [С. 351]; провал в памяти по пути к Благодетелю он уподобляет «пустой белой странице» [С. 354]. Текст Д-503 не просто удостоверяет реальность жизни («…Это у меня записано. И, следовательно, это было на самом деле» [С. 320]), но начинает продуцировать жизнь: «А может быть, сами вы все – мои тени. Разве я не населил вами эти страницы – еще недавно четырехугольные белые пустыни. Без меня разве бы увидели вас все те, кого я поведу за собой по узким тропинкам строк» [С. 291]. «Роман» Д-503 «программирует» сюжет смерти I-330: вид откинутой во время пыток под Газовым Колоколом головы героини, напомнивший что-то прооперированному герою, дважды встречается в его записях.
Письмо становится главным делом Строителя «Интеграла». В соответствии с шутливым замечанием R-13 о том, что Д надо было быть поэтом, а не математиком (запись 8), художник «побеждает» математика. Смена нормативного жанра на свободный, непредсказуемый роман происходит в момент самоидентификации героя: обретающий «я» Д-503 осознает свою гибель для Единого Государства: «Я гибну. Я не в состоянии выполнить свои обязанности перед Единым Государством… Я…» [С. 250]. Резко меняется язык его записок: сухая публицистическая ясность, сознательность, нормальность уступает место иррациональному потоку сознания, главной целью которого становится идея самопознания. В записи 11 выстраивается авангардистская ситуация уединенного сознания «я – перед зеркалом» (В. Тюпа), т. е. «я-как-он»: «Я – перед зеркалом. Я первый раз в жизни – именно так: первый раз в жизни – вижу себя, как какого-то «его». Вот я – он: черные, прочерченные по прямой брови; и между ними – как шрам – вертикальная морщина (не знаю, была ли она раньше). Стальные, серые глаза, обведенные тенью бессонной ночи; и за этой сталью. оказывается, я никогда не знал, что там. И из «там» (это «там» одновременно и здесь, и бесконечно далеко) – из «там» я гляжу на себя – на него, и твердо знаю: он – с прочерченными по прямой бровями – посторонний, чужой мне, я встретился с ним первый раз в жизни. А я настоящий, я – не – он…» [С. 251].
Маятник души Д-503 раскачивается между двумя состояниями, этому в дневнике соответствует постоянная смена дискурсов, герой ощущает, что «потерял руль» управления своей жизнью, сон и явь меняются местами, мысль и слово не успевают за меняющимся внутренним состоянием: «Я не мог больше! Где вы были? Отчего, – ни на секунду не отрывая от нее глаз, я говорил, как в бреду – быстро, несвязно – может быть даже только думал – Тень – за мною… Я умер – из шкафа… Потому что этот ваш… Говорит ножницами: у меня душа Неизлечимая» [С. 276]. Высказывания Д-503 разрушают границы жанра дневника, становятся свободной игрой, заумь структурирует самоутверждение личности, акт свободы художника от данного мира – «слово вне быта и жизненных польз», вплоть до немоты: «Я не могу больше писать – я не хочу больше!» [С. 362].
Утратив право нумера («понести кару») и долг перед Единым Государством, Д-503, сначала неосознанно, обретает новое долженствование – авторство, независимое от социума, долг самовыражения: «Пусть мои записи – как тончайший сейсмограф – дадут кривую даже самых незначительных мозговых колебаний: ведь иногда даже такие колебания служат предвестником» [С. 226]. Д «работает» с рукописью, перечитывает и дополняет ее (сноска в записи 26 по поводу улыбки S). В 28 записи он фальсифицирует нормативный стиль, чтобы уберечь свое детище от хранителей.
Тема поэта, неугодного государству, утверждающего искусство, неподвластное социуму, входит в роман с образом казненного поэта, о котором герою рассказывает R-13: «Один идиот, из наших же поэтов… Два года сидел рядом, как будто ничего. И вдруг – на тебе: "Я, говорит, – гений, гений – выше закона"» [С. 239–240]. Негрогубый участник любовного треугольника R-13, одновременно государственный поэт и член Мефи, сам оказывается в драматическом положении художника в тоталитарном обществе. Он состоит в государственной организации поэтов, «поэтизирует приговор» опальному собрату по цеху, но делает это иначе, чем первый выступающий: не воспевает стальную мощь Единого Государства, а пересказывает, т. е. закрепляет ересь: «Губы у него (R-13. – М. X.) трясутся, серые (…) Резкие, быстрые – острым топором – хореи. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался. » [С. 242]. В отличие от «прозрачных» нумеров (Д в припадке подданнической любви готов развернуть перед хранителем S «страницы своего мозга» [С. 256]), R-13 непрозрачен. Его внешность проявляет неутраченную связь с прежней культурой: затылок R напоминал Д-503 «какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемоданчик (вспомнилась старинная картина – „В карете“)» [С. 239]. Внутренняя трагедия R – это «трагедия понимания». На провокацию Д-503 («К счастью, допотопные времена всевозможных Шекспиров и Достоевских – или как их там – прошли» [С. 240]) он отвечает: «Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью! Мы – счастливейшее среднее арифметическое. Как это у вас говорится: проинтегрировать от нуля до бесконечности – от кретина до Шекспира. Так!» [С. 240]. R-13, презирающий свое служение Единому Государству, все же ищет объяснение существованию тоталитаризма и искусства, его обслуживающего. В его ироничном размышлении о древнем рае, воплощенном в Едином Государстве, о счастье без свободы, о добре без зла – столько же скрытого оправдания, сколько и отрицания: он задумывает написать «райскую поэмку» «серьезнейшим тоном». Не случайно «простодушный», «невинный» Адам Д-503 принимает его иронию всерьез: «Помню, я подумал: „Такая у него нелепая, асимметричная внешность и такой правильно мыслящий ум“. И оттого он так близок мне – настоящему мне (я все считаю прежнего себя – настоящим, все теперешнее – это, конечно, только болезнь)» [С. 253]. Несмотря на то что в судьбе R-13 проявилась близость соцреализма и авангарда, зависимость художника от государства, для автора R остается Поэтом, а потому он гибнет (Д видит на улице его труп), не подвластный уничтожающей творческую личность операции.
В тексте Д-503 сближаются два типа творчества. Внутреннее напряжение героя (например, в записи 22 колебания героя от «здорового» к «больному» происходят в течение одной прогулки) разрешается в разговорах Д-503 с I-330 (гл. 30) и Благодетелем (гл. 36). I, развивая идею бесконечной революции, признает правоту Единого Государства в двухсотлетней войне и допускает, что Мефи также когда-нибудь состарятся и забудут, что «нет последнего числа», а Благодетель выступает истинным революционером, несущим людям счастье, и авангардистом, воплощающим себя (свое сверх-я). Антиномии смыкаются: Благодетель лишь подтверждает догадки Д-503, что Мефи используют его как Строителя «Интеграла». Финал романа – удаление фантазии у героя – прочитывается как смерть художника, зажатого между только внешне враждебными типами творчества: и соцреализм, и авангард, направленные на переделку мира и человека, на проектирование будущего, одинаково обесценивают личность. В этом контексте казнь I-330 и подавление Мефи можно интерпретировать как расправу государственного искусства с авангардом, устремления которого соцреализм воплотил буквально, используя его утопию преобразования мира и человека.[367]
Поиск истинного искусства в романах героя и автора
Дневник Д-503 зафиксировал тупики в развитии искусства своего времени. Однако, как уже говорилось, автор в романе Замятина не тождественен герою, и в выстроенном по законам парадокса мире оказывается «зазор». Лишенный души и фантазии, Д-503 духовно гибнет, но его записки обнажают становление нового типа творчества, поиск Слова как новой целостности, причастной органической жизни.[368] «Авторский долг» (название 21 записи) Д-503 трансформируется; он проходит несколько фаз, соотносимых с разными типами творческого поведения: от агитации, навязывания идеи общего пути в начале через безразличие к читателю в периоды «авангардного безумия» и, наконец, – к желанию быть понятым Другим. Стремление героя дописать дневник, обрести собеседника, причем в своих предках,[369] а не потомках, т. е. встроить свой текст в единую культурную диалогическую цепь, реализует идею этического авторства как приближения к безусловному должному. Сначала герой бессознательно фиксирует «пробудившийся» авторский долг: «А раскрыть их (неизвестные события. – М. X.) – я теперь чувствую себя обязанным, просто даже как автор этих записей» [С. 290]; «И вот, руководимый, как мне кажется, именно авторским долгом. » [С. 290]. Но в критической ситуации выбора, расставания с собой прошлым, Д понимает, что проститься он может только со своими потенциальными читателями: «Я ухожу – в неизвестное. Это мои последние строки. Прощайте – вы, неведомые, вы, любимые, с кем я прожил столько страниц, кому я, заболевший душой, – показал всего себя, до последнего смолотого винтика, до последней смолотой пружины. » [С. 342].
Движение от автодиалога (напоминающего, по мнению Н. Р. Скалона, средневековый солилоквиум[370]) к диалогу с «провиденциальным собеседником» (О. Мандельштам) принципиально в романе героя. Установка на воспринимающее сознание вписывает произведение Замятина в диалогическое поле творчества акмеистов, для которых читатель – не только «новый контекст», в который помещается авторский текст» (Л. Г. Кихней), но и соавтор. Сам Замятин неоднократно высказывался о произведении как сотворчестве автора и читателя.[371] Исследователями отмечалось, что в романе Замятина все: от образа и наполнения Древнего Дома – до цитатной неомифологической структуры романа, – выражает «тоску по мировой культуре».[372] Можно вскрыть и собственно акмеистский аллюзивный план романа.[373] Форма романа, одновременно репродуцирующая диалогическую[374] и неомифологическую структуры,[375] сообщает произведению Замятина черты неотрадиционалистского (В. И. Тюпа) произведения,[376] отождествление Д-503 с Адамом (предпринимаемое поэтом R-13), и мотив детскости соотносятся с «семантическим первооткрывательством» акмеистов.[377]
Осознание долга перед душевно и духовно близким читателем совпадает у героя с осознанием отцовского долга. Д-503 чувствует глубокую любовь-жалость и личную ответственность за О-90 и их будущего ребенка: «Это совершенно другое, чем к I, и мне сейчас представляется: нечто подобное могло быть у древних по отношению к их частным детям (…) Нелепое чувство – но я в самом деле уверен: да, должен. Нелепое – потому что этот мой долг – еще одно преступление» [С. 338–339]. Для героя рождение творческого продукта и рождение своего ребенка – односущностные переживания[378] и равновеликие преступления перед Единым Государством. Еще в начале своего письма Д-503 уподобляет творческое горение рождению ребенка: «Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового – еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно – не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом – с болью оторвать от себя и положить к ногам Единого Государства…» [С. 212]. Позднее деторождение и творчество объединятся в его сознании «метафизической субстанцией оскорбления Единого Государства» – человеком [С. 295]: «С этой вершины (сегодняшнего дня Единого Государства. – М. X.) одинаковы: и противозаконная мать – О, и убийца, и тот безумец, дерзнувший бросить стихом в Единое Государство. » [С. 289]. Для Д дерзнувшая родить своего ребенка О-90 и поэт R-13 неразрывно связаны, и не только «семейными отношениями»: «Милая О… МилыйR… В нем есть тоже (не знаю, почему «тоже» – но пусть пишется, как пишется) – в нем есть тоже что-то, не совсем мне ясное» [С. 240]. Не менее важны в этой связи размышления героя о матери, органически рожденным «куском» которой он хотел бы быть: «Если бы у меня была мать – как у древних: моя – вот именно – мать. И чтобы для нее – я не Строитель «Интеграла», и не нумер Д-503, и не молекула Единого Государства, а простой человеческий кусок – кусок ее же самой – истоптанный, раздавленный, выброшенный. » [С. 356–357].
С. Пискунова писала: «Свет в конце подземного хода, по которому продирается Д-503, связан с темой письма (его истинное свободное «я» находит пристанище именно в его «записках», в акте письма – самопознания) и с пересекающейся с темой письма темой материнства. С судьбой ребенка Д, унесенного О за стену. С судьбой слова, с судьбой рукописи Д (его ребенка!), изначально предназначенной в жертву Молоху – Единому Государству: уже утратив сознание, Д находит в себе подсознательные силы дописать рукопись, переадресовав ее "неведомому, любимому читателю". И он не ставит в ней точку, не сбрасывает ее в яму для мертвецов. Хотя и не ставит над ней креста».[379] Темы рождения и творчества не просто пересекаются в художественном мире Замятина, они тождественны: творчество, укорененное в культуре, есть рождение органического целого.
На представление Замятина о творчестве как «органическом единстве» несомненно повлияли идеи Н. О. Лосского.[380] Но если для Лосского (как и для П. Флоренского, с отдельными идеями философии которого Замятин осознавал свою близость[381]) «органическое мировоззрение» есть безусловное доказательство бытия Бога, то Замятин, используя выражение самого философа, остается носителем «отвлеченного логоса»: в его мире Бог отсутствует. В «Записных книжках» Замятина за 1921 год знаменательно не только упоминание системы Лосского в качестве философской основы нового искусства, но и «метафизическая описка»: вместо «идеал-реализма» (как определяет свое мировидение философ) появляется просто «реализм»: «Возврат философии к реализму. Лосский – философия неореалистов в англосаксонских странах. И соответственное течение неореализма в литературе».[382] Эклектично соединяя в своем романе противоположные по сути идеи «органического единства» и относительности всех истин,[383] Замятин оказывается в «мировоззренческих ножницах» «жажды логоцентризма» (Н. Р. Скалон) и «неорганических» (в оценке Лосского) экзистенциалистских идей, чем повторяет путь многих своих современников. «Органическая поэтика» Замятина имеет мифологический генезис. Два конститутивных свойства мифо-поэтического произведения – метафоризм и телесность – являются неотъемлемыми качествами прозы Замятина, существующей по закону единого текста с единой «кровеносной системой» тем, мотивов, сюжетных схем, образов.
Роман героя «достраивает» и уточняет модернистский миф автора о поиске истинного Слова в эпоху тотальных разрушений. Это слово диалогическое, обращенное к Другому, несущее в себе органическую семантику природно-культурной целостности и направленное на сохранение культурной памяти. Долг художника оказывается выше человеческого долга: Д-503, потерявший свою личность, бессознательно стремится завершить рукопись. «Перебирая» вместе со своим героем разные типы творческого поведения, Замятин останавливается на возвращающем эстетическое откровение контравангардном искусстве.
3.2 «Бич Божий»: логика повествования и концепция истории Е. И. Замятина
Циклическая концепция истории Е. И. Замятина
Реконструкция исторических представлений Е. И. Замятина осложнена для исследователя тем обстоятельством, что два важнейших произведения писателя, в которых историческое прошлое становится объектом исследования, не дошли до читателя в завершенном виде: драма «Атилла» (1927) претерпела серьезные цензурные вмешательства, роман «Бич Божий» (1928–1937) – это лишь часть незавершенного исторического повествования «Скифы». Однако проблема замятинского историзма остается одной из основных для исследователей, ведь над дилогией об Аттиле писатель работал почти половину своего тридцатилетнего творческого пути, а роман «Бич Божий» явился его итогом. Роман «Бич Божий» обойден вниманием ученых, тогда как о драме есть содержательные работы Р. Гольдта, И. Е. Ерыкаловой, Т. Т. Давыдовой, Н. Н. Комлик, Е. А. Лядовой.[384]
В замятиноведении доминирует представление о компилятивном характере замятинской концепции истории, в которой современные сциентистские теории (второе начало термодинамики Р. Майера, или тепловой смерти вселенной, концепция «энергетического монизма» В. Оствальда, распространившего теорию Майера на явления психической и духовной жизни, хаологические концепции ХХ века и, конечно, теория относительности) оказываются «поддержаны» популярными историософскими циклическими концепциями Ф. Ницше, Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Блока и других символистов (А. Белого и В. Брюсова). Широкая популярность и даже банальность как философских, так и научных источников (явившихся реакцией на глобальное эпистемологическое разочарование как в провиденциальной христианской, гегелевской модели истории, так и в линейных прогрессистских научных и социальных концепциях, в том числе и марксистской, ставшей официальной государственной идеологией) не только свидетельствуют об интеллектуальной мобильности Замятина, но и ставят под сомнение оригинальность его концепции истории. Уместно вспомнить и раздраженную реплику Горького в адрес Замятина по поводу вторичности всех его идей, и дискуссию в западной науке о самобытности Замятина.[385]
На наш взгляд, Замятин творит свой миф о цикличности истории, а конкретные культурно-исторические и научные теории становятся лишь «строительным материалом», меняющимися языками описания этого мифа. На оригинальность этой концепции указывает переосмысление Замятиным существующих идей и наполнение расхожих культурно-исторических категорий (природа, стихия, восточное / западное и т. д.) собственным, авторским смыслом и материалом. Важно подчеркнуть, что циклическая концепция истории органично вытекает из мифопоэтических представлений художника, а не усвоена им у Ницше и Шпенглера. Творчество Замятина, несмотря на изменения эстетики и поэтики на разных его этапах, воспринимается как целостное, создающее метатекст, мифологическую, циклическую картину мира; меняется наполнение мифа, но не способ мышления автора.
В произведениях 1910-х годов возникает модель национального бытия, отграниченного мифологическим пространством, тяготеющего к символическому центру (Алатырь-камень, собор на площади в городе Фиты), и национальной истории с цикличным временем, воспроизводящим обычаи предков и следующим календарным циклам возрождения мира, повторяемостью деторождения. Бинарное мышление маркирует, как границы циклических изменений, оппозиции мужское / женское, эмоциональное / рациональное, деторождение / бесплодие, западное / восточное. В отечественном литературоведении существует два подхода в рассмотрении национальной истории в раннем творчестве Замятина. При первом подходе фиксируется состояние глубокого кризиса, стагнации национальной жизни и национального сознания, не способного к развитию; такая модель мира сопровождается сатирическим модусом («антижанровая» система, использование интертекста классиков, «монологичность замысла»).[386] При втором подходе внимание сосредоточивается на амбивалентности замятинских представлений о перспективах поступательного развития русской истории, связанных с верой писателя в жизнеспособность природно-язычески-христианской народной культуры.[387] На наш взгляд, уже в 1910-е годы формируется главная, сквозная для всего творчества писателя проблема реальности (бытия, материи, жизни) и сознания. В произведениях, исследующих национальное бытие («Уездное», 1912, «На куличках», 1913, «Алатырь», 1914), кризисное состояние современной России поверяется ее историей (в качестве «исторических источников» выступают как произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. В. Гоголя, Н. С. Лескова, так и фольклорно-мифологические образы и мотивы). Авторские пессимистические представления о русской истории и современности выразились в образе «воскресшей курганной» «нелепой» «каменной бабы», исключающей всякое живое развитие. Замятин творит миф о национальной истории, опираясь на фольклорный, языческий способ мышления, однако кризисный характер современности осмысливается им как забвение, разрушение народной культуры. Жанровый анамнезис («выворачивается наизнанку» семантика жанров народной культуры – сказок, былин, легенд, житий, апокрифов) и использование Замятиным фольклорно-мифологических и культурных, литературных отсылок развенчивают надежды на возможность поступательного развития русской истории. Однако национальный мир Замятина, по справедливому суждению Л. В. Поляковой, Н. Н. Комлик, лишен безысходности, т. к. остается вера в неотъемлемые естественно-природные свойства человеческого сознания. Рассказы «Непутевый» (1913), «Чрево» (1913), «Старшина» (1915), «Кряжи» (1915), «Письменно» (1916), «Африка» (1916), «Север» (1918), открывающие идеальные основы человеческого сознания и индивидуального бытия, становятся позитивным противовесом безысходной картине национального существования.
С конца 1910-х – в первой половине 1920-х годов саморефлексия писателя, обусловленная творческой зрелостью, подведением «предварительных итогов», стимулируется лекторской, преподавательской, редакторской деятельностью. В этот «авангардистский» для Замятина период обнажается основное противоречие его сознания: ощущение расколотости собственного «я», антиутопичность[388] – и жажда целостности, гармонии, «синтеза», который связывается художником, в первую очередь, с возможностями искусства. В более репрезентативных произведениях этого периода романе «Мы» (1921) и «Рассказе о самом главном» (1923) автор использует известные научные теории как готовые образы-мифы для создания собственной модели истории. В художественном творчестве математика, не верящего в науку, модернистская художественная концепция действительности поглощает научную.[389]
Привлекательность для Замятина в начале 1920-х годов сциентистских циклических концепций объясняется не влиянием новых философских идей Шпенглера (впервые опубликованная в 1918 и переведенная на русский язык в 1923 году книга О. Шпенглера «Закат Европы», несомненно, обострила интерес Замятина к историческим проблемам), а близостью к фольклорно-мифологической, «языческой» модели цикличности, их общей противопоставленностью концепциям поступательного развития. В теориях Майера-Оствальда и Данилевского-Шпенглера Замятин обнаружит близкое архаическому представление о природной цикличности культуры и истории.[390] В романе «Мы» оспорена возможность направленного исторического выхода из вечного круговорота энергии и энтропии, и потому экзистенциально значимым остается текст о мире – записки Д-503, дневник, удостоверяющий наличие этой реальности, где все повторяется, умирает в энтропии и взрывается новой «революцией».
В начале 1920-х годов Е. Замятин участвует вместе с А. Блоком, Н. Гумилевым, К. Чуковским и другими писателями в культурных проектах М. Горького, в том числе в Секции исторических картин. Социальный заказ состоял в том, чтобы сделать историю достоянием масс: написать и поставить пьесы по истории «всех времен и народов». Катастрофичность эпохи актуализировала идею исторической аналогии, «рифм эпохи» (А. Блок), которые должны оправдать страдания, сделать их ценными. А. Блок писал в конце августа 1919 года в статье «Об "Исторических картинах"»: «Воспользовавшись историческими обобщениями нашего времени, нужно как бы совершить при свете их обратный путь, вернуться от истории к летописи (…) – так, однако, чтобы в этом изображении сквозила и напрашивалась сама собою связь между событиями, установленными историею. Вообще события всемирной истории должны быть представлены в свете того поэтического чувства, который делает весь мир близким и знакомым и тем более таинственным и увлекательным». Кроме того, Блок указывает на «карлейлевскую мысль о великой роли личности» («без которой ни одно массовое движение обойтись не может; если бы личность, выдвигающаяся из массы, не давала окраски и направления всему ее движению, то само это движение превратилось бы в нестройный поток, лишенный исторического смысла и неспособный запечатлеться в памяти человечества») и формулирует основную задачу серии – «иллюстрировать борьбу двух начал – культуры и стихии, в их всевозможных проявлениях».[391] Замятин «учтет» замысел Блока,[392] и история, в которой писатель пытается найти ответы на вопросы о судьбах России и мира, станет одной из его главных тем. А. Шейн предполагает, что замысел эпопеи «Скифы» у Замятина возник после предложения Горького на секции темы для пьесы «Гунны – прием Аттилой римских послов», а незадолго до этого в издательстве «Всемирная литература» Н. С. Гумилев в присутствии Горького, Чуковского и Замятина излагал Блоку свою теорию о гуннах, которые осели в России и след которых историки потеряли. Совдепы – гунны».[393] Блоковская «рифма» «наше время – крушение Римской империи» стала наиболее привлекательной и продуктивной. Осенью 1924 года Замятин начинает работать над большим эпическим полотном «Скифы», в котором запланированы 4 части. Весной 1925 года он пишет А. Ярмолинскому в Америку, что тема «столкновения гибнущей, одряхлевшей римской цивилизации и варварского, молодого Востока – гуннов» его «очень занимает»; «а может случиться – переверну этот материал в пьесу – в трагедию», – завершает писатель.[394] В 1927 году появляется драма «Атилла», параллельно писатель работает над романом, одна из частей которого, «Бич Божий», будет опубликована только после его смерти, в 1939 году.
Р. Гольдт и Л. В. Полякова выстраивают предшествующую, освоенную Замятиным, философскую традицию проблемы Восток / Запад, «скифство», «варварство»: Герцен, славянофилы, Достоевский, Бердяев, Блок – и Шпенглер.[395] Интересны не столько схождения (особенно с концепциями Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера и А. Блока), сколько отличия, переосмысления, подтверждающие оригинальность авторского мифа. Мифологема «Запад / Восток» в антитезах (возможно, символистских) «мужское / женское», «рациональное / эмоциональное», «культура / природа» пройдет через все творчество Замятина и в «Атилле» и «Биче Божьем» получит собственно исторические коннотации. В эмигрантский период, в эссе 1933 года «Москва-Петербург», мифологизированная оппозиция «Запад / Восток» приобретет многомерный культурный смысл: современное состояние русского искусства, два его полюса (мужское / женское) писатель спроецирует на две столицы (Петербург / Москва).
Замятин и Шпенглер: оппозиция природы и культуры. Функция романа героя
В замятиноведении неоднократно отмечалось, что писатель разделяет главную идею философии Шпенглера – старения культуры, превращения ее в цивилизацию, однако для исторической прозы Замятина более важным является представление Шпенглера о культуре как живом организме, культ «живого», жизни в лексиконе немецкого философа, как и самого Замятина, и природных циклов, через которые проходит культура – цивилизация. Близость Замятина к Шпенглеру можно усмотреть в тождестве понятий история и культура, в дилогии об Атилле – смену изолированных культур в шпенглеровском смысле. Например, Н. Н. Комлик, полемизируя с Р. Гольдтом,[396] пишет: «…В образной структуре замятинских произведений развертывается столкновение не между культурой и дикостью, а между двумя культурами – старой и молодой. То, что римской изнеженной, дряхлеющей культуре противостоит не мрак дикости, а самобытная культура, свидетельствует описание в повести „Бич Божий“ детских лет Атиллы, открытие и познание им окружающего мира. Это мир, в котором культивируется мужество воина, его сила и отвага, где сильный должен защищать слабого, а трусость и малодушие считаются самыми страшными грехами, где накормят и обогреют странника, где не прощают предательства и измены и не приемлют лжи как принципа жизни, где искренность и прямота – норма человеческого поведения. Словом, перед нами своеобычный культурный мир, остроумно и разумно устроенный, во всем соразмерный человеку. И создали этот мир в художественной версии Замятина, усвоенной им от Иловайского, пращуры русских, по терминологии историка Иловайского, „роксоланы“».[397]
Мир Атиллы – действительно упорядоченный мир, но это природная, а не культурная упорядоченность. Показательно, что автор ни разу не называет мир Атиллы культурой. Например, в феврале 1928 года Замятин писал по поводу своих творческих планов: «Запад и Восток. Западная культура, поднявшаяся до таких вершин, где она уже падает в безвоздушное пространство цивилизации, – и новая, буйная, дикая сила, идущая с Востока, через наши, скифские степи. Вот тема, которая меня сейчас занимает, тема наша, сегодняшняя».[398] И разрушение религии (языческий бог, которого Атилла попирает), и коварство Улда, и злопамятность Мудьюга – все указывает на жестокость варварского мира, устроенного по природным законам. Именно поэтому Атилла, который должен был в Риме обучиться всему, чем владеет западная цивилизация, как другие заложники, которые через несколько лет начинали «видеть римские сны», римлянином не становится. Он почти единственный (кроме еще одного смертельно больного мальчика-заложника) не меняет свою одежду на римскую (мифологически переодевание означало бы смену сущности). Единственное, чему он быстро учится у римлян, так это умению лгать. Попадая во враждебный лагерь, бывший ребенок и сын вождя приспосабливается, но не принимает «римскую» жизнь: учитель Басс рассказывает историку Приску про не поддающегося воспитанию гунна. Более того, Атилла до такой степени враждебен к Риму, где к нему относятся как к гостю, что не прощает вождю своего народа Улду сговора с римлянами – кусает его за руку публично в момент чествования Улда в Риме, оправдывая второе значение своего имени – «железо».
Атилла – волк, он пребывает в заложниках у римлян, как в клетке. Он дружит с волком (в черновиках введена подробность: везде его сопровождает любимый волк Люто), выглядит волком (оскал зубов и звериные характеристики в его портрете) и самоотождествляется со зверем: в его сознании любая жизненная ситуация проецируется на охоту.[399] Атилла, как носитель витальной силы, бессознательных импульсов (волна, камень, который несется с горы), «страстен, жесток, вспыльчив».[400] Это утратили представители римской цивилизации, на которых лежит печать вырождения. Император Гонорий, его двор, сенаторы изображены извне, и с точки зрения естественно-природного Атиллы они «больные». Таким образом, основная коллизия романа и конфликт пьесы могут прочитываться как столкновение умирающей культуры (цивилизации) и природного мира.
В отечественном замятиноведении «природность» Атиллы совсем не исключает «культурности». Так, Т. Т. Давыдова пишет: «Атилла относится к центральному в творчестве писателя типу «естественного» человека. Даже внешне Атилла с его торчащими, как рога, вихрами похож на быка, и такое сходство раскрывает упорство и упрямство героя. Атилла близок природному миру и внутренне. Он понимает пение волков. С одной стороны, подобное единение с природой, дающее человеку физические и нравственные силы, возможно лишь на «детском» (если воспользоваться терминологией Н. Я. Данилевского), варварском этапе общественно-исторического развития. По Замятину, родство человека с природой и становится залогом жизнеспособности молодой культуры, исполненной революционной энергии. С другой стороны, такая концепция личности характерна для Востока (…) Молодую восточную культуру и символизируют в "Биче Божьем" хуны».[401] На это можно возразить, во-первых, что Замятин хорошо осознавал опасность, исходящую от природного человека, поэтому и отношение писателя к нему амбивалентно (см. образы Барыбы, Варвары-собачеи и капитанши Нечесы); во-вторых, художник воспринимал культуру как традицию, диалогическую цепь, звеном которой Атилла не становится. Кроме того, «восточное» в художественной системе Замятина маркируется в качестве символической оппозиции природного к «западному», культурному, а не как самостоятельная «другая» культура. Показательно, что в художественном мире философски ориентированного писателя не обнаружено элементов восточных философских систем. Интересное прочтение «волчьего начала» в Атилле предлагает Е. А. Лядова: именно волку суждено разрушить город, основанный Ромулом и Ремом, вскормленными волчицей – «круг истории замкнулся», заключает исследовательница, но без уточнения, что это включение культуры в природный круг.[402] Разрушительно-природная, варварская сущность Атиллы более однозначно представлена в черновиках романа: «Ночь. Утро. Заря. В эту ночь Атилла, живший дотоле как живут листья, травы – проснулся и стал жить так, как живут люди, волки. Он лежал молча, с оскаленными зубами»; «Атилла ходил на охоту с ручным волком. Медведь. Рогатина. Волк-Люто – выгрызал кишки и, кося глазом, лакал теплую кровь. Атилла нагнулся и пил вместе с волком теплую кровь»; «Он (Атилла. – М. X.) повесил сорок их вождей и сорок волков»; «Висела заря, как куски сырого мяса. Атилла улыбнулся, оскалив зубы».[403]
В романе «Бич Божий» оппозиция культуры и природы воплощается не только в системе персонажей (римляне и Приск – варвары и Атилла), но и повествовательно: у каждой силы есть свой субъект сознания и речи. Основной повествовательной инстанцией является слово мифологического повествователя, для которого характерны возвышенный тон, метафоризация, указывающая на мифологическое неразграничение внешнего и внутреннего, материи и сознания, природного и человеческого. Эта стилизация «природного» взгляда на события принадлежит сознанию человека ХХ века. Автор таким образом репрезентирует свою мифологическую позицию: «Беспокойство было всюду в Европе, оно было в самом воздухе, им дышали (…) прочной перестала быть сама земля под ногами. Она была как женщина, которая уже чувствует, что ее распухший живот скоро изрыгнет в мир новые существа (…) Земля была круглым, огромным голосом» [C. 502].[404] Такая повествовательная позиция дает возможность включить в свой кругозор и сознание юного варвара Атиллы, природного творца истории, и слово писателя, создающего об этой истории свой текст, – приехавшего в Рим из Константинополя историка Приска. 1) Главный герой: «Атилла ждал – ушами, глазами, как на охоте, когда под его рукою была туго натянута тетива. Ему показалось, что за дверью крикнул петух, это не могло быть, он сделал свое ухо острым и после этого уже ничего не услышал, кроме человеческих голосов» [C. 520]; 2) Приск: «В день приезда Приск сразу же, с утра, пошел в публичную библиотеку на Трояновой площади. Он наслаждался самим запахом, видом книг, скрипом перьев. Он опомнился только тогда, когда сторож подошел и сказал, что читальный зал закрывается. На улице было уже темно. Приск вспомнил, что у него есть рекомендательное письмо к профессору логики Бассу. Он еще весь был полон книгами, идти ему туда не хотелось, но он решил, что надо» [C. 524].
Повествовательная конфронтация миров «поддерживается» композиционно. Роман начинается мифологической преамбулой, изображающей катастрофу рождения нового бытия (гл. 1): конец Рима природно предопределен и неотвратим, варварские племена, угрожающие Риму, мифологическим нарратором уподобляются наводнению, землятресению, камням, несущимся с горы: «Все ждали новой волны – и скоро она пришла. Как и в первый раз, она поднялась на востоке и покатилась на запад, сметая все на пути. Но теперь это было уже не море, а люди. О них знали, что они живут совсем по-другому, чем все здесь, в Европе, что у них зимою все белое от снега, что они ходят в шубах из овчины, что они убивают у себя на улицах волков – и сами как волки» [C. 503]. Во 2 и 3 главах включением точки зрения главного героя в речь повествователя изображается мир «природного» сознания – детство Атиллы и его прибытие в Рим. В следующей главе также изнутри, теперь с точки зрения «культурного» сознания, повествуется о первых днях в Риме греческого историка Тарквиния Приска, структура повествования резко меняется: культурный мир Приска оппозиционен мифологически-природному миру Атиллы. Но Приск противопоставлен и пресыщенным римлянам и целью своей поездки (написать книгу о закате Рима и Византии), и семантикой имени, отсылающего не только к писавшему об Атилле знаменитому историку Приску Понийскому, но и к этимологии: priscus (лат.) – «прежний», «старомодный», «старого закала», – представитель ушедшей культуры.
События детства Атиллы и его трехлетнего пребывания заложником в Риме вставлены в двойную раму: 1) дважды, в начале и в конце, воспроизведена сцена чествования Улда – вождя хуннов и временного союзника римлян; 2) приезд в Рим (в начале) и отъезд (в конце) обоих героев. Кольцевая композиция образует круг: циклическая концепция истории «оформится» в циклическом хронотопе произведения.[405] Повествовательные рамки, кроме того, отграничивают «текст автора» от «текста героя»: роман завершается первой записью из книги Тарквиния Приска о хуннах, об Атилле.
В трех последних главах происходит переключение «повествовательных регистров». Миры Атиллы и Приска вступают во взаимодействие с «цивилизацией»: оба персонажа связаны отношениями «ученик – учитель» с римским профессором Бассом. Из Атиллы Басс должен воспитать настоящего римлянина, для Приска – стать вторым Евзапием (учителем, завещавшим ему написать книгу о «великих и страшных годах»). Именно цивилизованному, потерявшему Бога Бассу дано понимание вечного круговорота природы и культуры. Он говорит Приску: «Ты должен быть доволен: для твоей книги это находка, ты увидишь замечательный спектакль. Снова – хаос, снова – первый день творенья. Разница от Библии только в том, что скоты окажутся созданными в первый день, а человек – может быть, потом, если у бога истории найдется свободное время, а если нет. » [C. 535]. Несмотря на то, что результат этого ученичества героев прямо противоположный (Атилла оказывается неподвластен Бассу, как природа – цивилизации, тогда как дальнейшая жизнь Приска, его служение культуре, состоялись именно благодаря учителю: цивилизация – стадия в развитии культуры), оба они обнаруживают свою чужеродность Риму, в котором находят совсем не то, что ожидали. Если для Атиллы Рим болен, ибо в нем иссякла природная мощь, энергия (он путает императора Гонория с его охранником), то для носителя культурного сознания историка Приска это мир, катящийся в пропасть, расчленяющий себя на потеху равнодушной публике. Именно глазами Приска изображается сцена публичных операций Язона. Рим Ювенала, Сенеки, Плиния и Аристида превратился в кабак «У трех Моряков». Однако и Приск оказывается во власти страстей, раздирающих Рим изнутри (образ всеобщей соблазнительницы Плацидии, сестры императора, подчиняющей всех при помощи тела – символ не только морального разложения, но и победы природного, стихийного): Приск ради любви забывает о своем долге, о книге, совсем как блоковский герой в соловьином саду. История безответной любви к своей жене, казалось бы, во всем разочарованного и циничного учителя Басса создает эффект удвоения. Так внешняя коллизия – падение Рима и ожидание варваров «отзеркаливает» на внутрипсихологическую – между разумом и страстью, сознанием и подсознанием. Варварское, стихийное, звериное угрожает каждому, страсти раздирают человека изнутри. Неслучайно в центре и драмы и романа – «вымышленные» любовные истории, которые организуют сюжет. Губительность страсти носит всеобщий характер, т. к. уничтожает не только цивилизованных Приска и Басса, но и Атиллу, который умирает от руки Ильдегонды.[406]
Цивилизованный Рим также несет в себе конфликт природы и культуры: он, как уже было отмечено исследователями,[407] предстает и как город статуй (культуры, аполлонического начала), и как город наводнения (стихийных страстей, бессознательного, дионисийского).[408] Неслучайно Приск впервые ощутит свою двойственность именно в Риме: «Он (Приск. – М. X. ) пошел публичную библиотеку и начал там работать, но во время работы ни на минуту не переставал думать о ней, сам этого не сознавая. Так бывает иногда в море: прохладная, прозрачная вода наверху, а под ней – другое, мутное и теплое течение, невидимое для глаза. И вдруг это течение со дна поднялось вверх: неожиданно для себя самого Приск закрыл книгу с совершенно готовым решением – немедленно идти к Бассу, он один мог знать, кто она и где ее найти» [C. 530–531]. Если же в каждом из носителей противоборствующих сил истории увидеть воплощение авторских биографических жизненных реалий и психоаналитических комплексов (конфликт с отцом и богоборчество «ницшеанца» Атиллы,[409] рационалист, потерявший голову, – писатель Приск), то роман об истории и современности опрокидывается в роман об авторе, о противоречиях его сознания: о «природной» и «культурной», рациональной и эмоциональной, стихийной началах личности, выраженных на языке Ницше и Фрейда и оформляющих оппозицию «творчество» – «жизнь». Поэтому объектом осмысления для культурного сознания художника (как автора, так и его героя Приска) становится не цивилизация, а природа, и то будущее, которое воспоследует за разрушениями стихии: Приск будет писать не о Риме, как было задумано, а о хуннах, об Атилле. И в романе и в драме варвары (Атилла) уподобляются половодью – стихийной, бессознательной силе (Атилл – одно из названий Волги): «Аэций говорил, что Рим падает, гибнет. Вы, варвары, готы, гунны – с востока, с севера – волнами бьете о нас: каждая волна, ударяясь, отскакивает – и каждая волна подмывает берег. Он рухнет».[410] Финал первого монолога Атиллы: «чтоб жизнь – через край, // чтобы – как половодье, // чтобы – э – эх!». Или: «Как буря дыханьем вздымает волны, // пока не сокрушит все на пути, // так и он» (Атилла. – М. X.).[411] Психоаналитическое прочтение подтверждает и метатекстовая структура замятинской прозы: в этот период и в прозе и в публицистике писателя сильны фрейдистское начало и образность («Икс», «Наводнение», «Ела», «Закулисы», «Москва-Петербург»).
Мифологическая концепция истории автора тематизирована и в деятельности его героя: историк Приск будет создавать не научный труд, а свой текст о мире – миф об Атилле (Приск «избран быть Ноем»). В начале «Приск ехал (...) в полной уверенности, что будет смотреть на все глазами врача, который исследует больного», он собирает цифры в библиотеке, но «окунуться в этот Рим, чтобы увезти его с собой для своей книги» оказывается еще более важным. За книгой Приска-писателя стоит проблема творчества, стратегия претворения мира в текст. Структура романа автора, завершающегося романом героя, сигнализирует о перемещении «ценностного центра» на сам незавершенный процесс творчества, приобретающий значение мифологического творения абсолютно индивидуальной и в то же время предельно подлинной реальности (…) поскольку творчество отождествляется с жизнью (…), а все внеположное творчеству предстает как псевдожизнь».[412] Приск, пишущий об Атилле, становится авторским двойником, т. е. создается та зеркальность повествования героя / автора и автора / творца, которая обнажает прием двойного моделирования действительности.[413]
Нетрудно заметить, что в своих представлениях о «природе» Замятин совершенно расходится со Шпенглером. Если мир-как-история приводит последнего к восприятию природы как «мертвого» бездушного образования, «функции той или иной преходящей культуры», «как объекту естествознания»[414] («природа – это то, что счислимо», – напишет Шпенглер), то для Замятина это онтологическое понятие, воплощение живой жизни, являющее себя в оппозициях «сознательное / бессознательное», «мужское / женское».
История постановки драмы «Атилла»
История постановки и запрещения драмы «Атилла», хотя автор был готов пойти на компромисс,[415] представляется закономерной. Усиление аллюзии «совдепы – гунны» (Н. Гумилев) только обнажило противоречие авторского замысла. «Причесанный под большевика», освобождающий угнетенных Римом Атилла, который был призван взорвать умирающий энтропийный мир новой энергией, остается зверем, варваром, а не носителем новой культуры, как должно было быть в соответствии с авторской культурософской концепцией. Не в этом ли главная причина неосуществленности замысла «Скифов»? На одном из обсуждений пьесы 15 мая 1928 года на заседании художественного совета БДТ, когда рабочие единодушно поддержали пьесу, выступил представитель Облита Кальменс, который засвидетельствовал от лица новой власти: «Замятин сильный, умный, талантливый враг. Замятин всей душой с Западом. Он всей душой против большевиков-варваров, и вся его пьеса – это тоска по гибнущему Западу», «Атилла – враг самого Замятина».[416] В 1929 году в справке по поводу репертуара БДТ, которую подготовил Агитпроп Ленинградского обкома ВКП(б) для А. Стецкого, возглавлявшего в то время отдел культуры, говорилось: «Скрытая историческая параллель видна и невооруженному историческими познаниями рабкору (…). Темою пьесы является борьба капиталистического «Рима» с «варваризмом» большевиков, являющихся прямыми потомками и духовными наследниками Атиллы. Неважно, что в пьесе эта борьба изображена как генеральное побоище между цивилизацией и варварами, между интеллектом и слепой стихией, между наукой и чудовищным невежеством (особенно ярко это видно в сцене разграбления библиотеки епископа Анниана). Параллель остается параллелью, автор ей верен и, очевидно, не намерен скрывать ее, как это будет видно из дальнейшего (…) Здесь мы имеем новое миросозерцание, новую историософию, ведущую к признанию советской власти и подчинению ей как некоторой изуверской и безбожной необходимости».[417] В 1922 году в письме к А. Воронскому Замятин прозорливо предсказывал историю постановки своей более поздней драмы: «…В ГПУ есть все же грамотные люди, и результаты – налицо».[418]
Снятие с постановки пьесы «Атилла» свидетельствует, что не только в представлениях о природе, но и в представлениях о культуре Замятин расходился со Шпенглером. Если концепция изолированности культур приводит немецкого философа к глобальному разочарованию: не имеет смысла сохранять то, что недоступно для потомков и неминуемо погибнет (потому-то Т. Манн и назвал Шпенглера «дезертиром», воспевающим цивилизацию), то для модерниста Замятина, создателя концепции «диалогического языка», противоречие между искусством и жизнью однозначно решается в пользу искусства: Приска насильно высылают из Рима (с помощью учителя Басса), чтобы могла быть написана его книга. Историк Приск должен сотворить этот мир заново – «увезти его (Рим – М. X.) с собой для своей книги, как Ной увез в своем ковчеге образцы всяких тварей». Разрушение культуры для Замятина не оправдано ничем, ибо крах культуры тождественен краху жизни (тем более странным выглядит сравнение концепции Замятина с концепцией «грядущих гуннов» В. Брюсова[419]). Атилла угрожает не цивилизации, которая саморазрушается (внешнее противостояние), а культуре (внутренний – и главный – конфликт).
Самым близким источником циклической концепции истории Замятина является исследование русского славянофила Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869). Его культурно-исторические типы не существуют изолированно, как у Шпенглера, а возникают на базе предшествующих цивилизаций. Н. Я. Данилевский выделяет 3 основные функции культур: положительную (основные культуры), вспомогательную (служащие целям других культур) и отрицательную (служащую разрушительной силой для дряхлеющих культур). Характеристика Данилевским отрицательных культурно-исторических типов как «комет», «бичей Божиих», читается как пра-идея и «Рассказа о самом главном», и дилогии об Атилле: «Как в солнечной системе наряду с планетами есть еще и кометы, появляющиеся время от времени и потом на многие века исчезающие в безднах пространства, и есть космическая материя, обнаруживающаяся нам в виде падучих звезд, аэролитов и зодиакального света; так и в мире человечества, кроме положительно-деятельных культурных типов или самобытных цивилизаций, есть еще временно появляющиеся феномены, смущающие современников, как Гунны, Монголы, Турки, которые, совершив свой разрушительный подвиг, помогши испустить дух борющимся со смертью цивилизациям и разнеся их остатки, скрываются в прежнее ничтожество. Назовем их отрицательными деятелями человечества (.). Итак, или положительная деятельность самобытного культурно-исторического типа, или разрушительная деятельность так называемых бичей Божиих (курсив мой. – М. X.), предающих смерти дряхлые (томящиеся в агонии) цивилизации, или служащие чужим целям в качестве этнографического материала, – вот три роли, которые могут выпасть на долю народа».[420]
Отождествление «отрицательных» культурно-исторических типов с природными, космическими источниками нового взрыва, новой революции, – кометами, звездами – последовательно воплощается в зрелом творчестве писателя («Рассказ о самом главном», «Мы», «Атилла», «Бич Божий»). Таким образом, история у Замятина не исчерпывается понятием культуры (как у Шпенглера или Тойнби), а включается в идею универсального развития материи, которая проходит свои циклы развития, образуя круг: природа – культура – цивилизация – природа (взрыв / революция, остывание / эволюция, энтропия / смерть, новый взрыв.), – «революции бесконечны». Несмотря на понимание неотвратимости появления в истории «бичей Божиих» (природы, поглощающей культуру / цивилизацию), трагедия современности для Е. И. Замятина, как и для этически и творчески близких ему акмеистов, видится в разрушении культуры, в том, что новые атиллы (которые, возможно, завтра и «вырастут» в новую культуру) сегодня нарушают ее единую диалогическую цепь. Поэтому только в искусстве, в той реальности, в которой художник по-настоящему живет, он наблюдает плоды направленной и необратимой истории. Замятин создает свою концепцию синтетического искусства, где новое – третье, синтез – рождается только на основе предшествующей культуры и никогда ее не повторяет.
Итак, историософские представления Замятина «закодированы» в логике повествования, а структура «текст в тексте» в позднем романе выполняет ту же функцию, что и в романе «Мы»: неотвратимой и разрушительной природе / истории человек может противопоставить только текст о ней, созидательный текст культуры.
Несмотря на то, что некоторые проницательные современники указывали на близость Замятина к акмеизму,[421] сам писатель акмеистом себя не называл, осознавая, очевидно, принципиальные мировоззренческие различия и пограничность, промежуточность (между модернизмом и авангардом) собственного сознания и художественного мира. Но, разделяя с авангардистами представления о мире как движении материи (энергии), и используя стилистические новации передового искусства, Замятин утверждает иной, контравангардный эстетический путь. Спасение от хаоса жизни писатель находит в культуре, в возвращении искусству эстетического (пусть не религиозного) откровения, утраченного авангардом.
Повествование Замятина, продуцирующее метатекстовые структуры, является модернистским способом выражения авторского сознания и воплощает эстетические установки автора. Почти в любом произведении Замятина выполняется основная заповедь модернизма: «чем дальше вглубь реальности, тем больше вглубь собственного сознания».[422]
3.3. Метароман М. А. Осоргина «Вольный каменщик» (1935): «сюжет героя» и «сюжет автора»
Среди писателей первой волны русской эмиграции М. А. Осоргин воспринимался наиболее последовательным продолжателем традиций русского реализма. К. В. Мочульский писал, что он «своей простоте учился у Тургенева и Аксакова», с которыми был связан «не только литературно, но и кровно»,[423] М. Л. Слоним причислял Осоргина «к гуманитарной и моральной школе русского искусства, для которой «красота» и «правда» сливались воедино».[424] Казалось бы, трудно найти писателя, более далекого от эстетических экспериментов времени, чем презирающий всякую «литературщину» Осоргин. До революции он получил всероссийское признание как журналист, благодаря многолетному участию в «Русских ведомостях», «Вестнике Европы» и других изданиях, и знаток Италии (в 1913 выпустил книгу «Очерки современной Италии»). Публицистика оставалась одной из главных сфер его жизни, особенно в периоды политических потрясений: в 1917–1918 годах он активно выступает в независимой московской периодике («Народный социалист», «Луч правды», «Власть народа», «Понедельник», «Родина», «Наша родина» и др.), а в 1940–1942 годах из оккупированной фашистами Франции, с риском для жизни, отправляет статьи в нью-йоркское «Новое русское слово», которые впоследствии были выпущены отдельными книгами («В тихом местечке Франции», 1946, и «Письма о незначительном», 1952).
Проза Осоргина (циклы рассказов 1920-30-х годов: «Там, где был счастлив», «Чудо на озере», «Старинные рассказы»; романы «Сивцев вражек», 1926, «Свидетель истории», 1932, и «Книга о концах», 1935; «Повесть о сестре», 1930, как и завершающее творчество автобиографическое повествование «Времена», 1955), также имеет мощную документально-биографическую основу и настойчиво сохраняет, по признанию самого автора, толстовскую эпическую традицию. Манифестирование автором классических эстетических установок помешало эмигрантской критике по достоинству оценить неповторимость его художественной прозы. Сюжетная мозаика, или принцип кинематографического монтажа, единство иронии и лиризма, схематизм некоторых персонажей, сигнализирующие о зарождении «неклассической» поэтики в творчестве реалиста ХХ века, были восприняты эмигрантской критикой, ориентирующейся на толстовский канон, как недостатки.[425]
Реалистическая манера Осоргина не воспроизводила экстенсивно классическую традицию XIX века, а развивала ее в новых исторических и культурных условиях. Залогом такого развития стала культурно-ориентированная личность Осоргина-библиофила (цикл рассказов «Записки старого книгоеда», 1934), любителя и знатока древности и российской истории (стилизованные под речь XVIII века «Старинные рассказы»), русской классики (известны литературные эксперименты Осоргина по дописыванию произведений Пушкина, Лермонтова, Тургенева), озабоченного в эмиграции, как Бунин и Ремизов, судьбой русского языка и внимательного к слову.
Поиск нового языка прозы, сближение Осоргина с «эстетической» линией русской литературы происходило не только в «Старинных рассказах», в которых Осоргин, не без опоры на Ремизова, продолжил поиски стилизаторской прозы начала ХХ века, но и в романе «Вольный каменщик» (1935).
Уже современная писателю критика отмечала изменение повествовательной манеры в последнем романе Осоргина. Одна из первых оценок принадлежит Г. Струве: «В отличие от первых вещей Осоргина, роман написан в игриво-замысловатом стиле, с игрой сюжетом, постоянным ироническим вторжением автора, с элементами «конструктивизма» (смысловая и стилистическая роль масонских символов и терминологии). Чувствуется, с одной стороны, влияние Замятина и советских «неореалистов», с другой – нарочитая попытка стилизации под XVIII век».[426] В наше время В. В. Абашев продолжает исследование игровой поэтики Осоргина «как глубинной тенденции в развитии русской прозы ХХ века», обнаруживая многочисленные параллели с Набоковым в структуре повествования, мотивной организации, системе персо-нажей.[427] Удивительные конкретные совпадения между «Приглашением на казнь» и «Вольным каменщиком» (опубликованными, как показывает Абашев, в одних и тех же номерах «Современных записок» в 1935 году, так что о заимствованиях говорить не приходится) отвлекают от главного вопроса о функции автокомментированного письма в том и другом произведении. Сближаясь с Набоковым «по форме» (наличию метатекстовых структур, мотивам кукольного театра), «по сути» Осоргин не изменяет своим эстетическим (реалистическим) принципам, создавая иллюзию тождества жизни и текста о ней, тем самым сохраняя приоритет реальности перед текстом.[428] Для доказательства необходимо рассмотреть соотношение жизни и текста, сюжета героя и сопровождающую этот сюжет авторскую рефлексию в романе «Вольный каменщик».
В основе фабулы (изображение жизни простого русского обывателя, ставшего в эмиграции масоном) лежит проблема сохранения национально-культурной идентичности. Для М. А. Осоргина, эмигранта с тридцатилетним стажем, борца со всякого рода несвободой, любящего «плыть против течения» (Г. Струве), проблема сохранения национальной самобытности, и своей собственной, и в целом, эмиграции, стояла необычайно остро. Особенно болезненно писатель переживал «русский вопрос» в период своей второй и последней эмиграции 1922–1942 годов. В 1923 году в письме итальянскому профессору-слависту Этторе Ло Гатто Осоргин писал: «Русская революция, приведшая к гигантской национальной катастрофе, изменила отношение Европы (…) к нашей стране, к нашему народу и ее отдельным представителям (…) Русский за границей, независимо от своего социального положения – будь он политическим эмигрантом, изгнанным с родины, или служащим советов, – не может не чувствовать ряд унижений своей национальной гордости. Мы вдруг превратились в низшую расу (…) даже в друзьях мы часто не находим чувств, в которых нуждаемся. Потому что мы не жаждем сострадания или жалости, мы хотим быть признанными, хотим, чтобы знали истинное лицо России и принимали Россию такой, какая она есть, без экзотических прикрас и сентиментальных надежд на будущее исправление в духе хорошего европейского воспитания.».[429]
Семантика имени главного героя Егора Егоровича Тетехина, превращающегося из заурядного французского клерка в творческую личность – масонского брата и сознательного «обитателя» природного мира,[430] несет в себе национальный культурный код. Дважды борцом со змеем (в себе и окружающем мире) призван быть рядовой русский обыватель, «тетеха» (народная форма имени «Георгий» – Егор – многократно обыгрывается в повествовании в связи с домашним именем героя (Гришей его называла жена) и его французским вариантом: Жоржем зовут сына Тетехина).
Духовное самосознание героя начинается в момент вступления в масонскую ложу. Если не знать о масонской биографии автора, то окажется не совсем понятной выстроенная в романе зависимость космополитического духовного единения в братстве от русского происхождения и предыдущей жизни Егора Егоровича. Для русских масонов в эмиграции, и Осоргина в том числе, чувство родины входит в «масонское восприятие мира».[431] Поэтому для героя Осоргина масонство как возможность обретения внутренней свободы нравственно определяющейся личностью невозможно без сохранения национальной идентичности. Кроме того, масонство, как форма вольномыслия в России, традиционно считается одним из путей возникновения интеллигенции.[432] И путь Е. Е. Тетехина, как мы увидим далее, спроецирован на существование русского интеллигента.
Повествователь, взявший на себя задачу написать повесть о «человеке со смешной фамилией и прекрасным сердцем», с первых страниц характеризует его как «срединного, ничем не выдающегося», но русского по интенсивности судьбы: «Из одного года его биографии, правильно нарезав, можно было бы создать десять – двадцать полновесных, житий англичанина, француза и итальянца; для русского человека – это как раз на одного»[433] [С. 17]. Сам Тетехин воспринимает братство по аналогии с национальной родственностью. Открывающиеся в результате обретенного братства лучшие свойства души героя – доброта, сострадательность, эмоциональная отзывчивость, любовь к людям и всему живому – квалифицируются окружающими как «чудаковатость», «комплекс русского». Егор Егорович «стал учеником и неотесанным камнем», и в масонском братстве он надеется преодолеть свое одиночество эмигранта, чужеродность окружающей среды и (сначала неосознанно) семьи: «Или, как вчера говорил француз: „Где бы ты ни был, в любой чужой стране, в любом городе ты найдешь человека, который поймет тебя по знаку и слову и поможет тебе в затруднении“» [С. 23]. Пытаясь проникнуть в тайный смысл масонских символов, он ищет аналогии им в собственной культуре: «Почему, например, треугольник? Потому что он соединяет три в едином. Ну, так что же из этого, и какие три в каком едином? И однако три – число священное с незапамятных времен. „Без троицы дом не строится“ или там что-нибудь подобное» [С. 23].
В ложе Егор Егорович обретает истинного учителя – мастера Жакмена, наставляющего его на путь нравственного самосовершенствования – служения недостижимому идеалу. Очень быстро герой понимает, что «прежний Егор Егорович умер естественной смертью и истлел в земле; новый Егор Егорович лежит в пеленках, щурится от света и, не умея ни читать, ни писать, по складам произносит некое слово, не имеющее никакого смысла, но очень важное и очень таинственное» [С. 25]. С этого момента единый обывательский спокойный мир Егора Егоровича раскололся на «два мира»: на «мир рассудочный и логичный, мир монет, товаров и вечерних газет» и мир идеальный, «златорогого оленя», которого нельзя догнать (из притчи, рассказанной Жакменом). Мир наполняется «тайнописью смыслов». Герой, который никогда раньше «о странной границе двух миров не думал», начинает существовать на границе бытовой, привычной и мистической реальностей, хотя присутствие последней может мотивироваться чтением и осмыслением масонских книг, легенд: «Вот он сидит, великий Трисмегистос, голова его увенчана коронованной чалмой с коническим верхом, в правой руке циркуль, в левой глобус; вдали распростер крылья царственный орел. И рядом за малым письменным столиком, Егор Егорович с трубкой в зубах (…), – а перед ним загадочная малопонятная книга (…) Заведующий экспедицией тщетно силится понять «Изумрудную таблицу» Гермия. В кухне звякают кастрюли (…) Всегда чем-нибудь недовольная Анна Пахомовна недосчитывается соусника, не подозревая, что соусником завладел Феофраст Парацельс Бомбаст Гогенгейм, лысый, не без добродушия человек в длинной одежде, с солнцем и луной за плечами» [С. 26].
Мистическое масонское пространство оказывается пространством культуры: вход в реальную ложу оборачивается проникновением в школу Геометрии Платона, из которой есть профанный выход – руководитель ложи «философ Платон продолжает служить агентом в Обществе страхования от огня, от старости, от болезней…» [С. 42]. Пятиконечная звезда – символ совершенного человека в масонстве – становится для героя путеводной: теперь стать «полным благородных чувств и просвещенным человеком» – его задача. В соответствии с тремя низшими иоанновскими степенями масонства[434] Егор Егорович понимает задачу «отесывания грубого камня» своей несовершенной природы двуедино: духовно-нравственно и научно-философски.[435] С жадностью малопросвещенного человека герой начинает страстно работать на ниве самообразования: он планирует пополнить свои знания по геометрии, истории, философии и естествознанию и заняться науками, с которыми не встречался – риторикой и диалектикой. Учитель Жакмен пытается скорректировать задачу в сторону самопознания: книга Тао-Те-Кинг («это почти его фамилия в его французском варианте», – догадывается Егор Егорович) оказывается помещенной среди вечных книг: Библии, Вед, Книги Мертвых, Корана; и смысл «нового знания» в том, чтобы вписать индивидуальный духовный путь человека в духовное развитие мира, однако сам герой до этого пока не дорос. Кроме того, Тао-Те-Кинг (искаженное название древнекитайского трактата о Добродетели и Потенции основоположника даосизма Лао-Цзы[436]) – это проповедь срединности. Совпадение фамилии героя с названием восточного трактата кодирует жизненный путь Тетехина в соответствии со смыслами книги мудрости: «лучше всего удерживать срединность» (пятый джан «Тао…»); «человек мудрости помещает свою личность позади, а его личность оказывается впереди» (седьмой джан).[437]
«Метаморфозы», происходящие с героем-масоном, с одной стороны, отвечают двуединой – духовно-нравственной и научно-философской – масонской задаче, с другой же, служат изображению интеллигентского существования. «Сюжет героя» развивается как последовательная смена жизненных, этических и «просветительских» испытаний, которым подвергается Тетехин.
В ситуацию нравственного выбора герой попадает благодаря подлости одного из своих подчиненных и братьев по ложе Анри Ришара. Ришар – полный антипод главного героя, которому в произведении уготована роль змея-искусителя жены, сына и самого Тетехина. С легкой руки Ришара, приведшего героя в масонскую ложу, рухнет вся его «профанная» жизнь: он останется без работы и без семьи. Именно в истории с Ришаром Егор Егорович впервые становится «нравственным змееборцем». Когда взяточник Ришар пытается воспользоваться особыми, братскими, отношениями с начальником, «спокойнейший и мирнейший из шефов истерически взвизгнул, затопал ногами и закричал непонятное на своем варварском языке» [С. 32]. Однако в «соборной душе» Егора Егоровича разворачивается целая буря противоречивых мыслей и эмоций. Вместо того чтобы наказать Ришара, Тетехин по-братски принимает его вину на себя («вовремя не подал ему доброго совета и не протянул руки помощи» [С. 35]), и даже приглашает домой на обед, чем вызывает недоумение циничного брата по ложе. Если Ришар будет и дальше использовать юродивого шефа в своих целях, то другие служащие конторы, считающие непонятного Тетехина «разновидностью святого дурака» и «прекрасным человеком», «которого любой мерзавец может оставить в дураках», объясняют его чудачество ame slave (славянской душой) – «нечто вроде пуаро под шоколадным соусом с анчоусами» [С. 38].[438]
В этической ситуации герой ведет себя не как масон, а как русский чудак, интеллигент: слишком европейский, рациональный совет брата Жакмена «прогнать негодяя» со службы не разрешает внутренней дилеммы Егора Егоровича. Стыдясь своей национальной чувствительности и задаваясь вопросом европейца: «На каком основании он поощряет и тем плодит порок во вверенном ему учреждении? За чей счет? Кто поручил ему заниматься нравственным перевоспитанием человечества вообще и Анри Ришара в частности (…) И нельзя ли в деле чисто коммерческом, да еще чужом, обойтись без эманаций славянской души и без Теодор Достоевски?» [С. 39], герой не может доводами разума победить свою интеллигентскую природу. Имя Достоевского выступает здесь культурным штампом представлений европейцев о русской ментальности, однако автор, сопроводивший героя в эмиграцию со статуэткой Достоевского, вряд ли подвергает это сомнению. Жертвенность героя национально маркирована, она граничит с прекраснодушной мечтательностью. Введенные в повествование по принципу «текста в тексте» мечты героя моделируют равноценность реальности и мира грез, сущего и должного в его сознании (сюжет со спасением кошки в главе 6, где хозяйка воображаемого пострадавшего животного благодарит героя за великодушие, свойственное русским; мечты о возрождении духовности в периодической печати с помощью масонов, как это было когда-то в России, при возникновении организаций – в главе 9).
Параллельно нравственному становлению герой решает и проблему самообразования, научного постижения мира. Чтение начинает заполнять жизнь Егора Егоровича и размывать границы между мыслимым и действительным мирами, и повествователь не без иронии фиксирует почти фанатичную устремленность героя к конкретному знанию, подменяющему высокую духовную идею: «На пути в главную контору Кашет с месячным отчетом своего отделения Егор Егорович штудирует зоологию, предмет поистине увлекательный (…) Область распространения полосатой гиены гораздо больше, чем у других видов; она еще встречается во всей Северной Африке (…) и до Бенгальского залива. Знаю Бенгальский залив, проезжали мимо. Как Сольферино? Пересадку-то я и пропустил! Ну, пересяду на Сэн-Лазар, лишних минут десять. Ее детеныши похожи на старых (…) станция Мадлэн, пересадка на следующей (…) стоп: станция Реомюр» [С. 49]. Егора Егоровича не понимает не только его собственная семья, но и некоторые из братьев-масонов: один из почтенных французских братьев спрашивает, зачем Егору Егоровичу читать по истории религий, когда можно обратиться к знакомым кюре, «которые все это назубок знают». Его сын Жорж, будущий французский инженер и гражданин, которому русский отец советует «читать как можно больше и по естественным наукам и по философии», отвечает ему на плохом русском и с сильным акцентом о ненужности чтения по естествознанию для профессии инженера. С женой Анной Пахомовной, не одобряющей новых занятий мужа, происходят свои метаморфозы: «мусор греховных мыслей» о Ришаре порождает желание «офранцузиться», поменять прическу, привычки, говорить на французском). Несмотря на неодобрение окружающих, Егор Егорович последователен в своей уверенности, что «никакое знание нелишне для посвященного» и горе лишь в том, что «столько лет потеряно напрасно» [С. 50]. Но как только герой встречает необходимого ему на новом поприще проводника в мир науки, знакомого казанского профессора Панкратова, его утопическая в своей абсолютности вера в знание рушится.
Лоллий Романович Панкратов («всевластный», «дважды римлянин», т. е. истинный служитель науки, культуры, духовности) влачит одинокое голодное существование в чужой стране, в комнате для прислуги на 7 этаже, и клеит этикетки (псевдотексты) на коробочки с надписями средств от полысения и проч. Егор Егорович потрясен несправедливостью мира, он впервые открывает, что знания не облегчают жизнь человеку («знаний все больше, а счастья все меньше»). Бунт героя, не желающего «быть бессмысленной скотиной, как был до сей поры», и требующего от профессора «немедленного ответа на то, что есть истина» (тогда как сам он истину видит во всеобщем благе), – русский бунт.[439] Метатекстовый пародийный прием – изображение автором версии поведения своего бунтующего героя («Вот идет Егор Тетехин, воплощение бунта и восстания (…) и согнутой рукоятью трости бьет стекла магазинов, уличные фонари (…) и нет ему покоя на земле» [С. 68]) – остраняет и доводит до абсурда, казалось бы, благие мысли героя. Позитивным противовесом становится гармонизирующая атмосфера масонского храма, в которой герой переживает соборное единение («чувствует, как сердце его отходит, и, отказавшись от самостоятельного галопа, норовит попасть в общий шаг»), видит «чудо превращения», приобщается «к тайне посвященности».
Проснувшаяся совесть Егора Егоровича не может удовлетвориться исполнением масонских ритуалов («как будто больше слов, чем дела», – говорит он одному из братьев). Интеллигент Осоргина обречен на «торопливость в делании добра»,[440] чем и отличается от братьев по ложе с их нормированной благотворительностью. Не ограничиваясь формальной акцией, Егор Егорович вскоре организует «союз помощи»,[441] или «союз облегчения страданий»: с аптекарем Руселем и торговцем обоями Дюверже налаживает благотворительную раздачу лекарств малоимущим. Милосердие создает истинное братство: «в мире прибавилось трое счастливых людей, несколько смущенных своим счастьем» [С. 152]. Для двух французов брат Тэтэкин – «обладатель славянского сердца», дружба с которым дает смысл в жизни, и на последней встрече они переживают экстатическое единение душ. Использование повествователем при изображении «триптиха святых дураков» комедийных красок не снижает высоты их помыслов: (для повествователя) в их маленьком добром деле «больше всамделишной истины, чем во всех хартиях вольностей» [С. 72]. Их имена образуют «культурный треугольник»: Жан-Батист, св. Георгий и Себастьян. Любовь и жалость к человеку оказывается сильнее доводов разума. Несмотря на предостережения двух самых авторитетных для Егора Егоровича людей – «посвященного» брата Жакмена («от обмирщения символических восприятий», «ведь великий мастер менее всего был революционером» [С. 90]), и «непосвященного» профессора Лоллия Романовича (скептически относящегося к жертвенности отдельных людей в век наступающего тоталитаризма[442]), он продолжает делать свое дело, сочувствуя и помогая им обоим, чем и вызывает их ответные добрые чувства.
Факт организации благотворительной аптеки отсылает к русскому масонству: «Новиков и его товарищи по Дружескому Ученому обществу основали огромную аптеку на Садово-Спасской, где новейшие лекарства отпускались по низким ценам, а беднякам – бесплатно».[443] Позднее, в период борьбы с журналом «Забавы Марианны», герой (вдруг, немотивированно) вспомнит о нравственной роли русского масонства в духовной жизни общества: «Разве не так было у нас в России при Екатерине, в дни Николая Новикова? Разве не вольные каменщики заложили основы нашего просвещения? (…) Егор Егорович с объемистой тетрадью подымается на Восток и занимает место витии. Речь его льется плавно, повествование его обосновано документами славной эпохи от Великой Екатерины до благословенного Александра. Тайная ложа Гармонии. Дружеское Ученое общество. Московская Типографическая Компания. Великая Директориальная ложа. Союз Астреи. Сумароков, Херасков, Карамзин, Пушкин, Грибоедов, Пестель, Рылеев, Муравьевы. Михаил Илларионович Кутузов. Генералиссимус Суворов. » [С. 114]. Вряд ли рядовой почтовый служащий, не помышляющий в России о масонстве (каковым был Тетехин) мог знать названия и участников русских лож. Автор «поручает» герою информацию, необходимую для заострения собственной идеи о генезисе русской интеллигенции, корректируя и список выдающихся масонов в пользу деятелей, формировавших национальную культуру: писателей, полководцев и декабристов.[444] Есть и еще одно указание на русское масонство XVIII века – новиковский розенкрейцеровский кружок: титул учителя Жакмена – рыцарь Розы и Креста. Секта Розового Креста была в основе немецкого розенкрейцерства, принятого московскими масонами.[445] В этой связи настойчивое увязывание масонской деятельности героя с русской масонской традицией, конечно, не случайно[446] и выводит на важные для автора проблемы происхождения[447] и, особенно, сохранения интеллигенции как культурного генофонда нации в условиях эмигрантского изгнания.[448]
С одной из главных заповедей масонства – познание Природы – связано формирование жизненной философии героя – философии природокультуры.[449] Именно на природе, во время одинокого пребывания на своем дачном участке под Парижем,[450] начинается по-настоящему духовная работа Егора Егоровича. На дачу Егор Егорович отбывает с тремя книгами: «Спутником садовода», Библией и «творением высокоученого Папюса» (масонским справочником); «на месте его ждала великая книга Природы» [С. 74]. Герой не только занимается садоводством, но и возделывает свой духовный сад: впервые внимательно читает и переживает Библию, осмысливает легенду о Соломоне и Хираме. Введение текста легенды в повествование не только задает всякой человеческой жизни универсальный масштаб судьбы, но и позволяет изобразить рождение саморефлексии в герое, его духовное становление через переживание, усвоение текста культуры.
На природе герой постигает смысл легенды о Хираме как главной заповеди масонства о недостижимости истины, к которой следует стремиться. Но достигается это понимание не умозрительно (готовая истина Жакмена не была усвоена учеником: охота на оленя, которого невозможно догнать, была воспринята начинающим масоном как новая оригинальная сказка), а в процессе единой природно-мыслительной деятельности, которая носит сознательно-бессознательный характер, поэтому прозрение приходит на границе сна и яви, когда размышления о вечном соседствуют с планированием повседневной огородной работы: «Вот сейчас, например, все-таки помнят, что такой Храм был, Храм Соломонов (…) «Я тебе построю Храм» – и веками и в веках… но сам-то не вечный. И действительно, все время разрушается! Пожалуй, уж часов одиннадцать, а в семь часов непременнейшим образом встать и поливать грядки, грядку за грядкой, все грядки в порядке. » [С. 78].
Герой Осоргина стал цинциннатом (название главы), счастливым человеком, познающим природу. Экстатическая творческая радость, переживаемая героем, разделяется и усиливается автором, субъектно демонстрирующим читателю свою готовность изменить создаваемый им сюжет повести в пользу воспевания природы. Иронично-игровой повествовательный тон уступает место страстно-публицистическому и возвышенно-поэтическому авторскому слову. Слом в повествовании фиксирует потрясение, переживаемое героем, которое приведет к обретению гармоничного мировосприятия. В ситуации сильного эмоционального накала и «перелицованный» текст Пушкина не выглядит нарочитым, а обретает сакральный статус вечного текста культуры о духовном прозрении: «Итогда Она (Природа. – М. X.) простерла над ним лилейные руки и благословила его на счастье творческого познания. Она не посчиталась ни с его житейской малостью, ни с сумбуром догадок и знаний, нахлестанных из популярных книжек и остальных учебников. Она рассекла ему грудь мечом, и сердце трепетное вынула, и угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинула. И тогда Егор Егорович услыхал и понял то, чего не может услышать и понять непосвященный» [С. 81]. Посвященному природой Егору Егоровичу открывается стройная взаимосвязанность и взаимообусловленность происходящего в природном мире, значимость и равновеликость жизни петуха, собаки, мошки.
Природа становится камертоном в углубляющемся расхождении Егора Егоровича с женой и сыном. Анна Пахомовна, мастерица составлять букеты из уже выращенных цветов, отпуску в загородном домике предпочитает модный курорт с сыном и Ришаром. По контрасту с трепетным и глубоким переживанием единения с природой Егора Егоровича изображается приезд на загородный пикник семьи во главе с Ришаром. Гости за неполный день разрушают созданное природой и Егором Егоровичем. Напротив, отношения с профессором Панкратовым, которого герой приглашением на дачу спасает от голодной смерти, только укрепляются. Лоллий Романович не просто ученый, а ученый-биолог, способный, несмотря на скепсис рационалиста, разделить с Тетехиным радость существования в природе. Их объединяет и символическая для культуры акация, и память о казанских пихте, ели, березе. Милосердная душа Тетехина сполна вознаградится братским единением с земляком и новым другом.
С возвращением в цивилизацию, в «мир, совершенно чуждый Егору Егоровичу», – в Париж и семью – начинаются испытания героя: его духовная мудрость и душевная стойкость подвергаются проверке. Егора Егоровича ждет череда предательств. История о трех предателях мастера Хирама неслучайно предшествует реальному предательству героя со стороны жены, Ришара и уволившего его со службы шефа компании. Герой переживает легендарный сюжет предательства, отождествляя себя с каждым из шпионов Соломона: «В темноте, локтем на подушке, Егор Егорович думает о том, что все три имени, Юбелас, Юбелос и Юбелюм, суть не что иное, как псевдонимы заведующего экспедиционным бюро Тетехина, который никем, конечно, не подкуплен, но обладает всеми недостатками и пороками дурных подмастерьев: недостаточной пламенностью, неспособностью отрешиться от мирского, непросвещенностью и, кажется, даже гордыней» [С. 95]. Герой, как истинный вольный каменщик, «начинает с себя». Прорыв глубинного чувства вины, вины эмигранта перед своей утраченной родиной, происходит во сне, где герой отождествляется с третьим шпионом: «Я не тот, я не убийца, не раб и шпион царя Соломона. Я – Абибала, мирный труженик, отец семейства, усердный служака очень прочной французской коммерческой фирмы. И я даже не Абибала, а просто – Егор Егорович Тетехин, муж своей жены, казанский простак, убежавший от революции. Чего вы хотите? Я не мог остаться, я и не герой, и не строитель, я совершенно не подготовлен жизнью ни к мученической кончине на костре, ни к сожиганию на том же костре ближнего. И это не от равнодушия и беспламенности, а только от моей природной малости, в которой я, во всяком случае, не виноват» [С. 97–98]. Однако явившийся в том же сне брат Жакмен удостоверит движение героя вверх по духовной лестнице присвоением звания мастера. Результатом этой ступени развития героя явится понимание, что «никакое маленькое дело не пропадает и никакой самый маленький человек не бесполезен, если только он работает по чистой совести и доброму сговору с другими» [С. 112].
Далее Егор Егорович начнет развенчивать свой миф о собственной малости; он будет бороться со злом как истинный масон и неуемный русский (для которого «мир подлежит пересмотру») и совершит сразу несколько подвигов. Он начнет борьбу (ни много ни мало) за сохранение европейской культуры, против распространения порнографических изданий и готов покинуть работу, если его принципиальная позиция не будет удовлетворена, чем вызывает искреннее недоумение начальника, на первый раз уступившего «горячему русскому». В беседах с Лоллием Романовичем, который рационалистически пытается уберечь своего друга от разочарований и потерь, Егору Егоровичу «внезапно открывается самое главное, (…) Путь вольного каменщика един и прям (…) Нет малого и великого: микрокосм равен макрокосму (.) Ум – дешевая стекляшка! Только любовь, Лоллий Романович, только любовь! Это и есть творческое постижение вечно убегающей истины!» [С. 124].
Об осознанности убеждений Вольного каменщика будет свидетельствовать и личная жертва: Тетехин достойно ведет себя в ситуации с письмом о неверности жены, а позднее благословляет жену и сына на более благополучное существование в Марокко, поняв и объяснив французское гражданство Жоржа жизненной необходимостью.
Конец профанной жизни героя, отграниченный болезнью, недельным нахождением между жизнью и смертью, и приведший к потере работы, семьи и места во французском обществе, становится одновременно его духовным взлетом: герой способен подняться над личной участью и воспринять собственные беды как знаки гибели культуры, человеческого братства. Он теряет всякую надежду найти работу – и жертвует свои последние сбережения в кассу «союза помощи»; принимает завет умирающего мастера, и «с этого момента духовный путь Егора Егоровича» определяется навсегда. Вера в собственные внутренние силы позволяет герою вступить в открытый и буквальный поединок со Змеем: Егор Егорович бьет Ришара, воплощающего в себе все зло мира, тростью (символическим мечом) по голове. Герой не без боли расстается с прежней привычной жизнью и удаляется в свой загородный домик с профессором Панкратовым.
Последняя глава, названная несуществующим в латыни словом «vitriolum» (основа означает – «что-то неуловимое, из тонкого стекла»), возможно, отсылает к тайне слова, которое каждый должен найти сам, как нашел его герой Осоргина. Эпиграф к главе («Посети недра земли – и путем очистки ты откроешь Тайный Камень истинной Медицины») может толковаться шире, чем достижение высших степеней масонства: не пострадав, не исцелишь других. На это указывает перевоплощение повествователя в «небесного адвоката» находящегося между жизнью и смертью Егора Егоровича: адвокат просит оставить героя «там, где он нужен и где, сам того не зная, он лечит всякого, с кем соприкасается, найденным им философским камнем». Существующая в другом повествовательном пространстве, за границей «сюжета героя», «адвокатская речь» является субъектным выражением авторского сознания и утверждает ценность «срединного» пути «маленького человека»: «Кто сказал вам, что истина опирается на плечи гигантов и макушки гениальных голов? Неправда! Ее куют срединные люди, пасынки разума, дети чистого сердца, способные постигнуть то, чего не могут найти холодные мудрецы, запутавшиеся в таблицах умножения» [С. 166].
Итак, «сюжет героя» – изображение событий судьбы Егора Егоровича Тетехина – выстраивает модель интеллигентского существования, с жаждой справедливости, «наследием нестяжательства», комплексом «юродивого» (святого дурака), чувством вины перед страдающими и подчиненными и свободой от вышестоящих, благотворительностью и стремлением к духовному и интеллектуальному развитию и просвещению себя и других, поиском утраченной веры и обретению ее в масонстве, культом братства и готовностью пострадать за свои убеждения и ценности. Однако, помимо сюжетного плана героя, роман обладает автометаописательной структурой «текста о тексте», обнажающей проблему текста и жизни в значении истинной и неистинной реальности. Автор выстраивает три повествовательных уровня: 1) повествование о написании повести о Егоре Егоровиче Тетехине, оформленное рамкой вначале и в конце и содержащее комментарии в процессе создания текста; 2) сюжет героя «как сама жизнь»; 3) тексты масонских легенд, ритуалов и символов. Естественно предположить, что повесть о герое, масоне и интеллигенте, прокомментированная автором и встроенная в корпус масонских поэтических текстов, несет в себе и задачу изображения жизни русских эмигрантов как она есть, и возможность обнажения авторского сознания, сокровенных мыслей о национальной ментальности и путях сохранения национальной культуры, в том числе и интеллигенции.
Как уже было сказано, «сюжет героя» ограничен рамкой «повести о герое». Наличие жанрового определения (повесть) и метаструктурных элементов в тексте романа не дают читателю отвлечься от того, что перед ним – литературное произведение о жизни русского эмигранта. Повествователь на протяжении всего повествования «занят» процессом создания фикциональной реальности: «Постепенно расскажутся некоторые подробности парижской жизни Егора Егоровича Тетехина, а предварительно излагать их вряд ли нужно» [С. 17]; «Маленький сдвиг картины – и Егор Егорович оказывается за липким мраморным столиком» [С. 65]; «Полюбовавшись на свое произведение, художник впихивает его (Тетехина. – М. X.) в пасть метро, протаскивает волоком под землей и вытягивает в другом конце Парижа, скрыв от профанов название квартала» [С. 68]; «Схема дальнейшего повествования такова» [С. 102]; «Ход повести заметно ускоряется» [С. 152]; «Остальная часть сцены интереса не представляет» [С. 181] и т. д.
Более того, традиционность романной структуры (в центре – биография рядового человека[451]) воспринимается как следование законам русского классического романа, в котором события эмпирической реальности переведены в текст.[452] Текст о герое сопровождается прямыми авторскими вторжениями, оценками и назиданиями в духе толстовских отступлений: «И да воссияет на небе сознания нашего сия пятиконечная звезда!» [С. 45]; «О, дети, берегите и хольте свои яхточки! В них больше всамделишной истины, чем во всех хартиях вольностей!» [С. 72]. Имена Пушкина, Толстого, Достоевского имеют в романе Осоргина абсолютное, сакральное для русской культуры и ментальности значение (Анна Пахомовна профанирует образы Татьяны Лариной и Анны Карениной, бюсты Достоевского и Жанны Д'Арк на камине Тетехиных воплощают соответственно русский и западный психотипы, экстатическое слияние с природой главного героя изображено «языком» пушкинского «Пророка»).
Повествователь вступает в дружеский диалог как с героем, так и с читателем. Если переживания первого он всецело разделяет и оправдывает («Тут тайна, Егор Егорович, и радостно, что тайна существует и что она так многообразна» (…) Тут, мой дорогой, никакие рассуждения ничего не дадут, а раз тебе хочется верить, ты, Егор Егорович, верь и радуйся своей вере. » [С. 70]), то второго вовлекает в процесс создания сюжета постоянными обращениями и риторическими вопросами («Что общего между Егором Тетехиным, одним из служащих конторы Кашет, и Гермием Трижды Величайшим, сыном Озириса и Изиды, открывшим все науки?» [С. 25]; «Неужели вы думаете, что маленький человек об этом не помышляет или не имеет права рассуждать? » [С. 103];
«А вы понимаете, по каким побуждениям мадемуазель Ивэт рвет письмо на мельчайшие кусочки и выходит с видом, нисколько не напоминающим святую деву? » [С. 118]; «Но нам приятно, не пытаясь интриговать читателя, заранее предупредить его, что победителем останется вольный каменщик» [С. 119]). Постепенно и читатели перекочевывают внутрь художественного пространства и превращаются в участников событий повести: «Уезжающих Анну Петровну и инженера Жоржа провожает огромная толпа; ней отметим опечаленного предстоящей разлукой Егора Егоровича; остальные – читатели, навсегда расстающиеся с почтенной русской женщиной и ее французским сыном» [С. 208].
Границы между текстом и жизнью оказываются проницаемыми: жизнь «перетекает» в текст, но и текст удостоверяет «правду жизни». Всеведающий повествователь создает иллюзию достоверности, «записывая» реально происходящее: «Если бы кто-нибудь знал, что будет завтра, он удивился бы, как эта женщина может спокойно есть» [С. 52]; «Но еще никто не знает, что прописывать счетов ему больше не придется, – это в дальнейшем будет делать Анри Ришар» [С. 168–169]; «Каким все это кажется сказочным и далеким от действительности! А между тем в канцелярии министерства колоний благодетельный чиновник как раз макает перо в чернильницу – мир иллюзий вот-вот обратится в действительность» [С. 200]; «Заглянем в щелочку: что это он там такое вынимает из тайного ящика (…)?» [С. 215]. Для доказательства подлинности изображаемого повествователь даже открывает читателю «несовпадение» форм реальной и фиктивной событийности: «Нижеследующий отрывок написан в форме монолога, но в действительности это была беседа, даже ряд бесед, преимущественно за столиком кафе на улице Вожирар (…) Обработанная для печати речь Лоллия Романовича принимает следующий вид. » [С. 121].
Герои произведения также оказываются людьми со своими неповторимыми характерами, и автор с удовольствием демонстрирует их нелитературность, независимость от собственного замысла. Авторские версии поступков персонажей служат оживлению последних. Например, в момент встречи супругов после возвращения Анны Пахомовны с курорта, ироничный повествователь сначала выстраивает «литературную» модель их поведения: «"О прости, прости меня!" – воскликнула опозорившая себя, но раскаявшаяся женщина, ломая руки.
«Я знал это и был готов к худшему». – «О нет, я осталась тебе верна, клянусь!» – «Не нужно клятв, я верю». (…) Он протягивает ей руку, которую она хватает и целует. Комната наполняется хныкающими от умиления ангелами, а радио за стеной играет гимн Гарибальди или «Славься-славься»» [С. 131]. Но «жизненная» логика характеров берет верх: «Именно так мы и закончили бы главу „Забавы Марианны“ или даже всю повесть, если бы подобная сцена, сама по себе сильная, хоть немного соответствовала характерам героев. И однако Анна Пахомовна просто ответила:
– Жоржу я позволила остаться и дала немного денег. Но это не курорт, а какой-то ужас. Я предпочитаю сидеть в Париже. Ну, как у тебя?» [С. 131].
Или финал сцены в «кукольном театре»: «Профессор выпивает огромный бокал цикуты и умирает. Конечно, мы неточно воспроизводим разговор старых друзей и побочные события. Профессор не умирает, а с трудом взбирается на седьмой этаж, где он довольно дешево снимает комнату для прислуги, светлую и без отопления» [С. 149].
Другим приемом снятия литературности является страстный авторский монолог в защиту (жизни) героя, находящегося на грани смерти. Эффект жизнеподобия создают и мечты, мысли, сны героев, которые включаются в повествование на правах «текстов в тексте», и несут функцию другого сознания, отличного от авторского.
Автор, таким образом, создает двунаправленную повествовательную структуру, при которой жизнь и текст взаимообратимы, перетекают друг в друга; и «текст о жизни» и «текст о создании текста» не противоречат изображению «жизни как она есть». Подобную структуру Д. М. Сегал обнаружил в «Евгении Онегине»: «…Погружаясь в имманентный мир романа, мы не получаем иллюзии действительности, поскольку автор не только сообщает нам об определенном ходе событий, но все время показывает декорации с обратной их стороны и втягивает нас в обсуждение того, как можно было бы иначе построить повествование. Однако стоит нам, выйдя за пределы внутренней по отношению к тексту позиции, взглянуть на него в свете оппозиции "литература – действительность", чтобы, с известной долей изумления, обнаружить, что «Онегин» вырывается из чисто литературного ряда в мир реальности. (…) Специфическая автометаописательная структура "Евгения Онегина" «работает» в двух направлениях: моделирование особого типа реальности – живой реальности, неорганизованной, свободной реальности («текст равен миру») и моделирование принципов такого моделирования».[453]
Думается, Осоргин сознательно ориентируется на структуру «первого русского романа», манифестируя тождество жизни и текста, наличие мощного проективного заряда в литературном произведении, идеалам которого можно следовать. Автор создает своего героя времени, и его путь (сохранение культуры и интеллигентских ценностей) утверждается как вариант истинного существования в эмигрантском изгнании в эпоху дегуманизации и коричневой угрозы.
Маятник «жизнь – литература», на одном полюсе которого «правда факта», а на другом – авторские комментарии по поводу создания собственного произведения, на протяжении всего повествования набирает амплитуду колебаний, пока, наконец, в последней главе не разрешится полным и ироничным обнажением авторских идей с позиции ожидаемого читательского восприятия: «Лежащая перед нами повесть о вольном каменщике представляет собой попытку автора изобразить, как простой человек может правильно ощутить и принять идею Соломонова храма» [С. 211]; «Попутно в той же повести миру вольного каменщика противополагается мир профанный в лице смешной Анны Пахомовны, ее неинтересного сына и особенно крайне развращенного молодого человека Анри Ришара. Для стройности повести автор ввел в нее живописную фигуру старого масона Эдмонда Жакмена (иррациональное в познании) и несчастного судьбою профессора биологии Панкратова (тип рационалиста). Самой повести придан тон добродушной шутливости, не исключающей мыслей возвышенных, а также разоблачено немало масонских тайн, что должно вызвать справедливое негодование в заинтересованный кругах» [С. 212]; «Приводим эти разговоры как образчик приемов, которыми пользуется автор для иллюстрации руководящей идеи повести: противопоставления профанного разума – просвященному познанию вещей» [С. 213].
Автор играет с предсказуемо рационалистическим сознанием своего будущего критика и – достигает цели: именно метаструктурное «взрывание» логики повествования в конце и будет воспринято исследователями как крушение масонских идеалов Осоргина, следствием чего явится концепция игры ради игры (и сравнение его с Набоковым).[454] Однако, развенчивая ходульные повествовательные приемы и лежащие на поверхности идеи произведения, Осоргин настойчиво отстаивает свои ценности. Автор выстраивает ситуацию «романа о романе» для того, чтобы роман стал жизнью; программирует судьбой героя существование читателя (русского эмигранта) и свое собственное.[455] Самоирония повествователя не подвергает сомнению путь героя, она скорее связана с пониманием ограниченности новой положительной утопии («стыдом утопизма»,[456] по определению Ф. Аинсы). Ирония снимет назидательность предлагаемой спасительной идеи – идеи природокультурного существования, вариантом которого является и масонское братство.
Масонские легенды о языческих богах Иштар, Изиде, Озирисе (помимо магистральной – о Соломоне и Хираме), включенные в повествование по принципу «текста в тексте», не только создают суггестивное, поэтическое, идеальное пространство культуры, в которое герой, вместе с читателем, совершает бегство из лишенного «воздуха», меркантильного Парижа, но и являются образами, вариантами природокультурной утопии. Осмысливающий масонские тексты и совершающий масонские ритуалы, посвященные познанию природы, вооружившись, главным образом, литературой по естественнонаучному направлению, Е. Е. Тетехин постепенно и закономерно приходит к природному существованию на участке земли под Парижем с профессором биологии Лоллием Романовичем Панкратовым[457] («Так сказать – будем познавать Природу», – говорит Тетехин последнему, приглашая его жить вместе). Автор, вместе со своим героем, ищет священное Слово истины, и путь Тетехина оказывается небесполезным (не случайно же он Егор Егорович!). Финал романа – единение с природой и поездка героя на собрание масонской ложи в Париж (куда Е. Е. Тетехин отправляется «весь в тайной радости и явном смущении» [С. 215]) – оставляет идеалы Осоргина незыблемыми, лишь защищенными мягкой самоиронией понимающего необщеобязательность найденного для всех ос-тальных.[458]
«Вольный каменщик» – повествование о пути русского интеллигента в эмиграции, создание новой положительной утопии сохранения культурной идентичности. Осоргин создает философию природокультуры, сплавленную из культурных и литературных мифов, масонских легенд (и лежащих в их основе языческих мифов мировой мифологии) и идей пантеистической философии. «Онтологизация культуры» выполняет в художественном мире М. А. Осоргина роль «новой утопии», опоры в ситуации катастрофического существования человека в эмиграции.
Метатекстовая структура «романа о романе» служит у Осоргина не для замещения утраченной реальности текстом о ней (как у модернистов), а для сохранения истинного существования с помощью проективной силы искусства.[459] Позднее, во «Временах», это традиционное и классическое для русской литературы представление о творчестве примет вид эстетической формулы: «я пишу не произведение – я пишу жизнь».[460]
3.4. Структура «текста в тексте» как способ сохранения культуры в повести Н. Н. Берберовой «Аккомпаниаторша» (1934)
Культуроцентризм Н. Н. Берберовой, представительницы младшего поколения первой русской эмиграции, поэтессы, прозаика, критика, литературоведа, свидетельствующий о масштабности и разносторонней одаренности личности, получил свою реализацию в разных формах творчества и воплотился в его жанровой репрезентативности: лирическая поэзия, романная и малая проза, критические статьи и обзоры в эмигрантской периодике, повествования о художниках, мемуарная и автобиографическая проза. Художественное наследие Н. Н. Берберовой остается практически не исследованным, несмотря на подлинный интерес читателей к созданным ею биографиям, мемуарам[461] и к личности их автора.[462]
В автобиографии «Курсив мой» писательница признавалась, что не сразу осознала свое призвание не поэта и автора романов[463] (с чего начался ее творческий путь), а создателя повестей – «длинных рассказов».[464] Из двух серий рассказов Н. Н. Берберовой – «Биянкурские праздники»[465] и «Облегчение участи»[466] – в России издан сборник избранного «Рассказы в изгнании»,[467] включающий в себя восемь наиболее известных произведений разных лет («Аккомпаниаторша», 1934; «Роканваль», 1936; «Лакей и девка», 1937; «Облегчение участи», 1938; «Воскрешение Моцарта», 1940; «Плач», 1942; «Мыслящий тростник», 1958; «Черная болезнь», 1959) и два очерка («Конец Тургеневской библиотеки», 1960; «Памяти Шлимана», 1958).
Обращение к повести Берберовой «Аккомпаниаторша» (1934), принесшей литературную известность ее автору,[468] обусловлено репрезентативностью текста и для Берберовой-прозаика,[469] и для исследования феномена литературности в прозе эмиграции: структуры «текста о тексте», сюжета дневника героя, встроенного в сюжет повествователя. Написанная в середине 1930-х годов, в одно время с метароманами Замятина («Бич Божий») и Осоргина («Вольный каменщик»), повесть Берберовой принадлежит представительнице младшего поколения эмиграции (В. Набоков, Г. Газданов, Б. Поплавский, Ю. Фельзен, В. Смоленский и др.), вынужденного ассимилироваться в европейской социокультурной среде и воспринимающего (что прочитывается в мемуарах «незамеченного поколения» – В. Яновского, В. Варшавского и самой Н. Берберовой) проблему сохранения национальной культуры (ее «консервацию») как утопию «стариков» (эмигрантов – «общественников» старшего поколения). Кроме того, проза Берберовой (как и Осоргина) – это проза журналиста; в ней документально-публицистическое, информационное начало подавляет стилистическое и является самоценным.[470] Вместе с тем появление литературоцентричной структуры («текст о тексте») в творчестве писателя, в целом не склонного в своих текстах к «повышенной литературности», сигнализирует о влиянии на него эстетических идей времени, отвердевающих в определенных повествовательных структурах и служащих становлению оригинального языка прозы.[471]
В автобиографии «Курсив мой» Н. Н. Берберова неоднократно высказывает свои эстетические пристрастия, связанные не с традициями русской классики («Толстоевского», по ее ироничному определению), а с современной западной литературой модернизма (Пруст, Джойс, Лоуренс, Кафка). В статье 1959 года «Набоков и его «Лолита» были сформулированы эстетические представления Берберовой о языке современной прозы: «ХХ век дал нам литературу, отличающуюся от всего, что было написано раньше, четырьмя элементами, и в "литературной периодической системе" они теперь стоят на своих местах (…) Эти четыре элемента – интуиция разъятого мира, открытые «шлюзы» подсознания, непрерывная текучесть сознания и новая поэтика, вышедшая из символизма».[472]
Повесть «Аккомпаниаторша» (1934), открывающая, по признанию автора,[473] самостоятельный период творчества, отвечает этим эстетическим постулатам. Фабула изображает жизнь молодой девушки, завершившуюся скорой гибелью. Картина раздробленного, «разъятого» внешнего и внутреннего (сознание героини) миров воссоздается как поток сознания – в дневнике героини, повествованием от 1-го лица. Дневниковая функция достоверности, документальной основы изображаемого задается в предисловии автора-повествователя, где излагается история тетради: «Эти записки были мне доставлены г. П.Р. Он купил их у старьевщика на улице Роккет, вместе с гравюрой, изображающей город Псков в 1775 году, и лампой, бронзовой, когда-то керосиновой…» [С. 3].[474] П. Р. (инициалы должны указывать на реально существующее лицо), который купил и прочитал тетрадь, не узнал, «кто была писавшая». Автор-повествователь (она же и издатель) признается, что героиня легко узнаваема: «Я кое-что изменила в этих записях, потому что не все могут оказаться такими недогадливыми. Та, которая написала и не сожгла эту тетрадь, жила среди нас, и многие ее знали, видели и слышали» [С. 3]. Таким образом, повествовательная рамка, предпосланная дневнику героини, сообщает ему статус подлинности: записок реально жившего человека, лишь незначительно подкорректированных издателем. Причем «сюжет дневника» героини насквозь литературоцентричен, собран из известных литературных протосюжетов, этически отсылающих к русской классике. Взросление Сони изображается как несостоявшаяся инициация, а сами записи предстают «антироманом воспитания».
Первый уровень «сюжетного повествования» (Ю. М. Лотман) воссоздается проекцией сюжетологемы «отцов и детей», конфликта поколений. В записях о своем детстве (глава 1) героиня «проговаривает» социальный и психологический источник собственного разрушительного начала – «позор» незаконнорожденности. Годовщина смерти матери побуждает героиню начать писать, т. е. рефлектировать по поводу взаимоотношений с другими людьми и, в первую очередь, с единственным близким ей человеком. «Трещина» во взаимоотношениях с матерью, испытывающей перед дочерью чувство вины, все расширялась: от боли, жалости, стыда – до «позора»:[475] «Мне было жаль ее, жаль так, что хотелось лечь и плакать, и не вставать, пока душу не выплачу. Я терялась при мысли об обидчике, войди он, я бы кинулась на него, выдавила бы ему глаза, искусала бы ему лицо. Но кроме того мне было стыдно. Я поняла, что моя мама – это мой позор, так же как я – ее позор. И вся наша жизнь есть непоправимый стыд» [С. 5]. Несмотря на то, что героиня со временем понимает противоестественность своих претензий к родителям (19-летнего отца вряд ли можно считать «обидчиком»), мать по-прежнему остается для нее «помехой в жизни». Как только появляется возможность уйти от семейного «позора», героиня, не раздумывая, меняет дом и семью: становится аккомпаниаторшей и компаньонкой известной певицы Марии Николаевны Травиной.
Мария Николаевна Травина, на которую Соня переносит нереализованные дочерние чувства, является полным антиподом ее матери, простой учительницы музыки, задавленной бедностью и одиночеством. В Европе Соня совершенно забывает о матери, и именно Травина спрашивает, помнит ли она маму, Россию. Полное отчуждение героини от мира и людей, неспособность даже на естественную, природную привязанность обнаруживается в момент известия о смерти матери, которое привез из России бывший ее ученик: «…Митенька… разыскал меня, чтобы сообщить мне, что мама моя умерла, и передать мне ее (ничего не стоящие) бирюзовые сережки. Ей, кажется, было лет 60. Она простудилась, когда ездила куда-то за продуктами. Ах, там все еще продолжалась эта тяжелая и странная полузабытая мною жизнь! Там люди жили не то как муравьи, не то как волки. По-своему достойнее, чем жили мы здесь…» [С. 51–52].
В финале и сама героиня понимает, что комплекс незаконнорожденности – слишком легкий аргумент подсознания в определении причин несостоявшейся жизни: «И право, стоит ли обижаться на собственную мать за то, что тебя оплевали до рождения? Ведь бывало – и не раз, – что именно из таких оплеванных выходили люди настоящие, гордые и добрые люди. Тут дело не в рождении, тут дело в чем-то другом» [С. 52]. Поверхностное объяснение причины неудавшейся жизни героини в итоге снимается, но сюжет «отцов и детей» все же образует содержательный круг взаимообусловленности «начал и концов»: распад сознания, не имеющего душевных и духовных опор, «предугадан» дисгармонией в личных отношениях героини с матерью. Композиционный же круг (дневник Сони начинается и завершается размышлениями о матери) указывает на неосознанную важность для героини взаимоотношений с матерью, воспоминание о которой становится «пусковым механизмом» саморефлексии Сони.
Сюжет «отцов и детей», образующий первый смысловой уровень произведения, продолжает осмысливаться с помощью двух других современных «генотекстов», благодаря чему выстраивается литературоцентричный сюжет повести. Это произведения, принадлежащие к разным ветвям разделенной русской литературы и ставшие знаковыми: «Золотой узор» (1925) Б. К. Зайцева – для литературы эмиграции, «Зависть» (1927) Ю. К. Олеши – для молодой советской литературы. Используя в качестве прототекстов произведения, развивающие разные культурные традиции в русской литературе, автор создает диалогический текст, семантика которого вырастает на переосмыслении эстетических противоречий.[476]
Название повести «Аккомпаниаторша» актуализирует проблему творческой личности, наличия или отсутствия творческого начала (в предельно эстетском, символистском варианте: музыка как праоснова жизни и искусства). Если мать Сони, неизвестная учительница музыки, воспитала талантливого музыканта Митеньку, то Соня изначально относилась к музыке как к ремеслу в утилитарном смысле: «Постепенно я привыкла к мысли, что надо будет выбрать себе трудовую в жизни дорогу – ремесло у меня уже было» [С. 6]. Соня становится аккомпаниаторшей пожилого певца, потом известной певицы.
Образ талантливой «удачницы» Марии Николаевны Травиной, обладающей помимо искусства петь еще и искусством быть счастливой вопреки происходящим вокруг социальным и личным разрушениям и потрясениям, близок певице Наталье Николаевне из романа Б. К. Зайцева «Золотой узор». Имеющие одинаковое отчество (общие корни?) обе героини талантливы во всем: они красивы и любимы не одним, а несколькими мужчинами сразу, с упоением и самоотдачей служат музыке, с легкостью преодолевают жизненные невзгоды, а главное – несут в себе вектор духовного развития (внутренний стержень) и готовы отвечать за свой (не всегда моральный с обывательской точки зрения) выбор. Героини не просто типологически близки, совпадают «сюжетные ходы» их судьбы (эмигрируют из России, неуклонно совершенствуются как художники, платят за свою страстность смертью самых близких людей – одна – сына, другая – мужа; обе живут «на пределе», полной жизнью, не оглядываясь на прошлое).
Использование Берберовой сюжетной схемы популярного романа Зайцева, конечно, нельзя объяснить бедностью фантазии и бессознательным эпигонством.[477] Автор сознательно отсылает читателя к легко опознаваемому «готовому» сюжету становления творческой личности в его символистском (пан-эстетическом) варианте.
Творческая личность певицы Травиной во всем антитетична аккомпаниаторше Соне, которая, по собственной оценке, «ничего из себя не представляла» [С. 7]. Вхождение Травиной в жизнь Сони только усиливает в последней глубокий комплекс неполноценности. Мир раскалывается для героини на две несовместимые составляющие – мир Травиной («дикого, непостижимого совершенства») и собственное никчемное существование: «Она была на десять лет старше меня и, конечно, этого не скрывала, потому что она красива, а я нет. У нее высокий рост, свободно и естественно развитое сильное и здоровое тело, – я маленькая, сухая, на вид болезненная, хотя никогда ничем не болею. У нее гладкие черные волосы. – у меня волосы светлые, бесцветные. У нее круглое, красивое лицо, большой рот, улыбка неизъяснимой прелести, черные, с зеленым отливом глаза, – у меня глаза светлые, лицо треугольное, скуластое, зубы мелкие и редкие. Она ходит, говорит, поет так уверенно. в ней затаена какая-то горячесть, искра – Божия или демонская, – отчетливое «да» и «нет». Вокруг меня. иногда образуется туманное облако неуверенности, равнодушия, скуки, в котором я дрожу, как дрожат ночные насекомые в солнечном свете, прежде чем ослепнуть или замереть» [С. 10].
Болезненная любовь и зависть к более совершенному человеку заполняет все существование героини. Возмущение несправедливостью Божией («Почему Он не сделал всех нас такими же, какой сделал ее?») порождает противоречивые чувства: преклонение перед идолом и жажду мести, стремление разрушить недосягаемую гармонию другого:[478] «Надо стать ей необходимой, незаменимой, преданной до конца, не жалея себя. Или когда-нибудь предать ее, со всей ее красотой и голосом, чтобы доказать, что есть вещи посильнее ее, есть вещи, которые могут заставить ее плакать, что есть предел ее неуязвимости» [С. 16]. «Зависть», поселившаяся в душе героини, начинает управляет ее жизнью. Зажатая в тисках рабской любви и ненависти Соня вынашивает свой план мести – уличить Травину в измене мужу и тем навсегда разрушить ее особенное существование.
В повести Берберовой сюжет «зависти» создается не одним тематическим, но и структурным использованием сюжета «Зависти» Ю. Олеши. В более поздних высказываниях писательницы по поводу творчества своего современника, напоминающих конспект литературоведческой статьи, обнаруживается глубокое воздействие Олеши на формирование творческой манеры начинающей Берберовой-прозаика.[479] Берберова наследует от Олеши тип героя (Кавалеров, как и Соня, только претендует на статус творческой личности: он недоволен своим положением «шута», но художником стать не способен[480]), систему парных персонажей-антиподов (как в повести Олеши выстроены контрастные пары, и не только по принципу «отцов и детей» – Андрей Бабичев / Николай Кавалеров, Андрей Бабичев / Иван Бабичев, Володя Макаров / Николай Кавалеров, Андрей Бабичев / Володя Макаров, так и в «Аккомпаниаторше» персонажи образуют антитетичные пары: Соня / Травина, Соня / Митенька, Травина / Павел Федорович, Павел Федорович / Бер), принцип изображения персонажей в их кругозоре, «потоке сознания» (игру с дистанцией между автором и героем) и, наконец, коллизию «зависти». Однако, используя сюжетный «каркас» Олеши, Берберова наполняет его своим, и другим, содержанием, вступая со своим советским современником в аксиологическую и эстетическую полемику.
«Человек-артист» Олеши[481] – Николай Кавалеров – драматически отделен от живой жизни, он сходит со сцены. Абсурдность его существования предопределена невостребованностью временем и социумом; для нового мира он шут. Кавалеров испытывает зависть к «новым героям времени» – Андрею Бабичеву и его приемному сыну Володе Макарову, носителям живой жизни. В авторской же концепции зеркальность персонажей, образующих взаимообратимые пары «артистизма без мужества и достоинства» «человека – артиста» и «мужества без артистизма и чувства прекрасного» нового «машиноравного человека, свидетельствует об аксиологическом тупике, восприятии мира как абсурда, что характерно для авангарда.
Если мир «отцов» и мир «детей» у Олеши одинаково абсурдны в своем несовершенстве (искусству не победить мирового хаоса), то в повести Берберовой обнаруживается принципиально иная позиция художника, обусловленная модернистской верой в эстетическую реальность как определяющую. Культура, искусство становятся «домом» и «живой жизнью» эмигрантов, единственно «своей» реальностью, а фигура «человека-артиста» – как никогда востребованной. Поэтому искусство не противопоставляется реальной действительности, а витальность, современность и умение преодолевать жизненные трудности не только не противоречат тонкой душевной организации человека искусства, но, напротив, являются дополнительными гранями таланта, который проявляется во всем.
Панэстетизм Марии Николаевны Травиной, как и героини Б. Зайцева Натальи Николаевны, не только не противоречит жизнеспособности, но как раз и является источником неиссякаемой витальной энергии и жизненной гармонии (музыкальная стихия).[482] Не чувствуя этической вины, как истинный «человек-артист» Травина преодолевает нелегкие испытания, посланные судьбой. После самоубийства мужа она признается Соне: «Вот и смерть задела меня, а я все не могу утерять ощущения какого-то постоянного своего счастья. Бог знает, откуда оно во мне, чем оно кончится?.. Уж кажется, в жизни много чего было – да я самой жизнью счастлива! Сама не знаю чем, тем, что дышу, пою, живу на свете (…) другие скажут, что это я убила его.
Но что мне делать, когда я не чувствую вины за собой? (…) Откуда такое у меня сознание правоты? Может быть, это у всех оно, да только другие по лицемерию скрывают?» [С. 49].
У Берберовой талант, как свойство свободной, независимой и масштабной личности, не разобщает с жизнью, а дарует природную возможность («как здоровье, как красота» – говорит Соня об искусстве таких людей, как Травина, быть счастливыми) гармонизировать жизнь вокруг себя, т. е. творить ее по эстетическим законам. В соответствии с идеей жизнетворчества («отцов», культуры Серебряного века)[483] и повинуясь внутреннему голосу своего сердца, певица Мария Николаевна проектирует свою дальнейшую творческую и личную судьбу – уезжает в Америку с любимым человеком и начинает новую жизнь.
Соня, завидующая таланту певицы и таланту женщины и помышляющая о мести, не сразу понимает, что у Травиной ничего отнять нельзя: гармоничный мир Травиной существует внутри нее.
Равновесие таланта и личного счастья повторяется и в судьбе друга детства Сони. Несмотря на то, что Митенька остался последним связующим звеном с родиной, матерью, детством и единственным для Сони близким человеком, героиня испытывает крайнее раздражение от его творческих успехов (он вышел из вундеркиндов в «заправские гении») и личного благополучия (знакомство Сони с его беременной женой обернулось неловкостью). Соня бросает вызов Богу за свою несостоявшуюся бездарную жизнь: «И пусть мне скажут, что не смеет всякая козявка посягать на мировое великолепие, я не перестану ждать и говорить себе (.) еще есть один долг, который, может быть, ты когда-нибудь взыщешь… если есть Бог» [С. 52].
Берберова полемически переосмысливает сюжет о погибающей личности. Если в романе Олеши дистанция между автором и его героем сокращена (гибнет мир человека – «артиста» Кавалерова и мир авторских ценностей, т. е. разрушение старого и невозможность вписаться в новое время принадлежит авторской концепции), то у Берберовой сюжет разрушения принадлежит только уровню героя.[484] Вынутый из повествовательной рамки дневник Сони воплощает сюжет разрушения сознания и жизни главной героини (и семантически кореллирует с «Завистью» Ю. Олеши). Однако в системе персонажей «Аккомпаниаторши» пары-антиподы выполняют свою основную, антиномическую функцию: Травина, Митенька, Бер противопоставлены Соне, Павлу Федоровичу, Сене как творческие личности, таланты – бездарным обывателям. Так, уже в самих записках героини намечено два разных варианта существования. Концептуализация второго варианта, недоступного героине, осуществляется автором с помощью структуры «текст в тексте», которая не является у Берберовой лишь катализатором читательского интереса, сюжетной занимательности («все это было на самом деле»), в чем состоит функция традиционной повествовательной рамки в литературе нового времени, а становится способом перекодирования смысла («текст о тексте»).[485]
Предисловие издателя дистанцирует героя от автора и существенно корректирует смыслы, открывающиеся при чтении записок героини. Читатель узнает, что героиня умерла «лет пять тому назад», т. е. ее записки («настоящий человеческий документ») дают некий вариант существования человека, которого нет. Причина смерти героини не ясна, т. е. принципиально не важна для автора: «Смерть, как видно, застала ее врасплох. Если это была болезнь, это была болезнь короткая и сильная, во время которой оказалось уже невозможным привести в порядок житейские дела; если это было самоубийство – оно было так внезапно, что не дало времени покойной свести кое-какие счеты. » [С. 3]. Человек, не служащий культуре и не культивирующий в себе талант, изначально обречен (если не природой – болезнь, то собственным выбором смерти вместо жизни – самоубийство), поэтому смерть его лишена трагизма.
Выстраивая повествование в форме дневника умершего героя, Берберова оказывается на пересечении традиций русской классики и современной литературы. С одной стороны, наследуется бунинский[486] излюбленный прием изображения жизни после сообщения о смерти героя, заставляющий читателя сосредоточиться не столько на событиях, сколько на характере личности; с другой, – повествовательная форма дневника, как «моментальной фотографии мысли» (Г. Адамович), вписывается в искания молодых прозаиков 1930-х годов, группирующихся вокруг журнала «Числа».[487] И, наконец, временная дистанция сообщает запискам (и сюжету) героини (сознательную или бессознательную) пародийную функцию: записки героини как пародия на прозу «незамеченного поколения», предпринятая с другой точки зрения – «искусства как мастерства» Ходасевича, Набокова, развивающих модернистскую концепцию творчества Серебряного века[488] (образ нищей, обездоленной, с печатью «бездарного гения» аккомпаниаторши, тип письма как «последней правды» о жизни, смерть как единственно возможный ее результат). Этот «взгляд со стороны» на свое поколение литераторов осуществляется в повести Берберовой с помощью метатекстовой структуры: благодаря повествовательной рамке дневник героини, претендующий на последнюю истину о современном эмигрантском существовании, превращается лишь в один из его вариантов.
Г. П. Р., искавший в лавке у старьевщика «чего-нибудь русского», купил клеенчатую тетрадь «вместе с гравюрой, изображающей город Псков в 1775 году, и лампой, бронзовой, когда-то керосиновой, теперь, впрочем, снабженной довольно порядочным электрическим шнуром». Вещи, «сопровождающие» дневник, обладают культурной символической памятью: гравюра с изображением Пскова (1775 г. не несет конкретной исторической семантики) – символ «корней» российской культуры, лампа – российского просвещения, традиции которого продолжала в эмиграции «Зеленая лампа» Мережковских (лампа «с электрическим шнуром»). Вместе с оставшимися после героини нотами (музыка) гравюра (изобразительное искусство) и записки Сони (словесность) выстраивают авторскую универсальную модель культуры, в которую вписываются (или не способны вписаться) судьбы героев.
Публикация записок аккомпаниаторши сообщает им статус артефакта – художественного документа эпохи, который сохраняется и живет вопреки смерти их автора. Проективную значимость этого документа (глубоко укорененного в традиции – «продавец достал из пыльного шкафа… клеенчатую тетрадь, такую, какие спокон веку служили особам, преимущественно молодым, для писания дневников» [С. 3] – и соединяющего современную дневниковую прозу потока сознания с дневниковой классической традицией предшествующих эпох) автор реализовал с помощью структуры «обрамляющего метатекста» (Р. Д. Тименчик).[489] Повествовательная рамка сыграла роль двойного моделирования: сюжет распада оказался обрамленным, «вошел» в сюжет творческого созидания. Изображающий гибель человека в эмиграции дневник Сони содержит в себе и альтернативные пути преодоления тотального социального разрушения – жизнь в творчестве Травиной, Митеньки, Бера. Разрушительные силы истории властны над заурядными людьми, ждущими подарков от судьбы, но не творящими ее. В этом смысле смерти Павла Федоровича и Сони, не имеющих своей собственной судьбы, а только «сопровождающих» Травину, в определенной степени закономерны. Творческая личность в художественном мире Берберовой адекватна времени и самодостаточна, а потому всегда обретет свою Америку – землю обетованную.
Автор размыкает коллизию «отцов и детей» в эмигрантскую проблему преемственности поколений, наследования детьми культуры «отцов».[490] Ценности, которыми живет творческая личность, – свобода, независимость, любовь, искусство – формируют талант, способный существовать в пространстве культуры и выстраивать свою жизнь по законам искусства. Таким образом, в повести «Аккомпаниаторша» поставлены проблемы выживания и смысла жизни человека в эмиграции. Разрушению и гибели автор противопоставляет жизнеутверждающий сюжет существования без социальных и пространственных границ – в мире культуры. Как цельная личность, существующая на пересечении разных систем координат (литературных «отцов» и «детей», реалистической классики и модернистской современности, литературы «ремесла» и «человеческого документа») и стремящаяся «сшить» противоположности, Берберова ищет новые (более скрытые и отвечающие установкам «молодой прозы» на простоту[491]) формы литературности для передачи культурных ценностей «отцов» – идеи жизнетворчества. Ранний сюжет, как и в случае с Осоргиным, нес в себе мощный проективный заряд не только для читателя, но и для последующей жизни самого автора: в 1950 году Н. Н. Берберова переедет в США, где начнет «третью» жизнь – напишет свои главные книги и состоится как ученый. Героями ее мемуаров станут незаурядные личности, таланты, посвятившие свою жизнь творчеству, а главным сюжетом – сюжет саморазвития автора, способного творить свободную мысль, художественные образы и человеческие отношения.
Итак, в исследуемых произведениях метапрозы 1920-1930-х годов семантика метатекстовой структуры различна. В романах Е. Замятина «текст о тексте» является способом модернистского миромоделирования, изображающего реальность авторского сознания: в антиутопии «Мы» метатекст обнаруживает творческое самоопределение автора в современной культуре; в историческом романе «Бич Божий» противопоставление культуры и истории, осуществленное с помощью «романа в романе», уточняет авторскую концепцию истории и представление о современности. В повести Н. Берберовой «Аккомпаниаторша» структура «обрамляющего метатекста» выполняет функцию перекодировки смысла, утверждая пан-эстетическое существование в творчестве. В реалистическом романе М. Осоргина «Вольный каменщик» выход из текстовой реальности в жизненную не только не разрушает, но укрепляет последнюю: метатекст служит сохранению жизни с помощью проективной силы искусства. Однако несмотря на мировоззренческие и эстетические различия авторов, соединение в их текстах «вещей» (в функции которых выступают записки героев, исторический роман и роман автора о реальном человеке) и «знаков вещей» (обрамляющих текстов авторов) в едином художественном пространстве порождает «двойной эффект, подчеркивая одновременно и условность условного, и его безусловную подлинность».[492] Безусловной подлинностью и для модернистов, и для реалистов становится пространство культуры, утверждаемое как единственно существующая и истинная реальность в эпоху социально-исторического разрушения.
Глава 4 АЛЛЮЗИВНОСТЬ КАК СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ КАНОНИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ СЮЖЕТА (Б. К. ЗАЙЦЕВ)
Сюжет в прозаическом произведении также может являться формой саморефлексии, если он «литературоцентричен», т. е. несет информацию об использовании автором известных в культуре сюжетных схем.[493] Проблема типологии сюжета была поставлена в классических трудах О. М. Фрейденберг, В. Я. Проппа и Ю. М. Лотмана, выявляющих инварианты «мирового» сюжета как «мифологического»,[494] «циклического и линеарного»[495] и повторяющихся сюжетных схем-функций.[496] Е. М. Мелетинский исследовал «сюжетные архетипы», восходящие к инициации: «попадание во власть демонического существа», «драконоборство», «странствие героя», «женитьба на царевне».[497] Н. С. Бройтман квалифицирует известный сюжет как «готовый».[498] На основании предшествующих исследований об исторической типологии сюжета В. И. Тюпа вводит категорию «археосюжета» и реконструирует четыре его фазы. Исследователь отмечает, что «между событийной схемой инициации и позднейшей сюжетностью обнаруживается некая матрица сюжетосложения – тоже четырехфазная единая динамическая инфраструктура внешне несхожих сюжетов».[499] Первую фазу он называет фазой «обособления»: уход, затворничество, избранничество или самозванство, а в литературе новейшего времени – «уход в себя», томление, разочарование, ожесточение, «вообще жизненной позицией, предполагающей разрыв или существенное ослабление прежних жизненных связей».[500] Вторая фаза – «искушения – как в смысле соблазна (увлечения, прегрешения), так и в смысле приобретения жизненного опыта, искушенности (…). Нередко здесь имеют место ложные, недолжные пробы жизненного поведения». Третья фаза – «лиминальная», пороговая фаза испытания смертью. Четвертая – фаза преображения: «здесь, как и на заключительной стадии инициации, имеет место перемена статуса героя – статуса внешнего (социального) или, особенно в новейшее время, – внутреннего (психологического)».[501] Именно эти четыре фазы узла сюжетного построения были, по мнению Тюпы, «логизированы теоретической поэтикой в категориях завязки, перипетии, кульминации и развязки».[502] В произведениях новейшего времени могут выявляться и «модифицированные осколки выделенных фаз», и вся» гипотетическая основа сюжетности в практически чистом виде».[503] «Сюжетологемы» («фразообразующие мотивемы мирового археосюжета, их древнейшие алломотивные вариации и последующие модификации, а также мотивные комплексы традиционных сюжетов») В. И. Тюпа определяет в качестве «ядерных семантем сюжетного мышления»,[504] присутствующих в любом произведении. Сюжетная же рефлексивность, как нам представляется, проявляется в обнажении протосюжетной схемы, в намеренной демонстрации автором многослойной сюжетной конструкции, уходящей своими корнями в мифологические, религиозные, литературные и культурные источники. Это обнажение достигается с помощью аллюзий, вызывающих приращение или преобразование смысла. Выбор сюжетных отсылок выполняет литературную функцию, ибо указывает на некую концепцию творчества и творческого поведения. «Избыточной» литературностью сюжета произведение рефлексирует по поводу самого себя, обнаруживая свои ценностные ориентации.
Критическое освоение творчества Б. К. Зайцева совпадает с выходом его первых произведений в 1900-е годы. Среди первых исследователей Зайцева значатся имена В. Брюсова, А. Абрамовича, А. Блока, Г. Горнфельда, З. Гиппиус, П. Когана, М. Морозова, Е. Колтоновской, Ю. Айхенвальда и др. Продолжая и развивая традиции восприятия зайцевской прозы критикой Серебряного века, эмигрантская критика (Г. Струве, А. Шиляева, Л. Ржевский, Е. Таубер, П. Грибановский, Г. Адамович, Ф. Степун и др.) сосредоточивалась на основах мировоззрения писателя, его религиозности (движение от пантеизма язычества к христианству), концепции мира и человека (христианской по преимуществу), связях с классической русской литературой (продолжатель традиций Пушкина, Тургенева, Достоевского, Чехова), своеобразии стиля (импрессионизм, лиризм), особенностях художественного метода (реализм, «импрессионистический реализм», импрессионизм, неореализм, «символический реализм» и т. д.).
Рост интереса к наследию Зайцева приходится на конец 1980-х годов, период выхода первых сборников писателя на родине. Через несколько лет на смену концептуально важным аналитическим вступительным статьям и главам в монографиях и учебниках о русском зарубежье (Л. Иезуитовой, В. Агеносова, Е. Воропаевой, О. Михайлова, Т. Прокопова, А. Соколова, Л. Смирновой, Е. Михеичевой, Н. Барковской и др.) пришли отдельные главы и разделы докторских диссертаций (А. Любомудрова, Л. Усенко, Л. Бронской, В. Захаровой, У. Абишевой) и монографические докторские (Т. Степановой и Ярковой) и кандидатские исследования (Н. Жуковой, О. Кашпур, Н. Завгородней, Ю. Драгуновой, Н. Глушковой, Л. Пермяковой, И. Полуэктовой, П. Коряковой, Ю. Камильяновой, Н. Комоловой, Е. Дудиной).
Наиболее разработанными на данный момент являются проблемы жанрово-родовой специфики творчества Б. Зайцева (своеобразие лирической прозы, движение от лирического к эпическому изображению от раннего творчества – к зрелому, жанры «литературных биографий», «паломнических хождений», романа), исследование отдельных аспектов поэтики писателя (импрессионизм стиля, мотивная организация, образы-символы, интертекстуальные связи с реалистической классикой). Несмотря на обширную научную литературу о творчестве Зайцева, проблемы целостного осмысления и выявления текстопорождающих механизмов его прозы остаются нерешенными.
Своеобразие сюжета Зайцева так или иначе рассматривается во всех работах исследователей и связывается с жанрово-родовой спецификой его прозы («лирический сюжет», «реалистический сюжет», «житийный сюжет», «сюжет становления»). Самостоятельным предметом анализа типология сюжета стала в двух диссертациях: Ю. М. Камильяновой «Типы сюжетного повествования в прозе Б. Зайцева 1900-1920-х годов» (Екатеринбург, 1998) и В. Н. Коноревой «Жанр романа в творческом наследии Б. К. Зайцева» (Владивосток, 2001). Предложенная Ю. М. Камильяновой типология сюжета (мифологический, романический, житийный и очерковый типы сюжетного повествования[505]), на наш взгляд, внутренне протииворечива. Житийный сюжет (точнее, жанровый канон) присутствует и в малой прозе, и в романах, и в беллетризованных биографиях писателя,[506] так же как, независимо от жанра, и неомифологическая основа сюжета присутствует во многих его произведениях.
Несмотря на многожанровость творчества Зайцева (документальные, автобиографические, литературно-критические, агиографические и собственно художественные произведения, многие из которых с трудом поддаются однозначному жанровому определению, часто имеют «промежуточную» жанровую природу), оно воспринимается как целостное, стабильное, не претерпевающее кардинальных изменений (и в этом его часто сравнивают с Буниным). Основа такой стабильности, на наш взгляд, не только в лиризации повествования, но и в воспроизведении семантически одной и той же сюжетной схемы. Исследователи по-разному обозначают эту сюжетную доминанту («житийный сюжет»,[507] «лирический сюжет»,[508] «сюжет становления»[509]), однако их определения не противоречат друг другу, а характеризуют одно явления с разных сторон. Археосюжет инициации, «сюжет становления» (М. М. Бахтин), реализующийся в хронотопе пути, конкретизируется в творчестве Зайцева в качестве «христианского пути» и оформляется в жанре лирической прозы, изображающей сознание героя. Хронотоп пути как важнейший структурообразующий принцип и постоянный мотив творчества Зайцева выделяется многими исследователями, ибо носит эксплицитный характер и является сквозным (исключение составляют ранние рассказы писателя). Становление сюжета пути принципиально для понимания всего творчества писателя, оно влечет за собой изменение повествовательной структуры в его прозе и, в целом, типа художественной системы: движение зайцевской прозы от модернизма к реализму, от модернистского лирического повествования – к реалистическому персональному и персонифицированному,[510] от модернистского сюжета сознания лирического героя – к археосюжету становления личности.
Христианская семантика сюжета пути, выражающая становление религиозного мировоззрения автора, одновременно является и литературно-эстетической программой художника, направленной на утверждение классического типа авторства. Но вместе с тем, сюжет Зайцева не соответствует канону традиционного христианского сюжета благодаря трансформирующим его многочисленным культурным и литературным аллюзиям. Это почувствовали еще современники Зайцева, писавшие как о «всепоглощающем лиризме», «акварельности» и эстетизме его прозы, так и об особом, «светском» его христианстве. Нам важно исследовать, как на основе «христианского варианта» археосюжета становления с помощью трансформирующих его философских, культурных и автобиографических аллюзий происходит формирование культуроцентричного сюжета как формы саморефлексии в прозе Б. К. Зайцева.
4.1. Мифологический языческий код как принцип организации повествования и сюжета в ранних рассказах Б. К. Зайцева
Зайцев входил в литературу на рубеже XX века как создатель импрессионистических лирических рассказов. Именно в рассказах 1900-х годов («Волки», «Сон», «Миф», «Молодые», «Полковник Розов» и др.) лирический компонент является не просто свойством стиля, а принципом повествования: самораскрытие лирического героя становится основным художественным заданием. Лирическая проза наследует от лирики принцип субъективизации повествования, преломление изображаемого мира в индивидуальном сознании, представление о внешней действительности как об элементе этого сознания, близость героя автору, единственный монолог сознания которого «поглощает» и «впитывает» в себя весь мир и все повествование.[511] Этим она сближается с модернистской прозой, изображающей действительность суверенного сознания автора. Н. Т. Рымарь так определяет принципы лирического повествования: «…Сознание человека как субъект само воссоздает себя, опредмечивает себя в слове»; «лирический субъект является как бы организующим, структурообразующим началом произведения. Он присваивает себе предметы внешнего мира, лишает их характера самостоятельных объектов, живущих по своим собственным законам. Это коренным образом отличает его от героев эпического произведения, которые предстают в качестве объектов создаваемой реальности, объектов в ряду прочих явлений этого уровня. Эпический персонаж, раскрываясь во взаимодействиях всех уровней, реализует себя в соответствии с законами, присущими данному миру, образуя с ним сложное, подвижное единство. Лирический субъект превращает объект в свой предмет, сообщая ему свою, субъективную определенность, принадлежащую лирическому сознанию».[512]
В произведениях символистов (А. Белого, Ф. Сологуба, З. Гиппиус, В. Брюсова) импрессионизм, лейтмотивность и музыкальность становятся проявлением модернистской позиции изображаемого сознания как позиции самой реальности. Сознание выговаривается в слове, строит свой миф-переживание. Миф[513] разворачивается с помощью символов состояний сознания лирического героя. В начале творческого пути Зайцев находился в активном взаимодействии с символистами и под их несомненным влиянием. В импрессионистических рассказах писателя 1900-х годов представление о хаосе мира оформляется в жанрах лирической прозы (лирической миниатюры, лирического рассказа). Любопытно, что такой проницательный критик, как З. Гиппиус, в статье 1907 года «Тварное» поставила в вину начинающему писателю отсутствие личности в его прозе, потому что не разглядела лирического структурирования прозы, в которой место героя занял близкий автору лирический повествователь, его сознание, посредством которого и изображается «дыхание всего космоса».[514] Тем более что сознание начинающего автора опредмечивалось в символистском христианско-языческом мифе, с акцентом, как можно предположить, имея в виду пантеистическое мироощущение автора, на второй составляющей. Выявим варианты функционирования языческого мифа в становлении лирического повествования Б. К. Зайцева.
Один из первых рассказов «Волки» (1901), изображающий блуждание волчьей стаи зимой, породил у исследователей представление о «мрачном пантеизме раннего Зайцева»,[515] рисующего «столкновение стихий в темном мире».[516] Однако, как и в лирике поэтов-импрессионистов (К. Бальмонта, И. Анненского), у Зайцева изображение стихийных сил передает и переживания субъекта: состояниям сознания лирический герой ищет аналогии в природном мире. Используя языческие символы холода (зима, снег, наст, колючий ветер) и изображая безжалостные законы волчьей стаи, автор создает картину неотвратимости смерти.
В основе фабулы лежат славянские языческие представления о «волчьих праздниках».[517] В повествовании развернуто переживание смерти лирическим героем. Субъектами сознания являются волки, вожак стаи, барыня-инженерша; субъектом речи – лирический повествователь, соотносящий жизнь волков с человеческой жизнью. Многослойное повествование включает несколько уровней, предает изоморфность внешнего мира внутреннему состоянию лирического повествователя:
– изобразительная функция повествования осуществляется во внешнем взгляде на происходящее. У «угрюмых и ободранных» волков «злобно торчали ребра», были «помутневшие глаза», они, «похожие на призраков в белых, холодных полях», «угрюмо плелись к этому небу». Сцена расправы с вожаком также подана извне как кровавое убийство: «И прежде чем старик успел разинуть рот, он почувствовал (…), что погиб. Десятки таких же острых и жгучих зубов, как один, впились в него, рвали, выворачивали внутренности и отдирали куски шкуры»[518] [Т. 1. С. 34];
– изображение вы растает до обобщающих, символических описаний, истолковывающих происходящее: убийство вожака – торжество смерти, символами которой становится холод (метель – «заметюшка») и тьма как дьявольские начала: «Злоба и тоска, выползавшая из этих ободранных худых тел, удушливым облаком подымалась над. этим местом, и даже ветер не мог. разогнать ее. А заметюшка посыпала все мелким снежочком, насмешливо посвистывала, неслась дальше и наметала пухлые сугробы. Было темно» [Т. 1. С. 34–35];
– повествователь передает и ощущения волков (взгляд изнутри): «Ныло тяжело и скучно на полях»; «задувал неприятный ветер и было холодно», «их брало отчаяние; «волкам каза. лось», что «.белая пустыня погубит их». Волки ждут от вожака спасения от гибели, но и он не знает пути;
– есть и другие субъекты сознания в рассказе, с помощью которых передается наступление смерти: снег («белый снег, на полях слушал тихо и равнодушно»); барышня-инженерша («казалось, что поют ей отходную).
Переживание смерти тематизируется на каждом повествовательном уровне использованием одних и тех же образов-символов холода, голода, страдания, враждебности, агрессии. Фабула (зарисовка жизни волчьей стаи) становится не только изображением хаоса природы, наступающей смерти, к которой неизменно движется природное существование, но и оформляется в лирический сюжет: переживание смерти лирическим героем. Лейтмотивный повтор «проклятые», принадлежащий одинаково и волкам, и барышне-инженерше, переводит конкретное изображение в символический план: природные образы – метафоры внутреннего состояния лирического повесгвователя. В финале синкретизм внешнего («материи» природного мира) и внутреннего (сознания лирического субъекта), ощущений волков и лирического героя проявляется в почти мифолог ическом антропоморфизме, наделении природного мира ощущениями и переживаниями человека: «Н разных местах из снега вырывалась их (волков. – М. X.) песня, а ветер, разыгравшийся и гнавший теперь вбок целые полосы снега, злобно и насмешливо кромсал ее, рвал и расшвыривал в разные стороны. Ничего не было видно во тьме, и казалось, что стонут сами поля» [Т. 1. С. 35]. Автор, таким образом, не только изображает стихийное состояние мифологически нерасчлененного природного мира, смерть как его естественное разрушение, но делает изображенное объектом рефлексии лирического повествователя, т. е. лирическим повествованием о смерти.
В рассказе «Сон» (1904) языческий код структурирует и повествование, и лирический сюжет. Главный и единственный герой рассказа Песковский (текучесть, изменчивость) переживает процесс перерождения души, смерть/воскресение, сон и пробуждение для новой жизни. В славянской народной традиции сон тождественен смерти. Повествовательная рамка, актуализирующая солярный миф, акцентирует семантику сна-смерти: в начале рассказа герой прибывает в дом на болоте «при слегка склоняющемся к горизонту желто-раскаленном солнце» [Т. 1. С. 336], уезжая, Песковский наблюдает взошедшее «круглое, оранжевое в радужном ореоле солнце» [Т. 1. С. 341]. Новый дом – символ обретения героем себя другого; дом на болоте порождает пучок аллюзий, или мотивов, выстраивающих лирический сюжет. «Болото – зловещее и неопределенное («ни вода, ни земля») место, издревле считавшееся в народе опасным и нечистым (…) болота с их трясинами, бездонными омутами и непроходимыми завалами с давних времен оставались для человека неизведанными и загадочными».[519] Прибывший в новый дом на болоте Песковский попадает в фантастический, сказочный мир. Таинственный и призрачный мир болота отвечает внутреннему состоянию героя – инобытия, сна, временной смерти: «Ровное болото было перед глазами (...) Этот тихий, странно звучащий, нежно пахнущий и колеблющийся мир показался для него чем-то совсем новым, невиданным и неожиданным – будто высота трепетала в хрустальных, тонких и хрупких, созвучиях. Так началась для него эта новая, не известная ему раньше полусонная безбрежная жизнь (...) Песковский же не жил и не работал: он лежал, бродил, слушал шелест трав, дышал воздухом и прозябал без дум, волнений и забот» [Т. 1. С. 336–337]. «Глушь и тайну новой жизни» природы и своего внутреннего мира герой постигает иррационально, интуитивно: «Все меньше он думал, все больше любил и сживался с тем, что вокруг» [Т. 1. С. 337]. Болото над небом выстраивает для лирического героя оппозицию телесного и духовного устройства мироздания. «Нежно-хрустальные, с фиолетовым, облака» на небе, с которых истекают «благовонные светлые потоки, реки дивных лучей», «таинственные тихокрылые дуновения» вызывают в герое ощущение «будто Бог стоял везде вокруг, куда ни глянь» [Т. 1. С. 338]. «Тысячевековой, рыхлый и жуткий пласт, глухой и безглазый, что принял в себя, подверг тлению и изрыхлил бессчетные мириады цветов, трав, лесов» становится метафорой материальной стихии жизни, обреченной на умирание, но остающейся для человека «глубью неведомого»: «на само небо дерзнул бы он, если б имел власть» [Т. 1. С. 338]. Болото под небом, как конечная жизнь перед вечностью, будит в герое мысли о конечности и его чувств, привязанностей, переживаний: «Прислушиваясь к тихой и таинственной подземной жизни, Песковский чувствовал, что и он сам, и все, что цветет в нем стихийно и безумно, – как на болоте эти бледные цветы-призраки, – что все это сдунется тоже стихийным, тоже недумающим, и кроткие, беззлобные и наивные мечты его безвозвратно сгинут и перейдут в глухую, незримую пыль, что без остатка развеется по сторонам» [Т. 1. С. 338]. Болото во время дождя, как инфернальное пространство под «таинственным, зловеще-мистичным» небом, вызывает у Песковского метафизические переживания пустоты всего сущего: «Пустота стояла над болотом (…) Странно пустынна была тогда эта просто побеленная комната квадратного домика (…) Точно стояло в ней что-то невидимое и глубокое – непонятное, глубже и больше Песковского, комнаты, болота, неба» [Т. 1. С. 339]. Умирание болота и части души лирического героя[520] мифологизировано действием очистительного огня. Пожар на болоте сопровождается музыкой дудочки, поющей отходную всему прежнему: «Казалось, будто это звучит само болото» [Т. 1. С. 340]. Пожар и едкий дым окончательно уничтожили прежнее сказочное болото, превратив его в «небытие» «угрюмого беззвучия», а сердце Песковского заполнилось «чувством тихого оцепенения». В финале картина умирающего «неизвестно для чего и зачем» болота «оправдывается» внутренним перерождением лирического героя. «Пробуждение» героя происходит благодаря осознанию единства мира и всего сущего: «Уезжая, он знал, что скоро, может, всего через несколько дней, все, что он полюбил здесь за время своей отшельнической жизни, превратится в черную дымящуюся корку, которая тоже развеется пьыъю во все четыре стороны. Но что-то – подслуишююе и подсмотренное здесь, впитавшееся и ставшее частью его существа, легко звенящее и веющее, как ветерки и цветочки тогда, ранним летом – оцепляло его с головы до ног. Как будто сердце его навсегда оделось в волшебные, светло-золотистые, легкотканые одежды и стало неуязвимым» [Т. 1. С. 341]. Мифологически единый мир природы и сознания лирического героя вступает в новый день: «…Песковский оглянулся: дым белел на том же месте, где стояло его жилище, а много выше (…) стояло круглое, оранжевое в радужном ореоле солнце» [Т. 1. С. 341]. Автор «олитературивает» здесь фольклорный принцип психологического параллелизма: перемены в природном мире тождественны изменению внутреннего мира личности.
Со второй половины 1900-х годов под влиянием философии В. Соловьева языческо-христианский миф Зайцева меняется: христианское и языческое начала примиряются в представлении о природе как космосе и Божественном храме. В рассказе 1906 года с концептуальным названием «Миф» гармония природы, в которой растворяются и герои, и лирический повествователь, обусловливается ее двуединой, «телесно-духовной», сущностью. Материальная, чувственная ипостась природы воссоздается в языческом гелиоцентрическом мифе: усадьба – страна Солнца. Мотивы света / солнца, зноя / жары управляются главным – цветовым – «золотой / золотистый «золотой приятель – Солнце…» Вершиной истаивающего в лучах Солнца телесного мира становится красота женского тела. Жена видится лирическому герою «милым страусом», – «приветливым жеребенком» и, наконец, рыбой, а ее имя – Лисичка – узаконивает ее принадлежность солнечному природному миру: «Лисичка спокойно и невинно спит (…) Он видит все маленькие и жалкие пушинки на ее лице, что отливают теперь теплым золотом. Под ними ходит и играет кровью нежно-розовая кожица, как живодышащее существо; и мельчайшие родинки, поры. Жилки пронизаны какой-то особой жизнью. Миша с любовью смотрит на большое тело Лисички, и она кажется ему обаятельной, светло-солнечной рыбой, каких нет на самом деле; в ней должна быть сияющая влага и кораллово-розовая кровь, тоньше и легче настоящей» [Т. 1. С. 52]. Зооморфные характеристики героини (лисичка,[521] жеребенок, страус, рыба) коррелируют с дионисийскими: танцующая «пеннорожденная» Афродита воплощает игру природных сил, а повторы состояния опьянения («он пьянеет», «я пьяная светом») утверждают дионисийскую семантику ее образа. Рыба в язычестве также является фаллическим символом и связывается с темой умирающего и воскресающего бога плодородия.[522] Однако рыбная метафорика несет двойной смысл: рыба обладает не только языческой демиургической функцией, но и связана с образом Иисуса Христа.[523] Итак, другой миф, сосуществующий со славянским и античным языческим, – христианский: мужчина и женщина в пространстве райского яблоневого сада, церковь в сиянии заходящего солнца, березовая роща, голуби. С ним входит мотив отрезвления, взросления и ответственности («Спокойная глубокая ясность как-то просветляет мозг» [Т. 1. С. 53]). Только что кружившаяся в танце Лисичка, попав в березовую рощу («целомудренное место»), испытывает неосознанную вину за свое легкомыслие и счастье. Здесь рождаются высокие мысли о родине, о будущем героев, которые «уже не дети». Но береза и в восточнославянской мифологии священное дерево: женский символ во время весеннего праздника Семика, уподобление девушки перевернутому мировому дереву.[524] Использование автором двойственных, одновременно языческих и христианских, символов для построения мифологического лирического сюжета свидетельствует о том, что мир Зайцева не раскалывается на телесный и духовный. Языческий и христианский мифы «примиряются» главным мотивом «золотой / золотистый» в мифе соловьевском: золотая страна солнца сосуществует с золотом Рая. Телесное предстает у Зайцева «веществом невещественным» (В. Соловьев). Членение предметности в рассказе таково, что материя становится светоносной, развеществляется. Одухотворение телесного («радостный запах», «ласковый зной», «живоносное тепло») и, наоборот, опредмечивание духовного («растопить душу в свете и плакать, молиться») упраздняют материально-духовную разорванность человеческого существования и воссоздают ощущение радости и гармонии от полноты бытия, постоянного присутствия божественного в земном. Идея соловьевского всеединства звучит и непосредственно, в рассуждениях героя о будущем: «Я ясно чувствую, что все мы (...) переход (...)... И то, будущее, мне представляется вроде голубиного сияния, облачка вечернего. Ведь люди непременно станут светоноснее, легче. усложненней. и мало будут похожи на теперешних людей (…) Людям незачем становиться бесплотными духами, – наоборот, они будут одеты роскошным, плывучим и нежным телом. такое тело, Лисичка, и портиться-то не может. Оно будет как-то мягко кипеть, пениться и вместо смерти таять, может и таять не будет, и умирать не будет» [Т. 1. С. 54]. Соловьевский текст сообщает радости лирического героя, источником которой является любовь в божьему миру, дополнительные смыслы: главный соловьевский символ – Премудрость – означает «радость преображения, радость выхода из пределов тварно-необходимого к божественно-свободному», ибо когда Бог сотворял небеса, землю и воды София «была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время (…) (Притч. 8: 30–31).[525] Религиозно-экстатической радости переживания полноты бытия у Зайцева – лирика сопутствует и радость творчества, прославляющего, увековечивающего в слове красоту мира и человека.
На единство божественного и земного указывает и запуск с детьми воздушного змея: «…Вокруг нас скачут собаки, ребята прыскают, один даже на руках прошелся в экстазе, а „дяденька“ посмеивается себе и идет, не торопясь, со змеем в руках, – кажется, встреться сейчас стадо бизонов или диких ослов – так же бы спокойно, с улыбкой старческих глаз прошел он среди них (…) «Голубчик, у вас ноги порезвей, ублаготворите шельмецов!» О, да, да, ублаготворить, превосходно! Солнце на закате, поля клеверов – и кашкой веет и еще чем-то – не липы ли цветут, или это снова соты, – а главное, воздушное какое-то вино пьянит, ох как опьяняет, хочется мчаться по ветру, в дивном забвении, дальше, дальше, в эти страны благорастворения» [Т. 1. C. 68–69]. Хтоническая земная сущность змеи преодолевается в воздушном змее, реализуя одно из основных мифологических значений змея – соединение земного и небесного (змей объединяет в себе черты земноводного и птицы).[526] Лексемы «ублаготворить» и «благорастворение» также несут двойной смысл: имеют религиозное происхождение, но относятся к земной реальности («ублаготворить» – удовлетворить детей игрой, поиграть с детьми; «страны благорастворения»: 1) от «благорастворения воздухов» (устаревш., шутл.) – о легком, приятном воздухе, теплой погоде;[527] 2) «полезное и приятное соединение, смесь составных частей жидкости или воздуха».[528] Божественная игра сообщает природным «странам благорастворения» статус «иных миров». И, наконец, сама охота (цель поездки) из важного для героя-повествователя символа потребительского, хищнического существования человека превращается в поэтическое событие: «. Когда выступаем в поход, полковник даже похож на Следопыта, «длинноствольная винтовка» какая-то. Я тоже с ружьем, но на сердце у меня весело и несерьезно до последней степени: не похоже что-то дело на тетеревов, совершенно не похоже. И проспали слегка, да и солнце, дай Бог ему здоровья, растопило воздух» [Т. 1. С. 73]. Опьянение «ромом неба», «огненным ароматом» рождает экстатическую радость, детский восторг перед Божьим миром: «Слушайте, Розов, невозможно все же на охоте ни разу не выстрелить? Ах, глупо несколько, но хорошо, как хорошо, забежать вглубь, в лес, и палить – раз, раз, так, на воздух, с добрыми намерениями, в честь неба, солнца, полковника, Джона!» [Т. 1. С. 74].
В статье «От жизни к житию: логика писательской судьбы Бориса Зайцева» В. А. Чалмаев указывает на то, что в ранних рассказах писателя, особенно в «Полковнике Розове», «импрессионистический восторг жизни был сверхмерен, личностно не сфокусирован и потому двусмысленен».[529] Думается, чрезмерность радости может быть объяснена ее двояким, чувственно-религиозным происхождением. Уникальность переживаний личности, «потребовавшая» жанра лирического рассказа, состоит именно в том, что она является «сосудом» Божиим. Радости религиозной соположена творческая радость (восславить, опоэтизировать красоту Божьего мира), проявляющая себя в импрессионистической жажде остановить, запечатлеть миг полноты бытия, единения человека с божественным Космосом.[530] Однако для раннего Зайцева восприятие природы есть одновременно и чувственное наслаждение. Космизм Зайцева – это обращение к жизненным первоэлементам, к субстанции вселенского «тела», «признание благою самой первоосновы жизни» (Е. Колтоновская).[531] «Дорациональная» непосредственность импрессионистического мировосприятия Зайцева, фиксирующего глубинную связанность в едином жизненном потоке духовных процессов с телесными, роднит его раннее творчество с «виталистическим космизмом» начала века.[532] Однако «литературная рамка» присутствует и здесь: сравнение полковника Розова с героями Ф. Купера вписывает изображаемое в пространство литературной традиции, актуальной для символистского искусства – романтизма.
В рассказе «Молодые» (1907) славянский языческий код структурирует не только фабульно-сюжетный, но и повествовательный уровни произведения. Авторское любование красотой, молодостью, естественной страстностью влюбленной крестьянской пары находит традиционно фольклорные средства воплощения: Глаша и Гаврила состязаются друг с другом в скородовании (бороновании) пашни. Гаврила назван повествователем «сильным, молодым Ярилой». Имя славянского божества – веселого, разгульного бога страсти, удали» (второе имя – Яр-Хмель)[533] акцентирует «национально-дионисийскую» семантику персонажей и их любви.
Славянский миф моделируется и повествовательно: речь лирического повествователя открыта стилизованному слову героев. Глаша и Гаврила изображаются не только как носители народного сознания, но и, в определенный момент, предстают как субъекты речи: «Идти по чернозему тяжко, Глашуха запыхалась, но все же весело, – молодое, могучее, что залегло в ее пышущем теле, гонит вперед, к этой середине, где они встретятся: верно, у Гаврилы что-нибудь развяжется в упряжке, а, может, и у ней самой, а то просто взглянуть друг на друга – тут и разговора не надо, само понятно» [Т. 1. C. 75]. «Показывание» слова героя, далекого от автора (М. М. Бахтин), не характерный для монологичного Зайцева-повествователя прием, но в данном случае он становится одним из средств создания лирического сюжета. Любовь Глаши и Гаврилы изображается не сама по себе, а в восприятии лирического повествователя. Языческий миф структурирует и сюжет «молодых», и является языком описания внутреннего переживания повествователя. Стилизованное слово героев существует на фоне другого сознания – автора-повествователя, который дистанцирован от народного мира литературной рамкой, и относится к своим героям как к объекту восхищения: «О, девичье сердце, молодая душа, – закрутись, взыграй, взмой на великое счастье и радость…» [Т. 1. С. 78].
Мифологический языческий код выполняет в ранних рассказах Б. К. Зайцева сюжетообразующую функцию. Модернистское сознание автора, воспринимающее поначалу мир как хаос, акцентирует в своем мифе о мире его телесную, природную составляющую, символом которой в культуре традиционно считается язычество. Однако языческое у Зайцева не тождественно природному, а опосредуется как культурный, литературный (фольклорный) миф.[534] Языческие образы, взаимодействуя с философскими (В. Соловьев) и литературными, из религиозных концептов превращаются в художественные образы – строительный материал для культуроцентричного сюжета. Язык фольклора – язык гармонизирующей традиции; ранний Зайцев, в духе художественных экспериментов символистов, подвергает языческий пласт «двойному моделированию»: стилизованные славянские образы, мотивы, речевые структуры существуют в пространстве «книжного» сознания лирического героя-повествователя и служат маркерами этого сознания. Офольклоренный, олитературенный языческий миф начинает упорядочивать, сообщать черты целесообразности пока еще хаотичному образу мира и прогнозирует дальнейшее движение мировоззрения и творчества Зайцева в сторону космо– и логоцентризма.
4.2. Становление и трансформация «христианского» сюжета в зрелой прозе Б. К. Зайцева («Спокойствие», 1909; «Дальний край», 1913; «Золотой узор», 1925)
Сюжет «христианского пути» в повести Б. К. Зайцева «Спокойствие» (1909)
Лирический канон ранних рассказов Зайцева начинает разрушаться уже в конце 1900-х годов. В произведениях «Гость», «Аграфена», «Спокойствие» формируется собственно персональное повествование, воспроизводящее диалог автора с героем (в отличие от монологизма традиционного лирического текста). Формирование реалистической картины мира совпадает у Зайцева с обретением христианского миропонимания: существование человека вписывается в социально-историческое бытие концепцией христианского пути. Повествование Зайцева хронотопизируется как «двойное событие»: хронотопичной становится фабула, в центре которой идея пути,[535] хронотопично и «событие самого рассказывания» (М. М. Бахтин), в котором пространственно-временная перспективация едва ли не преобладает над фразеологическими, идеологическими и другими проявлениями точки зрения персонажа в речи повествователя. Проза Зайцева, как лирическая проза, по-прежнему демонстрирует близость героя к повествователю и автору, но полного их совпадения уже не наблюдается. Повествовательный фокус переключается с лирического сознания на изображение существования человека в социально-исторических обстоятельствах, что свидетельствует о становлении реализма.
Коллизия повести «Спокойствие» (1909) связана с переживанием личной драмы – потери любви: от Константина Андреевича ушла жена. 30 главок становятся своеобразными отрезками внутреннего пути героя от боли, растерянности, отчаяния – к «спокойствию». Семантика названия (категория состояния) указывает, во-первых, на результат пути, его конечную точку (спокойное принятие человеком его земной участи) и, во-вторых, на способ достижения этого результата – единение с миром, с Другим.[536] Как «герой пути» (Ю. М. Лотман), Константин Андреевич обретает опыт общения с реальностью именно через пространство: изменения в мироощущении героя неразрывно связаны с освоением того или иного топоса. В повести моделируется горизонтальное (линеарное) и вертикальное развертывание сюжета пути. Горизонтальное пространство связано с путешествием героя-протагониста и может быть интерпретировано как биографическое (родительская усадьба), культурное (Италия) и национальное (Москва). Пространственная вертикаль создается бытовым, природным и трансцендентным («там») топосами и пронизывает все перечисленные уровни горизонтального пространства. Хронотоп порога (вокзал, станция, поезд, пароход) оформляет кольцевую структуру рассказа: в начале и в конце герой оказывается на пороге новой жизни. Начало произведения (гл. 1–2) и начало пути героя разворачивается в пограничном пространстве железнодорожного вокзала и станции. Метель, во власть которой отдается герой, как и в ранних произведениях Зайцева, символ смерти (прежней жизни) и «холода души»: «Прошлая его жизнь одевалась саванами; все выл, выл ветер» [Т. 1. С. 119]. Полная сосредоточенность героя на своем несчастье проявляется в мыслях о смерти, в безразличии к внешней угрозе (кучер рассказывает о дорожных бандитах, но у героя нет страха), неверии в будущее. Герой пока не в силах проникнуть в судьбоносность собственных несчастий, но именно они заставляют его задуматься о главном: «…Что есть он? Что ему дано, в чем его жизнь?» [Т. 1. С. 119]. Так отмечается в сознании героя начальная точка пути.
Следующий отрезок пути (пребывание героя в деревне, родовом имении) связан с освоением биографического пространства (гл. 3–8). Герой, казалось бы, одиноко заперся в деревне, но именно здесь его изолированность от мира начинает разрушаться. Естественно-природные ритмы, в соответствии с которыми протекает жизнь в поместье, подчиняют себе и существование Константина Андреевича: «Жизнь в деревне охватила ровным, вольным течением» [Т. 1. С. 120]. Гармонизирующим началом становится красота зимней природы, которая оживляет в душе героя воспоминания детсгва и рождает новые переживания: «Тишина зимы поразила его (…), и он вдыхал…что кристальное благовоние, воздух, как бы сгустившийся в дивный зимний напиток. Вдруг ему вспомнилось: такой же день, лес, но ему десят ь лет; и в…чьи часы он стоит в двадцати шагах от отца в лосиной облаве» [Т. 1. С. 121]. Постепенно мир, окружающий героя, наполняется звуками, запахами, вкусом, холодное пространство зимы получает атрибуты «живого» пространства. Именно в родительском доме, где «протекала жизнь – долгая-долгая, так родная его сердцу», где «проходили любви, рождения и душевные боли, болезни, смерть», герой получает поддержку свыше. Здесь открывается внеличный смысл его существования как звена в цепи рода. В родительском доме как вмешательство промысла герою во сне является Наташа. Она говорит Константину Андреевичу о божественной природе любви. «Встреча» с Наташей (в ином, метафизическом плане бытия, который открывается герою) ведет героя на могилы родителей, где он переживает душевное потрясение: «…Спите, дорогие души; там, где еще блистательней свет, все мы, родные любовью, соединены нерасторжимо» [Т. 1. С 124]. Оформившаяся в сознании героя пространственная вертикаль («купол неба (…) был как бы великий голос, гремевший мирами, огнями», «и безмолвно его дух тонул: в далеком, (безглагольном; где тишина и беспечалие эфир вечный» [Т. 1. С. 124–125]) не создает идиллии: духовные прозрения не уничтожают страдание и одиночество человека на земле. Восстановление покоя и гармонии в душе героя перемежается смятением чувств. Другая размеренность и упорядоченность деревни – хозяйственная, бытовая – глубоко ему чужда. Посещение поместий племянницы Любы и Людмилы Ильиничны (чужие усадьбы) рождает в герое раздражение. Он ощущает себя там человеком «вне быта», стремится вырваться из удушающей материальности этого мира, и состояние природы «отвечает» состоянию внутреннего мира человека – на смену морозной ясности вновь приходит смятение: «Константин Андреевич (…) почуствовал, как (…) все начинает слышаться, тонет, сбрирается в медленный вихрь, где трудно разобрать слова, физиономии, мысли» [Т. 1.С. 126]. Мысли о другом, счастливом пространстве – Италии – возникают в сознании Константина Андреевича в противовес хозяйственности Любы: он рассказывает ей о Париже, Кельне, но не oб Италии – «она бы все равно не поняла» [Т. 1. С. 123]. Неспособность героя «овеществиться» в бытовом пространстве становится залогом его дальнейшего нравственного движения.
Еще одним важным моментом преодоления сосредоточенности героя на себе является встреча с ночным гостем – беглым революционером, который воровски залез во флигель Константина Андреевича. Отчаяние Другого, также потерявшего самое главное в жизни (идею, которой служил), будит в герое не только сочувствие, но и желание помочь – накормить, дать денег, предложить ночлег. Отношение Константина Андреевича и Семенова к смерти, о которой они говорят, становится своеобразной проверкой степени их одиночества и отчаяния. Тупиковость социального пути в судьбах Семенова и еврея-социалиста побуждает героя к раздумьям о будущем родины. Но если в начале путешествия «взаимоотношения» героя с Россией исполнены позы жертвенности («Русь… горькая Россея». И ему казалось в ту минуту, что хорошо отдать за нее себя» [Т. 1. С. 120]), то после встречи с Семеновым они обнаруживают искреннюю сыновью любовь и готовность разделить свою судьбу с судьбой страны. Таким образом, освоение биографического пространства пробуждает в герое память и способность к состраданию, катастрофическое переживание неземной сущности любви, что станет опорой для его последующего существования.
Перемещение героя в топос культуры – Италию (гл. 9-19) – это пространственное удаление, внешний уход от России, но и другой виток самопознания и познания национального мира. Феномен итальянского путешествия несет в произведении автобиографический и общекультурный смыслы: италофильство типично как для интеллектуальной Европы, так и для России рубежа XIX–XX веков; Италия для влюбленного в нее на протяжении всей жизни Б. К. Зайцева – вторая родина, «праздник души», идеал счастья и гармонии, «райский поэтический сад, где нет разлада между человеком и природой».[537] Воплощением этой любви станет цикл очерков «Италия», перевод «Божественной комедии» и многочисленные путсшссгвия героев Зайцева в страну красоты и культуры. Путешествие в Италию задаст в произведении ряд смысловых оппозиций: Россия/Италия – холод (зима)/тепло (весна, лето); преходящее (социальное)/вечное (культура). Порогом, отделяющим пространство России от Италии, становятся горы (в противовес пустынности российского метельного пространства) – метафора предстоящего нравственного подъема человека («"Верно, Ног являлся в таких горах (…) и Моисей, вероятно", – думает Константин Андреевич» [Т. 1. С. 133]. В Италии душа героя проходит «лечение красотой» – красотой природы, культуры и любви. Посещение дворцов и церквей, древних могил и склепов позволяет герою освободиться от предшествующего опыта, or социальной и национальной принадлежности. Константин Андреевич и его спутники оказываются сопричастными целостному, гармоничному миру, в котором природа и культура неразрывны (повторяющиеся образы неба, моря, солнца в единстве с образами архитектуры: «Казалось, небо, дворцы, башня – пред ветром объялись сном: задумались, задумались, вспоминая» [Т. 1. С. 135]). Однако противопоставления двух топосов – «бытовое» (Россия) / «бытийное» (Италия) – не возникает. «Чужое» пространство переживается героями Зайцева как домашнее, интимное. Уютные кабачки, гостиницы, запах липы, сена и опоздание поездов на станции, как в России, воссоздают образ единого божьего мира: «Эта страна чужая, но как он близок ей! (…) „Да, я в чужой, но и в своей cmране, – потому что все cmраны одного хозяина, и везде он является моему сердцу“» [Т. 1.С. 150].
Культурный топос Италии актуализирует и собственно литературный, дантовский контекст (Данте – один из любимейших классиков Зайцева). Логика пути героя приобретает универсальный (общечеловеческий и общекультурный) смысл, ибо в «стране вечности» «времени нет» (Б. Зайцев). Мифологема «изгнания из Рая», которая в начале рассказа проецируется на жизненный путь главного героя, постепенно расширяясь, «захватывает» и судьбы других персонажей – Феди, Тумановой, ее мужа, позднее – доктора Яшина, Марианны, Натали. Так утверждается христианская концепция всякого земного пути как страдания. Этапы духовного становления героя могут прочитываться и как символическое путешествие в глубины собственной души: потерянный Рай – Ад – Чистилище,[538] обретающее форму литературной проекции (дантовский топос).
В итальянских главах источник переживания героя меняется. Личная драма не уходит совсем, но отодвигается на второй план любовной историей Феди и Тумановой. Спутнику в поезде на вопрос «Вы ментор этого молодого человека?» Константин Андреевич отвечает: «Да, я тень, сопровождающая его» [Т. 1. С. 133]. Позиция «тени» дает герою и близость события, возможность еще раз прочувствовать власть любви, и дистанцию объективности, свободу от груза собственного опыта. Так личностное переживание любви уступает место познанию феномена любви, и весенне-летнее солнечное пространство Италии, пришедшее на смену зимней, метельной России, воплощает победу любви над смертью. В сознании героя природная красота и мощь любви оформляется стихийными образами бушующего моря, ветра, солнца. Любовь дарует ощущение полноты жизни, но эта полнота невозможна без присутствия смерти. На пике любви герои думают о смерти: Федя вспоминает отвесную скалу на Капри («лечь там на край, и с края… вниз»), Туманова «совсем уплыла бы» дельфином, для Константина Андреевича смерть – это возможность увидеть Наташу. Неразрывность любви и смерти, интуитивно предчувствуемая героем в начале путешествия в период переживания смерти своей любви, открывается ему в связи с судьбой и гибелью другого. Трагическая гибель Феди на дуэли воспринимается Константином Андреевичем как абсурд, с которым невозможно согласиться. Федина спокойная убежденность в собственной правоте и способность перед дуэлью воспринимать красоту и величие мира недоступны его другу. «Спокойствие», которое обретает Федя, передается в образах света и безмерно утихшего моря, в то время как Константину Андреевичу «ненравилось море». Постижение истины, открывшейся Феде, – «прекрасна жизнь, непобедима», гибнуть за любовь – счастье – происходит позже, во время путешествия героя в Равенну и встречи с молодыми влюбленными, продолжающими путь Феди и Тумановой. Прикосновение к тайне вечного торжества жизни и любви даруется Богом: «И в эту минуту ясно и тихо-радостно он почувствовал, – бесповоротно побеждает по всей линии кто-то страшно близкий, родной. „Цветут ли человеческие души, – ты даешь им аромат; гибнут ли, – ты влагаешь восторг. Вечный дух любви – ты победитель“» [Т. 1. С. 147]. Посещение героем храма св. Виталия, мавзолея Плацидии, гробницы Данте, церкви св. Аполлинарии, могилы Теодориха укрепляет ясность его духа. Паломничеством герой подсознательно стремится победить смерть усилием памяти, ведь сохранение храмов и могил как пространственных центров любой культуры есть продолжение ее жизни, победа над смертью. О важных изменениях в мировосприятии героя сигнализирует и смена природного топоса в пространстве Италии: море, влага, вода Венеции и пшеничные поля, белая пыль дороги, запах сена и липы Равенны. Образы зерна (смерть/ воскресение) и жары, зноя (производное от огня – гибели прежнего этапа жизни и очищения) символизируют внутреннюю зрелость героя. Эмоциональный хаос, вызванный потрясением от смерти другого, уступает место спокойному принятию вечного трагического круговорота жизни. Путешествие в чужие страны с целью самопознания и освобождения от прошлого состоялось: «Светлое, просторное настроение не покидало его, теперь (…) иными были воспоминания о России, Наташе. Все, что ему было мило, запрозрачнело за иными горизонтами» [Т. 1. С. 149].
Третья часть произведения – пребывание в Москве (гл. 20–30) – обнажает не только национальный, но и экзистенциальный уровни в самоопределении героя. Константин Андреевич думает «начать бедное, легкое существование человека, от всего свободного» [Т. 1. С. 150], но вовлекается в череду новых испытаний, связанных со страданиями других людей. Пространство дома вдовы Лисицыной (съемные временные квартиры) моделирует ситуацию бездомности, вечного странничества населяющих его людей. Собравшиеся под одной крышей доктор Яшин с сыном, Марианна с дочерьми, Константин Андреевич и приходящий Пшерва проживают вместе небольшой отрезок времени, чтобы разъехаться навсегда. В их беседах о силе и слабости человека в противостоянии судьбе экзистенциальная стойкость утверждается как единственная возможность личностного существования. В доме вдовы Лисицыной герой становится свидетелем несгибаемости человека в последних предельных испытаниях (У Марианны муж пытается отнять детей, сын доктора умирает). Гроза ночью перед смертью Жени передает переживания доктора Яшина – потрясение и «причащение неземным»: «Весь он как бы раздвинулся, отдалился, стал тише; ровный свет означился в нем» [Т. 1. С. 164]. Появление Натали во время похорон ребенка глубоко символично, ее приезд также не принадлежит сфере земных отношений. Осуществление сна героя наяву (реальный приезд Натали повторяет «видение») завершает оформление дуалистического мирообраза в произведении.
Итак, путь героя от несогласия с судьбой, отчаяния к постижению божественной сущности любви, способности воспринимать и сострадать боли других людей (очищение) и, наконец, «спокойному» несению своего креста (вера) утверждается Зайцевым как земной путь человека. Духовная эволюция героя пространственно оформляется в природных образах и состояниях: от метельной деревенской зимы – к морю и зною Италии и тихой неброской красоте осеннего русского пейзажа. Трудность пути воплощается ситуацией порога не только в начале и конце произведения, но и на каждом отрезке пути, при переходе героя из одного пространства в другое. В каждом топосе герой переживает сходные душевные состояния, что подтверждает неокончательность земного опыта человека. Вновь и вновь Константин Андреевич отдается стихии чувств, безразличной созерцательности, тоске, отчаянию, испытывает потрясение и гармонию примирения. Повторяемость переживаний героя реализуется в циклическом хронотопе. Помимо соединения «концов» и «начал» каждого жизненного этапа героя в ситуации порога, универсальность коллизии явлена в форме путешествия «вне времени». Цикличность времен года (деревня/зима; Италия/весна, лето; Москва/осень – полный круг) и времени суток (моменты катарсиса героя – в солнечные дни, смерть Феди и Жени – на рассвете, тоска по Натали – ночью) утверждают повторяемость логики судьбы героя в каждой человеческой судьбе.
Так воплощается авторское представление о человеческой жизни как постоянной духовной работе, где всякий опыт и всякое прозрение неокончательны. И все же духовный путь героя, осваивающего разные пространства, приобретает форму не круга, а спирали, ибо направление этого движения есть восхождение от переживания своей личной боли – к способности чувствовать и сопереживать боли других, мира. Только на пути единения с миром (природы, культуры, национальной жизни, бытия Другого) человек Зайцева получает поддержку Бога.
Наличие трансцендентной реальности, «просвечивающей» в земной в моменты душевных кризисов героя, становится для последнего главной опорой. Поэтому и потеря дома («изгнание из Рая»), обретение своего пути является в христиано-центристском мире Зайцева обязательным условием духовного становления человека. Второй опорой для героя Зайцева становится расширяющее его сознание и избавляющее от эгоцентризма пространство культуры. Герой Зайцева становится одновременно и носителем религиозного сознания и героем культуры, а пространство Италии – страны вечных ценностей, и христианских в том числе, снимает противоречия между двумя этими ипостасями.
Движение к христианскому существованию в романе «Дальний край» (1912)
Несмотря на то, что художник сам неоднократно указывал на принадлежность своего творчества 1910-х годов к реализму, персональное повествование не всегда служит у него реалистическому изображению. Роман «Дальний край», выполненный в той же повествовательной манере, что и «Спокойствие», балансирует на грани модернистского мирообраза, обнаруживая структурную близость лирической и модернистской прозы.
Свой первый роман Зайцев назвал в одном из писем «сыном-неудачником» за его трудную печатную судьбу [Т. 1. С. 598]. Несовпадение авторской оценки (известно, что писатель считал роман и повесть «Голубая звезда» лучшими своими дооктябрьскими произведениями) с мнениями критиков, причисливших «Дальний край» к неудачам писателя, побуждает исследователей искать новые варианты прочтения романа. Роман о революции 1905 года явно не укладывался в традиционные рамки реалистического эпоса, что констатировала в свое время Е. Колтоновская, обобщившая критические отзывы о нем: «Отдельные картины этого романа свежи и поэтичны и вполне могли бы рассматриваться как самостоятельные произведения (например, все итальянские эпизоды). Но в целом роман не отличается полнотой, стройностью и широтой захвата» [Т. 1. С. 24]. Но наиболее проницательные читатели уже тогда видели в «недостатках» романа его своеобразие. Так, М. Осоргин и Л. Войтоловский восприняли «Дальний край» как произведение «нового литературного исповедания». Позднее, в эмиграции Г. Струве укажет на биографизм как на важнейшее свойство прозы Зайцева, а близость автора к персонажу обозначит «методом вчувствования». Г. Адамович в книге «Одиночество и свобода» напишет, что зайцевский «реализм зыбок», «о его реализме хочется сказать: то, да не то».[539] Современное отечественное литературоведение продолжает рассматривать роман в русле «импрессионистического реализма» (Г. Струве), усматривая его несовершенство в несоответствии замысла (эпическое полотно о революции) и воплощения (лиризм, субъективное начало, импрессионизм стиля).[540]
Лирическое начало, которое традиционно рассматривается исследователями Зайцева как стилевая черта реалистического текста, является в этом произведении порождением иной структуры – модернистской. Роман «Дальний край» – это не воссоздание революционной эпохи и не воспоминание о ней (что отражено в двух первых названиях замысла – «Друзья» и «Далекий край»), а переживание эпохи личностью автора, становление авторского самосознания в период общественных потрясений и обретение истинных ценностей – любви, добра, красоты, культуры, объединенных автором в понятие «вечность». Сам писатель косвенно указывал на это в письме к Е. Берштейну, говоря о замысле первого крупного произведения: «Я действительно пишу длинную вещь (…) Название – «друзья». Тема – жизнь двух товарищей, один из них из интеллигенции, другой из народа вышел в интеллигенты. Это – главная нить, очень много побочных сцен из времен революции, из городской, деревенской и заграничной жизни (…) Внутреннее содержание – развитие личности» [Т. 1. С. 598]. Лирическое повествование в романе «Дальний край» обеспечивает не реалистическую, а модернистскую структуру, т. к. принципы модернистского миромоделирования определяют все уровни произведения.
Повествовательный план организуется словом лирического повествователя, в определенные моменты выходящего непосредственно к читателю и обнажающего процесс перехода жизни в текст: «Нынче был особенно вкусен воздух, особенно весела Москва, особенно хороша полоска багрянца на закате, необычно хрустел под ногами снег (…) Никогда больше не пахло так разрезанным арбузом. Вряд ли найдется и извозчик, что мчал бы так легко, сквозь снег и ветер, Петю с Лизаветой в их родные края. Это бывает лишь раз. Те, кто это знает, остановятся на минуту, взглянут, улыбнутся и пойдут дальше. Так всегда было, так и будет» [Т. 1. С. 440]. Причем повествовательный фокус меняется: повествователь использует для изображения сознание и точку зрения главных героев, т. е. организуется персональное повествование: 15 глав – от имени Пети, 14 – Степана, 5 – Алеши, 3 – Клавдии, 2 – Лизы, 1 – Ольги Александровны. Однако фразеологически эти речевые потоки почти не дифференцированы (кроме повествования от имени Лизаветы), не случайно критика неоднократно отмечала «психологическую непрописанность» образов-персонажей романа. Думается, психологический схематизм обусловлен модернистским монологизмом авторского мышления: исследуется не другое сознание, делегированное разным персонажам, а персонажи являются воплощением разных уровней (ипостасей) авторского сознания – я как «Другой». Петр, Степан и Алексей («интеллигент», «революционер» и «эпикуреец») не только реализуют авторские представления о важнейших путях личностного самоопределения в современную эпоху, но и свидетельствуют об изживании автором идеологических «кумиров» своего поколения – «кумира революции», «кумира идеи» и «кумира свободы».[541]
«Избыточный» параллелизм мужских судеб, повторяемость в судьбе каждого из главных героев одних и тех же жизненных коллизий не только не обессмысливает существование Алеши и Степана («Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите», Матф. 20: 7), но и создает систему «взаимопроницаемых» персонажей, которые, при внешних различиях, являют собой инварианты одного сознания, одной судьбы. Герои не завершили инженерное образование в Петербурге, увлекались революцией, испытывали первую влюбленность, а потом и любовь к одним и тем же женщинам (Петр и Алеша – Ольга Александровна, Петр и Степан – Лизавета), совершали судьбоносное путешествие в Италию, ожидали появления детей (Степан и Петр), переживали болезнь как наказание за ложные жизненные цели (Алеша и Степан), удивительно похоже воспринимали природу и Италию. Так три сюжетных линии, в определенном смысле дублирующие друг друга, не дают эпической широты и объемности изображения, а скорее реализуют идею «проживания» автором разных вариантов выбора.
В романе, посвященном становлению личности автора и изображающем путь целого поколения русской интеллигенции из революции в христианство, осмысливаются главные препятствия на пути человека к Богу: иллюзия социального переустройства (путь Степана), «обман идеи», научной и всякой другой «разумной» деятельности (путь Петра) и соблазн «самодержавного Я» (путь Алексея). Эпиграф «Идите и вы в виноградник мой» (Матф. 20: 7) отсылает к притче о работниках, ее содержание задает координаты авторской оценки поступков героев: «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных» (Матф. 20: 16).
«Первым» у Зайцева оказывается внешне неяркий и негероический, но глубокий в своих стремлениях познать сущность бытия, найти свою дорогу к истинной, праведной жизни Петр Лапин. Линией и повествованием Петра роман начитается и завершается, удельный вес повествования с его точки зрения самый большой, а легко узнаваемые автобиографические черты, передача персонажу авторского круга чтения сообщают ему статус близкого автору персонажа. Именно в будущее Пети, Лизаветы и их ребенка открыт финал романа. Избравшие путь веры и служения добру и культуре герои обретают гармонию и любовь в катастрофичном мире.
Идея социального переустройства, связанная с сюжетной линией Степана, обнаруживает свою несостоятельность и фабульно оказывается тупиковой: жена сходит с ума, их ребенок остается сиротой, а сам герой идет на смерть, чтобы смыть с себя кровь убитых им людей. Однако и этот путь ведет героя Зайцева к христианскому пониманию смысла жизни – «отдавать» любовь, доброту, служить Богу и людям, жертвовать собой во имя других. Честность и самоотверженность Степана, взявшего на себя все боли мира, даруют ему моменты трагического катарсиса, понимание единого нравственного закона – закона любви.
Отсутствие видимой эволюции у третьего персонажа свидетельствует о том, что наиболее стойким и живучим для автора и его современников оказывается кумир «полной совершенной личной свободы» и «жажды жизни – (…) полной, живой и глубокой», стремление «ничего не искать, ничему не служить, наслаждаться жизнью, брать от нее все, что она может дать, удовлетворять всякое желание, всякую страсть, быть сильным и дерзким, властвовать над жизнью».[542] В романе это мироотношение исповедует «эпикуреец» Алексей.
Алексей выгодно отличается от двух других героев своей независимостью от чужой готовой истины, в первую очередь – социальной. Он сам себе закон и не желает «отдавать своей жизни» какому бы ни было служению, кроме служения своему «хочу». Его «недоверие разуму», индифферентность к социальной борьбе, радостное («веселое») увлечение жизнью, проистекающее от избытка сил, неподдельная искренность и нежелание скрывать свою немодную (в годы первой русской революции) жизненную позицию привлекают к герою не только женщин, которые любят его до самозабвения, но и посторонних людей, усматривающих в нем нечто подлинное: «Глядя на него, казалось, что он отлично все устроит, как бы шутя, никаких огорчений от этого не будет ни ему, ни другим – и вообще его вид говорил, что все в жизни удивительно просто. Когда он ушел, она (Клавдия. – М. X.) подумала: „Какой славный, ясный человек“. Ей решительно стало легче…» [Т. 1. С. 444]. Алешина врожденная отвага, смелость и способность преодолевать жизненные преграды проверяются не в одной экстремальной ситуации. Заблудившись в метель (семантика вмешательства высших сил в судьбу героя, переживающего невнятицу мыслей и чувств), он не позволяет страху овладеть собой и, продолжая полемизировать с генералом-попутчиком, обвиняющим молодое поколение в забвении чувства долга, отвечает последнему: «Мы веселые люди, но мы не трусы-с» [Т. 1. С. 449]. Кроме того, герой чужд лицемерия и не боится навлечь на себя общественное презрение, когда бывшей народнице, рассказывающей ему о своих пострадавших соратниках, предельно честно признается: «Молодцы были (…), что и говорить, молодцы. Только… я бы все-таки не мог. Я сам хочу жить. Не желаю своей жизни отдавать. Я б не выгдержал» [Т. 1. С. 490]. Образ Алексея – в определенном смысле вариант «легкого дыхания», «недумания», появившийся за четыре года до бунинского, и включающий Зайцева в философский спор о человеке без Бога, о правомерности «жизни ради жизни», существования человека только в себе и для себя самого.
Смысл жизни человека, как понимает его Алеша, состоит в стремлении к счастью и радости: «ну, и другим не мешать» [Т. 1. С. 460]. Казалось бы, автор предоставляет своему герою возможности творческого самоосуществления: любовь, общественная жизнь и собственно художественное творчество. Однако чем бы герой ни занимался, он ведет себя как очень обаятельный, «имеющий право» потребитель, не желающий затрачивать духовных усилий.«Главным образом занимали Алешу женщины. Он не быт особенно чувствен, но влюбчив – весьма, и непрочно (…). „Только не нужно никаких драм, историй. Чего там!“ Отлюбив, уходил спокойно. Впереди будет еще много славных женских лиц» [Т. 1. С. 447]. Алеша искренне не понимает, зачем Петя с Лизаветой венчаются: «Ну любят, ну и живут вместе» [Т. 1. С. 444]. Его последняя возлюбленная Ольга Александровна, сравнивая его любовь с «интеллигентскими томлениями» Пети, говорит: «Ты мужчина, ты взял» [Т. 1. С. 552]. Женщины, которые любят Алешу, чувствуют, что весь он им не принадлежит, слишком много ему надо. Алешина неспособность на настоящую любовь проявляется в его духовной статичности, неизменности, тогда как и Анну Львовну, и Ольгу Александровну любовь меняет. Родственная Алеше своим жизнелюбием и страстностью натуры Анна Львовна («чем-то она напоминала скаковую лошадь», «ловкая и крепкая охотница»), незадолго до своей гибели в море, в пучине своих страстей, говорит герою, что боги покарают за такую легкую, бездумную жизнь. На что Алеша ей отвечает: «Пустое, чего там! Хорошо и хорошо» [Т. 1. С. 489]. Другим постоянным увлечением Алеши является революция, которая для него – «нервное опьянение», адреналин, азартная и опасная игра; до ее целей и смысла ему нет дела. Поэтому с такой же легкостью, как он уходит от женщин, он уезжает из России в Италию. «Очень мне нравится (Италия. – М. Х.)… – говорит он Пете. – Не страна, а радость. Я и не думаю теперь возвращаться. Бог с ней, с Россией, с революцией. Тут останусь» [Т. 1. С. 539]. Всегда внезапное вовлечение в революционную деятельность позволяет герою реализовать свой анархизм и душевный нигилизм: «Бастовать всегда надо, – говорил он Пете. – При всех случаях жизни». На возражение Пети о бессмысленности борьбы, отвечает: «Никакой пользы и не нужно» [Т. 1. С. 397]. Что касается профессии, то и здесь Алеша мог делать только то, что не требует больших усилий. Из института, куда он попал случайно (отец был инженером), он легко переходит в художественное училище: «В редкий момент, когда Алеша задумывался о своей жизни, он спрашивал себя: „Художник ли он? Художник, искусство… Это серьезное, важное, требующее всего человека. А ему не хотелось ничего отдавать. Нравилось именно брать, и то, как легко шла его жизнь, было очень ему по сердцу. Какая же его профессия? Никакая, – „милого человека““» [Т. 1. С. 447]. Любовь героя к путешествиям, частым перемещениям также имеет целью погоню за наслаждениями, а не духовную работу, не познание и самопознание. В Крыму «ему вдруг захотелось вдохнуть в себя всю былую жизнь, все приключения, опасности, наслаждения смелых людей» [Т. 1. С. 486]. В Италии он говорит Пете:«Видишь, вот тебе небо, такое, что нигде больше не найдешь, звезды удивительнейшие, Флоренция, красота, любовь. Сиди, дыши этим, и будет с тебя. А то некоторые мудрят очень» [1. 1.С. 543]. Но главное в жизни Алеши – это природа, неразрывную связь с которой он постоянно ощущает. Путешествуя по Крыму с Анной Львовной, он мечтает: «Хорошо поселиться где-нибудь на краю света, в огромном саду, питаться плодами, целый день быть на солнце и ходить без одежды. Все остальное можно забросить, потому что природа – самое важное, и даже единственно важное» [Т. 1. С. 487]. Он осуществляет свою идиллию в Сочи, в доме сестры Анны Львовны, где он нагой работает в саду, ходит среди виноградников и дынь, поедает черешни, упивается вином, «изображает из себя Ноя».
Итак, Алеша – «дитя природы», для которого не существует метафизической реальности. Его биологическая гармоничность многократно подчеркивается в портретных характеристиках: небесно-голубые глаза, светлые вьющиеся волосы, стройное загорелое тело («Кудреватые волосы его трепало ветром, и глаза были полны того света, какой посылало солнце в этот день») [Т. 1. С. 399].[543] «Не философствовать» для него значит не только не создавать рациональных схем о жизни, но и не напрягаться духовно, не «трансцендировать внутрь» (Н. Бердяев), не искать Бога. Место Бога заняла природа, из «широкого, вольного мира» которой он, «не стесняясь», берет все, что ему нужно (по словам его последней возлюбленной Ольги Александровны). Животное (удовольствие брать) побеждает в Алеше творческое, а значит, человеческое (отдавать): и в любви, и в искусстве, и в общественной деятельности он не творец, а гедонист («влюблялся», «малевал», «бастовал» и т. д.). Оговорка повествователя, что в итальянских кабачках его «принимали за художника», не случайна: художником герой так и не стал.
Поскольку Алеша существует в биологическом, материальном пространстве, смерть для него есть фатум, черта, за которой исчезает все. Он не в состоянии определиться в отношении к смерти. Его странная реакция на внезапную гибель в море Анны Львовны глубоко непонятна ее сестре: «Алеша прожил еще некоторое время в Сочи, у Марьи Львовны. Он молчал, работал в винограднике, и по его виду Марья Львовна (…) не могла разобрать, какое на него произвела впечатление смерть сестры. (…) „Не понимаю нынешних людей, не понимаю, – шептала она горько, ложась спать…“ Алеша, впрочем, и сам мало что понимал. Он как-то притаился, глядел на солнце, море, на сады, и ему все казалось, что в ушах его свистит широкий, вольный ветер» [Т. 1. С. 521]. Позднее в Италии на вопрос Пети, вспоминает ли он Анну Львовну, отвечает: «Да. Она была, а теперь ее нет. Я теперь полон другим. Некогда, я, ведь, живу минуту. Раз, два и меня нет» [Т. 1. С. 542]. Кризисные моменты в своей жизни Алеша не воспринимает как знаки свыше, они лишь напоминают ему о неотвратимой судьбе и о том, что надо торопиться жить. После того, как он чуть не замерз в метель («заблудился»!), он с удвоенной энергией отдается «вихрю новой его судьбы» – роману с Анной Львовной – и не слышит увещеваний тетки о Божьем Промысле, об уроке, который был дан ему для изменения своей жизни.
Судьба Алексея в романе воплощает существование человека без Бога. Его роковая гибель во время подготовки к охоте (символический смысл которой как характеристики мироощущения героя несомненен – «погоня за жизнью») есть плата за невыполнение своего главного предназначения – он не стал «Божьим человеком».[544] Однако в романе утверждается представление о сложности, многомерности и «негарантированности» человеческой натуры, ее «невытекании» из природных и социальных закономерностей. В этом Зайцев созвучен русским религиозным философам и продолжает традиции Достоевского: «Человек всегда и по самому своему существу есть нечто большее и иное, чем все, что мы воспринимаем в нем, как законченную определенность, конституирующую его существо. Он есть в некотором смысле бесконечность, потому что внутренне сращен с бесконечностью духовного царства».[545] Связь с божественной первоосновой имеет и Алеша, не желающий, казалось бы, творчески напрягаться и строить в себе духовную вертикал.[546] Иначе откуда у него понимание своей сверхчеловеческой, метафизической безопорности? В разговоре со Степаном об эпикурействе он осознает несовместимость веры и наслажденчества [Т. 1. С. 460], а Петру признается: «Не люблю философствовать, но должен сказать, что в своей жизни не чувствую никакого фундамента. Да мне и самому недолго жить, я уж знаю. Мне что-то очень хорошо, видишь ли. И это, наверно, скоро кончится» [Т. 1. С. 542]. Речь здесь идет не о бытовом или социальном фундаменте, т. к. к реальной жизни Алеша приспособлен. Сбывшееся предчувствие героем своей скорой смерти «от какой-то глупости» свидетельствует о том, что человек связан с Богом, даже если он сам этого не осознает. Поэтому так важна сцена смерти героя, в определенном смысле разрушающая логику всей его предшествующей судьбы. После смертельного ранения Алеша живет еще сутки и, испытывая невыносимые физические страдания, совершенно не дорожит своей биологической жизнью, думает не о себе, а о других: он нежен с Ольгой Александровной, старается ее утешить, испытывает чувство вины перед ней и трактирщиком итальянцем, который оказался свидетелем происшедшего. Самолюбие и своеволие уступают место доброте и покаянию, умирает Алеша «спокойно».[547]
«Христианская» смерть создает «обратную перспективу» образу героя: его стихийный анархизм, недоверие к рацио, детскость и сиротство,[548] как и совершенно русское бесстыдство,[549] моделируют национальный тип Блудного сына, на время оторвавшегося от Истины. И тогда спокойствие Алеши перед смертью – это не столько отстаивание своей жизненной позиции, сколько обретенное смирение: на пороге смерти герой вверяет свое существование воле Божией.
Таким образом, даже личность и судьба Алеши, как и двух других героев романа, выявляют христианское представление автора о человеке: человек есть тайна, а потому всякое окончательное мнение о нем неистинно; настоящую опору человек может обрести только в Боге, в открытии божественного в своей душе, т. е. в творчестве и любви. Желание только брать (наслаждаться, получать удовольствие от жизни) губительно для самой личности. Дионисийская Алешина радость имеет в мире Зайцева право на существование (размышления Ольги Александровны о «разных правдах», если Алеша стоял на своей «до последнего издыхания»), но она конечна и не имеет будущего (только у одного Алеши из трех главных героев романа нет детей; это тем более важно, что роман завершается ожиданием ребенка Петром и Лизаветой, которые движутся по пути любви и самопожертвования).
В наиболее явном виде прием модернистской заданности, обусловленности персонажа культурной идеей, обнажает система женских образов. Все героини (Лизавета, Клавдия, Полина, Ольга Александровна, Анна Львовна, Верочка) являются воплощением соловьевского мифа о Вечной Женственности. Женщины в романе противопоставлены мужчинам в своей изначальной, почти инстинктивной способности любить, жертвовать собой, ощущать и порождать красоту. Герои-мужчины, чьи поиски носят рациональный характер, обнажают свою истинную суть именно во взаимоотношениях с женщинами, в ситуации «русский человек на рандеву». Вместе с тем женские судьбы продолжают варианты мужских: Анна Львовна также случайно гибнет, как Алеша; Клавдия сходит с ума не только от собственной экзальтированности, но и от деяний Степана; Лизавета, имеющая внутренний нравственный камертон, становится опорой для Пети и их ребенка (Петя понял, что должен держаться за нее). Принципиальна для автора и проблема деторождения. Самодостаточный и эгоцентричный Алеша не имеет детей, он скорее сам ребенок для Анны Львовны и Ольги Александровны (его возлюбленные, возможно, потому и называются по имени и отчеству). Степан, любящий все человечество, испытывает к своему «случайно рожденному» ребенку лишь чувство долга, и его дочь остается сиротой. Ожидаемый Петром и Лизаветой ребенок, напротив, является и мерилом зрелости их отношений, и тем будущим, ради которого стоит жить.
Пространство романа – это также пространство авторского сознания. Герои перемещаются из Петербурга в Москву, из города на природу, путешествуют в Италию, которая оказывается раем, духовной родиной. Авторские оппозиции Петербург – Москва, город – деревня (природа), Россия – Италия, земля – небо (звезда Вега) и образы-символы Италии и Голубой звезды пространственно оформляют лирический сюжет романа. Как уже говорилось, Италия Зайцева – символ вечности, красоты и культуры, страна любви. Именно туда все герои совершают бегство из социально неустроенной, катастрофичной России. Италия дарует им, пусть на короткое время, согласие с самим собой, покой и счастье. Биографические реалии итальянских путешествии Зайцева и его жены 1907–1908 годов легко узнаваемы [Т. 6. С. 256–288; 355–357]. Авторская поэтизация Италии «распределена» между главными персонажами, одинаково ее переживающими. Неслучайно итальянские сцены романа имеют статус самостоятельных лирических этюдов и выстраивают культурный (и литературный) сюжет романа, взаимодействующий с «христианским».
Семантически взаимодополнительные сюжетные линии трех героев в романе «Дальний край» воспроизводят сложный, непрямой путь автора в христианство, понятого как религиозно-культурный феномен.
Трансформация археосюжета инициации/становления в романе «Золотой узор» (1925)
Семантика персонифицированного (перволичного, Ich-Erzahlung) повествования предполагает утверждение подлинности изображаемого, «сознательно задаваемой персонажу автором» субъективности, «эффект оправдания» мыслей и поступков персонажа-повествователя. Структурно «я-повествование» всегда указывает на наличие персонифицированного повествователя, находящегося в том же повествовательном мире, что и другие персонажи.[550] Главная цель автора – раскрыть внутренний мир персонажа-повествователя – оживляет каноны автобиографического, «автопсихологического» повествования и «романа воспитания» (М. М. Бахтин), основанных на ситуации воспоминания.
В романе Б. К. Зайцева «Золотой узор», созданном в эмиграции в середине 1920-х годов, изображено становление личности главной героини Натальи Николаевны. Форма воспоминаний разделяет, расслаивает «я» повествователя на «я» описывающего (сознающего, оценивающего и интерпретирующего) субъекта и «я» – объект описания (субъект непосредственного действия или состояния в прошлом).[551] В повествовании героини переплетаются несколько целеустановок. Автор, делегируя свои повествовательные функции персонажу, достигает почти документальной достоверности: историческая правда передается посредством сознания субъекта – участника событий. Импрессионистическая манера изложения[552] с подробностями, «показами», объяснениями читателю, когда по принципу перечисления сосуществуют реальные события и их переживание героиней, воссоздает историческое время в факте биографии. Несмотря на то что и в этом романе Зайцева автобиографический план очень силен (смерть сына Веры Алексеевны, отъезд в эмиграцию, болезнь писателя перед отъездом и др.), образ главной героини – это персонифицированный Другой, персонаж, находящийся в отношении диалога с автором. Причудливые узоры судьбы героини совпадают с судьбой ее поколения и страны: «Годы наши шли легко (…), а мы, в молодости, в поглощенности самими нами, мало в жизнь чужую всматривались, в жизнь страны и мира, легкою, нарядной пеною которого мы были» [Т. 3. С. 29].
Однако социальное и историческое покаяние (о чем неоднократно писала и эмигрантская и современная критика) составляет лишь один из смысловых пластов романа. Для Зайцева-христианина и Зайцева-художника определяющими становятся моменты индивидуального религиозного прозрения и творческого самоосуществления человека, что отражено в самой структуре произведения. Композиционно роман делится на две контрастирующие части в соответствии с христианским житийным каноном. В первой воссоздается греховная жизнь ветреной «жизнелюбицы» Натальи, во второй – постепенное ее движение по пути духовного трезвления и покаяния. Духовный перелом, переход из одного состояния в другое обусловлен не столько изменениями в социуме и истории, сколько обстоятельствами внутренней жизни личности. Историческое время (первая мировая война, революция) становится фактом внешней биографии героини, усугубляющим происходящее в ее душе. Ценность самостоятельного, индивидуального постижения истины, христианское нежелание «судить» человека извне реализуется в исповедальном повествовании от первого лица в форме воспоминаний. Временная дистанция (о себе как другом) становится для героини основой акта самопознания и позволяет осмыслить собственные жизненные ошибки и завоевания, для автора – возможностью изнутри изобразить сложный процесс духовного взросления человека.
Если в романе «Дальний край» Алексей – несостоявшийся художник (профессия скорее характеризует его как человека, свободного от социума), то здесь принципиально важно, что Наталья Николаевна – певица. Поэтическое сознание героини выполняет функции лирического повествователя ранних произведений писателя; автор наделяет героиню своим видением красоты мира и способностью передать это в слове: «…Приятно было выйти на осенний воздух, видеть, как слетают пожелтевшие листы с тополей в садике, выпить на прощанье чашку шоколаду, запить рюмочкой ликера золотистого и в холодеющей заре, со вкусным запахом Москвы осенней катить мимо Андрония к Николо-Ямской. Вдалеке Иван Великий – золотой шелом над зубчатым Кремлем, сады по склону Воронцова поля закраснели, тронулись и светлой желтизной. И медная заря, узкой полоскою – на ней острей, пронзительней старинный облик Матери-Москвы, – заря бодрит, но и укалывает сердце тонкой раной» [Т. 3. С. 19]. Кроме того, Зайцева-христианина чрезвычайно занимает проблема творческой личности. Возможно ли существование «золотого узора» творческого дара (второй смысл названия) без страстности, стихийности и эротизма его носителя? Особое напряжение в жизни героини создается тем, что она несет «двойную ношу» – человека и художника. Всегда ли творчество божественно и «освобождает» ли оно художника от человеческого греха? В романе изображены художники, служащие разному искусству (учителя Натальи Николаевны, ее подруги-певицы, художник Александр Андреевич), но в центре – путь начинающей певицы от наслаждения жизнью и искусством – к служению тому и другому.
Повествование певицы раскрывает сложность индивидуального пути к христианству творческой личности, и ретроспекция – удобный для этого прием. Прошлое оживает в саморефлексии героини. Однако аксиологическое несовпадение прошлых и настоящих оценок своей жизни не уничтожает для героини и автора ценности пережитого, опыта «неправедной жизни»: «далекая молодость» – «иной век», но и «не отречешься от нее» [Т. 3. С. 105]. Сложность авторского восприятия героини задана в самоидентичности субъекта речи: героиня помнит не только события и факты прошлого, но и «ощущения те», и переживает их вновь: она «все та же». Повествовательная задача героини не в том, чтобы оправдать свое прошлое «в свете настоящего зрелого сознания и понимания, обогащенного временной перспективой» (М. М. Бахтин), но в изображении своего прошлого сознания и понимания мира, отчего повествование приобретает внутреннюю диалогичность. Автор отстаивает правоту «чувствования» перед умозрительной правдой разума. Путь героини к христианской истине непрямой и долгий (в отличие от непротиворечивого движения к вере ее рационалистичного мужа Маркела), тем дороже ее победа над собой. «В самоидентичности само сознание ясно выражает себя не как самоотнесенность познающего субъекта, но как этическое самоутверждение ответственной личности. Индивидуальная личность проецирует себя в качестве кого-то, кто ручается за более или менее четко намеченную непрерывность более или менее сознательно освоенной истории жизни. В свете приобретенной им индивидуальности он желает быть идентифицированным и в будущем как личность, которую она из себя сделала».[553]
Героиня от природы наделена огромной жизненной энергией, с детства она была «удачницей», ей все давалось легко. Однако легкость в художественном мире Зайцева всегда обманчива. Эмоциональность, эксцентричность, тяга к новизне и красоте, витальная сила Натальи (казалось бы, все это черты творческой натуры) легко делают ее пленницей «змия страстей». «Чудо о Девице и Змие», на которое прозрачно проецируется судьба героини, входит в роман с образом ее друга и наставника Георгия Александровича Георгиевского.[554] Георгиевский несет себе (в удвоенном виде) традиционную для православия сумму смыслов образа Георгия Победоносца: он стоик («он тот, кто возделывает почву, или собственную плоть»; «умерен в выборе, и потому ему принадлежит вино вечной радости»); он защитник женщины и ее советник; «священный борец» за истину и великомученик.[555] Змий, овладевающий героиней, персонифицирован художником Александром Андреевичем, с которым Наталья уезжает в Париж, бросив семью. Шире – это вся ее богемная жизнь с полным набором чувственных удовольствий и страстей: романы, путешествия, карты, рулетка, охота. Не противостоит этому и пение (героиня исполняет романсы, «Уймитесь, волнения страсти»). Искусство для Натальи и ее спутника, известного художника, является средством наслаждения, эгоистического самоосуществления, свободы от каждодневных прозаических забот.[556] Квинтэссенцией земных и одновременно эстетических наслаждений героини становится роман с молодым пастушком Джильдо в Италии, куда она отправляется на деньги, выигранные в рулетку. Героиня погружается в атмосферу античного эроса, легко и «предельно беззаботно» отдается сладострастию, ощущает себя простонародной Венерой, вакханкой, менадой из Москвы. Но так же легко покидает и забывает «милого бога земель италийских», переходя к другому увлечению – охоте с сэром Генри. Изображение греховной жизни героини проецируется на «декадентский» (символистский) сюжет с мотивами опьянения, наслаждения, ухода от повседневности: музыка («верховное» искусство для символистов), свободная и однополая (отношения с Душей) любовь, карты, охота.
Георгиевский спасает Наталью из плена плотских радостей, противопоставляя им радости духовные: он занимается с ней историей, культурой, помогает полюбить Италию, Рим, побуждает продолжать обучаться пению (приглашает в учителя известного композитора Павла Петровича). Однако стоицизм учителя оказывается оборотной стороной эпикурейства ученицы. Георгиевский подвержен страстям не меньше, чем Наталья Николаевна, в которую он безответно влюблен, он только не дает им волю, поэтому он хорошо понимает Наталью и оправдывает ее («Вас развлекает это, значит так и надо» [Т. 3. С. 73]). Наталья, Георгиевский и сэр Генри («кинетический гедонист», по определению Н. Грота, получающий удовольствие от путешествий, постоянных перемещений с места на место) представляют в романе лишь разные полюса эвдемонизма. И все-таки влияние Георгиевского на Наталью перерастает рамки «земного» культурного учительства. Его образ двоится: он не только защитник женщины, мученик, пострадавший от новой власти, но и борец за истинную веру (Георгий Победоносец одолел дьявола силой креста). Даже его увлечение Сенекой указывает не только на принадлежность эпохе распада, но и на близость к христианству, несмотря на то, что герой, как и его кумир, кончает жизнь самоубийством.[557] Георгиевский становится для Натальи (в самом имени которой для автора заключен вполне определенный смысл – «тайная христианка»[558]) духовным воспитателем, подготавливающим ее дальнейшее нравственное развитие: «В свободные (от пения. – М. X.) часы ко мне являлся Георгий Александрович, и мы отправлялись по святым местам – в станцы Рафаэля, на торжественные службы в катакомбы, или ехали по – via Flaminia, любоваться Тибром и горой Соракто. Георгий Александрович был предупредителен и ласков, но какая-то легчайшая, прозрачная перегородка разделяла нас. Мне представлялось, что теперь он мой учитель, в высшем смысле. Я покорно пересматривала древние монеты, ездила к копиисту катакомбной живописи, работавшему в Риме много лет, читала толстые тома Вентури и Марукки» [Т. 3. С. 66].
Духовный перелом в героине совершается все же не от полноты наслаждений (духовных и физических), интеллектуального напряжения или служения искусству. Для автора возможен лишь один путь кардинального духовного изменения – через религию.[559] Внезапное пробуждение чувства вины и осознания долга перед близкими происходит во время литургии, когда Наталья Николаевна впервые ощущает бессмысленность своего существования: «Да, вот Ты, Боже, в нежном свете ощущаю Тебя, я, предстоящая со своими слабостями, суетой, легкомыслием моим, но сейчас сердце тронуто, перед Твоим лицом я утверждаю веру голосом несильным, но бледнею, слезы на моих глазах (…). Я вдруг впервые, с болью и до слез мучительно почувствовала – где же мой мальчик? Почему он не со мной, не слушает литургию, не любуется вот этой славой света? Да и кто же я? Почему здесь сижу, бросив семью, родину, мужа, отца, сына?» [Т. 3. С. 78].
Однако автору необходим и авторитет великого классика, опора на традицию в мотивации происходящего в героине мировоззренческого перелома, Религиозное перерождение исполнительницы литургии опосредуется аллюзией на литературный источник – «Размышления о Божественной литургии» Н, В, Гоголя: «Действие Божественной литургии над душою велико: зримо и воочию совершается, в виду всего света, и скрыто (…) Душа приобретает высокое настроение, заповеди Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово благо и бремя легко (…) Она нечувствительно строит и создает человека (…) Но если Божественная литургия действует сильно на присутствующих при совершении ее, тем еще сильнее действует на самого совершителя»,[560] После исполнения литургии Наталья Николаевна не может оставаться за границей. Она возвращается на родину, где «все всерьез» и наступил «иной век», где начинается для нее период «повзросления». Однако абсолютного, чудесного перерождения героини не происходит. В романе последовательно утверждается идея сложности религиозно-нравственного восхождения человека от жажды счастья к осознанию своего долга. Маятник души героини продолжает раскачиваться от одного полюса к другому, она лишь в начале пути и по-прежнему переживает периоды богооставленности. Наталья Николаевна возвращается в семью и становится реальной жизненной опорой для мужа, сына и отца, делит все тяготы жизни со своими близкими и страной (работает в госпитале, защищает отца от произвола крестьян, помогает мужу освоиться с новой для него профессией военного, занимается воспитанием сына). Но и увлекается Душей, ездит к соседям Немешаевым, где веселье, танцы, вино, желание забыть о тяготах жизни; в определенный момент отдаляется от Маркела, ждет большой любви. Она по-прежнему панэстетически приемлет всю свою жизнь, ибо жизнь сложна, и без поражении и спадов не было бы побед и подъемов: «Вот жизнь! Вот блеск, любовь, и красота и наслаждение и трепет… Пусть! Трагедия, но не боюсь» [Т. 3. С. 91]. В тяжелых испытаниях холода, голода, тюрьмы, болезней именно жизненная сила героини, ее цельность и бесстрашие, особая энергия и красота, которые она излучает, помогает другим людям выжить. Натальина «погруженность в мирское волненье» (Н. В. Гоголь) – это реальное делание добра, которое противостоит «книжной» религиозности ее мужа. Вместе они составляют два пути движения к христианству. Героиня возвышается над отчаянием каждодневным земным деланием,[561] это как раз та свобода, которая, по мнению Л. Шестова, противостоит греху. Героиня стоически переносит все трудности, которые посылает жизнь, не случайно ее помощником вновь оказывается Георгиевский. Арест Натальи и Георгиевского, ожидание смерти в тюрьме, встреча с итальянским знакомым Куховым, ставшим при новой власти следователем и вершителем их судеб, «закрепляет» их внутреннюю духовную близость. Самоубийство Георгиевского, греховное с христианской точки зрения, в логике его жизни и мировоззрения глубоко оправданно: единственно возможная победа над обстоятельствами заключается для него в том, чтобы в них не жить. Последним испытанием для Натальи и ее мужа становится гибель их сына Андрея, обвиненного в контрреволюционном заговоре. Символическое несение креста на его могилу сопровождается глубокими духовными откровениями, которые невозможны без величайших страданий: «Маркел шел, слегка сгибаясь под крестом. Да, вот она, Голгофа наша (…) Я подошла, взяла у него крест. Могильщик свернул лопатой мерзлый ком. „Тяжело будет, не донесть“. По крест мне показался даже легок. Было ощущенье – пусть еще потяжелей, пусть я иду, сгибаюсь, падаю под ним, так ведь и надо, и пора, давно пора мне взять на плечи слишком беззаботный сей крест» [Т. 3. С. 184]. Путь к Богу открывается для героев Зайцева только личной жертвой. Лишь отдав главное и последнее, они приходят в церковь, где находят свет и тепло среди мрака и ужаса происходящего вокруг. Таким образом, логика пути главных героев романа утверждает христианское представление о человеческой жизни как крестном пути, на котором страдания необходимы. Е. Трубецкой так писал об этом: «Одно из величайших препятствий, задерживающих духовный подъем, заключается в том призрачном наполнении жизни, которое дает житейское благополучие. Комфорт, удобство, сытость и весь обман исчезающей, смертной красоты – вот те элементы, из которых слагается пленительный мираж, усыпляющий и парализующий силы духовные. Чем больше человек удовлетворен здешним, тем меньше он ощущает влечение к запредельному. Вот почему для пробуждения бывают нужны те страдания и бедствия, которые разрушают иллюзию достигнутого смысла. Благополучие всего чаще приводит к грубому житейскому материализму. Наоборот, духовный и в особенности религиозный подъем обыкновенно зарождается среди тяжких испытаний».[562]
Пережив личную трагедию, героиня размышляет о силе жизни и неистребимом стремлении человека к счастью, радости над скорбью. Опыт ошибок и страданий помогает героям осознать неслучайность испытаний, произошедших с ними и страной. Они просят друг у друга «отпущения всех взаимных прегрешений» и понимают, что должны жить достойнее и чище, чтобы «заслужить перед отошедшими»; идти своим путем и «служить друг другу каждый тем даром, какой получил». Наталья возвращается к пению, Маркел – к науке. В Италии, стране солнца, радости и культуры, героиня ощущает, что жива, все еще чувствует красоту мира и способна любить: «И пусть за горизонтом моя Россия, и могилы сына и отца, сладостней, еще мучительно-пронзительней люблю блеск солнца на мостовых Рима, плеск его фонтанов, голубые океаны воздуха, сверканье ласточкиного крыла и легендарную полоску моря. И я вздохну, я улыбнусь всему – чрез тонкую вуаль слезы» [Т. 3. С. 198].
Финал моделирует значимость и духовной «вертикали», и витальной «горизонтали» в «знаке креста» человеческого бытия. В письме Маркела Наталье, которое она воспринимает как «послание» старшего, своего нового учителя, воплощается устремленность человека к Богу, к истинному существованию и полноте духовной радости: «Нам предстоит жить и бороться, утверждая наше. И сейчас особенно я знаю, (…) важнейшее для нас есть общий знак – креста, наученности, самоуглубления. Пусть будем в меньшинстве, гонимые и мало видные. Быть может, мы сильней как раз тогда, когда мы подземельней. (…) Желаю лишь тебе сияния Вечного Солнца над путем…» [Т. 3. С. 198]. Путешествие Натальи с учителем музыки Павлом Петровичем по святым местам Рима подтверждает важность культуры, земного существования человека и неостановимость потока жизни. Мешочек с катакомбной землей, который героиня выносит из галереи св. Каллиста, – это прах ее «дальних собратьев», «дыхание вечной жизни»:«Пустынна быта Аппиева дорога. Мы шли по камням ее тысячелетним, и тысячелетние могилы нас сопровождали. У часовенки Quo vadis я остановилась. Опустилась на землю, поцеловала след стопы Господней. Все кипело и клубилось во мне светлыми слезами. Павел Петрович поднял меня с земли.
– Ну, будет. Ну, поплакали, довольно, – а спустя минуту он прибавил: – завтра жду вас за роялем. В три. Пожалуйста, не опоздайте» [Т. 3. С. 199].
Италия, в которую героиня возвращается, обогащенная религиозным опытом, становится в художественном мире романа идеальным пространством, где преодолеваются противоположности земного и небесного, телесной красоты древней Эллады и следа стопы Господней, искусства и веры.
Персонифицированное повествование в творчестве Б. К. Зайцева проецирует реалистическую картину мира («правда факта» и «достоверность переживания») и позволяет проследить становление христианского мировоззрения автора в индивидуальном, неповторимом проявлении. «Я»-повествование фиксирует, запечатлевает историческое время в бытии личности; утверждает «плюрализм» чувствования, идею «разных правд»: труден путь к Богу человека, наделенного «повышенным чувством жизни» – творческим даром (И. А. Бунин). Аппиева дорога Зайцева – одновременно символ античных «седых и вечных божеств языческих» и христианского пути. Так в зрелом творчестве Зайцева окончательно кристаллизуется представление о человеческом бытии как «знаке креста». Героиня проходит путь от сосредоточенности на земных удовольствиях к обретению Бога, «радости воскресения» для истинной жизни. Оправдание в кресте земной линии,[563] преодоление противоположности между витализмом и любовью к Богу достигается в жизни певицы Натальи Николаевны служением истинному искусству, одновременно горнему и дольнему. Власть природного, чувственного, как и эстетического, культурного, остается сильной и в позднем, христианском творчестве Зайцева.[564] Видимо, поэтому Г. Струве назвал его религиозность «более легкой и светлой», чем у Шмелева: «Религиозность Зайцева благостнее, примиреннее, умудреннее, она окрашена в те же лирические тона, что и все его творчество».[565] Это высказывание содержит не только оценку религиозности Зайцева, но и его творчества, стремящегося соединить земной мир с божественным. Пафос этого слияния становится завершающим творчество Зайцева: «Да будет благословенно искусство. Да будут прославлены мирной славой художники, верно и честно творившие. Да будет благословенна Италия, родина их, страна доброго и ласкового народа, простая и очаровательная… А если всего не увидел (…), то возблагодарите Бога за то, что довелось видеть. Еще раз вспомни Апостола: – За все благодарите».[566]
Итак, сюжетная динамика прозы Б. К. Зайцева воплощает движение авторского сознания от языческого к христианскому мироотношению. Мифологический (языческий) сюжет несет в себе глубинные архаические структуры инициации: почти в каждом произведении Зайцева легко обнаруживаются четыре фазы становления героя – «обособление», «искушение», «испытание смертью» (порог), «преображение» (В. И. Тюпа). Со временем археосюжет конкретизируется как христианский сюжет пути и тяготеет к жанровому канону романа воспитания.
«Языческий» и «христианский» сюжеты Зайцева не имеют строгой религиозной структуры и семантики, а претерпевают изменение благодаря философским, культурным, литературным, автобиографическим аллюзиям, т. е. получают эстетическое основание. Этот культуро– и литератруроцентризм реализуется, в первую очередь, в культурном пространстве сюжета обретающего веру героя-творца (ученого, художника), для которого без Бога истинное творчество невозможно (Петр, Маркел, Наталья Николаевна, Глеб и др.). В позднем творчестве Зайцева в литературных биографиях Жуковского, Тургенева, Чехова проблема взаимообусловленности творчества и веры получит свой завершенный вид. На уровне авторского сознания использование ограниченной сюжетной схемы, тяготеющей к языческой и христианской моделям и сопровождающим их константным текстам культуры, ее повторяемость и демонстративность, позволяет говорить о рефлексивности сюжетного повествования Зайцева, глубоко укорененного в национальной религиозной (православное христианство), связанной с ней религиозно-философской (русские религиозные философы и, в первую очередь, В. Соловьев) и литературной (фольклор, античность, классика XIX века, романтическая и символистская линии) традициях.
Настойчивое следование традиции в неклассическую эпоху рассматривается исследователями как один из вариантов кризиса авторства: «…Однозначная апологетика классических форм творческой рефлексии, догматическое следование критериям художественности, сложившимся в XIX веке (так называемая «учеба у классиков»), – это тоже приметы кризиса: эвристическая рефлексия поиска перерождается в квазинаучную рефлексию обоснования».[567] Культуроцентричный сюжет и лирическое повествование Зайцева становятся культур-сохраняющим инструментом, направленным на закрепление вечных ценностей (истины, добра и красоты – Бога) и традиционного, классического типа авторства.
Заключение
Изучение литературоцентричной поэтики прозы русских писателей первой трети XX века Е. Замятина, Б. Зайцева, М. Осоргина, Н. Берберовой открывает семиотический механизм сохранения культуры и конкретизирует понимание исторически изменчивых вариантов саморефлексии литературы. Русская «неотрадиционалистская» проза эпохи социальных и культурных разрушений, объединенная идеей сохранения культуры, сформировала антиэнтропийные принципы организации художественного мира, позволяющие сохранить в литературоцентричных формах самоценность эстетической реальности от деструктивного воздействия социального хаоса.
Проблематизация процесса перехода из жизни в текст и из текста в жизнь, свойственная в этот период как модернистскому, так и реалистическому типам творчества, порождала сходство индивидуальных поэтик эстетически разных писателей (метапроза Замятина, Осоргина и Берберовой, мифологический сюжет Зайцева, Осоргина и Замятина, культуро– и литературоцентричный сюжет в творчестве всех названных авторов). Несмотря на разную функциональную семантику метатекстовых структур в творчестве модернистов и реалистов (в первом случае утверждается приоритет эстетической реальности перед жизненной, во втором – «текст равен жизни»), «повышенная литературность» прозы способствует эстетизации изображаемой реальности, преодолевающей классический принцип следования «правде жизни». Эстетизация не только утверждала реальность творчества как имеющую самостоятельный статус и единственно подлинную, но и требовала «новой утопии» – христианской (у Зайцева), «природокультурной» (у Осоргина), собственно творческой, «писательской» (у Замятина и Берберовой). Литературность обнаруживает себя как еще один (помимо традиционных – метода, стиля, жанра) закон искусства, дающий основание для сопоставления разных эстетических феноменов.
Наследие Е. И. Замятина представляет собой наиболее полный образец саморефлексии литературы своего времени. Публицистика, критические статьи и лекции писателя образуют вариант риторической рефлексии, сопровождающей художественное творчество. Повествовательные формы сказа, стилизации, использующиеся в классическом авторстве с целью достоверного реалистического изображения действительности «изнутри» сознания близкого изображаемой среде субъекта, преобразуются Замятиным в модернистский тексто-порождающий принцип. Проза Замятина имплицитно рефлексирует по поводу собственной повествовательной организации; способами такой рефлексии становятся литературоцентричные формы орнаментального сказа, стилизации, персонального повествования, «романа о романе», «обеспечивающие» мифологический модернистский сюжет.
Наличие избыточно «литературных» повествовательных форм в художественной системе Замятина (от орнаментального сказа и разных типов стилизации – до «романа в романе») свидетельствует о становлении метахудожественного повествования, в котором «сюжет о жизни» неизменно проецируется на «сюжет о творчестве», о противоречиях творческого сознания.
Два экспериментальных в жанровом смысле романа писателя (антиутопия «Мы» и исторический роман «Бич Божий») являются и метароманами, определяющими (наряду с творчеством В. В. Набокова, О. Э. Мандельштама, М. А. Булгакова) становление метапрозы в XX веке. Всесильности природного закона превращения энергии в энтропию Замятин противопоставляет неразрывность диалогической культурной цепи: герои его романов в катастрофических обстоятельствах создают свои тексты об истории, которые ее «переживут». Метароманы Замятина подтверждают глубинную ориентацию автора на поиск способов воплощения литературной саморефлексии.
Об актуальности литературоцентричного повествования в русской прозе первой трети XX века свидетельствует обращение в поздний период творчества к метароманной структуре М. А. Осоргина. Несмотря на то что «последовательный реалист» Осоргин использует метароманное повествование в проективных целях классического искусства, сама структура «романа о романе» сигнализирует об усилении и сохранении второй составляющей в авторской философии природокультуры. Анализ метароманов Замятина и Осоргина подтверждает типологию двух разновидностей метароманной структуры: модернистский метароман Замятина с персонажем-писателем, создающим альтернативный данному произведению текст, продолжает романтический вариант кризиса авторства; реалистический тип кризиса авторства в романе Осоргина связан с изображением героя, бросающего вызов авторскому завершению, стремящегося «жизненным поступком отменить эстетическую деятельность, направленную на него извне» (Д. П. Бак).
Настойчивое отстаивание прозой эмиграции ценностей утраченной культуры и традиционного классического авторства реализуется в культурной трансформации археосюжета Б. К. Зайцева и «готового» «сюжета воспитания» М. А. Осоргина. Намеренное эксплуатирование авторами одних и тех же сюжетных моделей сообщает последним статус литературного приема. «Готовые» сюжеты и трансформирующие их семантику константные тексты культуры, активизирующие в читательском сознании пучок генотекстов, эстетизируют («поэтизируют») изображенную в произведении событийную реальность и встраивают ее в пространство культуры.
Литературоцентричный сюжет Н. Н. Берберовой, вырастающий на основе готовых сюжетов (инициации, «отцов и детей») и известных сюжетных схем литературы XX века, становится диалогическим полем взаимодействия разных мировоззренческих и эстетических концепций – модернистской концепции диаспоры и авангардной – метрополии. Завершенность и определенность культуроцентричной авторской концепции сообщает метатекстовая структура, утверждающая панэстетическое существование человека в пространстве творчества. Метапроза Берберовой выражает поиск новой «литературности» в прозе «человеческого документа» молодого поколения эмиграции: на смену внутритекстовой избыточности словесного уровня, тропа – метафоры, языкового «бисера» и «завитушек» (А. Бем) – приходит скрытая, но также выполняющая функции моделирования эстетической реальности сюжетная литературность.
Самосознание прозы Замятина, Зайцева, Осоргина, Берберовой имеет культуросохраняющую, «логоцентричную» направленность и несет в себе контравангардный заряд: литературоцентричная поэтика повествования и сюжета становится способом собирания, сохранения утраченных национально-культурных ценностей и осмысления литературой перспектив своего развития.
Литература
Абашев В. В. Осоргин и Набоков: вероятность встречи // Михаил Осоргин: Жизнь и творчество. Мат-лы первых Осоргинских чтений / Пермский ун-т. Пермь, 1994.
Абашева М. П. Литература в поисках лица (русская проза конца XX века: становление авторской идентичности). Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2001.
Авдеева О. Ю. «Природа мертвой не бывает…» (О книге Михаила Осоргина «Происхождение зеленого мира») // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский ун-т. Пермь, 2006.
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977.
Агеносов В. В. Литература русского зарубежья (1918–1996). М.: Терра. Спорт, 1998.
Адамович Г. Одиночество и свобода. СПб., 1993.
Амусин М. «Ваш роман вам принесет еще сюрпризы» (О специфике фантастического в «Мастере и Маргарите») // Вопр. литературы. 2005. Март-апрель. С. 111–123.
Андреева В. А. Литературный нарратив: текст и дискурс. СПб.: Норма, 2006.
Антология даосской философии. М., 1994.
Атарова К. Н., Лесскис Г. А. Семантика и структура повествования от первого лица в художественной прозе // ИАН СЛЯ. Т. 35. 1976. № 4.
Байбурова Р. М. Московские масоны эпохи Просвещения – русская интеллигенция XVIII века // Русская интеллигенция. История и судьба. М., 2000.
Бак Д. П. История и теория литературного самосознания: творческая рефлексия в литературном произведении. Кемерово: КемГУ, 1992.
Бакунина Т. А. Знаменитые русские масоны. Русские вольные каменщики. М., 1991.
Бальбуров 9. А. Поэтика лирической прозы (1960–1970 годы). Новосибирск, 1985.
Бахтин М. М. Записи лекций по истории русской литературы // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 2. М.: Русские словари, 2000.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
Белый А. Проблемы творчества. М.: Советский писатель, 1988.
Беляева Н. В. Поэтика маски в русском романе: интертекстуальные аспекты // Русская литература. Исследования: Сб. науч. тр. Вып. VI. Киев: Логос, 2004. С. 38–53.
Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи: Сб. ст. о русской интеллигенции. Из глубины: Сб. ст. о русской революции. М., 1991.
Берман Б. И. Читатель жития // Художественный язык Средневековья. М., 1982. С. 159–183.
Библейско-биографический словарь. М., 2001.
Библер В. С. Бахтин и всеобщность гуманитарного мышления // Механизмы культуры. М.: Наука, 1990. С. 248–266.
Блок А. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. Л.: Художественная литература, 1982.
Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1978.
Бонецкая Н. К. О стиле философствования М. М. Бахтина // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 1 (14). С. 5–48.
Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. М., 1990.
Бройтман С. Н. Историческая поэтика. М.: РГГУ, 2001.
Виноградов В. В. Избранные труды: О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980.
Винокур Г. О. Филологические исследования: лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1990.
Волошин М. Лики творчества. М.: Наука, 1989.
Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л.: Прибой, 1928.
Воробьева С. Ю. Концепция мира и человека в повести Е. Замятина «Островитяне» // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. XII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2004. С. 312–318.
Воробьева С. Ю. Поэтика диалогического в прозе Е. И. Замятина 1910-1920-х годов: Автореф. дис… канд. филол. наук. Волгоград, 2001.
Воробьева С. Ю. Роман Е. Замятина «Мы»: поэтика диалогического // Русский роман XX века: духовный мир и поэтика жанра: Сб. науч. трудов. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2001. С. 154–158.
Воронский А. К. Евгений Замятин // Воронский А. К. Литературно-критические статьи. М.: Советский писатель, 1963. С. 85–112.
Вязова Е. С. Желтый цвет: от декаданса до авангарда // Символизм в авангарде. М.: Наука, 2003. С. 69–82.
Галимова Е. Ш. Поэтика повествования русской прозы XX века (1917–1985): Автореф. дис… докт. филол. наук. М., 2000.
Гаспаров М. Л. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность // Русская интеллигенция. История и судьба. М., 2000.
Гей Н. К. Проза А. С. Пушкина. Поэтика повествования. М.: Наука, 1989.
Геллер Л. Апология беспорядка. Е. И. Замятин и постмодернистские теории хаоса // Евгений Замятин и культура XX века. Исслед. и публ. СПб.: Изд-во Рос. нац. б-ки, 2002. С. 156–168.
Геллер Л. Евгений Замятин: уникальность творческого почерка (?) // Кредо. Тамбов: Изд-во ТГУ, 1995. С. 10–21.
Геллер Л. Слово мера мира. Статьи о русской литературе XX века. М., 1994.
Генис А. «Серапионы»: опыт модернизации русской прозы // Звезда. 1996. № 12. С. 204–207.
Гоголь Н. В. Размышления о Божественной литургии. М., 1990.
Голубева О. Д. «Автографы заговорили…» М., 1991.
Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI–XIX веков. М.: Московский рабочий, 1991.
Гольд Р. Мнимая и истинная критика западной цивилизации в творчестве Е. И. Замятина. Наблюдения над цензурными искажениями пьесы «Атилла» // Russian studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. Т. II. СПб., 1996. № 2. С. 322–350.
Гольдт Р. Религиозный кризис и протест против мира отцов // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. III. Тамбов: Изд-во ТГУ, 1997. С. 28–33.
Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М., 1980.
Гройс Б. Рождение социалистического реализма из духа русского авангарда // Вопр. литературы. 1992. Вып. I. С. 42–61.
Грушко Е., Медведев Ю. Словарь славянской мифологии. Н. Новгород, 1995.
Грюбель Р. Автор как противо-герой и противо-образ // Автор и текст: Сб. ст. / Под ред. В. М. Марковича, В. Шмида. СПб., 1990. С. 354–386.
Грякалова Н. Ю. От символизма к авангарду. Опыт символизма и русская литература 1910-1920-х годов (Поэтика. Жизнетворчество. Историософия): Дис… докт. филол. наук. СПб., 1998.
Гулиус Н. С. Прием мистификации как поэтика текстопорождения в русской прозе 1980-1990-х годов (А. Битов, М. Xаритонов, Ю. Буйда): Дис… канд. филол. наук. Томск, 2006.
Гюнтер X. Железная гармония (государство как тотальное произведение искусства) // Вопр. литературы. Вып. I. 1992. С. 27–41.
Давыдова Т. Т. О современном изучении модернизма в прозе 1920-х годов (на примере «Рассказа о самом главном» Е. Замятина) // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. VIII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. С. 85–92.
Давыдова Т. Т. Тема «заката Европы» в дилогии Е. Замятина об Атилле // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. VII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. С. 94–104.
Давыдова Т. Т. Творческая эволюция Евгения Замятина в контексте русской литературы 1910-1930-х годов: Автореф. дис… докт. филол. наук. М., 2001.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1, 2. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1955.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1895.
Демидова О. Р. Метаморфозы в изгнании: Литературный быт русского зарубежья. СПб.: Гиперион, 2003.
Десятов В. В. Фридрих Ницше в художественном и экзистенциальном мире Н. С. Гумилева: Дис… канд. филол. наук. Томск, 1995.
Десятов В. «Мы, Адамы» (Замятин и акмеизм) // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. V. Тамбов: Изд-во ТГУ, 1997. С. 94–104.
Долгополов Л. К. Е. Замятин и В. Маяковский (к истории создания романа «Мы») // Русская литература. 1988. № 4. С. 182–185.
Долгополов Л. К. Символика личных имен в произведениях А. Белого // Культурное наследие Древней Руси. М.: Наука, 1976. С. 348–354.
Доронченков И. А. Об источниках романа Е. Замятина «Мы» // Русская литература. 1989. № 4. С. 188–199.
Доценко С. Обезвелволпал А. М. Ремизова как зеркало русской революции // Europa orientalis. 1997. № 2. С. 305–319.
Драгунова Ю. А. Проза Б. К. Зайцева 1901–1921 годов: Автореф. дис… канд. филол. наук. Тверь, 1997.
Дубин Б. В. Быт, фантастика и литература в прозе и литературной мысли 20-х годов // Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 159–172.
Дубин Б. В. Литература как фантастика: письмо утопии // Дубин Б. В. Слово – письмо – литература. Очерки по социологии современной культуры. М.: НЛО, 2001. С. 20–41.
Евгений Замятин и культура XX века: Исслед. и публ. СПб.: Изд-во Рос. нац. б-ки, 2002.
Евсеев В. Н. Xудожественная проза Е. И. Замятина: Творческий метод. Жанры. Стиль: Автореф. дис… докт. филол. наук. М., 2001.
Ерыкалова И. Е. К истории создания пьесы Е. И. Замятина «Атилла» // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. III. Тамбов: Изд-во ТГУ, год издания?? С. 137–158.
Ерыкалова И. Е. О рукописи романа Е. И. Замятина «Бич Божий»: из парижского архива писателя // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. IX. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. С. 159–175.
Ерыкалова И. Е. Рим в романе Е. И. Замятина «Бич Божий» // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. XII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2004. С. 378–384.
Желтова Н. Ю. Проза Е. И. Замятина: пути художественного воплощения русского национального характера. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2003.
Жирмунский В. Вопросы теории литературы. Л., 1928.
Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-миней св. Дм. Ростовского. Кн. 3, 4, 5. М., 1903–1905.
Жукова Н. Н. Проблема становления творческой личности в художественных биографиях Б. К. Зайцева: Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1993.
Завгородняя Н. И. Образ художника в беллетризованных биографиях Б. К. Зайцева «Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов»: Автореф. дис… канд. филол. наук. Самара, 1997.
Зайцев Б. К. Собр. соч.: В 11 т. М.: Русская книга, 1999.
Замятин Е. И. Атилла // Современная драматургия. 1990. № 1.
Замятин Е. И. Записные книжки. М.: Вагриус, 2001.
Замятин Е. И. Избранные произведения. М.: Советский писатель, 1989.
Замятин Е. И.: Материалы к библиографии. Ч. I. Тамбов: Изд-во ТГУ, 1997.
Замятин Е. И.: Материалы к библиографии. Ч. II. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000.
Замятин Е. И. «Мы»: Романы, повести, рассказы, сказки. М.: Современник, 1989.
Замятин Е. И. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1, 2. М.: Русская книга, 2003. Замятин Е. И. Сочинения. М.: Книга, 1988.
Замятин Е. И. Техника художественной прозы // Литературная учеба. 1988. Кн. 5, 6.
Замятин Е. И. Я боюсь. М.: Наследие, 1999.
Захарова В. Т. Импрессионистические тенденции в русской прозе начала XX века: Автореф. дис… докт. филол. наук. М., 1995.
Зюлина О. В. Повествовательная структура прозы Е. И. Замятина: Дис… канд. филол. наук. М., 1996.
Иванов Вяч. Вс. Родное и вселенское. М., 1994.
Иванов Вяч. Вс. Ителлигенция как проводник в ноосферу // Русская интеллигенция. История и судьба. М., 2000.
Иванов Вяч. Вс. Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики // Диалог. Карнавал. Xронотоп. 1996. № 3 (16). С. 5–67.
Иванов Вяч. Вс. Монтаж как принцип построения в культуре первой половины XX века // Монтаж: Литература. Театр. Кино. М., 1988.
Иванова Т. В. Северный цикл Е. И. Замятина («Север», «Африка», «Ела») // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. XII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2004. С. 297–305.
Иезуитова Л. В мире Бориса Зайцева // Зайцев Б. Земная печаль. Л., 1990.
Ильев С. П. Русский символистский роман. Киев: Лыбидь, 1991. Исаев С. Г. «Сознанию незнаемая мощь.» Поэтика условных форм
в русской литературе начала XX века. Великий Новгород: Нов. ГУ, 2001.
Исупов К. Г. Русская эстетика истории. СПб.: Изд-во ВГК, 1992.
Казаркин А. П. Русская литературная критика XX века. Томск: Изд-во ТГУ, 2004. Как мы пишем. М.: Книга, 1989.
Камильянова Ю. М. Типы сюжетного повествования в прозе Б. К. Зайцева 1900-1920-х годов: Автореф. дис… канд. филол. наук. Екатеринбург, 1998.
Каспэ И. Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
Кашпур О. Н. Жанр литературного портрета в творчестве Б. К. Зайцева: Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1995.
Киклевич А. Я. Язык – личность – диалог // Диалог. Карнавал. Xронотоп. 1993. № 1 (2). С. 9–20.
Кириллова И. В. А. Куприн – Е. Замятин: «Поединок» – «На куличках» – диалог или полемика? // Творческое наследие Евгения Замятина: Взгляд из сегодня. Кн. X. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. С. 26–34.
Кихней Л. Г. Акмеизм: Миропонимание и поэтика. М.: МАКС Пресс, 2001.
Кожевникова Н. А. Из наблюдений над неклассической («орнаментальной») прозой // ИАН СЛЯ. 1976. Т. 35. № 1. С. 55–66.
Кожевникова Н. А. О типах повествования в советской прозе // Вопросы языка современной русской литературы. М.: Наука, 1971. С. 97–163.
Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской прозе XIX–XX веков. М.: Ин-т русского языка РАН, 1994.
Козьменко М. В. Проблемы стилизации в русской прозе десятых годов XX века: Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1988.
Кольцова Н. З. «Мы» Евгения Замятина как неомифологический роман: Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1997.
Комлик Н. Н. Мотивная структура рассказа Е. Замятина «Ела» и ее роль в воплощении особенностей национального характера // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. VIII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. С. 162–172.
Комлик Н. Н. Мифопоэтическое сознание и его проявление в образной структуре «Рассказа о самом главном» // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. VIII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. С. 92–116.
Комлик Н. Н. Русская провинция и русский человек в прозе Е. И. Замятина: поэтика воплощения. Курс лекций. Елец: Изд-во ЕГУ, 2003.
Комлик Н. Н. Русский эрос в народной эстетике и творчестве Е. Замятина (на материале рассказа «О том, как исцелен был инок Еразм») // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. VII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. С. 85–94.
Комлик Н. Н. «…Согласно истории Иловайского…» // Комлик Н. Н. Лебедянский путеводитель: Учеб. пос. Елец: ЕГУ, 2003. С. 33–54.
Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001.
Кондаков И. В. К феноменологии русской интеллигенции // Русская интеллигенция. История и судьба. М., 2000.
Конорева В. Н. Жанр романа в творческом наследии Б. К. Зайцева: Автореф. дис… канд. филол. наук. Владивосток, 2001.
Кривонос В. Ш. «Мертвые души» Гоголя и становление новой русской прозы. Проблемы повествования. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1985.
Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 1, 2. М.: Олимп, 2002.
Кузнецова А. А. Идейное и художественное своеобразие мемуарной прозы второстепенных писателей русской литературной эмиграции (Н. Берберова, И. Одоевцева, В. Яновский): Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 2005.
Кустова Г. И. Языковые проекты Вячеслава Иванова и Андрея Белого: философия языка и магия слова // Вячеслав Иванов. Архивные мат-лы и исслед. М., 1999. С. 383–411.
Ланин Б., Боришанская М. Русская антиутопия XX века. М., 1994.
Ласунский О. Г. Михаил Осоргин: структура, качество и эволюция таланта // Михаил Осоргин: Жизнь и творчество: Мат-лы первых Осоргинских чтений / Пермский университет. Пермь, 1994.
Левин В. Проза начала века (1900–1920) // История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж. Нива и др. М.: Изд. Группа «Прогресс» – «Литера», 1995. С. 272–294.
Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм. Екатеринбург: Уральское книжное изд-во, 1997.
Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.
Ло Гатто 9. Мои встречи с Россией. М.: Круг, 1992.
Лобанова Г. И. Эволюция нравственного сознания «маленького человека» в романах М. Осоргина 1920–1030 годов: Дис… канд. филол. наук. Уфа, 2002.
Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Опыты. Литературно-философский сб. М.: Советский писатель, 1990. С. 137–173.
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф – имя – культура // Труды по знаковым системам. VI. Тарту: ТГУ, 1973. Вып. 308. С. 282–303.
Лучинский Г. Франк-масонство // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Т. XXXV (72).
Лядова Е. А. Историософская и структурно-поэтическая парадигма трагедии Е. И. Замятина «Атилла»: Автореф. дис… канд. филол. наук. Тамбов, 2000.
Мазаев А. И. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. М.: Наука, 1992.
Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М., 1993.
Манн Ю. Автор и повествование // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 431–480.
Мароши В. В. Ласточка в интертекстуальности и скрипции романа М. Осоргина «Сивцев вражек» // Михаил Осоргин: Жизнь и творчество: Мат-лы первых Осоргинских чтений / Пермский ун-т. Пермь, 1994.
Марченко Т. В. Творчество М. А. Осоргина 1922–1942: Дис… канд. филол. наук. М., 1994.
Масоны. История, идеология, тайный культ. М.: Вече, 2005.
Матич О. Суета вокруг кровати. Утопическая организация быта и русский авангард // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 80–84.
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1967.
Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Учен. зап. Тартуского ун-та. 1979. Вып. 459.
Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1, 2. М., 1982.
Михайлов О. Н. Зайцев // Литература русского зарубежья. 1920–1940. Вып. 2. М., 1999.
Мущенко Е. Г., Скобелев В. П., Кройчик Л. Е. Поэтика сказа. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1978.
Неелов Е. М. Натурфилософия русской волшебной сказки. Петрозаводск: ПГУ, 1989.
Некрасова Е. Н. Проблема человека в русском экзистенциализме (этический аспект) // Человек как философская проблема: Восток – Запад. М., 1991.
Николина Н. А. Поэтика русской автобиографической прозы: Учеб. пос. М., 2002.
Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990.
Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной прозы А. Белого. М.: Наука, 1990.
Обатнина Е. «Обезьянья Великая и Вольная палата». Игра и ее парадигмы // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 185–217.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999.
Оксенов А. В. Народная поэзия. Былина, песни, сказки, пословицы, духовные стихи. Повести. С очерками главнейших отделов русской народной поэзии, объяснительным словарем и образцами напевов народных песен. СПб., 1908.
Освальд Шпенглер и закат Европы. М.: Берег, 1922.
Оссовский О. Е. Маска авторская // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: НПК «Интелвак», 2001. С. 511.
Осоргин Мих. Вольный каменщик. М.: Московский рабочий, 1992.
Осоргин М. Евгений Замятин // Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 1. М.: Олимп, 2002.
Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980.
Паперный В. Поэтика русского символизма: персонологический аспект // Андрей Белый. Публикации. Исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 152–168.
Переписка Е. И. Замятина с С. В. Миролюбовым // Russian studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб., 1996. Т. II. № 2. C. 416–437.
Петерс Й. У. Я и Мы. Трансформация авторского «Я» в автора дневника в романе Е. Замятина «Мы» // Автор и текст: Сб. статей. СПб., 1996. С. 429–444.
Петров В. М. Рефлексия в истории художественной культуры. Ее роль и перспективы развития // Исследование проблем психологии творчества. М.: Наука, 1983.
Пискунова С. «Мы» Е. Замятина: Мефистофель и Андрогин // Вопр. литературы. 2004. Ноябрь-декабрь. С. 99–114.
Полякова Л. В. Евгений Замятин в контексте оценок истории русской литературы XX века как литературной эпохи: Курс лекций. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000.
Полякова Л. В. О «скифстве» Евгения Замятина: художник в полемике «западников» и «славянофилов». Контур проблемы // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. VII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. С. 12–46.
Пономарева Е. В. Русская новеллистика 1920-х годов (основные тенденции развития): Автореф. дис… докт. филол. наук. Екатеринбург, 2006.
Попова И. М. Литературные знаки и коды в прозе Е. И. Замятина: функции, семантика, способы воплощения: Курс лекций. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003.
Попова И. М. «Чужое слово» в творчестве Е. И. Замятина (Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский): Автореф. дис… докт. филол. наук. М., 1997.
Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. Ч. 1: П-Я. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей. М., 1959.
Пресняков О. О принципах стилевого анализа литературы XX века (Андрей Белый «Петербург») // XX век. Литература. Стиль: Стилевые закономерности русской литературы XX века (1900–1950) / Отв. ред. В. В. Эйдинова. Екатеринбург: УрГУ, 1998. Вып. 3. С. 19–25.
Примочкина Н. Н. Писатель и власть. М. Горький в литературном движении 20-х годов М.: Российская политическая энциклопедия, 1995.
Пришвин М. «Мятежный наказ» // Горький: Сб. ст. и мат-лов о М. Горьком / Под ред. И. Груздева. М.; Л.: Госиздат, 1928.
Проблемы литературной формы: Сб. статей. Л.: Academia, 1928.
Резник 9. Р. «Поля Елисейские» С. Яновского как феномен русской мемуарной прозы XX века: художественная специфика хронотопа памяти: Автореф. дис… канд. филол. наук. Омск, 2006.
Резун (Хатямова) М. А. Малая проза Е. И. Замятина. Проблемы поэтики: Дис… канд. филол. наук. Томск, 1993.
Резун (Хатямова) М. А. Поэтика бессознательного в прозе Е. И. Замятина конца 1920-х годов («Ела», «Наводнение») // Вестник Томского гос. пед. ун-та. Вып. 6 (15). Филология. Томск, 1999. С. 36–40.
Резун (Хатямова) М. А. Сюжетная организация «Рассказа о самом главном» Е. И. Замятина // Традиции и творческая индивидуальность писателя: Сб. науч. трудов. Элиста: Изд. Калмыцкого ун-та, 1995. С. 119–125.
Резун (Хатямова) М. А. Жанровое своеобразие повестей Е. И. Замятина 1910-х годов // Творчество Евгения Замятина: Проблемы изучения и преподавания / Мат-лы Первых российских замятинских чтений. Тамбов, 1992. С. 29–30.
Резун (Хатямова) М. А. Субъектная организация ранней прозы И. Бунина и Е. Замятина (Функция рассказчика) // И. А. Бунин и русская культура XIX–XX веков: Тезисы междунар. науч. конф., посвящ. 125-летию со дня рожд. писателя. 11–14 октября 1995. Воронеж, 1995. С. 36–37.
Резун (Хатямова) М. А. Орнаментальная проза Е. И. Замятина // Культура и текст: Матблы междунар. науч. конф. 10–11 сентября 1996. Вып. 1. Литературоведение. Ч. 2. СПб.; Барнаул, 1997. С. 25–29.
Резун (Хатямова) М. А. Повествовательная структура повестей Е. И. Замятина 1910-х годов // Вестник Томского гос. пед. ун-та. Вып. 1. Серия: История. Филология. Томск, 1997. С. 59–63.
Резун (Хатямова) М. А. Миф и индивидуальное сознание в рассказе Е. И. Замятина «Наводнение» // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Тамбов, 1997. Кн. 3.
Резун (Хатямова) М. А. Поэтика рассказа Е. Замятина «Наводнение» // Экология культуры и образования: филология, философия, история. Тюмень, 1997. С. 82–84.
Резун (Хатямова) М. А.Стилизация жанра жития в творчестве Е. И. Замятина («Чудеса») // Человек – коммуникация – текст: Мат-лы Всероссийского науч. семинара 14–18 апреля 1998. Барнаул, 1998.
Резун (Хатямова) М. А. Антиутопические сказки Е. Замятина // Культура и текст: Сб. науч. трудов. Ч. 2. Литературоведение. СПб.; Барнаул, 1998. С. 59–69.
Романович А. Италия в жизни и творчестве Б. К. Зайцева // Русская литература. 1999. № 4.
Рукописные памятники. Вып. 3. Ч. 1. Рукописное наследие Е. И. Замятина. СПб.: Изд. Российской нац. б-ки, 1997.
Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 6: Формы саморефлексии литературы XX века: метатексты и метатекстовые структуры / Ред. Т. Л. Рыбальченко. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2004.
Рыбальченко Т. Л. Роман Ю. Буйды «Ермо»: метатекстовая структура как форма саморефлексии автора // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 6: Формы саморефлексии литературы XX века: метатексты и метатекстовые структуры / Ред. Т. Л. Рыбальченко. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2004.
Рымарь Н. Т. Современный западный роман: проблемы эпической и лирической формы. Воронеж, 1978.
Сакович А. Г. Русский настенный лубочный театр XVIII–XIX вв. // Примитив и его место в художественной культуре Нового и новейшего времени. М.: Наука, 1983. С. 44–62.
Сегал Д. М. Литература как охранная грамота. М., 2006.
Семека А. К. Русское масонство в 18 веке // Масонство в его прошлом и настоящем: В 2 т. 1914–1015. М., 1991.
Семенов В. Б. Стилизация // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: НПК «Интелвак», 2001. С. 1030.
Семенова С. Г. Русская поэзия и проза 1920-1930-х годов. Поэтика – Видение мира – Философия. М.: ИМЛИ РАН; «Наследие», 2001.
Сендерович С. Георгий Победоносец в русской культуре. М., 2002.
Серков А. И. Комментарии // Осоргин Мих. Вольный каменщик. М., 1992.
Серков А. И. Масонское наследие Осоргина // Михаил Осоргин: Xудожник и журналист / Пермский гос. ун-т. Пермь, 2006.
Синицкая А. В. Пространственность и метафорический сюжет (на мат-ле произведений С. Кржижановского и К. Вагинова): Автореф. дис… канд. филол. наук. Самара, 2004.
Скалон Н. Р. Будущее стало настоящим (Роман Е. Замятина «Мы» в литературно-философском контексте): Учеб. пос. Тюмень: ИПЦ «Экспресс», 2004.
Скороспелова Е. Б. Русская проза XX века. От А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго»). М.: ТЕИС, 2003.
Скороспелова Е. Б. Е. Замятин и его роман «Мы». М.: МГУ, 2005.
Слобин Г. Динамика слуха и зрения в поэтике Алексея Ремизова // Алексей Ремизов: Исслед. и мат-лы. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1994. С. 157–165.
Смирнов И. П. Место «мифопоэтического» подхода к литературному произведению среди других толкований текста // Миф – фольклор – литература. Л., 1978. С. 186–203.
Смирнов И. П. Xудожественный смысл и эволюция поэтических систем. М.: Наука, 1977.
Смирнов И. П. Цитирование как историко-литературная проблема: принципы усвоения древнерусского текста поэтическими школами кон. XIX – нач. XX в. (на мат-ле «Слова о полку Игореве») // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 535. Тарту, 1981. С. 246–276.
Смирнова Н. Н. Развитие идеи коммуникативности в XX веке // Теоретико-литературные итоги XX века. Т. 1. Литературное произведение и художественный процесс. М.: Наука, 2003. С. 118–133.
Соколов А. Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. М.: МГУ, 1991.
Струве Г. Русская литература в изгнании. Paris, 1984.
Суханов В. А. Романы Ю. В. Трифонова как художественное единство. Томск, 2001.
Тавризян Г. М. О. Шпенглер, Й. Xейзинга: две концепции кризиса культуры. М.: Искусство, 1989.
Творчество Б. К. Зайцева в контексте русской и мировой литературы XX века: Сб. статей // Четвертые междунар. науч. Зайцевские чтения. Вып. 4. Калуга, 2003.
Текст в тексте. Труды по знаковым системам XIV. Тарту, 1981. Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 567.
Теоретическая поэтика: Понятия и определения: Xрестоматия для студентов / Авт. – сост. Н. Д. Тамарченко. М.: РГГУ, 2001.
Теория литературы: В 2 т. Учеб. пос. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 1. М.: Academia, 2004.
Тименчик Р. Д. Текст в тексте у акмеистов // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 567. Тарту, 1981. С. 65–75.
Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 227–285.
Трофимова О., Винокуров Ф. Современность сквозь призму истории в русской литературе 1920-30-х гг. (на примере рассказов «В пустыне» и «Родина» Л. Лунца и романа Е. Замятина «Бич Божий» // Русская филология. 14. Сб. науч. работ молодых филологов. Тарту: Изд-во ТГУ, 2003. С. 124–131.
Трубецкой Е. Смысл жизни // Смысл жизни в русской философии. СПб., 1995.
Туманова Л. Стиль. Стилизация. Стиль поведения // Человек. 1990. № 5. С. 111–119; № 6. С. 161–170.
Туниманов В. А. Замятин // Русские писатели, XX век. Библиографический словарь. В 2 ч. Ч. 1: А-Л. М.: Просвещение, 1998. С. 517–521.
Тырышкина Е. В. Русская литература 1890-х – начала 1920-х годов: от декаданса к авангарду. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2002.
Тюпа В. И. Постсимволизм: Теоретические очерки русской поэзии XX века. Самара, 1998.
Тюпа В. И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А. П. Чехова). Тверь: Тверской ун-т, 2001.
Тюпа В. И., Бак Д. П. Эволюция художественной рефлексии как проблема исторической поэтики. Кемерово: КемГУ, 1988. С. 4–15.
Утопия и утопическое мышление. М.: Прогресс, 1991.
Фарджонато Р. Розенкрейцеровский кружок Новикова: предложение нового этапа этического идеала и образа жизни // Новиков и русское масонство: Мат-лы конф. 17–20 мая 1994 г. Коломна. М., 1996.
Федин К. Горький среди нас. Картины литературной жизни. М.: Молодая гвардия, 1967.
Федотов Г. П. Национальное и вселенское // О России и русской философской культуре: Сб. статей. М.: Наука, 1990.
Федосюк К. Русские фамилии. М.: Детская литература, 1981.
Флоренский П. Имена // Опыты. Литературно-философский ежегодник. М.: Сов. писатель, 1990. С. 351–412.
Фрайзе М. После изгнания автора: литературоведение в тупике? // Автор и текст: Сб. статей / Под ред. В. М. Марковича, В. Шмида. СПб., 1997.
Франк С. Л. Смысл жизни // Вопр. философии. 1990. № 6.
Франк С. Л. Сочинения. М., 1990.
Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. Л.: Гослитиздат, 1936. Хабермас К. Понятие индивидуальности // Вопр. философии. 1989. № 2.
Ханзен-Леве О. А. Русский формализм. М.: Языки русской культуры, 2001.
Хатямова М. А. Творчество Е. И. Замятина в контексте повествовательных стратегий первой трети XX века: создание авторского мифа. Монография. Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2006.
Хатямова М. А. Становление экзистенциального сознания в творчестве Е. И. Замятина (к постановке проблемы) // Культура и текст. Славянский мир: прошлое и современность. СПб.; Самара; Барнаул, 2001. С. 171–177.
Хатямова М. А. Экзистенциальная парадигма в прозе Е. Замятина и проблема индивидуального художественного метода // Вестник Томского гос. пед. ун-та. Серия: Гуманитарные науки (Филология). Вып. 1 (26). Томск, 2001.
Хатямова М. А. Роман Б. К. Зайцева «Дальний край»: проблема жанра // Проблемы литературных жанров: Мат-лы X Междун. науч. конф. 15–17 октября 2001 г. Ч. 2. Томск, 2002. С. 54–57.
Хатямова М. А. Способы изображения страха в позднем творчестве Е. И. Замятина // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 3. Проблема страха в русской литературе XX века. Томск, 2001. С. 44–55.
Хатямова М. А. Философия радости жизни в прозе Б. К. Зайцева // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 5. Гедонистическое мироощущение и гедонистическая этика в интерпретации русской литературы XX века. Томск, 2003. С. 73–93.
Хатямова М. А. Герой – «эпикуреец» в творчестве Б. Зайцева // Творчество Б. К. Зайцева в контексте русской и мировой литературы XX века: Сб. статей // Четвертые междунар. науч. Зайцевские чтения. Вып. 4. Калуга, 2003. С. 31–44.
Хатямова М. А. Xудожественное пространство в ранней прозе Б. К. Зайцева («Спокойствие») // Русская литература в современном культурном пространстве: Мат-лы II Всеросс. науч. конф., посвящ. 100-летию Томского гос. пед. ун-та: В 2 ч. Ч. 2. Томск: Изд-во ТГПУ, 2003. С. 65–72.
Хатямова М. А. Xудожественное время в сказовом повествовании («Уездное» Е. Замятина) // Время в социальном, культурном и языковом измерении: Тез. докл. научн. конф. Иркутск: Иркут. ун-т, 2004. С. 36–38.
Хатямова М. А. Орнаментальный сказ Е. И. Замятина: эстетика и поэтика // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Науч. докл., ст., очерки, заметки, тезисы: В XIII кн. Кн. XII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2004. С. 218–224.
Хатямова М. А. Эстетические поиски Е. И. Замятина: концепция «диалогического языка» // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Науч. докл., ст., очерки, заметки, тезисы: В XIII кн. Кн. XII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2004. С. 199–212.
Хатямова М. А. Эстетика Е. И. Замятина и акмеистская парадигма творчества // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 6: Формы саморефлексии литературы XX века: метатексты и метатекстовые структуры. Томск,
2004. С. 23–55.
Хатямова М. А. Мифология истории в романе Е. И. Замятина «Бич Божий» // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 7: Версии истории в русской литературе XX века. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. С. 40–56.
Хатямова М. А. Сказки Е. И. Замятина: парадокс в структуре повествования // Русская литература в современном культурном пространстве: Мат-лы III Междунар. науч. конф. (4–5 ноября 2004 г.): В 3 ч. Ч. 2. Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та,
2005. С. 49–55.
ХатямоваМ. А. Трансформация жанра жития в творчестве Е. И. Замятина («Чудеса») // Трансформация и функционирование культурных моделей в русской литературе (архетип, мифологема, мотив). Томск: ТГПУ, 2005. С. 56–65.
Хатямова М. А. Концепция синтетизма Е. И. Замятина // Вестник Томского гос. пед. ун-та. Серия: Гуманитарные науки (филология). Вып. 6 (50). 2005. С. 38–4
Хатямова М. А. «Мы» Е. И. Замятина как метароман // Культура и текст. Сб. науч. трудов Междунар. конф. (15–18 сентября 2005, Барнаул): В 3 т. Т. 2. Барнаул; СПб.; Самара: Изд-во Барнаульского гос. пед. ун-та, 2005. С. 135–143.
Хатямова М. А. Фольклорная стилизация в малой прозе Е. И. Замятина // Вестник Томского гос. пед. ун-та. Серия: Гуманитарные науки (филология). Вып. 8 (59). Томск, 2006. С. 72–80.
Хатямова М. А. Искусство как должное в романе Е. И. Замятина «Мы» // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 8. Томск: ТГУ, 2006. С. 7–27.
Хатямова М. А. Модернистская поэтика орнаментального сказа в ранней прозе Е. И. Замятина // Сибирский филологический журнал. Новосибирск, 2006. J№ 3. С. 34–55.
Хатямова М. А. Новеллы Е. И. Замятина «Ела» (1928) и «Наводнение» (1929) как художественное единство // Междунар. науч. конф. «Национальный и региональный Космо-Психо-Логос в художественном мире писателей русского Подстепья (И. А. Бунин, М. М. Пришвин, Е. И. Замятин)». Науч. докл., ст., очерки, заметки, тезисы, документы. Елец: Елецкий гос. ун-т, 2006. С. 390–400.
Хатямова М. А. Языческий код в повествовании Б. К. Зайцева // Вестник Томского гос. ун-та: Общенаучный периодический журнал. Бюллетень оперативной науч. информации. 2006. № 110. Декабрь. Актуальные проблемы литературоведения: теоретические и прикладные аспекты. Томск: Томский гос. ун-т, 2006. С. 88–96.
Хатямова М. А. К проблеме персонифицированного повествования: «Золотой узор» Б. К. Зайцева // Вестник Томского гос. пед. ун-та. Сер. гуманитарные науки (филология). Вып. 8 (71). Томск, 2007. С. 55–60.
Xристианство и русская литература. Сб. 3. СПб., 1999.
Хрущева Е. Н. Поэтика повествования в романах М. А. Булгакова: Автореф. дис… канд. филол. наук. Екатеринбург, 2004.
Цивьян Т. В. К семантике пространственных элементов в волшебной сказке // Типологические исследования по фольклору: Сб. статей памяти В. Я. Проппа. М.: Наука, 1975. С. 207–213.
Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. Киев, 1989.
Чалмаев В. А. От жизни к житию: логика писательской судьбы Бориса Зайцева // Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940. Кн. 2. М., 1994.
Чудаков А. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. М.: Современный писатель, 1992.
Чуковский К. И. Дневник: 1901–1929. М.: Сов. писатель, 1991.
Шайтанов И. Мастер // Вопр. литературы. 1988. № 12. С. 32–65.
Шайтанов И. О двух именах и об одном десятилетии // Литературное обозрение. 1991. № 6. С. 19–25; №› 7. С. 4–11.
Шарапова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. М., 2001.
Шкловский В. О теории прозы. М.: Федерация, 1929.
Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003.
Шмид В. Орнаментальный текст и мифическое мышление в рассказе Е. Замятина «Наводнение» // Русская литература. 1992. № 2. С. 56–67.
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М.: Мысль, 1993.
Эйхенбаум Б. Литература. Л.: Прибой, 1927.
Эйхенбаум Б. Проза и поэзия [1920] // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 284. Тарту, 1971. С. 476–480.
Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб.: Алетейя, 1998. Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе. М.: Высшая школа, 2005.
Эткинд А. Эрос невозможного: развитие психоанализа в России. М., 1994.
Юнг К.-Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопр. философии. 1988. J№ 1.
GildnerA. Proza Jewgienija Zamiatina. Krakow, 1993.
GoldtR. Thermodynamik als Textem: Der Entropiesatz als poetologische Chiffre bei E. I. Zamjatin. Mainz, 1995.
Richards D.J. Zamyatin: A Soviet Heretic. London, 1962. Shane A. The Life and Works of Evgenij Zamyatin. Berkley; Los Angeles,1968.
Franz N. Groteske Strukturen in der Proza Zamjatins: Syntaktische, Se-mantiche und Pragmatische Aspekte. Mtinchen, 1980.
Scheffler L. Evgenij Zamyatin: Sein Weltbildund sein Literarische Thematik. Koln; Wien, 1984.
RusselR. Evgeny Zamyatin. Bristol, 1992.
Примечания
1
Кривонос В. Ш. «Мертвые души» Гоголя и становление новой русской прозы. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1985. С. 3–4.
(обратно)2
Сегал Д. М. Литература как вторичная моделирующая система. Литература как охранная грамота // Сегал Д. М. Литература как охранная грамота. М.: Водолей Pablishers, 2006; Петров В. М. Рефлексия в истории художественной культуры. Ее роль и перспективы развития // Исследование проблем психологии творчества. М.: Наука, 1983. С. 323; Тюпа В. И., Бак Д. П. Эволюция художественной рефлексии как проблема исторической поэтики. Кемерово: КемГУ, 1988. С. 4–15; Бак Д. П. История и теория литературного самосознания: творческая рефлексия в литературном произведении. Кемерово: КемГУ, 1992; Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. Екатеринбург, 1997; Бройтман С. Н. Историческая поэтика. Учебн. пос. М.: РГГУ, 2001; Абашеева М. П. Литература в поисках лица (русская проза конца ХХ века: становление авторской идентичности). Пермь: Изд-во Пермского университета, 2001; Русская литература в ХХ веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 6: Формы саморефлексии литературы ХХ века: метатекст и метатекстовые структуры / Ред. Т. Л. Рыбальченко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004.
(обратно)3
Сегал Д. М. Литература как вторичная моделирующая система. С. 13.
(обратно)4
Сегал Д. М. Литература как охранная грамота. С. 4.
(обратно)5
Петров В. М. Рефлексия в истории художественной культуры. Ее роль и перспективы развития. С. 323.
(обратно)6
Там же.
(обратно)7
Тюпа В. И., Бак Д. П. Эволюция художественной рефлексии как проблема исторической поэтики. С. 4–15; Бак Д. П. История и теория литературного самосознания: творческая рефлексия в литературном произведении. Кемерово: КемГУ, 1992.
(обратно)8
Тюпа В. И., Бак Д. П. Указ. соч. С. 6–8.
(обратно)9
Бак Д. П. Указ. соч. С. 4, 10.
(обратно)10
Там же. С. 14.
(обратно)11
Там же. С. 19.
(обратно)12
Там же. С. 23.
(обратно)13
Там же. С. 38.
(обратно)14
Там же. С. 72, 73, 74.
(обратно)15
Бройтман С. Н. Историческая поэтика. Учебн. пос. М.: РГГУ, 2001.
(обратно)16
Бройтман С. Н. Указ. соч. С. 305.
(обратно)17
Абашева М. П. Литература в поисках лица (русская проза конца XX века: становление авторской идентичности). Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2001.
(обратно)18
«…Персональная идентичность автора – это прежде всего индивидуальные текстуальные стратегии авторства, исторически и социально стимулированные. Термин „идентичность“, в отличие от более привычных в литературоведческом обиходе „самосознания“, „самоопределения“ и т. п., фиксирует заостренно-отрефлексированные и символически-маркированные моменты авторского самосознания в поисках самотождественности, его „кристаллизацию“» (Абашева М. П. Указ. соч. С. 10).
(обратно)19
Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 6: Формы саморефлексии литературы XX века: метатексты и метатекстовые структуры / Ред. Т. Л. Рыбальченко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004.
(обратно)20
Отметим и одно из последних исследований: Гулиус Н. С. Прием мистификации как поэтика текстопопрождения в русской прозе 1980-1990-х годов (А. Битов, М. Xаритонов, Ю. Буйда). Дис…. канд. филол. наук. Томск, 2006.
(обратно)21
«Предметом науки о литературе является не литература, а литературность, т. е. то, что делает данное произведение литературным произведением (…) Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать „прием“ своим единственным „героем“. Далее основной вопрос – вопрос о применении, оправдании приема» (Якобсон Р. Новейшая русская поэзия // Якобсон Р. Работы по поэтике: Переводы. М.: Прогресс, 1987. С. 275).
(обратно)22
Минц 3. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Учен. зап. Тартуского ун-та. 1979. Вып. 459; Она же. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999; Смирнов И. П. Место «мифопоэтического» подхода к литературному произведению среди других толкований текста // Миф – фольклор – литература. Л., 1978; Левин Ю. И., Сегал Д. М., Тименчик Р. Д. Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма / Russian Literature. 1974 // Сегал Д. М. Литература как охранная грамота. С. 181–212; Тименчик Р. Д. Текст в тексте у акмеистов // Труды по знаковым системам XIV. Текст в тексте. Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 567. Тарту, 1981. С. 65–75; Лотман Ю. М. Текст в тексте // Труды по знаковым системам XIV. Текст в тексте. Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 567. Тарту, 1981. С. 3–18 и др.
(обратно)23
Тименчик Р. Д. Указ. соч. С. 65–66.
(обратно)24
Тырышкина Е. В. Русская литература 1890 – начала 1920-х годов: от декаданса к авангарду. Новосибирск, 2002. С. 97.
(обратно)25
Обоснование неореализма как искусства «промежуточной эстетической природы» (В. А. Келдыш), преобразованного в XX веке реализма (Л. В. Полякова, Н. Н. Комлик) или только модернизма (Т. Т. Давыдова) обусловлено представлениями о дискуссионности модернизма, что реализуется в соответственной интерпретации «материала» (например, творчества Л. Андреева, А. Ремизова, Е. Замятина) и как реалистического, и как модернистского, и «переходного» между ними.
(обратно)26
Показательно изменение позиции В. А. Келдыша в оценке неореализма. В своей последней работе исследователь отказывается от понимания неореализма как «явления пограничной художественной природы» в пользу «более соответствующего названию»: «"неореализм" как особое течение внутри (курсив автора. – М. X.) реалистического направления, больше, чем другие, соприкасавшееся с процессами, протекавшими в модернистском движении…» (Келдыш В. А. «Реализм» и «неореализм» // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). Кн. 1. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2001. С. 262). Уточнение касается инструментальной стороны явления: реализм, близкий модернизму в поэтике (повышенной литературности).
(обратно)27
Из последних исследований на эту тему см.: Данилова И. Ф. Писатель или списыватель? (К истории одного литературного скандала) // История и повествование. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 279–316.
(обратно)28
Жирмунский В. Задачи поэтики // Жирмунский В. Вопросы теории литературы. Л.: Academia, 1928. С. 49. См. также: Жирмунский В. К вопросу о формальном методе // Там же. С. 173.
(обратно)29
Для Д. М. Сегала такой границей является послеоктябрьский перелом (Сегал Д. М. Литература как охранная грамота. С. 55–56).
(обратно)30
Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. Екатеринбург, 1997.
(обратно)31
Колтоновская Е. Пути и настроения молодой литературы // Колтоновская Е. Критические этюды. СПб., 1912. С. 47.
(обратно)32
«…В 1923 году главной темой наших (с Осоргиным. – М. X.) бесед была Россия. Именно тогда я услышал от него о Замятине, прежде чем встретился с ним лично. Позже Замятин также оказался изгнанником в Париже и, конечно, встречался с Осоргиным. Сейчас я сожалею, что не пытался тогда углубленно изучить их духовное родство. Оно выражалось, в частности, в их общей любви к Свифту и Стерну, чьи имена я слышал в разное время из уст того и другого. Не зря их произведения столь насыщены остроумными и ироничными репликами – более резкими у Замятина, менее – у Осоргина» (ЛоГато 9. Мои встречи с Россией. М.: Круг, 1992. С. 43). Заметим, что Стерна причисляют к создателям классического метаромана.
(обратно)33
Струве Г. Русская литература в изгнании. Paris, 1984. С. 274.
(обратно)34
Хатямова М. А. Творчество Е. И. Замятина в контексте повествовательных стратегий первой трети XX века: создание авторского мифа. Томск: Изд-во ТГПУ, 2006.
(обратно)35
Казаркин А. П. Русская литературная критика XX века. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. С. 179–180.
(обратно)36
Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981; Бройтман С. Н. Историческая поэтика. М., 2001.
(обратно)37
Ср.: «…Эта критика интересна как самоанализ (автоинтепретация) и самооценка крупного писателя в диалоге литературных направлений (…) Писатель-критик судит современную литературу пристрастно, прямо или косвенно он в этих оценках выражает собственную творческую программу» (Казаркин А. П. Указ. соч. С. 180).
(обратно)38
Цурганова Е. А. Берберова Н. Н. // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940) / Т. I. Писатели русского зарубежья. М., 1997. С. 66.
(обратно)39
Критика воспринималась обоими авторами как инструментрешения духовных и нравственных (а для Зайцева – и религиозных) проблем, неслучайно их воспринимали как «общественников» – в противоположность эстетической критике В. Вейдле, В. Xодасевича, Г. Адамовича. Показательным является тот факт, что если Осоргин включен в антологию «Критика русского зарубежья» за внимание к молодым писателям эмиграции и молодой советской литературе, то имя Зайцева там отсутствует (Критика русского зарубежья: В 2 ч. М.: Олимп, 2002). Подробнее о жанрах публицистики М. А. Осоргина см.: Марченко Т. В. Творчество М. А. Осоргина: 1922–1942. Дис… канд. филол. наук. М., 1994; Б. К. Зайцева: Степанова Т. М. Xудожественные искания в мире публицистики Б. К. Зайцева. Дис… док. филол. наук. Краснодар, 2005.
(обратно)40
Поставившая по разные стороны баррикад двух авторитетнейших в эмиграции критиков дискуссия о путях развития русской зарубежной литературы, в которой Xодасевич отстаивал принципы «литературности», сохранения традиции, а Адамович призывал молодых авторов к «простоте» и искренности в изображении современности (а отношение к творчеству Набокова только высветило эти позиции), является, на наш взгляд, зеркальным отражением процессов, происходящих в литературе метрополии, задающейся вопросами об основной тенденции развития русской прозы, о новом языке искусства, нагруженной «повествовательности» или «сюжетности» этого языка. Парадокс виделся в том, что «жизнь приемов» отстаивает не акмеист, а неоромантик. Пограничность мировоззрения (балансирование между символистским, а позднее и авангардным мироощущением, приведшим к предельному скепсису, и акмеистским пафосом служения культуре) и «эстетический неотрадиционализм» сближает Xодасевича с Замятиным.
(обратно)41
См.: Шайтанов И. Мастер // Вопр. литературы. 1988. № 12.
(обратно)42
См.: Курпякова Н. Р. Е. Замятин и А. Белый: своеобразие эстетических концепций // Творческое наследие Е. Замятина: взгляд из сегодня. Кн. IV. Тамбов: Изд-во Тамбовского ун-та, 1997. C. 123–132; Воробьева С. Ю. Поэтика диалогического в прозе Е. И. Замятина 1910-20-х годов: Автореф. дис… канд. филол. наук. Волгоград, 2001. С. 6–7.
(обратно)43
Замятин Е. И. Техника художественной прозы // Литературная учеба. 1988. Кн. 5, 6.
(обратно)44
«Формалисты видели автора не иначе, как в функции производителя текста, как мастера с определенными навыками, как техника слова» (Фрайзе М. После изгнания автора: литературоведение в тупике? // Автор и текст. СПб., 1997. С. 25). Ср. название книги В. Шкловского «Техника писательского ремесла» (1927).
(обратно)45
В эмигрантской статье 1933 года «Москва-Петербург» Замятин оценивает критику формалистов как «первую серьезную попытку создать научный, объективный метод критики» (Замятин Е. И. Я боюсь. М.: Наследие, 1999. С. 198).
(обратно)46
См. черновик статьи Е. И. Замятина «Я боюсь» в примечаниях А. Галушкина // Замятин Е. И. Я боюсь С. 298.
(обратно)47
Замятин Е. И. Москва-Петербург // Я боюсь. С. 198. Особенности орфографии и пунктуации Е. И. Замятина сохранены. Цитаты Е. И. Замятина и далее выделены курсивом.
(обратно)48
Генис А. «Серапионы»: опыт модернизации русской прозы // Звезда. 1996. № 12. С. 204.
(обратно)49
Грюбель Р. Автор как противо-герой и противо-образ // Автор и текст: Сб. статей / Под ред. В. М. Марковича, В. Шмида. СПб., 1996. С. 366.
(обратно)50
Десятов В. «Мы, Адамы» (Замятин и акмеизм) // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. V. Тамбов, 1997. С. 94–104.
(обратно)51
В письме от 17 октября 1913 года Замятин писал Миролюбову: «Глубокоуважаемый Виктор Сергеевич. Выходит дело – не стоит мне с журнальным обозрением связываться: ну его к ляду. Да оно, может, и лучше – не буду от прямого долга отвлекаться – изображения разных Барыб русских. Отдельную статейку, не исходящую месячно, и просто – когда Бог на душу положит – такую, может, сварганю» (Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб., 1996. Т. II. № 2. С. 427).
(обратно)52
Замятин Е. И. Энергия // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 16.
(обратно)53
Замятин Е. И. Сирин // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 19
(обратно)54
Там же. С. 21.
(обратно)55
Переписка Е. И. Замятина с В. С. Миролюбовым // Ежеквартальник русской филологии и культуры. С. 422.
(обратно)56
Замятин Е. И. Я боюсь. С. 282.
(обратно)57
Замятин Е. И. Они правы // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 42.
(обратно)58
Замятин Е. И. Завтра // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 48.
(обратно)59
Особенно негативную реакцию в прессе вызвала статья «Я боюсь», после которой Замятин подвергся критике даже со стороны своих товарищей. См. ответ Замятина К. Федину – «О зеркалах» (Замятин Е. И. Я боюсь. С. 329–330).
(обратно)60
Замятин Е. И. Я боюсь. С. 51.
(обратно)61
«Издать всех классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира» (Замятин Е. И. Я боюсь. С. 12).
(обратно)62
Замятин входит в коллегию экспертов издательства «Всемирная литература», редактирует и пишет вступительные статьи к переводам из английской литературы (Г. Уэллса, Дж. Лондона, Шеридана), ведет в издательстве студию переводчиков с английского, издает с группой писателей альманах «Дом искусств», журналы «Русский современник» и «Современный Запад», становится одним из руководителей издательств «Алконост» и «Эпоха», читает лекции по новейшей русской литературе в педагогическом институте им. Герцена.
(обратно)63
Позднее, в статье «Закулисы» (1930), Замятин признается, что литературоведческое погружение в законы писательского мастерства, когда «пришлось впервые заглянуть к самому себе за кулисы», какое-то время мешало ему писать (Замятин Е. И. Я боюсь. С. 158).
(обратно)64
Размышления Замятина о «застарелой болезни русских прозаиков – сюжетной анемии» (в статье «Новая русская проза» и других статьях) совпадают с реабилитацией сюжета В. Шкловским. Иронизирующий по этому поводу М. М. Бахтин в лекциях разводит Шкловского и Замятина, имея в виду художественное творчество последнего: «Стремление к фабульному оформлению объясняется тем, что Шкловский с компанией решили, что теперь литературе нужна фабула. И легковерные молодые люди поверили. Замятин же от редакций не зависит, ни к кому не подлаживается: ни к публике, ни к критике» (Бахтин М. М. Записи лекций по истории русской литературы // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 2. М.: Русские словари, 2000. С. 385).
(обратно)65
«Теория прозы находится до сих пор в зачаточном состоянии именно потому, что не изучены основные формообразующие элементы прозы (…). Сюжет не настолько связан со словом, чтобы служить исходным пунктом для анализа всех видов повествовательной прозы. Мне кажется поэтому, что вопрос о повествовательной форме может иметь значение исходного пункта для построения теории прозы (…). Проблема повествовательной формы – основная проблема современной русской прозы» (Эйхенбаум Б. Лесков и современная проза // Эйхенбаум Б. Литература. Л.: Прибой, 1927. С. 210, 223).
(обратно)66
Замятин Е. И. Техника художественной прозы // Литературная учеба. 1988. Кн. 6. С. 79.
(обратно)67
Белый А. О художественной прозе (1919). Цит. по: Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. М.: Наука, 1990. С. 119.
(обратно)68
Эйхенбаум Б. Поэзия и проза [1920] // Учен. зап. Тартускогоунта. Вып. 284. Тарту, 1971. С. 478.
(обратно)69
Замятин Е. И. Техника художественной прозы // Литературная учеба. 1988. Кн. 6. С. 79–80.
(обратно)70
Ср. бахтинское «автор – драматург» (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 288). В. В. Виноградов в 1927 году, в письме к жене, определяет образ автора как «своеобразный „актерский“ лик писателя» (Цит. по: Чудаков А. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. М.: Современный писатель, 1992. С. 239).
(обратно)71
Замятин Е. И. Техника художественной прозы. Кн. 6. С. 85.
(обратно)72
Из письма Флобера к Луизе Коле от 9 декабря 1852 года. Цит. по: Манн Ю. В. Автор и повествование // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 467.
(обратно)73
Ср.: «Классическая литература, отталкиваясь от автономного „я“, приблизилась к его границе – к самосознанию. На этой границе, у черты „последней смысловой позиции личности“ (М. М. Бахтин), были открыты диалогическая природа сознания и то, что реальной формой бытия человека является двуединство „я – другой“. Неклассический автор уже непосредственно исходит из этого двуединства. В связи с этим и в поэзии, и в прозе рубежа веков наряду с традиционными возникают также субъектные формы, основой которых становится не аналитическое различение „я“ и „другого“, а их изначально нерасчленимая интерсубъективная целостность. Личность уже перестает пониматься как монологичекое единство, а предстает как „неопределенная“ и „вероятностно-множественная“ (Бройтман С. Н. Историческая поэтика. М.: РГГУ, 2001. С. 291).
(обратно)74
Бонецкая Н. К. О стиле философствования М. М. Бахтина // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 1 (14). С. 21–23.
(обратно)75
Замятин Е. И. Техника художественной прозы. Кн. 5. С. 137.
(обратно)76
Там же. С. 137.
(обратно)77
Там же. С. 140.
(обратно)78
Интересно отметить явные переклички Замятина с более поздними высказываниями западных нарратологов: В. Кайзер утверждал, что «в искусстве рассказа нарратор никогда не является автором, уже известным или еще неизвестным, а ролью, придуманной и принятой автором» (Цит. по: Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. М.: Интрада – ИНИОН, 1996. С. 79).
(обратно)79
Замятин Е. И. Техника художественной прозы. Кн. 6. С. 80.
(обратно)80
«…Рассказчик – персонифицированный субъект изображения и/или „объективированный“ носитель речи; он связан с определенной социально-культурной и языковой средой, с позиций которой (…) и ведется изображений других персонажей» (Теория литературы: В 2 т. Учеб. пос. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 1. М.: Academia, 2004. C. 240).
(обратно)81
Там же. С. 81.
(обратно)82
Проблемы литературной формы: Сб. ст. Л.: Academia, 1928. С. X.
(обратно)83
О разговорном языке прозы О'Генри Замятин писал в предисловии к переводу и изданию его произведений: О'Генри. Благородный жулик и другие рассказы. М.; Л., 1924; О'Генри. Рассказы. М.; Л., 1923.
(обратно)84
Работы Л. Шпитцера «Итальянский разговорный язык» (1922) и «Перифразы для понятия „голод“ в итальянском языке» (1920) анализируются В. Жирмунским во вступительной статье указанного сборника «Проблемы литературной формы» (С. XII). Вяч. Вс. Иванов отмечает развитие идей книги Л. Шпитцера об итальянском разговорном языке в понятии речевого жанра М. М. Бахтина (Иванов Вяч. Вс. Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 3 (16). С. 61). Кроме того, уместно вспомнить размышления современных бахтиноведов о близости понятий «народный» / «социальный» / «диалогический» в эстетике М. М. Бахтина (См., например: Киклевич А. К. Язык – личность – дилог // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 1 (2). С. 146, 223; Бонецкая Н. К. Указ соч. С. 38–40).
(обратно)85
Замятин Е. И. Техника художественной прозы. Кн. 6. С. 85.
(обратно)86
О продолжении спора «архаистов» и «новаторов» в начале XX века в творчестве Вяч. Иванова и А. Белого см.: Кустова Г. И. Языковые проекты Вячеслава Иванова и Андрея Белого: философия языка и магия слова // Вячеслав Иванов. Архивные матлы и исслед. М., 1999. С. 383–411.
(обратно)87
Влияние Ремизова на собственное творчество не сразу было осознанно Замятиным. В 1915 году в письме к С. А. Венгерову он отвергает высказанное в 1913 году и распространившееся в критической литературе о Замятине мнение Б. Эйхенбаума о зависимости от Ремизова некоторых современных писателей, в том числе Е. Замятина: «Ремизова лично узнал не очень давно, да и книги его стал читать сравнительно поздно. Кладовая языка у меня и у Ремизова разные: у него – рукописи и редкостные книги, а я книгами пока почти не пользовался. Внутреннее мое несходство с Ремизовым – чем дальше, тем, вероятно, будет больше заметно» (Переписка Е. И. Замятина с С. А. Венгеровым. Письмо Е. И. Замятина С. А. Венгерову от 15 декабря 1916 года // Евгений Замятин и культура XX века. Исследования и публикации. СПб.: Изд-во Российской нац. биб-ки, 2002. С. 191). Но уже в начале 1920-х годов, в лекциях, Замятин иллюстрирует свои эстетические требования к прозе преимущественно примерами из собственных произведений и произведений А. М. Ремизова.
(обратно)88
Пришвин М. Мятежный наказ // Горький: Сб. ст. и мат-лов о М. Горьком / Под ред. И. Груздева. М.; Л.: Госиздат, 1928. С. 193.
(обратно)89
Левинсон А. Джентльмен (Заметки о прозе Е. И. Замятина) // Евгений Замятин и культура XX века. Исслед. и публ. С. 356. О непререкаемом авторитете и огромном влиянии Замятина на «серапионов» и других начинающих прозаиков, о чем впоследствии замалчивалось в советской литературной науке, писали почти все эмигрантские критики, знавшие Замятина в России (Современники о Е. И. Замятине (по материалам русской зарубежной печати 1920-1930-х годов // Евгений Замятин и культура XX века. С. 354–408). К. Федин, нелицеприятно отзывающийся о творчестве Замятина в своей книге «Горький среди нас», признает: «Замятин вообще был того склада художником, которому свойственно насаждать последователей, заботиться об учениках, преемниках, создавать школу» (Федин К. Горький среди нас. Картины литературной жизни. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 77–78).
(обратно)90
Библер В. С. Бахтин и всеобщность гуманитарного мышления // Механизмы культуры / Отв. ред. Б. А. Успенский. М.: Наука, 1990. С. 265. Ср.: «В области культуры вненаходимость – самый могучий рычаг понимания. Чужая культура только на глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже (но не во всей полноте, потому что придут и другие культуры, которые увидят и поймут еще больше). Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ими начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур. Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы на наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины» (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. С. 334–335).
(обратно)91
Замятин Е. И. Техника художественной прозы. Кн. 6. С. 90.
(обратно)92
Воробьева С. Ю. Указ. соч. С. 7.
(обратно)93
См.: Кихней Л. Г. Акмеизм: Миропонимание и поэтика. М.: МАКС Пресс, 2001. С. 88–90; Смирнов И. П. Цитирование как историко-литературная проблема: принципы усвоения древнерусского текста поэтическими школами кон. XIX – нач. XX в. (на материале «Слова о полку Игореве») // Учен. зап. Тартуского унта. Вып. 535. Тарту, 1981. С. 246–276; Тименчик Р. Д. Текст в тексте у акмеистов // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 567. Тарту, 1981. С. 65–75.
(обратно)94
Тырышкина Е. В. Русская литература 1890-х – начала 1920-х годов: от декаданса к авангарду. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2002. С. 51.
(обратно)95
Замятин Е. И. Техника художественной прозы. Кн. 6. С. 87.
(обратно)96
См.: Винокур Г. О. Филологические исследования: лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1990. С. 315.
(обратно)97
Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. С. 156.
(обратно)98
Замятин Е. И. Техника художественной прозы. Кн. 5. С. 135.
(обратно)99
Замятин Е. И. Там же. Кн. 6. С. 91.
(обратно)100
С конца 1920-х годов в новеллистическом творчестве Замятина появляется и другой, более традиционный для научной мысли тип показа, предполагающий редуцирование «посредничества» повествователя и утверждение персонального повествователя как способа драматизации истории.
(обратно)101
«Писателям нынешнего дня на фабулу придется (курсив мой. – М. X.) обратить особое внимание. Прежде всего – меняется читательская аудитория. Раньше читателем был главным образом интеллигент, способный подчас удовлетвориться эстетическими ощущениями формы произведения, хотя бы развитой в ущерб фабуле. Новый читатель, более примитивный, несомненно, будет куда больше нуждаться в интересной фабуле. Кроме того (…), жизнь стала так богата событиями, так неожиданна, так фантастична, что у читателей вырабатывается невольно иной масштаб ощущений, иные требования к произведениям художественного слова: произведения эти не должны уступать жизни, не должны быть беднее ее» (Замятин Е. И. Техника художественной прозы. Кн. 5. С. 142).
(обратно)102
См.: Миндлин 9. Л. Из статьи «Евгений Замятин»: (Письмо из Москвы) // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 250.
(обратно)103
Барабанов Ю. Комментарии // Замятин Е. И. Сочинения. М.: Книга, 1988. С. 571.
(обратно)104
Замятин Е. И. О сегодняшнем и современном // Замятин Е. И. Сочинения. С. 442.
(обратно)105
Замятин Е. И. О'Генри // Замятин Е. И. Сочинения. С. 361.
(обратно)106
Дихотомия «рассказ / показ» станет традиционной категорией нарратологии (Современное зарубежное литературоведение. С. 63–74).
(обратно)107
Слобин Г. Динамика слуха и зрения в поэтике Алексея Ремизова // Алексей Ремизов: Исслед. и мат-лы. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1994. С. 157–165.
(обратно)108
Мазаев А. И. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. М.: Наука, 1992; Фридман Ю. От текста и изображения к звуку: альбом «Марун» как пример синтетического творчества А. Ремизова // Алексей Ремизов: Исслед. и мат-лы. СПб.; Салерно, 2003. С. 203–228.
(обратно)109
Замятин Е. И. Новая русская проза // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 85. О воплощении идеи синтеза литературы и живописи в художественном творчестве Замятина см.: Геллер Л. В «дивном храме» соответствий. «Мы» Замятина и диалог прозы с живописью // Геллер Л. Слово мера мира. Статьи о русской литературе XX века. М., 1994.
(обратно)110
См.: Полякова Л. В. Евгений Замятин в контексте оценок истории русской литературы XX века как литературной эпохи. Курс лекций. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. С. 196–198.
(обратно)111
Мазаев А. И. Указ. соч.; см. письмо А. Белого к Р. Иванову-Разумнику от 2 января 1931 года, в котором гегелевская триада символизирует эволюцию собственного творческого пути (Белый А. Проблемы творчества. М.: Советский писатель, 1988. С. 724). О связи гегелевской диалектики Духа с идеей синтетизма у Вяч. Иванова: Геллер Л. Синтетизм Вячеслава Иванова // Геллер Л. Указ. соч. С. 178.
(обратно)112
Образ-символ Скрябина как главного музыкального творца «мистериального» синтеза неоднократно используется Замятиным как образ культуры прошлого и в художественных произведениях, и в публицистике: «Многое с тех пор изменилось (…). Умер Скрябин – умер не только физически: его утонченно-чувственная мистерия перестала быть слышной, этот недавний кумир – уже совсем забыт» (Замятин Е. И. Москва – Петербург // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 192). Обращает на себя внимание акмеистское толкование кризиса символизма в связи со смертью композитора: «Скрябин умер тогда, когда он подошел к дверям своего „Действа“, к дверям, которые ему, человеку, не под силу было открыть» (Замятин Е. И. А. А. Блок // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 68).
(обратно)113
Другой вариант эстетического синтеза искусств давала практика модерна, к которому принадлежал лично и творчески близкий Замятину художник Ю. Анненков, иллюстрацией к портретам которого и являлась программная статья «О синтетизме». О синтетических поисках модерна см.: Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. М., 1990. С. 283–284; Мазаев А. И. Указ. соч. С. 96–110.
(обратно)114
Геллер Л. Скиф из Нью-Кастля. Очерк творчества Евгения Замятина // Геллер Л. Указ. соч. С. 68. Следует заметить, что в статье «Завтра» (1919) и «Записных книжках» Замятин распространяет «диалектический силлогизм» не только на человеческую культуру, но и на историю и мироздание, но концепция «энтропии / энергии» постепенно его вытесняет.
(обратно)115
В этой связи внимание В. Шмида к творчеству Замятина представляется глубоко не случайным.
(обратно)116
«…Акмеизм в перспективе развития литературных традиций представлялся его создателям как синтетическое направление, вбирающее в себя все лучшее, что было из предшественников. Отсюда пристальное внимание к истории (воспринимаемой как рост некоего духовного организма), поиск литературных параллелей, имен, направлений или эпох, к которым акмеисты были готовы возвести свой генезис» (Кихней Л. Г. Акмеизм: Миропонимание и поэтика. С. 12).
(обратно)117
Уже в творчестве Замятина 1910-х годов происходит становление мифопоэтической картины мира («все во всем»), с идеей тождества быта и бытия, сознания и реальности, метафоричностью текста и изоморфизмом (О. Мандельштам, как известно, назвал акмеизм «органической поэтикой»). Об акмеистской онтологии как мифопоэтической – в указ. работе Л. Г. Кихней (С. 3-35).
(обратно)118
О синтетических поисках Н. Гумилева: Десятов В. В. Фридрих Ницше в художественном и экзистенциальном мире Н. С. Гумилева. Дис… канд. филол. наук. Томск, 1995. С. 112–142.
(обратно)119
Замятин Е. И. Психология творчества // Литературная учеба. 1988. Кн. 5. С. 137.
(обратно)120
Геллер Л. Евгений Замятин: уникальность творческого почерка (?) // Кредо. Тамбов: Изд. ТГУ, 1995. С. 20.
(обратно)121
Замятин Е. И. Записные книжки. М.: Вагриус, 2001. С. 49.
(обратно)122
О диалоге акмеистов с философскими идеями Н. О. Лосского: Кихней Л. Г. Указ. соч. С. 28–30.
(обратно)123
Замятин Е. И. Записные книжки. С. 49. Определение «органический» многократно употребляется Замятиным в лекциях и статьях в связи с оправданностью использования тех или иных художественных средств в произведении. Например: «…Пейзаж и обстановка могут войти в качестве жизненно необходимого элемента (интермедий. – М. X.). Но для этого автор должен позаботиться, чтобы пейзаж и обстановка были органически связаны с фабулой» (Замятин Е. И. Техника художественной прозы. Кн. 5. С. 142).
(обратно)124
Замятин Е. И. Современная русская литература // Литературная учеба. Кн. 5. С. 135–136.
(обратно)125
Там же. С. 133.
(обратно)126
Формулу Вяч. Иванова «A realibus ad realiora» («утвердить, познать, выявить в действительности иную, более действительную действительность» – Вяч. Иванов. Родное и вселенское. М., 1994. С. 156) Замятин переакцентирует в бергсоновском смысле: реальное не отсылает к реальнейшему, а содержит его. Во вступительной лекции «Современная русская литература» Замятин, например, говорил: «. Материал для творчества у неореалистов тот же, что у реалистов: жизнь, земля, камень, все, имеющее меру и вес. Но пользуясь этим материалом, неореалисты изображают главным образом то, что пытались изобразить символисты, дают обобщения, символы» (Замятин Е. И. Техника художественной прозы. Кн. 5. С. 134).
(обратно)127
Замятин Е. И. О синтетизме // Я боюсь. С. 78.
(обратно)128
Замятин Е. И. О литературе, революции, энтропии и о прочем // Я боюсь. С. 97–98. Ранее эта идея звучит в романе «Мы».
(обратно)129
Кихней Л. Г. Акмеизм: Миропонимание и поэтика. С. 24.
(обратно)130
Там же. С. 25.
(обратно)131
Замятин Е. И. Я боюсь. С. 97.
(обратно)132
М. Горький: «Е. Замятину избыток ума мешает правильно оценить размеры своего таланта. Явно остерегаясь чувствовать, он умствует. От его рассказов всегда пахнет потом, в каждой его фразе чувствуется усилие, с которым она сделана, в его искусстве холодно блестит искусственность. Он хочет писать как европеец, изящно, остро, со скептической усмешкой, но, пока, не написал ничего лучше „Уездного“»; «Рассказ, написанный по Эйнштейну, как, например, у Замятина, это уже не искусство, а попытки иллюстрировать некую философскую теорию – или гипотезу» (в письме М. Слонимскому от 8 мая 1925 г.). В. Ходасевич (в письме Горькому из Парижа от 27 июня 1924 г): «Видал „Русский современник“… Очень плох Замятин, противное сочетание Всев. Иванова с Брюсовым (вся история голых людей из „Земли“). Вообще Замятин – вымученный писатель» – цит. по: Примочкина Н. Н. Писатель и власть. М. Горький в литературном движении 20-х годов. М.: Российская политическая энциклопедия, 1995. С. 184–185.
(обратно)133
т. Т. Давыдова высказывает сходную точку зрения, считая Замятина продолжателем символистской концепции, в основе которой научный миф. На наш взгляд, основная идея замятинского рассказа резко противоречит символистскому мирообразу: не дуальность миров, а их единство изображает Замятин (см.: Давыдова Т. Т. О современном изучении модернизма в прозе 1920-х годов (на примере «Рассказа о самом главном» Е. Замятина) // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. VIII. Тамбов, 2000. С. 85 и далее).
(обратно)134
Комлик Н. Н. Мифопоэтическое сознание и его проявление в образной структуре «Рассказа о самом главном» // Творческое наследие Евгения Замятина. Кн. VIII. С. 92–116; Резун М. А. Сюжетная организация «Рассказа о самом главном» // Традиции и творческая индивидуальность писателя: Сб. науч. тр. Элиста: Изд. Калмыцкого ун-та, 1995. С. 119–125.
(обратно)135
«Сложный набор стекол» – это невозможность модерниста сохранить монологизм классического авторства («простой глаз» реалиста) и, как следствие, указание на многосубъектность повествования в современной прозе. «Странные множества миров», или реальностей, могут быть увидены только с разных точек зрения, открыты и изображены субъектами разных сознаний.
(обратно)136
Замятин Е. И. Я боюсь. С. 77.
(обратно)137
Замятин Е. И. Современная литература // Литературная учеба. Кн. 5. С. 135.
(обратно)138
Давыдова Т. Т. Творческая эволюция Евгения Замятина в контексте русской литературы 1910-1930-х годов: Автореф. дис… док. филол. наук. М., 2001. С. 5.
(обратно)139
Комлик Н. Н. Творческое наследие Е. И. Замятина в контексте народных традиций русской народной культуры: Автореф. дис… док. филол. наук. Тамбов, 2001. С. 8–9.
(обратно)140
Евсеев В. Н. Художественная проза Е. И. Замятина: Творческий метод. Жанры. Стиль: Автореф. дис… док. филол. наук. М., 2001. С. 14.
(обратно)141
Замятин Е. И. О литературе, революции, энтропии и о прочем // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 98.
(обратно)142
Замятин Е. И. О литературе, революции, энтропии и о прочем // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 100. Ср.: «Математика (…) есть тоже искусство. У нее есть свои стили и периоды стилей. По своей сущности она (…) не неизменна, но, подобно всякому искусству, подвержена от эпохи к эпохе незаметным превращениям» (Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993. С. 212).
(обратно)143
Замятин Е. И. Герберт Уэллс // Замятин Е. И. Сочинения. С. 364.
(обратно)144
Замятин Е. И. О зеркалах // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 239.
(обратно)145
Замятин Е. И. Я боюсь. С. 94–95.
(обратно)146
Ср.: «Христианская космогония используется акмеистами как модель творческого процесса. Там, где была пустота или хаос, поэт-акмеист создает рукотворную вещь, форму, тишину он наполняет звуком, Словом. В акмеистской философии „ничто“, „хаос“ – компонент, стимулирующий творческую активность художника (…). Художественное творчество, как и сотворение мира, осмысляется как преодоление сил хаоса и разрушения торжеством формы, меры, Логоса. Художник вовлечен в борьбу с всегда угрожающими его творению разрушительными силами» (Кихней Л. Г. Указ. соч. С. 57).
(обратно)147
А. Г. Из статьи «Дискуссии о современной литературе» // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 252.
(обратно)148
Замятин Е. И. О литературе, революции, энтропии и о прочем // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 95–96.
(обратно)149
Замятин Е. И. Записные книжки. С. 50.
(обратно)150
Замятин Е. И. О синтетизме // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 76, 79.
(обратно)151
Письма Е. И. Замятина к Л. Н. Замятиной. 1906–1931 // Рукописные памятники. Вып. 3. Ч. 1. Рукописное наследие Е. И. Замятина. СПб., 1997. С. 22–23.
(обратно)152
См. наброски к диспуту 1926-27 годов «О современной критике», «О критиках», «О критике» // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 243–246.
(обратно)153
Замятин Е. И. О критике // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 246.
(обратно)154
Замятин Е. И. Я боюсь. С. 102.
(обратно)155
Замятин Е. И. Перегудам. От редакции «Русского современника» // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 131.
(обратно)156
Замятин Е. И. Я боюсь. С. 313–314.
(обратно)157
Замятин Е. И. О творчестве // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 253.
(обратно)158
Замятин Е. И. М. Горький // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 222.
(обратно)159
Замятин Е. И. Анатоль Франс // Замятин Е. И. Сочинения. С. 353–354.
(обратно)160
Резун М. А. Поэтика бессознательного в прозе Е. И. Замятина конца 1920-х годов («Ела», «Наводнение») // Вестник Томского гос. ун-та. Вып. 6 (15). Филология. Томск, 1999. С. 36–40.
(обратно)161
См. предисловие составителя (Е. И. Замятина. – М. X.) // Как мы пишем. М.: Книга, 1989. С. 5.
(обратно)162
См. примечания А. Галушкина к статье «Закулисы» // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 319–320.
(обратно)163
В одном из эмигрантских обзоров советской литературы (1933) Замятин еще раз проговаривается по этому поводу: «…И если Фрейд прав, когда говорит, что мечты и искусство равно служат для освобождения от навязчивых идей. » (Замятин Е. И. Русская литература. 1 // Я боюсь. С. 205).
(обратно)164
Отрывок из рукописи статьи «Закулисы», не вошедший в основной текст, – см. примечания Е. Барабанова: Замятин Е. И. Сочинения. М., 1988. С. 575.
(обратно)165
Ср.: «Творческий процесс проходит главным образом в таинственной области подсознания. Сознание, ratio, логическое мышление играет второстепенную, подчиненную роль. В момент творческой работы писатель находится в состоянии загипнотизированного (…). Вся трудность творческой работы в том, что писателю приходится совмещать в себе гипнотизера и гипнотизируемого – приходится гипнотизировать самого себя, самому усыплять свое сознание, а для этого, конечно, нужны очень сильная воля и очень живая фантазия»; «Моменты творческой работы очень похожи еще (…) на сновидение. Тогда сознание тоже наполовину дремлет, а подсознание и фантазия работают с необычайной яркостью (…). Мысль человека в обыкновенном состоянии работает логическим путем, путем силлогизмов. При творческой работе – мысль, как во сне, идет путем ассоциаций» (Замятин Е. И. Психология творчества // Литературная учеба. 1988. Кн. 5. С. 137–138).
(обратно)166
Замятин Е. И. Закулисы // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 158, 159.
(обратно)167
Там же. С. 167.
(обратно)168
Там же. С. 168.
(обратно)169
Кихней Л. Г. Указ. соч. С. 56.
(обратно)170
Замятин Е. И. Для сборника о книге // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 254.
(обратно)171
Замятин Е. И. Москва – Петербург // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 193.
(обратно)172
Работа В. В. Вейдле «Петербургская поэтика» (1968) посвящена влиянию акмеистского неотрадиционализма на русскую поэзию 1910-х годов и последующую эмигрантскую поэзию младшего поколения акмеистов.
(обратно)173
Замятин Е. И. Москва – Петербург // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 197.
(обратно)174
Там же. С. 201.
(обратно)175
Сам журнал виделся эмигрантам единственным опытом независимого литературного журнала в Советской России. В статье 1924 года «Российские журналы» М. Осоргин писал о «Русском современнике»: «Он собрал вокруг себя лучшие литературные силы России, и „старые“ и новые (…) стремится показать лучшее, что есть сейчас в новейшей русской литературе, – не ставя никаких политических изгородей и руководствуясь лишь критерием художественности» (Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 1. С. 133).
(обратно)176
Кривонос В. Ш. «Мертвые души» Гоголя и становление новой русской прозы. Проблемы повествования. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1985. С. 3.
(обратно)177
Силард Л. Поэтика символистского романа конца XIX – начала XX в. (В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Белый) // Проблемы поэтики русского реализма XIX века. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. С. 266.
(обратно)178
См.: Грякалова Н. Ю. От символизма к авангарду. Опыт символизма и русская литература 1910-1920-х годов (Поэтика. Жизнетворчество. Историософия). Дис… док. филол. наук. СПб., 1998.
(обратно)179
Как мы пишем. М.: Книга, 1989.
(обратно)180
См. подробную библиографию: Галушкин А. «Возвращение» Е. Замятина. Материалы к библиографии (1986–1995) // Новое о Замятине. М.: Изд-во «МИК», 1997. С. 203–324; Е. И. Замятин: Материалы к библиографии. Ч. I. Тамбов: Изд-во ТГУ, 1997; Ч. II. Тамбов, 2000.
(обратно)181
Назовем несколько фундаментальных зарубежных исследований, среди которых только работа Л. Геллера переведена на русский язык: Геллер Л. Слово мера мира. Статьи о русской литературе XX века. М., 1994; Richards D. J. Zamyatin: A Soviet Heretic. London, 1962; Shane A. The Life and Works of Evgenij Zamyatin. Berkley; Los Angeles, 1968; Franz N. Groteske Strukturen in der ProsaZamjatin s: Syntaktische, Semantiche und Pragmatische Aspekte. Munchen, 1980; Scheffler L. Evgenij Zamyatin: Sein Weltbild und sein Literarische Thematik. Koln, Wien, 1984; Russel R. Evgeny Zamyatin. Bristol, 1992; Gildner A. Proza Jewgienija Zamiatina. Krakow, 1993; Goldt R. Thermodynamik als Textem: Der Entropiesatz als poetologische Chiffre bei E. I. Zamjatin. Mainz, 1995.
(обратно)182
Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 9.
(обратно)183
Исчерпывающий сравнительный анализ традиционного для отечественного литературоведения представления о повествовании и принятого в нарратологии см.: Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 1. М.: Academia, 2004. С. 205–243.
(обратно)184
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Xудожественная литература, 1975. С. 403.
(обратно)185
См.: Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003; Женетт Ж. Работы по поэтике. Фигуры. М., 1998. Т. 2; Тюпа В. И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А. П. Чехова). Тверь: Тверской университет, 2001.
(обратно)186
См.: Корман Б. Изучение текста художественного произведения. М., 1972; Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской литературе XIX–XX веков. М., 1994; Stanzel F. K. Theorie des Erzahlens. 5. Gottingen, 1991; Бройтман С. Н. Историческая поэтика. М.: РГГУ, 2001; Манн Ю. В. Автор и повествование // Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994; Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 1. М., 2004.
(обратно)187
Тамарченко Н. Д. Повествование // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: НПК «Интелвак», 2004. С. 750.
(обратно)188
Единственное на сегодняшний день диссертационное сочинение О. В. Зюлиной (Повествовательная структура прозы Е. И. Замятина: Дис… канд. филол. наук. М., 1996) выполнено в традициях лингвостилистического подхода к анализу повествования как системы субъектов речи (См.: Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской литературе XIX–XX вв. М.: Институт Русского языка, 1994) и носит описательно-классификаторский характер.
(обратно)189
Трудно согласиться с В. Н. Евсеевым, решающим проблему метода Замятина до анализа поэтики прозы (Евсеев В. Н. Xудожественная проза Е. И. Замятина: Творческий метод. Жанры. Стиль. Дис… док. филол. наук. М., 2001).
(обратно)190
Мущенко Е. Г., Скобелев В. П., Кройчик Л. Е. Поэтика сказа. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1978. С. 9 (далее – «Поэтика сказа»).
(обратно)191
Левин В. Проза начала века (1900–1920) // История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж. Нива и др. М.: Изд. Группа «Прогресс» – «Литера», 1995. С. 293.
(обратно)192
Ханзен-Леве О. А. Русский формализм. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 511.
(обратно)193
Эйхенбаум Б. Лесков и современная проза // Эйхенбаум Б. Литература. Л.: Прибой, 1927. С. 222.
(обратно)194
Эйхенбаум Б. Указ. соч. С. 223–224. О том же пишет анализирующий творчество А. Белого В. Шкловский: «Современная русская проза в очень большей части своей орнаментальна, образ в ней преобладает над сюжетом. Некоторые орнаменталисты, как Замятин и Пильняк, зависят от А. Белого непосредственно, некоторые, как Всев. Иванов, не зависят, некоторые зависят от Пильняка и Замятина. Но создала их не зависимость, не влияние, а общее ощущение, что старая форма не пружинит» (Шкловский В. Орнаментальная проза // Шкловский В. О теории прозы. М.: Федерация, 1929. С. 216).
(обратно)195
Эйхенбаум Б. Лесков и современная проза. С. 214–215.
(обратно)196
Там же. С. 225.
(обратно)197
Виноградов В. В. Проблема сказа в стилистике // Виноградов В. В. Избр. труды: О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980. С. 53.
(обратно)198
Ханзен-Леве О. А. Указ. соч. С. 264–293.
(обратно)199
Шмид В. Нарратология. С. 193.
(обратно)200
Левин В. Указ. соч. С. 295.
(обратно)201
См.: Кожевникова П. А. Типы повествования в русской прозе XIX–XX веков. М.: Ин-т рус. языка РАН, 1994. С. 70–71; Поэтика сказа. С. 147 и др.; Левин В. Указ. соч. С. 295.
(обратно)202
См.: Семенов В. Б. Стилизация // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: НПК «Интелвак», 2001. С. 1030.
(обратно)203
Замятин Е. И. Техника художественной прозы // Литературная учеба. 1988. Кн. 6. С. 90. Особенности пунктуации Замятина сохраняются.
(обратно)204
Там же. С. 79–80.
(обратно)205
Модернистская трактовка авторской маски обнаруживается в книге «Лики творчества» М. Волошина, с которым Замятин близко общался: «…Маска составляет необходимое свойство лица. Маска – это как бы духовная одежда лица. Лицо не может встать из глубины духа, пока оно не обладает средствами самозащиты, но оно по желанию не может себя закрыть в минуту сокровенного волнения, не проявить себя в минуту глубокого личного переживания, наружно быть как все. Только то лицо – действительно лицо, которое может одним внутренним движением воли себя закрыть или себя выявить. Способности говорить правду лицом и скрывать ее развиваются одновременно» (Волошин М. Лики творчества. Л.: Наука, 1989. С. 403).
(обратно)206
Осовский О. Е. Маска авторская // Литературная энциклопедия терминов и понятий. С. 511.
(обратно)207
Беляева П. В. Поэтика маски в русском романе: интертекстуальные аспекты // Русская литература. Исследования: Сб. науч. трудов. Вып. VI. Киев: Логос, 2004. С. 38.
(обратно)208
О смене масок в литературе символизма см.: Паперный В. Поэтика русского символизма: персонологический аспект // Андрей Белый. Публикации. Исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 152–168.
(обратно)209
Полякова Л. В. Евгений Замятин в контексте оценок русской литературы ХХ века как литературной эпохи. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. С. 57–65; Давыдова Т. Т. Антижанры в творчестве Е. Замятина // Новое о Замятине. М.: Изд-во «МИК», 1997. С. 20–35; Попова И. М. Литературные знаки и коды в прозе Е. И. Замятина: функции, семантика, способы воплощения. Курс лекций. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. С. 22–42; Комлик П. П. Русская провинция и русский человек в прозе Е. И. Замятина: поэтика воплощения. Курс лекций. Елец: Изд-во ЕГУ, 2003. С. 9–67; Резун М. А. Малая проза Е. И. Замятина. Проблемы поэтики. Дис… канд. филол. наук. Томск, 1993. Гл. 1, 2.
(обратно)210
Слова «миф», «мифологический», употребленные здесь в значении «способ и структура мышления», далее используются и в значении «неосознанного существования, принятие на веру идей, представлений».
(обратно)211
Шайтанов И. Мастер // Вопр. литературы. 1988. № 12. С. 38–39.
(обратно)212
Ильев С. П. Русский символистский роман. Киев: Лыбидь, 1991. См. также: Долгополов Л. К. Символика личных имен в произведениях А. Белого // Культурное наследие Древней Руси. М.: Наука, 1976. С. 348–354.
(обратно)213
В. И. Тюпа обращает внимание на онтологизацию имени у художников и мыслителей неотрадициональной парадигмы, особенно в «имяславии» П. А. Флоренского и А. Ф. Лосева (Тюпа В. И. Постсимволизм: теоретические очерки русской поэзии ХХ века. Самара, 1998. С. 73). Ср.: «…В художестве – внутренняя необходимость имен – порядка не меньшего, нежели таковая же именуемых образов. Эти образы… суть не иное что, как имена в развернутом виде. Полное развертывание этих свитых в себя духовных центров осуществляется целым произведением, каковое есть пространство силового поля соответственных имен. (…) Имя – тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность» (Священник Павел Флоренский. Имена // Опыты. Литературно-философский ежегодник. М.: Советский писатель, 1990. С. 362).
(обратно)214
Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. Л.: Гослитиздат, 1936. С. 249.
(обратно)215
Замятин Е. И. Техника художественной прозы // Литературная учеба. 1988. Кн. 5. С. 140.
(обратно)216
Топоров В. П. Пространство и текст // Текст: семантика иструктура. М.: Наука, 1983. С. 258.
(обратно)217
Мифологическую сущность образа Барыбы уловил И. Шайтанов, когда писал, что Барыба – не психологический тип: «Если перед нами судьба – то не частная, если сознание – то не индии видуальное. Придя в мир, Барыба заполняет его до последнего предела, до потаеннейшего уголка. Он сам – воля и сознание этого мира» (Шайтанов И. Указ. соч. С. 39).
(обратно)218
Фрейденберг О. М. Указ. соч. С. 223–224.
(обратно)219
Там же. С. 224.
(обратно)220
Повести Е. И. Замятина с указанием страниц в скобках цитируются по: Замятин Е. И. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. М.: Русская книга, 2003.
(обратно)221
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977. С. 153.
(обратно)222
Цивьян Т. В. К семантике пространственных элементов в волшебной сказке // Типологические исследования по фольклору: Сб. статей памяти В. Я. Проппа. М.: Наука, 1975. С. 202.
(обратно)223
Топоров В. П. Пространство и текст. С. 259.
(обратно)224
Замятин Е. И. Техника художественной прозы. Кн. 6. С. 80–81.
(обратно)225
Ср.: «У Замятина (…) духовное переживание вещно. Он выбирает самых низких героев; это – полулюди, полузвери. Значительную внутреннюю жизнь он избегает изображать, внутреннее не противопоставляется внешнему. Если у Белого внешнее углубляется до степени духовной, то у Замятина наоборот: переживания берутся в природном плане. И человек, и вещь, и дерево, и камень – из одного и того же куска (…) Слова, жесты, описания, переживания и внешний мир – одинаковы. Диада души и мира преодолена. И это сделано художественно» (Бахтин М. М. Записи лекций по истории русской литературы. Замятин. // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 2. М.: Русские словари, 2000. С. 384–385).
(обратно)226
См. сходное замечание М. М. Бахтина, почти дословно совпадающее с сентенциями Замятина о «языке изображаемой среды»: «Замятин говорит о провинции ее языком, языка автора в его произведениях нет. Их язык и стиль не противопоставляются запутанности провинциальной жизни: это ее язык и стиль» (Бахтин М. М. Указ. соч. С. 386).
(обратно)227
Обобщающее обозначение субъектов речи – «нарратор» – используется только для указания на функции повествования «безотносительно к каким бы то ни было типологическим признакам» (Шмид В. Нарратология. С. 65).
(обратно)228
Бахтин М. М. Лекции… С. 384.
(обратно)229
«…Понятие маски исконно связано с авторефлексивностью, с попыткой определить собственное „я“ через „не-я“, роль, функцию» (Беляева П. В. Указ. соч. С. 42).
(обратно)230
Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. С. 223, 299.
(обратно)231
Кириллова И. В. А. Куприн – Е. Замятин: «Поединок» – «На куличках» – диалог или полемика? // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. X. Тамбов, 2000. С. 26.
(обратно)232
Воронский А. К. Евгений Замятин // Воронский А. К. Литературно-критические статьи. М.: Советский писатель, 1963. С. 91.
(обратно)233
Знаменательно читательское «узнавание» лиц, событий и мест, чему автор удивлялся в эссе «Закулисы» (Как мы пишем. М.: Книга, 1989. С. 31–32).
(обратно)234
Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. Киев, 1989. С. 427.
(обратно)235
А.К. Воронский писал: «Повесть („На куличках“. – М. X.) овеяна подлинным и трогательным лиризмом. Лиризм Замятина особый. Женственный. Он всегда в мелочах, в еле уловимом…» (Воронский А. К. Указ. соч. С. 91). Не потому ли мужские образы Замятина менее индивидуальны, что варьируют один и тот же образ, являясь автоописанием?
(обратно)236
Нельзя не отметить явного влияния Белого в номинации глав: названия во всех трех повестях подчеркнуто многофункциональны, включены в общее ассоциативное поле текста.
(обратно)237
Сакович А. Г. Русский настенный лубочный театр XVIII–XIX вв. // Примитив и его место в художественной культуре Нового и новейшего времени. М.: Наука, 1983. С. 58.
(обратно)238
Е.М. Мелетинский писал по поводу романов Т. Манна и Д. Джойса, что «десоциологизация» способствует некоторому, отчасти действительному, отчасти мнимому, сходству мифологического романа XX века с ранними формами романа, в которых еще не успели возникнуть социальные характеры, известную роль играла фантастика, связанная с пережитками подлинно мифологических традиций» (Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1967. С. 340).
(обратно)239
Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф-имя-культура // Труды по знаковым системам. VI. Тарту: ТГУ, 1973. С. 288. Город с именем Алатырь до сих пор существует в Ульяновской области.
(обратно)240
Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI–XIX веков М.: Московский рабочий, 1991. С. 39.
(обратно)241
«Стих относится к числу космогонических и дает одно из самых ярких представлений о древних народных воззрениях на устройство мира. Название трактуется двояко: как книга „глубинная“, т. е. мудрая, глубокая по содержанию; и как книга, полученная от Святого духа, символом которого в христианстве служит голубь. Сама Голубиная книга – символ Священного Писания» (Оксенов А.В. Народная поэзия. Былина, песни, сказки, пословицы, духовные стихи. Повести. С очерками главнейших отделов русской народной поэзии, объяснительным словарем и образцами напевов народных песен. СПб., 1908. С. 304).
(обратно)242
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. А-З. М.: Гос. изд-во иностр. и национальных словарей, 1955. С. 9–10 («Алатырь», «Алабор»).
(обратно)243
Ср.: «Белый латырь-камень всем камням мати. // На белом латыре на камени // Беседовал да опочив держал // Сам Исус Христос, Царь небесный, // С двунадесяти со апостолам, // С двунадесяти со учителям; // Утвердил он веру на камени, // Распущал он нигу Голубиную // По всей земле, по вселенныя, – // Потому латырь-камень всем камням мати» (Голубиная книга. С. 39).
(обратно)244
Варвара-собачея, кусающая своего отца – прозрачная аллюзия не только на принцип метаморфозы Гоголя (Попова И. М. Гоголевское слово как выражение авторской позиции в повести Е. И. Замятина «Алатырь» // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. IV. Тамбов, 1997), но и на мотив метемпсихоза у Ф. Сологуба, закодированный в имени героини.
(обратно)245
В романе «Мы» победившее «государство эсперанто» примет христианскую символику.
(обратно)246
«Вадбольский»: 1) имеет русскую этимологию – обр. от с. Вадбола, неподалеку от г. Белозерска, Вологодской области (Федосюк Ю. Русские фамилии. М.: Детская литература, 1981. С. 44); 2) «звук имени» воспроизводит принцип образования некоторых русских фамилий по названию мест, находящихся во владении князя: «В-ад-больский» – «князь из ада».
(обратно)247
Г. П. Федотов так писал об этом: «высочайший смысл культуры – богопознание и гимн Богу, раздвигающий храмовую молитву до пределов Космоса. Известное явление – непереводимость самых глубоких и тонких оттенков языка, так же, как и недоступность (или малая доступность) чуждых форм искусства – указывает на исключительность национальных призваний. Они непереводимы, как языки, и страшно, духовно мертвенно их смешение – во всяком эсперанто» (Федотов Г. П. Национальное и вселенское // О России и русской философской культуре: Сб. статей. М.: Наука, 1990. С. 480).
(обратно)248
Слово Esperanto (псевдоним варшавского врача Л. Заменгофа, создавшего искусственный язык в 1887 году) означает «надеющийся» (БСЭ. М.: Совестская энциклопедия, 1978. С. 251).
(обратно)249
Даль В. Толковый словарь… Т. 1. С. 10.
(обратно)250
На важность мотива слова в повести, но безотносительно к семантике алатыря-камня, впервые указала Н. Н. Комлик (Комлик П. П. Русская провинция и русский человек в прозе Е. И. Замятина. С. 18).
(обратно)251
Повышенное внимание Замятина к имени героев на протяжении всего творчества свидетельствует не только о наличии мифологического мирообраза, но и близости к философам и писателям неотрадиционалистской (В. И. Тюпа) ориентации. Сон Кости сбудется в безымянности героев романа «Мы».
(обратно)252
Н.Р. Скалон, отмечая близость замятинского нарратора образу простонародного рассказчика, «сказывающего» свои лукавые истории» с целью реабилитации народного здравого смысла, все же уточняет: «Автор – скептик. Но скептицизм его – особого рода. Он сочетает в себе скепсис просвещенного человека, владеющего языком современной науки и философии (хотя „прямо“ это знание и не проявляет), и чисто народную хитрецу, трезвую и лукавую недоверчивость ко всякого рода быстрым и скорым решениям житейских проблем» (Скалон П. Р. Будущее стало настоящим (Роман Е. Замятина «Мы» в литературно-философском контексте): Учеб. пос. Тюмень: ИПЦ «Экспресс», 2004. С. 21).
(обратно)253
Сказки Е. И. Замятина с указанием страниц в скобках цитируются по: Замятин Е. И. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. М.: Русская книга, 2003.
(обратно)254
Неелов Е. М. Натурфилософия русской волшебной сказки. Петрозаводск: ПГУ, 1989. С. 27.
(обратно)255
Пресняков О. О принципах стилевого анализа литературы XX века (Андрей Белый «Петербург») // XX век. Литература. Стиль: Стилевые закономерности русской литературы XX века (1900–1950) / Отв. ред. В. В. Эйдинова. Екатеринбург: УрГУ, 1998. Вып. 3. С. 24.
(обратно)256
Бройтман С. П. Историческая поэтика. М.: РГГУ, 2001. С. 297–298.
(обратно)257
А. Компаньон остроумно заметил, что «если литература говорит о литературе, этот факт не мешает ей говорить также и о внешнем мире» (Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. С. 148).
(обратно)258
Козьменко М. В. Проблемы стилизации в русской прозе десятых годов XX века: Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1988. С. 7.
(обратно)259
Кожевникова П. А. О типах повествования в советской прозе // Вопросы языка современной русской литературы. М., 1971. С. 109.
(обратно)260
Мущенко Е. Г., Скобелев В. П., Кройчик Л. Е. Поэтика сказа. Воронеж: ВГУ, 1978. С. 178.
(обратно)261
Исаев С. Г. «Сознанию незнаемая мощь.» Поэтика условных форм в русской литературе начала XX века / НовГУ им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2001. С. 95–97.
(обратно)262
Рассказы Е. И. Замятина цитируются с указанием страниц в скобках по: Замятин Евг. Избранные произведения. М.: Советский писатель, 1989.
(обратно)263
Поэтика сказа. С. 175–178.
(обратно)264
Кряж – «твердая, отдельная часть чего-либо, составляющая по себе целое», «о человеке – крепыш, здоровяк (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 1881. Т. 2. С. 208).
(обратно)265
Встречи с Б. М. Кустодиевым // В мире книг. 1987. № 6. С. 36.
(обратно)266
В орнаментальной прозе «композиционно-стилистические арабески (…) вытесняют элементы сюжета, от слова независимого» (Жирмунский В. Вопросы теории литературы. Л., 1928. С. 48).
(обратно)267
Даль В. Толковый словарь… Т. 2. С. 218.
(обратно)268
Кожевникова Н. А. Из наблюдений над неклассической («орнаментальной») прозой // ИАН СЛЯ. 1976. Т. 35. № 1. С. 58.
(обратно)269
«Орнаментальная проза ассоциативна и синтетична. В ней ничто не существует обособленно, само по себе, все стремится отразиться в другом, слиться с ним, перевоплотиться в него, все связано, переплетено, объединено по ассоциации, иногда лежащей на поверхности, иногда очень далекой» (Кожевникова Н. А. Указ. соч. С. 58).
(обратно)270
«Куны» являются фрагментом незавершенной повести Замятина «Полуденница» (1916). В ней языческая греховность героини Маринки («морская», водная семантика имени обусловливает стихийность натуры) усилена: она страстно влюблена в священника и ждет от него ответных чувств.
(обратно)271
Раздобреева И. Вступительная статья // Кустодиев Б. Картины народного быта. М.: Изобразительное искусство, 1971. С. 14.
(обратно)272
Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. С. 243.
(обратно)273
Замятин Е. И. Техника художественной прозы // Литературная учеба. 1988. Кн. 5. С. 137.
(обратно)274
Там же. Кн. 6. С. 85.
(обратно)275
Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Опыты. Литературно-философский сборник. М., 1990.
(обратно)276
См.: Гольдт Р. Религиозный кризис и протест против мира отцов // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. III. Тамбов: ТГУ, 1997. С. 28–33; Давыдова Т. Т. Антижанры в творчестве Е. И. Замятина // Новое о Замятине: Сб. мат-лов под ред. Л. Геллера. М., 1997. С. 20–35; Лебедев А. «Святой грех» Зеницы Девы, или что мог прочитать инок Еразм // Там же. С. 36–55; Комлик Н. Н. Русский эрос в народной эстетике и творчестве Е. Замятина (на материале рассказа «О том, как исцелен был инок Еразм») // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. 7. Тамбов, 2000. С. 85–94.
(обратно)277
См.: Лебедев А. Указ. соч. С. 37; Комлик Н. Н. Указ. соч. С. 85.
(обратно)278
«Чудеса» цитируются с указанием страниц в скобках по: Замятин Евг. Избранные произведения. М.: Советский писатель, 1989.
(обратно)279
Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьихминей св. Дм. Ростовского. Кн. 5. М., 1904. С. 189–190.
(обратно)280
Жития святых… Кн. 4. М., 1903. С. 388.
(обратно)281
Жития святых… Кн. 3. М., 1905. С. 142–143.
(обратно)282
«Гуманистические ценности, сочувствие, „человечность“ – чужды житию. Все чувства святого направлены к господу, передним все его поступки, а не перед людьми и не ради людей» (Берман Б.И. Читатель жития // Художественный язык Средневековья. М., 1982. С. 176).
(обратно)283
Письма Е. И. Замятина к Л. Н. Замятиной. 1906–1931 // Рукописные памятники. Вып. 3. Ч. 1. Рукописное наследие Е. И. Замятина. СПб., 1997. С. 63.
(обратно)284
Лебедев А. Указ. соч. С. 36.
(обратно)285
О Еразме-черноризце, который растратил имение свое на святые иконы и за них спасенье получил. Слово 21 / Киево-Печерский патерик // Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 509–511.
(обратно)286
О преподобном Спиридоне просвирнике и об Алимпии иконописце. Слово 34 // Там же. С. 587–99.
(обратно)287
Там же. С. 589.
(обратно)288
Жития святых… Кн. 4. С. 257–259.
(обратно)289
Там же. С. 259.
(обратно)290
О преподобном Спиридоне… С. 589.
(обратно)291
Н. Н. Комлик (Указ. соч. С. 87–88) указывает на языческий праздник семика, паралельного христианской пятидесятнице в русском православии, что подтверждает ее концепцию эротической проблематики произведения (дух / тело). Но здесь важен и первый смысл христианского праздника – «рождение церкви», который сохраняется благодаря близости Еразма агиографическим героям. Таким образом, двойственная семантика праздника становится ключом к пониманию миссии Еразма: его искусство будет воплощением трансцендентного идеала в реальную, зримую, осязаемую форму.
(обратно)292
О чем справедливо пишет в своей работе Н. Н. Комлик, однако тема творчества оказывается в ее концепции на периферии.
(обратно)293
Тырышкина Е. В. Русская литература 1890-х – начала 1920-х годов: от декаданса к авангарду. С. 48.
(обратно)294
Т. Давыдова рассматривает рассказ об Еразме как «античудо», чудо от дьявола, конец которого контрастирует с самим произведением: «Но видение [Марии. – М. X.] исчезает, а исцеление Еразма от «огня страстного» воспринимается автором и читателем как ложный «happy end» (…). Таков же финал антиутопии «Мы» (…), в котором показано исцеление Д-503 от бывшей у него души» (Указ. соч. С. 32).
(обратно)295
Кихней Л. Г. Акмеизм: Миропонимание и поэтика. М., 2001.
(обратно)296
«Под влиянием таких утопических мыслителей, как Николай Федоров и Владимир Соловьев, символистское поколение (…) стремилось заменить „детородную“ любовь новой формой эроса. Утопическая идея Федорова о воскрешении умерших отцов требовала от сыновей и дочерей взаимного воздержания и предлагала заменить „волю к размножению“ „волей к воскрешению“. Эротическая утопия Соловьева тоже отвергала продолжение рода, ибо деторождение, с его точки зрения, лишь увековечивало круговорот жизни-смерти; вслед за Платоном и сонмом неоплатоников, Соловьев утверждал андрогинный эротический идеал в противовес заурядной любви между смертными мужчинами и женщинами. Последователи философа, Мережковские, поставили под сомнение половой акт как таковой, создав новую форму эротического союза, плодом которого предполагался не ребенок, но высшая андрогинная любовь» (Матич О. Суета вокруг кровати. Утопическая организация быта и русский авангард // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 81).
(обратно)297
Голубева О. Д. «Автографы заговорили…» М., 1991. С. 227–228.
(обратно)298
Ср.: «…Поэтическое мышление акмеистов было пронизано идеей философско-эстетических аналогий, уподоблений. Отсюда – поэт не может быть демиургом, но может подражать ему. Если творение нашего мира мыслится как результат творческого акта высшей субстанции, то и создание художественного произведения тоже можно мыслить как аналог божественного творения (…) В подобном же ключе трактовали феномен творчества и русские православные мыслители. Н. О. Лосский пишет: „Субъект (я) есть субстанция и притом субстанция не только знающая, но и живущая, т. е. творящая новое бытие. Вспомним о (…) музыкальном творчестве композитора. Музыкальное произведение есть сложное целое, в котором множественность частей не есть хаос, а органическое целое, в нем все элементы согласны друг с другом, и это возможно только потому, что творец его есть существо, парящее над временною и пространственною множественностью“» (Кихней Л. Г. Указ. соч. С. 5).
(обратно)299
См. выражение Замятина «новый католицизм», «католически-правоверный» писатель в статье «Я боюсь» (Замятин Е. Я боюсь. С. 52–53).
(обратно)300
Два последних «чуда» автор включил в сборник своих произведений с одноименным названием, изданный в 1927 году.
(обратно)301
Как мы пишем. С. 25.
(обратно)302
Фрагмент не вошел в окончательный вариант статьи и опубликован Е. Барабановым – в кн.: Замятин Е. Сочинения. М., 1988. С. 575.
(обратно)303
Комлик Н. Н. Мотивная структура рассказа Е. Замятина «Ела» и ее роль в воплощении особенностей национального характера // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. VIII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. С. 162–172; Иванова Т. В. Северный цикл Е. И. Замятина («Север», «Африка», «Ела») // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. XII. С. 297–305.
(обратно)304
Желтова Н. Ю. Проза Е. И. Замятина: пути художественного воплощения русского национального характера. Тамбов: Издво ТГУ, 2003. С. 14–70.
(обратно)305
Характерно, что Н. Н. Комлик, исследующая мотивную структуру рассказа «Ела» в связи с особенностями национального характера, в основном обнаруживает экзистенциальные мотивы (игры, судьбы, плаванья как свободы, пира, дна, безумия); этот ряд завершается своеобразным маркером – мотивом стены.
(обратно)306
Как мы пишем. С. 37.
(обратно)307
Шмид В. Орнаментальный текст и мифическое мышление в рассказе Е. Замятина «Наводнение» // Русская литература. 1992. № 2. С. 56–67.
(обратно)308
Не зря же Замятин боготворил Флобера. Г. Адамович в некрологе «О Е. И. Замятине» вспоминал: «Однажды его (Замятина. – М. X.) ученик, довольно талантливый юноша, пренебрежительно отозвался о Флобере. Замятин, всегда уравновешенный и спокойный, пришел в ярость. «Да знаете ли вы, что такое Флобер? Да прочли ли вы в подлиннике хоть одну его страницу? Да понимаете ли вы, что этот человек сделал для нас всех, для меня, для вас?.. Флобер! Вам следовало бы неделю молчать, прежде, чем произнести имя его»» (Евгений Замятин и культура ХХ века. С. 397).
(обратно)309
В пространстве художественного мира Замятина «объективность персонального повествования» есть продолжение и развитие на новом этапе творчества приоритета «показа» перед «рассказом», манифестированного в лекциях по технике художественной прозы и в творчестве 1910-х годов реализованного в поэтике орнаментального сказа. Ср.: «По определению Ф. Штанцеля, „персональный“ роман – это роман, не имеющий рассказчика в том смысле, что читатель нигде не может обнаружить его личные черты и потому даже не выносит впечатления, что что-то рассказывается. Жизнь в персональном романе показывается, выводится, изображается» (Бройтман С. Н. Историческая поэтика. С. 282).
(обратно)310
Манн Ю. В. Об эволюции повествовательных форм (вторая половина XIX века) // ИАН СЛЯ. Т. 51. № 1. 1992. С. 51.
(обратно)311
См.: Замятин Е. И. Техника художественной прозы (Чехов. Пьесы) // Литературная учеба. 1988. Кн. 6.
(обратно)312
Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. Ч. 1: П-Я. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей. М., 1959. С. 49.
(обратно)313
Как отметила Н. Н. Комлик, опираясь на В. Даля, на севере название норвежского парусного судна «ела» означает и «удачу, счастье» (Комлик Н. Н. Указ. соч. С. 163). Добавим, что «желтый», «золотой» цвет судна и волос его хозяйки актуализирует античную и символистсую семантику плаванья за идеалом – золотым руном.
(обратно)314
Shane Alex T. The Life and the works of E. Zamjatin. 1961. P. 190–191; Richards D. S. A Soviet Heretik. London, 1968. P. 83–85.
(обратно)315
Новеллы Е. Замятина с указанием страниц в скобках цитируются по: Замятин Е. И. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. М.: Русская книга, 2003.
(обратно)316
Richards D. S. Op. cit. P. 86–89.
(обратно)317
Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопр. философии. 1989. № 1. С. 140.
(обратно)318
Там же. С. 141.
(обратно)319
Шмид В. Указ. соч. С. 61, 65.
(обратно)320
Юнг К. Г. Указ. соч. С. 140.
(обратно)321
«В принятом (…) широком („эйзенштейнообразном“) смысле монтаж – такой принцип построения любых сообщений (знаков, текстов и т. п.) культуры, который состоит в соположении в предельно близком пространстве – времени (…) хотя бы двух (или сколь угодно большего числа) отличающихся друг от друга по денотатам или структуре изображений, самих предметов (или их названий, описаний и любых других словесных или иных знаковых соответствий (или же целых сцен) в этом последнем случае обычно опредмечиваемых)» (Иванов Вяч. Вс. Монтаж как принцип построения в культуре первой половины XX века // Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино. М., 1988. С. 119–120).
(обратно)322
Монтажное видение позволяет выйти к бытию предмета не его изображением («бытие не изобразимо, оно не может быть также представлено знаком, оно может быть только выражено»), но его воссозданием (выражением). «Один предмет – многосущностен в одно и то же время. Монтаж есть выведение к бытию через „скачки“ от кадра к кадру, через скачкообразную смену ракурсов. Монтаж утверждает (…), что выйти к бытию можно только через зияние, через „отруб“ (выражение В. Шкловского) одного события от другого. Из зияния пауз и пустот бытие выступает именно в своем бытийном, а не сущностном определении» (Туманова Л. Стиль. Стилизация. Стиль поведения // Человек. 1990. № 6. С. 164–165).
(обратно)323
Подробное исследование системы эквивалентностей и мифических отождествлений представлено в указанной статье В. Шмида.
(обратно)324
«Фрагментация и одновременность явления одноплановые. Там, где есть последовательный ряд развития, там мы предполагаем, что одно явление съедается (снимается – в философской терминологии) другим – перестает существовать как самостоятельное, самодовлеющее. Одновременность предполагает „равноправное“ значение кусков, восстановление всех прошлых кусков в их праве быть в настоящем» (Туманова Л. Указ. соч. С. 164).
(обратно)325
Знаменательно, что в 1920-е годы Замятин предъявляет к прозаическому произведению требования новеллы. В лекциях по технике художественной прозы он обращает внимание начинающих писателей прежде всего на фабулу: «Развитие фабулы – то же, что и в драме: завязка, развитие действия, развязка», предельная краткость («всегда лучше недоговорить, чем переговорить»), «очень дурной прием – авторские ремарки, рассказывающие о тех ощущениях героев, которые уже показаны в действии» и т. д. (Замятин Е. Техника художественной прозы // Литературная учеба. 1988. Кн. 5. С. 139–143).
(обратно)326
Лотман Ю. М. Текст в тексте // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 567. Текст в тексте. Труды по знаковым системам. Тарту, 1981. С. 13.
(обратно)327
Там же. С. 10.
(обратно)328
Тименчик Р. Д. Текст в тексте у акмеистов // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 567. Текст в тексте. Труды по знаковым системам. Тарту, 1981. С. 65.
(обратно)329
Абашева М. П. Литература в поисках лица (русская проза в конце XX века: становление авторской идентичности). Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2001. С. 22.
(обратно)330
Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм. С. 46–47.
(обратно)331
Ср.: «Вставное произведение должно складываться на наших глазах, так или иначе исследовать само себя и тем самым прямо влиять на постепенное формирование произведения внешнего (…) „Роман в романе“, таким образом, превращается в „роман о романе“, причем о том самом, который создается по ходу изложения» (Бак Д. П. История и теория литературного самосознания: Творческая рефлексия в литературном произведении. Кемерово: КГУ, 1992. С. 23).
(обратно)332
Ланин Б., Боришанская М. Русская антиутопия XX века. М., 1994. С. 52; Евсеев В. «Я – перед зеркалом»: перволичная форма повествования и полифункциональность приема «зеркальности» в антиутопии Е. И. Замятина // Творческое наследие Е. Замятина: взгляд из сегодня. Кн. V. Тамбов: Изд-во ТГУ, 1997. С. 148–158.
(обратно)333
Гольдт Р. Последнее убежище личности. Записки Д-503 и психология личности в подлинных дневниках межвоенного периода // Евгений Замятин и культура XX века. СПб.: Изд-во Российской нац. б-ки, 2002. С. 37–63; Любимова М. Ю. Биография Е. И. Замятина: Источники для реконструкции // Там же. С. 30–31.
(обратно)334
Скороспелова Е. Русская проза XX века. От А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго»). М.: ТЕИС, 2003. С. 219; Кольцова Н. З. «Мы» Евгения Замятина как неомифологический роман: Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1998. С. 19–20.
(обратно)335
Скалон Н. Р. Будущее стало настоящим (роман Е. Замятина «Мы» в литературно-философском контексте). Тюмень: ИПЦ «Экспресс», 2004.
(обратно)336
Петерс Й.-У. Я и Мы. Трансформация авторского «Я» в автора дневника в романе Е. Замятина «Мы» // Автор и текст: Сб. статей / Под ред. В. М. Марковича, В. Шмида. СПб., 1996. С. 437–439.
(обратно)337
«Роман о рождении романа, литература о новом открытии литературы, „Мы“ полон рефлексии. Начиная с заголовка, (…) „Мы“ рассказывает историю романа „Мы“. Он рассказывает собственную историю не только как историю возрождения литературного жанра, но и – вслед за Шкловским и Стерном – физическую историю самой рукописи. Запись 4-я, например, сообщает об упавшей на нее слезе, а в записи 19-й Д-503 прикрывает страницамирукописи „Мы“ выдающий его тайну розовый талон» (Морсон Г. Границы жанра // Утопия и утопической мышление. М.: Прогресс, 1991. С. 242).
(обратно)338
Скороспелова Е. Указ. соч. С. 229.
(обратно)339
Пискунова С. «Мы» Е. Замятина: Мефистофель и Андрогин… // Вопр. литературы. 2004. № 6 (Ноябрь-декабрь). С. 99–114.
(обратно)340
Геллер Л. В «дивном храме» соответствий. «Мы» Е. Замятина и диалог прозы с живописью // Геллер Л. Слово мера мира. Статьи о русской литературе XX века. М., 1994. С.79 и др.
(обратно)341
Долгополов Л. К. Е. Замятин и В. Маяковский (к истории создания романа «Мы») // Русская литература. 1988. № 4. С. 182–185.
(обратно)342
Доронченков И. А. Об источниках романа Е. Замятина «Мы» // Русская литература. 1989. № 4. С. 188–199.
(обратно)343
Скалон Н. Р. Указ. соч. С. 39–40.
(обратно)344
Геллер Л. Указ. соч. С. 78–96.
(обратно)345
Дубин Б. В. Быт, фантастика и литература в прозе и литературной мысли 20-х годов // Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 164.
(обратно)346
См.: Воробьева С. Ю. Концепция мира и человека в повести Е. Замятина «Островитяне» // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. XII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2004. С. 312–318.
(обратно)347
Замятин Е. И. Закулисы // Как мы пишем. М.: Книга, 1989. С. 30.
(обратно)348
Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М: Сирин, 1990. С. 736.
(обратно)349
Скороспелова Е. Б. Замятин и его роман «Мы». М.: МГУ, 2002; Давыдова Т. Т. Русский неореализм: идеология, поэтика, творческая эволюция. М.: Флинта, 2005. С. 189.
(обратно)350
Ср.: «Наррация как воплощение самосознания и выступает в замятинском романе процедурой „распрограммирования“ героя – высвобождение его из-под контроля ничьего языка и вездесущего господства…» (Дубин Б. В. Литература как фантастика: письмо утопии // Дубин Б. В. Слово – письмо – литература. Очерки по социологии современной культуры. М.: НЛО, 2001. С. 36).
(обратно)351
Ср.: «…Этот стиль („математизированная, машинизированная проза“. – М. X.) имеет в романе особое значение как актуальная полемика и пародия языка, идеологии и практики Пролеткульта и конструктивистов, и, с другой стороны, как проявление модернистской, конструктивистской сущности писательского метода самого Замятина, который вносит в литературу дух авангардного искусства» (Геллер Л. Указ. соч. С. 95). Не предполагает ли, в таком случае, сознательная автопародия и поиска другого типа творчества, альтернативного дискредитируемым?
(обратно)352
Белый А. Искусство // Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 242.
(обратно)353
Тырышкина Е. В. Русская литература 1890-х – начала 1920-х годов: от декаданса к авангарду. Новосибирск: НГПУ, 2002. С. 34.
(обратно)354
Кихней Л. Г. Акмеизм: Миропонимание и поэтика. М.: МАКС Пресс, 2001. С. 14–34; Тюпа В. И. Постсимволизм: Теоретические очерки русской поэзии XX века. Самара: OOO Научно-внедренческая фирма «Сенсоры, Модули, Системы», 1998. С. 96–143.
(обратно)355
Бердяев Н. Кризис искусства. М.: СП Интерпринт, 1990. С. 9.
(обратно)356
Замятин Е. И. Записные книжки. С. 50.
(обратно)357
Замятин Е. О синтетизме // Замятин Е. Я боюсь. М.: Наследие, 1999. С. 79, 76.
(обратно)358
См.: Тюпа В. И. Постсимволизм: Теоретические очерки русской поэзии XX века. Самара, 1998. С. 44–95; статьи Е. Добренко, X. Гюнтера, Б. Гройса, А. Флакера, К. Кларк, И. Есаулова, Т. Лахузена см.: Вопр. литературы. 1992. Вып. 1 (Тоталитаризм и культура. С. 4–221); Вып. 3 (Авангард вчерашний и сегодняшний. С. 115–191).
(обратно)359
Гюнтер X. Железная гармония (государство как тотальное произведение искусства) // Вопр. литературы. 1992. Вып. 1. С. 27–41.
(обратно)360
Тюпа В. И. Постсимволизм. С. 53.
(обратно)361
Замятин Е. И. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. Русь. М.: Русская книга, 2003. Далее роман Е. И. Замятина цитируется с указанием страниц в скобках.
(обратно)362
Приведенная В. И. Тюпой цитата из В. Луговского читается как парафраз на Замятина: «Хочу позабыть свое имя и званье, / На номер, на литер, на кличку сменять» (Тюпа В. И. Указ. соч. С. 73).
(обратно)363
Гройс Б. Рождение социалистического реализма из духа русского авангарда // Вопр. литературы. 1992. Вып. I. С. 46–47.
(обратно)364
Кроме указанных работ Л. К. Долгополова, И. А. Доронченкова, Н. Р. Скалона, см.: Brown E. J. Russian Literature since the Revolution. New York, 1982. P. 55; Scheffler L. Evgeniy Zamjatin: Sien Weltbild und sien literarischt Thematik. Koln; Wien, 1984. S. 186.
(обратно)365
Поросшие шерстью зверолюди за Зеленой Стеной и связанные с ними Мефи отсылают к обезьяньему ордену А. М. Ремизова как «антимиру», в котором, в сане епископа Замутия, состоял и Замятин (Обатнина Е. «Обезьянья Великая и Вольная Палата». Игра и ее парадигмы // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 185–217; Доценко С. Обезвелволпал А. М. Ремизова как зеркало русской революции // Europa orientalis. XVI / 1997: 2. С. 305–319). «Волосатость» «заболевшего душой» Д противостоит лысине Благодетеля, что является «полной утратой связи с „естественностью“ (Скалон Н. Р. Указ. соч. С. 71). Кроме того, «волосатые руки» является автоописанием Замятина-автора, близкого своему герою («…Жесты его (Замятина. – М. X.) волосатых рук были спокойны, он курил медленно» – Чуковский К. Дневник: 1901–1929. М.: Сов. писатель, 1991. С. 186).
(обратно)366
Подробнее о семантике желтого цвета см.: Вязова Е. С. Желтый цвет: от декаданса до авангарда // Символизм в авангарде. М.: Наука, 2003. С. 69–82.
(обратно)367
Если читать роман психоаналитически, то удаление фантазии у нумеров – это тонкая пародия на широко распространившийся в это время в России фрейдомарксизм, поставивший себе целью переделку человеческого сознания путем тотального анализа (Эткинд А. Эрос невозможного: Развитие психоанализа в России. М.: Гнозис – Прогресс-Комплекс, 1994. С. 171–214). М. Ю. Любимова, исследующая конкретные источники биографии и художественного творчества Замятина, предложила «документальную» интерпретацию сюжетного хода «прижигания Х-луча-ми узелка фантазии» как уничтожения искусства. Ю. Анненков, писавший портрет Ленина в 1921 году, передает слова вождя пролетариата по поводу роли искусства в советском государстве, которые не могли не быть известны Замятину, тесно общавшемуся с художником в этот период: «…Искусство для меня, это (…) что-то вроде интеллектуальной прямой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его дзык, дзык! Вырежем. За ненужностью…» (Любимова М. Ю. Биография Е. И. Замятина. Источники для реконструкции // Евгений Замятин и культура ХХ века. С. 27).
(обратно)368
В статье «Завтра» Замятин писал: «Единственное оружие, достойное человека – завтрашнего человека – это слово» (Замятин Е. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М.: Наследие, 1999. С. 49).
(обратно)369
Невозможность обрести собеседника в потомках свидетельствует о трезвом понимании Замятиным скорой утраты своего читателя в Советской России.
(обратно)370
Скалон Н. Р. Указ. соч. С. 36.
(обратно)371
Замятин Е. И. Техника художественной прозы. Кн. 6. С. 87.
(обратно)372
См. указ. соч. Н. Р. Скалона, Е. Б. Скороспеловой, С. Пискуновой и др.
(обратно)373
Десятов В. В. Мы, Адамы (Замятин и акмеизм) // Творчество Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. V. Тамбов: ТГУ, 1997. С. 94–105.
(обратно)374
См.: Воробьева С. Ю. Роман Е. Замятина «Мы»: поэтика диалогического // Русский роман ХХ века: Духовный мир и поэтика жанра: Сб. науч. тр. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2001. С. 154–159.
(обратно)375
См.: Кольцова Н. З. «Мы» Е. Замятина как неомифологический роман: Дис… канд. филол. наук. М., 1997.
(обратно)376
Е. Б. Скороспелова заметила, что у Замятина прошлая культура «проступает» в современности как истинная, а современная становится мнимостью (Скороспелова Е. Б. Замятин и его роман «Мы». С. 31).
(обратно)377
«Адама акмеисты трактовали как первого поэта и мыслили себя „современными Адамами“ не из-за их „звериных добродетелей“ (как иронически заметил Гумилев в своем манифесте), а в связи с их пафосом семантического первооткрывательства. Согласно Книге Бытия, именно Адам нашел для вещей имена, придав им тем самым статус осмысленного существования в человеческой сфере (Кихней Л. Г. Акмеизм: Миропонимание и поэтика. С. 41).
(обратно)378
В 1928 году Замятин знаменательно оговорится: «Мои дети – мои книги; других у меня нет» (Замятин Е. Я боюсь. С. 254).
(обратно)379
Пискунова С. «Мы» Е. Замятина: Мефистофель и Андрогин… // Вопр. литературы. 2004. № 6 (Ноябрь-декабрь). С. 114.
(обратно)380
В работе 1915 года «Мир как органическое единство» Н. О. Лосский, например, писал: «Музыкальное произведение есть сложное целое, в котором множественность частей не есть хаос, а органическое целое; в нем все элементы согласны друг с другом и существуют друг для друга, и это возможно только потому, что творец есть существо, парящее над временною и пространственною множественностью» (Лосский Н. О. Избранное. М.: Правда, 1991. С. 372–373).
(обратно)381
См. подробнее об этом: Скалон Н. Р. Указ. соч. С. 41–59.
(обратно)382
Замятин Евгений. Записные книжки. М.: Вагриус, 2001. С. 49.
(обратно)383
Высказывания I-330, повторяемые Замятиным в статьях 1920-х годов, об ошибочности всех истин и отсутствии последнего числа читаются как цитаты из «Апофеоза беспочвенности» Л. Шестова.
(обратно)384
Гольдт Р. Мнимая и истинная критика западной цивилизации в творчестве Е. И. Замятина. Наблюдения над цензурными искажениями пьесы «Атилла» // Russian studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб., 1996. Т. II. № 2. С. 322–350; Полякова Л. В. О «скифстве» Евгения Замятина: художник в полемике «западников» и «славянофилов». Контур проблемы // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. VII. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. С. 12–46; Геллер Л. Апология беспорядка. Е. И. Замятин и постмодернистские теории хаоса // Евгений Замятин и культура ХХ века: Исслед. и публ. СПб.: Изд-во Российской нац. б-ки, 2002. С. 156–168; Ерыкалова И. Е. К истории создания пьесы Е. И. Замятина «Атилла» // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. III. С. 137–158; Она же. О рукописи романа Е. И. Замятина «Бич Божий»: из парижского архива писателя // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. IX. Тамбов, 2000. С. 159–175; Она же. Рим в романе Е. И. Замятина «Бич Божий» // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. XII. Тамбов, 2004. С. 378–384; Давыдова Т. Т. Тема «заката Европы» в дилогии Е. Замятина об Атилле // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. VII. Тамбов, 2000. С. 94–104; Комлик Н. Н. «…Согласно истории Иловайского…» // Комлик Н. Н. Лебедянский путеводитель: Учебн. пос. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2003. С. 33–54; Лядова Е. А. Историософская и структурно-поэтическая парадигма трагедии Е. И. Замятина «Атилла»: Автореф. дис… канд. филол. наук. Тамбов, 2000.
(обратно)385
См.: Геллер Л. Уникальность творческого почерка (?) // Кредо. Ежемесячный научно-популярный и литературно-художественный областной независимый журнал. Тамбов, 1995. № 10–11. С. 10–21.
(обратно)386
См.: Давыдова Т. Т. Антижанры в творчестве Е. И. Замятина // Новое о Замятине: Сб. мат-лов под ред. Л. Геллера. М., 1997. С. 20–35; Попова И. М. Чужое слово в творчестве Е. И. Замятина (Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский): Автореф. дис… док. филол. наук. М., 1997. С. 18–28; Воробьева С. Ю. Поэтика диалогического в прозе Е. И. Замятина 1910-20-х годов: Автореф. дис… канд. филол. наук. Волгоград, 2001. С. 7–11.
(обратно)387
См.: Полякова Л. В. Указ соч. С. 12–46; Комлик Н. Н. Русская провинция и русский человек в прозе Е. И. Замятина: поэтика воплощения: Курс лекций. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2003. С. 55–67.
(обратно)388
«Дуализм как фатальное проявление „конца истории“ и диагностируется Замятиным. Безблагодатный мир, хаотический и падший, скован правилами арифметики („скрижалями“) в структуру, приведен к идеально простой закономерности (…) Структура – эквивалент закона, его воплощение. А этот закон утверждает мир в разрыве (…) Разорван и человек; душа признается ненужной (…) Дуальная (бинарная) оппозиция, как ни парадоксально это звучит, становится у Замятина своеобразным предметом изображения. Диахронии как преемственности противопоставлена синхроническая типология: „они“ – „мы“. Эта типология манифестирует о разорванности универсума и человека» (Скалон Н. Р. Будущее стало настоящим (роман Е. Замятина «Мы» в литературно-философском контексте). Тюмень: ИПЦ «Экспресс», 2004. С. 87–88).
(обратно)389
Ср. размышления Ф. Степуна о кризисе науки в ХХ веке: «Ученая книга Шпенглера явный вызов науке. Этот вызов не мог иметь успеха в довоенной Германии, довоенной Европе. Успех этого вызова психологически предполагает некую утрату веры в науку, как в верховную силу культуры, очевидно означает происходящий во многих европейских душах кризис религии науки (…) Наука, эта непогрешимая созидательница европейской жизни, оказалась в годы войны страшною разрушительницей. Она глубоко ошибалась во всех предсказаниях. Все ее экономические и политические рассчеты были неожиданно опрокинуты жизнью (…) И вот на ее место ученым и практиком Шпенглером выдвигается дух искусства, дух гадания и пророчества…» (Степун Ф. О. Шпенглер и закат Европы // Освальд Шпенглер и закат Европы. 1923. С. 33).
(обратно)390
О циклических архаических идеях как оправдании истории пишет М. Элиаде: «…Эта повторяемость имеет определенный смысл: повторение наделяет события реальностью. События повторяются, потому что они подражают архетипу: образцовому Событию. Кроме того, путем повторения время прерывается или, в крайнем случае, смягчается его разрушительный характер» (Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб.: Алетейя, 1998. С. 139).
(обратно)391
Блок А. А. Собр. соч: В 6 т. Т. 4. Л.: Худ. лит-ра, 1982. С. 350–351.
(обратно)392
Отметим, что у писателей совершенно разное представление о стихии (природе). Если для Замятина, стихия природы – всеобъемлющая онтологическая категория, то Блок пишет в цитированной статье: «Стихия разумеется и в смысле природы, и в смысле разнузданной человеческой сущности. Понятие стихии объединяет одинаково и косную, неподатливую материю, и землетрясение, и революцию, и, пожалуй, косность и равнодушие людское» (Блок А. А. Указ. соч. С. 351).
(обратно)393
Цит. по: Ерыкалова И. К истории создания пьесы «Атилла». С. 138.
(обратно)394
Цит по: Ерыкалова И. О рукописи романа Е. И. Замятина «Бич Божий»: из парижского архива писателя. С. 161.
(обратно)395
Гольдт Р. Мнимая и истинная критика западной цивилизации в творчестве Е. И. Замятина. Наблюдения над цензурными искажениями пьесы «Атилла». С. 322–350; Полякова Л. В. О «скифстве» Евгения Замятина. С. 12–46. Р. Гольдт свидетельствует, что в одном из первых эмигрантских выступлений, в декабре 1931 года в Праге, Замятин назвал Шпенглера «одним из самых дальнозорких Гамлетов нашего времени», который «одним из первых осознал глубину кризиса, поразившего современный мир» (Гольдт Р. Указ. соч. С. 324).
(обратно)396
«Пьеса в том виде, как мы ее знаем по первой, посмертной публикации в 1950 г., имеет два узла трагического конфликта: сверх-индивидуально-исторический в виде столкновения высококультурной, но уже перешагнувшей свой зенит Римской империи с варварскими гуннскими кочевниками, с одной стороны, и индивидуальный – любовная интрига между Атиллой, роковой женщиной – бургундской принцессой Ильдегондой и ее римским женихом Вигилой, с другой» (Гольдт Р. Указ. соч. С. 337).
(обратно)397
Комлик Н. Н. Указ. соч. С. 47. Близкую позицию занимает и Т. Т. Давыдова, которая пишет, что Замятин в исторической дилогии продемонстрировал «критическое отношение к западноевропейской цивилизации с верой в обновление, которое должны были принести стареющей Европе более молодые „хуны“ – русские» (Давыдова Т. Т. Творческая эволюция Евгения Замятина в контексте русской литературы 1910-1930-х годов: Автореф. дис… док. филол. наук. М., 2001. С. 39).
(обратно)398
Цит. по: Полякова Л. В. О «скифстве» Евгения Замятина: художник в полемике «западников» и «славянофилов». Контур проблемы. С. 39.
(обратно)399
Зооморфные характеристики имеют и другие персонажи, но их «идентификаторы» – не хищные звери: Гонорий – петух, Плацидия – птица, «двойственный» Басс – щенок с вывернутым наизнанку ухом и обезьяна, копирующая цивилизованного человека.
(обратно)400
Эту содержательную характеристику автором героя Р. Гольдт находит в одном из автографов романа, хранящегося в ИМЛИ (ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 1. Ед. хр. 131) – цит. по: Гольдт Р. Указ. соч. С. 347.
(обратно)401
Давыдова Т. Т. Указ. соч. С. 99–100.
(обратно)402
Лядова Е. А. Указ. соч. С. 20.
(обратно)403
Ерыкалова И. Е. Приложение // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. IX. Тамбов, 2000. С. 176, 177, 181.
(обратно)404
Текст романа с указанием страниц в скобках цитируется по: Замятин Е. И. Мы: Романы, повести, рассказы, сказки. М.: Современник, 1989.
(обратно)405
Наличие фольклорного хронотопа в дилогии об Атилле свидетельствует не только и не столько о национальной принадлежности Атиллы (как считают, например, Н. Н. Комлик и Е. А. Лядова), сколько о мифологическом мышлении автора, воплощенном в мифологической структуре произведения.
(обратно)406
Приск Понийский, на свидетельства которого в основном опирался Замятин, и другие историки дают версию естественной смерти Атиллы, но автор избирает версию, по которой Атилла убит германской невестой.
(обратно)407
Ерыкалова И. Рим в творчестве Е. И. Замятина. С. 382.
(обратно)408
Исследуемые в романе Е. Замятина характеристики Рима и немногочисленные элементы его архитектурного «пейзажа» (напр.: «многоэтажные громады», «темные дворы», «узкий каменный колодец» и др.) соотносятся с составляющими архитектурного описания Петербурга. Например, в романе используются такие устойчивые характеристики Рима как зыбкость, непрочность (…) Это описание Рима аналогично описанию Петербурга-Ленинграда в рассказе Замятина «Лев» (1935) (Трофимова О., Винокуров Ф. Современность сквозь призму истории в русской литературе 1920-30-х гг. (на примере рассказов «В пустыне» и «Родина» Л. Лунца и романа Е. Замятина «Бич Божий» // Русская филология. 14. Сб. науч. работ молодых филологов. Тарту: Изд-во ТГУ, 2003. С. 128). О метафоре «Петербург есть Рим» в эмигрантской литературе см.: Исупов К. Г. Русская эстетика истории. СПб.: Изд-во ВГК, 1992. С. 150–152.
(обратно)409
См.: Давыдова Т. Т. Тема «заката Европы» в дилогии Е. И. Замятина об Атилле. С. 98–99.
(обратно)410
Ерыкалова И. Е. О рукописи романа Е. И. Замятина «Бич Божий». С. 178–179.
(обратно)411
Замятин Е. И. Атилла // Современная драматургия. 1990. № 1. С. 213.
(обратно)412
Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм. Екатеринбург, 1997. С. 49.
(обратно)413
Вписывая произведение Замятина в ряд метатекстовых «романов о романе», Т. Т. Давыдова противоречит собственной концепции об историке-ученом (Давыдова Т. Т. Тема «заката Европы» в дилогии об Атилле. С. 101–102).
(обратно)414
Тавризян Г. М. О. Шпенглер, И. Хейзинга: две концепции кризиса культуры. М.: Искусство, 1989. С. 44–45.
(обратно)415
В разъяснениях автора «К постановке пьесы „Атилла“ слышна не столько социальная конъюнктура, сколько служение собственной утопии: „…Суд истории над Атиллой состоялся… приговор был вынесен. Атилла и гуны – варвары, разрушители, злодеи. Такими же злодеями еще недавно были Пугачев, Разин… Меня заинтересовала задача изменить установившийся взгляд на гуннов и Атиллу – фигуру куда более крупную. Такая ревизия старых исторических концепций теперь естественна и закономерна и основания для нее есть…“» (Цит. по: Ерыкалова И. К истории создания пьесы Е. И. Замятина «Атилла». С. 146).
(обратно)416
Цит. по: Ерыкалова И. К истории создания драмы Е. И. Замятина «Атилла». С. 155.
(обратно)417
Цит. по: Комлик Н. Н. Указ. соч. С. 43.
(обратно)418
Цит по: Гольдт Р. Указ. соч. С. 344.
(обратно)419
См.: Давыдова Т. Т. Указ. соч. С. 95.
(обратно)420
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1895. С. 93–94.
(обратно)421
Л. Рейснер, например, назвала его «прозаиком-акмеистом», «ювелиром, знатоком и любителем слова». В этой характеристике содержится не только оценка «мастерства», унаследованного акмеистами от парнасцев, но и характер реабилитации реальности – в отношении к сознанию, «слову – творчеству» (Цит. по: Туниманов В. А. Замятин // Русские писатели, XX век. Библиографический словарь: В 2 ч. Ч. 1: А-Л. М.: Просвещение, 1998. С. 518).
(обратно)422
Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе. М.: Высшая школа, 2005. С. 25.
(обратно)423
Ср.: «Рецензенты нередко говорили о писательской старомодности и даже провинциальности М. А. Осоргина, о его неприятии новейших веяний в словесности. Он, действительно, как и Бунин, тяготел к классической школе с ее идеалами простоты и соразмерности, нетерпимости к любой эстетической фальши. Среди его кумиров – Пушкин (особенно нравилась его проза), С. Т. Аксаков (привлекал богатством и сочностью языка), Гончаров, Тургенев, отчасти Лесков и Чехов. В вечном споре „О Толстом и Достоевском“ (в эмиграции его продолжали И. А. Бунин и Д. С. Мережковский) М. А. Осоргин безоговорочно был на стороне Толстого» (Ласунский О. Г. Михаил Осоргин: структура, качество и эволюция таланта // Михаил Осоргин: Жизнь и творчество. Матлы первых Осоргинских чтений / Пермский университет. Пермь, 1994. С. 12).
(обратно)424
Мочульский К. Мих. Осоргин. Чудо на озере // Современные записки. 1932. № 50. С. 495; Слоним М. Осоргин – писатель // Новое русское слово. 1942. 20 дек.
(обратно)425
Удивительно, что даже эстетически близкий Осоргину «лирик прозы» Б. К. Зайцев критиковал его за фрагментарность и рыхлость композиции.
(обратно)426
Струве Г. Русская литература в изгнании. Paris, 1984. С. 274.
(обратно)427
Абашев В. В. Осоргин и Набоков: вероятность встречи // Михаил Осоргин: Жизнь и творчество. С. 28–37.
(обратно)428
Ср.: «Используя метафоры „Весны в Фиальте“, можно сказать, что концепция произведения – прозрачного окна в реальный мир начала оспариваться концепцией произведения – многоцветного витража, ценного самого по себе помимо его отношения к внешней реальности (…) К концу 1930-х годов в прозе Осоргина подспудно вызревают и стилистически обнаруживают себя черты именно такого понимания художественного творчества» (Абашев В. В. Указ. соч. С. 32).
(обратно)429
Ло Гатто 9. Мои встречи с Россией. М.: Круг, 1992. С. 43–44.
(обратно)430
«Обитатель» – один из псевдонимов, которым Осоргин подписал цикл своих рассказов (Обитатель. Окликание весны // Последние новости. 1930. № 3280. 16 марта – цит. по: [Осоргин, 1992. С. 15]).
(обратно)431
Авторы вступительной статьи «Воспитание души» О. Ю. Авдеева и А. И. Серков приводят протоколы заседаний масонской ложи «Северная звезда», в которую входил Осоргин, и цитируют отчет одного из членов Переверзева: «Чувство родины, не поддающееся никакому рационалистическому определению, входит целиком в масонское восприятие мира, пламень его горит на алтаре нашего храма» (Осоргин Мих. Вольный каменщик. М.: Московский рабочий, 1992. С. 11).
(обратно)432
Кондаков И. В. К феноменологии русской интеллигенции // Русская интеллигенция. История и судьба. М.: Наука, 2000. С. 82.
(обратно)433
Роман М. А. Осоргина цитируется с указанием страниц в скобках по: Осоргин Мих. Вольный каменщик. М.: Московский рабочий, 1992.
(обратно)434
Интерпретация романа сквозь призму масонской символики представлена в диссертации Г. И. Лобановой (Лобанова Г. И. Эволюция нравственного сознания «маленького человека» в романах М. Осоргина 1920–1930 годов: Дис… канд. филол. наук. Уфа, 2002. С. 108–144).
(обратно)435
Розенкрейцерство имело две стороны: духовно-нравственную и научно-философскую. Первая боролась против упадка нравственности в обществе, вызванного отчасти отсутствием просвещения (…); вторая стремилась дать положительное знание, в противность скептицизму энциклопедистов (…) Главное основание этики розенкрейцеров – познание самого себя и указание идеалов, к которым должен стремиться человек (…) Надо сделаться безгрешным, каким был Адам до падения, а для этого необходимо самоусовершенствование» (Лучинский Г. Франк-масонство // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Т. XXXV (72). С. 512–513).
(обратно)436
Серков А. И. Комментарии // Осоргин Мих. Вольный каменщик. С. 328.
(обратно)437
Антология даосской философии. М., 1994. С. 25–26.
(обратно)438
Ср.: «Понятие „интеллигенция“ в русском языке, в русском сознании любопытным образом эволюционирует: сперва это „служба ума“, потом „служба совести“ и, наконец, (…) „служба воспитанности“ (…) (Служба совести. – М. X.) проявляет себя не в отношениях с природой и не в отношениях с равными, а в отношениях с высшими и низшими – с властью и народом (…) Именно в этом смысле интеллигенция является специфическим явлением русской жизни второй половины XIX – начала XX в.» (Гаспаров М. Л. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность // Русская интеллигениция. История и судьба. М., 2000. С. 9). Герой Осоргина испытывает чувство вины перед подчиненным Ришаром, но оказывается непреклонен в отстаивании своих этических принципов в разговоре с директором компании по поводу распространения порнографического журнала.
(обратно)439
Ср.: «С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине (…) Интеллигенция (…) корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья.» (Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. Из глубины: Сб. статей о русской революции. М.: Правда, 1991. С. 17).
(обратно)440
В своей публицистике Осоргин много писал о прагматизме буржуазной эпохи. Например, по поводу одного из представителей вымирающего типа русских интеллигентов: «Личное дело, „торопливость в делании добра“ уже не идут в счет там, где раздается проповедь созидания общечеловеческого счастья любыми мерами, вплоть до единичного и массового убийства, где „сегодня“ приносится в жертву гуманному будущему. (…) Вымерли чудаки, люди малых дел, утрированные филантропы, их сменили вожди, люди грандиозных заданий, командиры вооруженных спасателей человечества» (Осоргин Мих. Утрированный филантроп // Последние новости. 1936. № 5754. 25 дек. – цит. по: Осоргин Мих. Вольный каменщик. С. 14).
(обратно)441
Название отсылает к Помголу, активным организатором и участником которого был Осоргин, подвергшийся за это тюремному заключению, смертному приговору, замененному Нансеновским паспортом.
(обратно)442
Профессор рисует Егору Егоровичу картину тоталитарного рая, явно напоминающую Единое Государство Е. И. Замятина, с которым Осоргин общался в России и в эмиграции, и написал статью «Евгений Замятин» (Осоргин М. А. Евгений Замятин // Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 1. М.: Олимп, 2002. С. 142–148).
(обратно)443
Иванов Вяч. Вс. Интеллигенция как проводник в ноосферу // Русская интеллигениция. История и судьба. М., 2000. С. 51.
(обратно)444
В исследованиях Т. А. Бакуниной, жены М. А. Осоргина, «Знаменитые русские масоны» и «Русские вольные каменщики» указаны и государи, и государственные деятели, которые в романе не названы. В заключении предисловия к парижскому изданию, подписанном В. К. (Вольный Каменщик), неизвестный автор утверждает близкую Осоргину мысль о генетической связи русской интеллигентской культуры с масонством (Бакунина Т. А. Знаменитые русские масоны. Русские вольные каменщики. М.: Интербук, 1991. С. 9).
(обратно)445
Масоны. История, идеология, тайный культ. М.: Вече, 2005. С. 218–224.
(обратно)446
Ср.: Московское розенкрейцеровское общество (…) – это свободолюбивое литературное объединение, и религиозное собрание (…) Профессор Шварц, Новиков или Семен Гамалея были для учеников настоящими старцами – наставниками, учителями в жизни и в искании Бога. С ними начинается традиция просветителей-подвижников, публицистов-защитников заветных ценностей, готовых пострадать за них. Философия воспринимается как жертвенное служение истине; они берут на себя миссию передачи святого учения, становятся средствами и жертвами просвещения. Развивается в новиковском кружке тот культ Братства, основанного на единстве духовных идеалов, который станет наследием последующим поколениям: экзальтация дружбы и любви среди братьев, идея совокупных усилий во имя общей цели, отрицание личной, отделенной от братства жизни будут характерными чертами и кружка Зеленой Лампы, и декабристов» (Фарджонато Р. Розенкрейцеровский кружок Новикова: предложение нового этапа этического идеала и образа жизни // Новиков и русское масонство: матлы конф. 17–20 мая 1994 г. Коломна. М., 1996. С. 41).
(обратно)447
Масонство XVIII века его исследователи называли «первым кружком русской интеллигенции» (Семека А. К. Русское масонство в 18 веке // Масонство в его прошлом и настоящем: В 2 т. 1914–1915. М., 1991. С. 134). Р. М. Байбурова, например, относит московских масонов XVIII в. к русской интеллигенции, т. к. на первый план они выдвинули «проблемы нравственного самосовершенствования и совестливого, уважительного отношения человека к человеку, братской любви, подтолкнувших русское общество к восприятию этих истин» (Байбурова Р. М. Московские масоны эпохи Просвещения – русская интеллигенция XVIII в. 2000. С. 250).
(обратно)448
Т. В. Марченко, например, не видит связи между интеллигентностью героя и его масонской деятельностью. Ср.: «Егор Егорович, несмотря на весь масонский антураж, которым окружает его автор, остается русским интеллигентом XIX столетия, носителем интеллигентского нравственного кодекса, с его безусловной, как бы этого ни не хотелось Осоргину, связью с христианскими заповедями. В противопоставлении мира русского интеллигента европейской цивилизации XX века, технотронной и фальшивой, коренится основная проблема книги Осоргина, наиболее остро поставленная и интересно решаемая» (Марченко Т.В. Творчество М. А. Осоргина 1922–1942: Дис… канд. филол. наук. М., 1994. С. 79–80)
(обратно)449
В последнем романе Осоргина представление о едином культурно-природном круговороте, «рассеянное» в самой архитектонике ранних романов, приобретает осознанность философской концепции, воплощенной в мировоззрении героя. Ср. размышления В. В. Мароши о романах «Сивцев вражек» и «Времена»: «(Семейная хроника. – М. X.) вплетается в художественную концепцию природно-культурного круговорота, организма, где все живое – единицы «тела Вселенной». Традиционный для русской прозы начала века «пантеизм» соединяется с ностальгическим воображаемым возвращением в лоно русского мифа. Это возвращение «весны в Фиальте», циклическая образность природокультуры, компенсирующая разрыв с реальной Россией, стала одним из главных сюжетов изгнания» (Мароши В. В. Ласточка в интертекстуальности и скрипции романа М. Осоргина «Сивцев вражек» // Михаил Осоргин: Жизнь и творчество. С. 45).
(обратно)450
Известно, что у Осоргина был участок земли с домиком в Сен-Женевьев де Буа. Т. А. Бакунина-Осоргина вспоминала: «Своими руками обработанная земля, выращенные из черенков розы, акация, развившаяся из тоненького стебелька в громадное дерево, – все это создавало свой особый мир, позволяло уходить от тягостей жизни в природу, заполняло пустоту и безнадежность, которая с годами чувствовалась все сильнее» (Cahiers du Monde Russe Sovietique. Vol. XXV (2–3). April – Septembre. 1984. Paris. – цит. по: Осоргин Мих. Вольный каменщик. С. 7). Розы и акацию как культовые растения, символизирующие единство природы и культуры, выращивает и герой Осоргина.
(обратно)451
О. Мандельштам в статье «Конец романа» назвал «мерой романа» «человеческую биографию».
(обратно)452
Это подтверждают и существующие интерпретации «Вольного каменщика» как романа о «маленьком человеке» (Лобанова Г. И. Эволюция нравственного сознания «маленького человека» в романах М. Осоргина 1920–1930 годов: Дис… канд. филол. наук. Уфа, 2002).
(обратно)453
Сегал Д. М. Литература как охранная грамота. С. 65.
(обратно)454
Ср.: «М. Осоргин проводит ревизию прежних нравственных ценностей в новых исторических условиях. Благотворительность, оказанная бесчестному человеку, попустительствует пороку, знания не приносят героям счастья, а мелкая благотворительность не спасает мир» (Лобанова Г. И. Указ. соч. С. 22). См. также: Марченко Т. В. Указ. соч. С. 84–86; Абашев В. В. Указ. соч. С. 28–37.
(обратно)455
Последние годы жизни Осоргина (еще одна эмиграция, теперь уже от фашистов – в Шабри) подтверждают, что сознательно выстроенному личному мифу он следовал. Писатель воспроизводил обстоятельства жизни своего героя: (в других условиях, поэтому «тайно») «выезжал в Париж для встречи с вольными каменщиками, его посещали в Шабри, хотя и редко, друзья-ученики по ложе „Северные Братья“» (Серков А. И. Масонское наследие Осоргина // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский госуниверситет. Пермь, 2006. С. 74).
(обратно)456
Тем же желанием защитить сокровенное объясняется и использование автором хронотопа кукольного театра в момент разговора Е. Е. Тетехина с профессором Панкратовым о главном – о сохранении русскости, гибели культуры в современном мире и наступлении тоталитарной системы. Однако сцена завершается подтверждением подлинности происходящего: «Конечно, мы неточно воспроизводим разговор старых друзей и побочные события» [С. 149]; кукольный театр – лишь целомудренный камуфляж, но не подмена жизненных ценностей.
(обратно)457
Как уже отмечалось, семантика имени (Лоллий Романович – «дважды римлянин», Панкратов – «всевластный») и статус профессора биологии (познающего природу) опять же воплощают идею природокультуры.
(обратно)458
Ср.: «Миросозерцание, основанное на наблюдении природы и на полном с нею слиянии (…) утверждает потерянную веру картинами подлинного рая, высокого и вдохновенного благополучия, гармоничного общения, доведенной до идеала взаимопомощи живых существ. С той же простотой и убедительностью оно отвечает на самые проклятые вопросы о добре и зле, уничтожая сами эти понятия, так как в природе их нет, они придуманы нами (…) Познание природы есть открытие сущности вещей и их взаимоотношения, познание бытия. Никакой другой задачи не может быть у того, кто ищет истину, кто хочет определить свое место в природе, свое отношение к живущему, потому что без этого он не может построить ни своей жизни, ни жизни общества. Иной задачи нет ни у науки, ни у творчества, ею поглощается вся наша духовная работа» – Осоргин М. Доклады и речи. Париж, 1949. – цит. по: Авдеева О. Ю. «Природа мертвой не бывает…» (О книге Михаила Осоргина «Происхождение зеленого мира») // Михаил Осоргин: Художник и журналист. Пермь, 2006. С. 69.
(обратно)459
В своих воспоминаниях об Осоргине Б. К. Зайцев, отмечая разные формы его неустанной «жизнеустроительной» деятельности (экскурсовода в Италии, организатора «Книжной лавки», члена Помгола, старшины в камере на Лубянке, страстного огородника и коллекционера), воссоздает портрет не столько писателя, сколько деятельной и неуспокоенной личности, сопротивляющейся обстоятельствам, в том числе и художественным творчеством. Пространство жизни для Осоргина всегда было неизмеримо шире пространства культуры, может быть, поэтому, свидетельствует Зайцев, на родину его тянуло «больше, чем кого-либо» из эмигрантских писателей (Зайцев Б. К. Осоргин // Зайцев Б. К. Собр. соч.: В 5 т. Т. 6 (доп.). Мои современники: Воспоминания. Портреты. Мемуарные повести. М.: Русская книга, 1999. С. 357).
(обратно)460
В исследовательской литературе неоднократно отмечалось, что «Времена» имеют сложную жанровую организацию, не являясь собственно автобиографией, мемуарами или воспоминаниями, а, скорее, «романом души» (Т. В. Марченко). И здесь жизнь довлеет над литературой, требуя повторного «проживания» ключевых моментов судьбы.
(обратно)461
«Чайковский. История одинокой жизни», 1936; «Бородин», 1938; «Курсив мой», 1969; «Железная женщина: Рассказ о жизни М. И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее друзьях», 1981; «Люди и ложи»: Русские масоны ХХ столетия», 1986.
(обратно)462
В конце 1980-х годов, в связи с началом публикации на родине произведений Берберовой и ее приездом в Россию (1989), заговорили о «буме на Берберову», который не привел, однако, к систематическим исследованиям ее творчества.
(обратно)463
«Последние и первые: Роман из эмигрантской жизни» (Париж, 1930); «Повелительница» (Берлин, 1932); «Без заката» (Париж, 1938).
(обратно)464
Берберова Н. Курсив мой. Автобиография: В 2 т. Нью-Йорк, 1983. Т. 2. С. 409.
(обратно)465
Рассказы 1928–1940 годов, созданные в Париже и опубликованные в «Последних новостях».
(обратно)466
Шесть рассказов 1934–1941 годов, опубликованные в журнале «Современные записки».
(обратно)467
Берберова Нина. Рассказы в изгнании. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1994.
(обратно)468
См. письмо И. А. Бунина к Н. Н. Берберовой от 2 августа 1935 года с восторженной оценкой «Аккомпаниаторши» (Берберова Н. Н. Курсив мой. Т. 1. С. 299).
(обратно)469
«Аккомпаниаторша» не только многократно переиздавалась на многих языках, но и экранизировалась во Франции, как и «Биянкурские рассказы» (Берберова Нина. Рассказы в изгнании. С. 333).
(обратно)470
В предисловии к публикации в России «Железной женщины» А. Вознесенский указал на необычность жанра, характеризуя его как «инфроман, роман-информацию, шедевр нового стиля нашего информативного времени, ставшего искусством» (Берберова Н. Н. Железная женщина. М.: Кн. Палата, 1991. С. 5). Эта характеристика произведения, созданного во второй половине ХХ века, может быть распространена и на первый этап творчества Берберовой, также основанного на «правде факта», исторического документа. В этой связи уместно привести и размышления писательницы о драме русской эмигрантской литературы, так и не создавшей нового языка прозы: «Наше новое тогда могло быть только в мутациях содержания (…) Но мутации содержания без обновления стиля – ничего не стоили, не могли оживить того, что по существу мертвело. „Безвоздушное пространство“ (отсутствие страны, языка, традиций, и – бунта против них, как организованного, так и индивидуального) было вокруг нас не потому, что не о чем было писать, а потому, что при наличии тем – общеевропейских, российских, личных, исторических и всяких других – не мог быть создан стиль, который бы соответствовал этим темам (…) Здесь я сужу не только мое поколение, но и себя самое…» (Берберова Н. Курсив мой. Т. 2. С. 406).
(обратно)471
Высокая оценка автором своих повестей 1930-х годов в период подведения итогов своей литературной деятельности (в 1960-е годы, в «Курсиве.») говорит в пользу их эстетической зрелости (Берберова Н. Курсив мой. Т. 2. С. 409).
(обратно)472
Берберова Н. Набоков и его «Лолита» // Неизвестная Берберова: Роман, стихи, статьи. СПб.: Лимбус Пресс, 1998. С. 153.
(обратно)473
«Уже в 1931-м я параллельно с „Биянкурскими праздниками“ начала писать рассказы собственным голосом, отказавшись от рассказчика, а в 1934-м окончательно освободилась от него (…) Начался другой период, может быть, менее социологически интересный, но, несомненно, художественно более зрелый, приведший меня к моим поздним рассказам сороковых и пятидесятых годов, в которых я уже полностью отвечаю и за иронию, и за основную позицию автора-рассказчика в целом» (Берберова Н. Биянкурские праздники и другие рассказы (1928–1940). Предисловие // Октябрь, 1989. № 11. С. 124).
(обратно)474
Повесть «Аккомпаниаторша» с указанием страниц в скобках цит. по: Берберова Нина. Рассказы в изгнании. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1994.
(обратно)475
«Курсив мой» дает материал для автобиографических параллелей (сложные отношения Н. Н. Берберовой с матерью), однако «позор» в реальной жизни автора был связан с другой ситуацией: Н. Б. предложила гимназической подруге поменяться родителями, что стало известно и в гимназии, и дома (Берберова Н. Н. Курсив мой. Т. 1. С. 50–56).
(обратно)476
Размышляя о результатах своего долгого жизненного пути и духовного развития, Н.Н. Берберова признавалась: «Всякий дуализм для меня болезнен. Моей природе противно всякое расщепление или раздвоение (…) Вся жизнь моя была примирением в себе самой противоречий: все разнообразные и часто противоположные черты во мне теперь слиты. Я давно уже не чувствую себя состоящей из двух половинок, я физически ощущаю, как по мне проходит не разрез, но шов. Что я сама есть шов. Что этим швом, пока я жива, что-то сошлось во мне, что-то спаялось, что я-то и есть в природе один из примеров спайки, соединения, слияния, гармонизации, что я и живу недаром, но есть смысл в том, что я такая, какая есть: один из феноменов синтеза в мире антитез» (Берберова Н. Курсив мой. С. 31–32).
(обратно)477
Зайцевых Б.К. и В.А. связывала с Н.Н. Берберовой сорокалетняя дружба. Очень требовательный критик произведений реалистически ориентированных прозаиков старшего поколения эмиграции, Берберова делает существенную оговорку о творчестве Б. К. Зайцева: «Как писатель он (Б.К. Зайцев. – М. X.) во многих отношениях тоньше Бунина…» (Берберова Н. Н. Курсив мой. С. 308).
(обратно)478
У Олеши Кавалеров также обуреваем стремлением разрушить неуязвимость своего кумира: «Мне хочется поймать его на чем-то, обнаружить слабую сторону, незащищенный пункт» (Олеша Ю. К. Зависть. Три Толстяка. Рассказы. М.: Олимп, 1998. С. 32).
(обратно)479
О своем восприятии повести Олеши Н. Н. Берберова писала в своей автобиографии: «…Летом 1927 года я прочитала „Зависть“ и испытала мое самое сильное литературное впечатление за много лет. Это было и осталось для меня крупнейшим событием в советской литературе. передо мной была повесть молодого, своеобразного, талантливого, а главное – живущего в своем времени писателя, человека, умевшего писать и писать совершенно по-новому, как по-русски до него не писали, обладавшего чувством меры, вкусом, знавшего, как переплести драму и иронию, боль и радость, и у которого литературные приемы полностью сочетались с его внутренними приемами собственной инверсии, косвенного (окольного) показа действительности. Он изображал людей, не поддаваясь при этом изображении соблазну „реализма“, давал их в собственном плане, на фоне собственного видения мира, со всей свежестью своих заповедных законов (…) Сознательность его в осуществлении задач и контроль над этим осуществлением, и превосходный „баланс“ романа были поразительны. Осуществлено было нечто, или создано, вне связи с „Матерью“ Горького, с „Цементом“ Гладкова и вне „Что делать?“ Чернышевского, – но непосредственно в связи с „Петербургом“ Белого, с „Шинелью“, с „Записками из подполья“ – величайшими произведениями нашей литературы» (Берберова Н. Курсив мой. Т. 1. С. 371–372). Во время приезда Берберовой в Россию в 1989 году на встречах с читателями и журналистами неизменно возникал разговор об Олеше: «…Гордостью моей был Юрий Олеша. Я открыла для эмиграции его „Зависть“ – одно из самых ярких, на мой взгляд, произведений русской литературы XX века. Опубликовала восторженную рецензию, что вызвало. весьма разноречивую реакцию в русском Париже. Олеша для меня всегда был на первом месте» (Не только курсив (С Ниной Берберовой беседует К. Привалов) // Литературная газета, 1989. № 20. С. 15).
(обратно)480
Ср.: «Теперь я пишу репертуар для эстрадников: монологи и куплеты о фининспекторе, совбарышнях, нэпманах и алиментах» (Олеша Ю. К. Зависть… С. 43).
(обратно)481
См.: Новиков Вл. «Человек-артист» и давление времени // Олеша Ю. Каверин В. Проза. М.: Слово, 2001. С. 5–12.
(обратно)482
В романе Зайцева панэстетизм героини не станет препятствием к религиозному развитию, а естественно подготовит его как этап греховной молодости, предшествующий религиозной взрослости («не отречешься от него»). У героини Берберовой религиозный вектор отсутствует, что обусловлено мировоззрением автора.
(обратно)483
Прохладно относящаяся к творческой продукции писателей старшего поколения эмиграции Берберова безоговорочно признавала за «отцами» их учительскую роль для младшего поколения, и для себя в частности, осознавая культуру как передачу традиции от поколения к поколению. В конце 1920-х годов она посвятила Мережковским стихотворение об этом:
Труд былого человека, Дедовский, отцовский труд, Девятнадцатого века Нескудеющий сосуд Не давайте сбросить внукам Этой ноши с ваших плеч, Не внимайте новым звукам: Лжет их воровская речь. Я иду за вами тоже, Я, с протянутой рукой, Дай в ладонь мою, о Боже, Капле пасть хотя б одной! (обратно)484
Современный исследователь творчества Ю. Олеши отмечает, что «"зависть" у него превращается в синоним „гордости“, когда речь идет о преклонении перед великими талантами и готовности соперничать с ними», ссылаясь на высказывание самого писателя (Олеша Ю. Книга прощания. М., 1999. С. 40): «…Зависть и честолюбие есть силы, способствующие творчеству, и стыдиться их нечего, это не черные тени, остающиеся за дверью, а полнокровные могучие сестры, садящиеся вместе с гением за стол» (Афанасьева А. С. Польская тема в мемуарной прозе Ю. Олеши («Книга прощания») // Методика преподавания славянских языков как иностранных с использованием технологии диалога культур: Мат-лы II Междунар. науч. конф. (22–23 сентября 2006 г.). Вып. 3. Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2007. С. 135).
(обратно)485
Ср.: «Введение внешнего текста в имманентный мир данного текста играет огромную роль. С одной стороны, в структурном смысловом поле текста внешний текст трансформируется, образуя новое сообщение (…) Однако трансформируется не только он – изменяется вся семиотическая ситуация внутри того текстового мира, в который он вводится (…) В этих условиях составляющие его („материнский“ текст. – М. X.) субтексты могут начать выступать относительно друг друга как чужие и, трансформируясь по чужим для них законам, образовывать новые сообщения. Текст, выведенный из состояния семиотического равновесия, оказывается способным к саморазвитию» (Лотман Ю. М. Текст в тексте // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 567. Текст в тексте. Труды по знаковым системам XIV. Тарту, 1981. С. 10).
(обратно)486
Фигура И. А. Бунина как продолжателя и хранителя традиций русской классики являлась знаковой для эмигрантской культуры.
(обратно)487
Ср.: «Проза „незамеченного поколения“ – проза дневниковая, которая, не заботясь о форме, фиксировала малейшие движения внутренней жизни героев…Это своего рода записные книжки, где авторы хотели передать смутность душевных переживаний в отчетливых словах, где вещный мир и ощущения слиты воедино и где мысль, захваченная врасплох при своем рождении или в движении, в развитии, порождает стенограмму, которую читатель порой и не в силах расшифровать (…) Молодые исследователи показали предельно правдивое и самоуглубленное отражение распада личности с тем, чтобы избежать потери человека во Времени» (Летаева Н. В. Молодая эмигрантская литература 1930-х годов: проза на страницах журнала «Числа»: Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 2003. С. 18).
(обратно)488
Ср. набоковскую иронию по отношению к молодой эмигрантской литературе: Мельников Н. Г. «До последней капли чернил»… Владимир Набоков и «Числа» // Литературное обозрение. 1996. № 2. С. 73– 1; Каспэ И. Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы. М.: НЛО, 2005. С. 122–123.
(обратно)489
Ю. М. Лотман писал: «Существенным и весьма традиционным средством риторического совмещения разным путем закодированных текстов является композиционная рамка (…) Стоит ввести рамку в текст, как центр внимания аудитории перемещается с сообщения на код» (Лотман Ю. М. Текст в тексте // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 567. Текст в тексте. Труды по знаковым системам XIV. Тарту, 1981. С. 18).
(обратно)490
Выступая на одном из первых заседаний «Зеленой лампы» от имени «литературной молодежи», Н. Берберова сформулирует «позитивную» и «несовременную» (для определенной части молодых литераторов 1930-х годов, не приемлющих «литературности» старшего поколения) стратегию самопрезентации, в основе которой признание единственной реальности – реальности культуры: «… Можно всю жизнь писать и о джаз-банде, оставаясь русским писателем. Надо только писать в духе русской литературы. Литературная эмигрантская молодежь проникнута, в большей степени, этим духом и жаждет единения и преемственности» (Каспэ И. Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 61).
(обратно)491
Идеолог и учитель «незамеченного» поколения Г. Адамович, придающий в своих статьях антилитературности статус литературной программы, думается, вполне осознавал, что речь идет не об «изгнании», а о смене литературности, когда писал в 1928 году в статье «О простоте и „вывертах“»: «Усилье подлинного художника направлено к тому, чтобы скрыть все „швы“», спрятать все концы в воду. Пушкин писал «просто», но по черновикам его мы знаем, чего эта простота ему стоила» (Адамович Г. О простоте и «вывертах» // Последние новости. 1928. 13 сент. С. 3 – цит. по: Каспэ И. Указ. соч. С. 126).
(обратно)492
Лотман Ю. М. Текст в тексте. С. 15–16.
(обратно)493
В отечественном литературоведении преобладает представление формалистов о соотношении фабулы и сюжета. См., например, определение современного исследователя, развивающего эту традицию: «Фабула – развитие действия в хронологической или причинно-следственной обусловленности. Сюжет – предмет, тема, причина повествования. Сюжет реализуется в самом процессе повествования, поэтому методическое решение проблемы определения сюжета произведения – это прежде всего установление принципа развития повествования» (Захаров В. Н. О сюжете и фабуле литературного произведения // Принципы анализа литературного произведения. М.: МГУ, 1984. С. 134).
(обратно)494
Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
(обратно)495
Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллин, 1992.
(обратно)496
Пропп В. Я. Морфология сказки. Л., 1928.
(обратно)497
Мелетинский Е. М. О происхождении литературно-мифологических сюжетных архетипов // Литературные архетипы и универсалии. М.: РГГУ, 2001. С. 73–149.
(обратно)498
Бройтман Н. С. Историческая поэтика. М., 2001. С. 65–67.
(обратно)499
Тюпа В. И. Фазы мирового археосюжета как историческое ядро словаря мотивов // Материалы к «Словарю сюжетов и мотивов русской литературы: от сюжета к мотиву». Новосибирск, 1996. С. 18.
(обратно)500
Там же. С. 18–19.
(обратно)501
Там же. С. 20.
(обратно)502
Там же.
(обратно)503
Там же.
(обратно)504
Тюпа В. И. Указ. соч. С. 23.
(обратно)505
Камильянова Ю. М. Типы сюжетного повествования в прозе Б. Зайцева 1900-1920-х годов: Автореф. дис… канд. филол. наук. Екатеринбург, 1998. С. 10–22.
(обратно)506
Житийную структуру сюжета в литературных биографиях Зайцева выделяет, например, Н. И. Завгородняя – см.: Завгород-няя Н. И. Образ художника в беллетризованных биографиях Б. Зайцева «Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов»: Автореф. дис… канд. филол. наук. Самара, 1997. С. 16–17.
(обратно)507
Аринина Л. М. Роман Б. Зайцева «Золотой узор» и его место в творческой биографии писателя // Проблемы изучения жизни и творчества Б. К. Зайцева: Сб. статей. Вторые междунар. Зайцев-ские чтения. Калуга, 2000. С. 73.
(обратно)508
Сомова С. В. Воспоминание как узнавание в романе Б. К. Зайцева «Золотой узор»: к вопросу о жанровой природе романа // Творчество Б. К. Зайцева в контексте русской и мировой литературы XX века. Четвертые междунар. научные Зайцевские чтения. Вып. 4. Калуга, 2003. С. 87.
(обратно)509
Конорева В. Н. Жанр романа в творческом наследии Б. К. Зайцева: Автореф. дис… канд. филол. наук. Владивосток, 2001. С. 8– 26.
(обратно)510
В зрелом творчестве Зайцева встречается и традиционное объективированное повествование от 3-го лица («Смерть», 1910; Елисейские поля», 1914; «Студент Бенедиктов», 1912; «Актерское счастье», 1913; «Дом в Пасси», 1933). Эти наиболее «чеховские» (по мнению исследователей) опыты Зайцева нами не рассматриваются в силу их вторичности, возможно, из-за предельно редуцированной лирической составляющей.
(обратно)511
Бальбурив Э. А. Поэтика лирической прозы (1960-1970-е годы). Новосибирск, 1985. С. 26; Сибилевская О. В. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. С. 450–452.
(обратно)512
Рымарь Н. Т. Современный западный роман: проблемы эпической и лирической формы. Воронеж, 1978. С. 62, 63.
(обратно)513
Культурный код как шифр, система условных сигналов, передающих информацию, содержит в своей основе миф. «Миф» используется в трех своих основных значениях: 1) языческая образность как элемент древних повествовательных текстов о богах и героях, 2) антикаузальный способ мышления, реализующийся 3) в неких структурах, «мифопоэтике».
(обратно)514
«…В книжке рассказов Зайцева (…) – нет, или почти нет, ощущения личности, нет человека [выделено З. Гиппиус. – М. X.]. Есть последовательно: хаос, стихии, земля, тварь и толпа… А человека еще нет» (Гиппиус З. Тварное // Зайцев Б. К. Собр. соч. Т. 1. С. 588).
(обратно)515
Драгунова Ю. А. Проза Б. К. Зайцева 1901–1921 годов: Автореф. дис… канд. филол. наук. Тверь, 1997. С. 3.
(обратно)516
Камильянова Ю. М. Типы сюжетного повествования в прозе Б. К. Зайцева 1900-1920-х годов: Автореф. дис… канд. филол. наук. Екатеринбург, 1998. С. 11.
(обратно)517
«Около дня св. Анны (22 декабря; начало зимы в народном календаре) волки, по народному наблюдению, собираются в стаи и становятся особенно опасны; разбегаются же они только после выстрелов на Крещение (19 января). С Николы Зимнего волки стаями начинают рыскать по лесам, полям и лугам; с этого дня вплоть до крещения продолжались „волчьи праздники“» (Шарапова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. М., 2001. С. 186).
(обратно)518
Произведения Б. К. Зайцева с указанием тома и страниц цитируется по: Зайцев Б. К. Собр. соч.: В 11 т. М.: Русская книга, 1999. Цитаты выделены курсивом.
(обратно)519
Шарапова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. С. 115.
(обратно)520
В славянской мифологической традиции в море или болото ссылались смерть и болезни (Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. М., 1982. С. 452).
(обратно)521
Лисичка, кроме того, имеет и автобиографический смысл: это домашнее имя жены писателя – Веры Алексеевны Зайцевой.
(обратно)522
Топоров В. Н. Рыба // Мифы народов мира. Т. 2. С. 392.
(обратно)523
«Рыба как символ веры, чистоты, девы Марии, а также крещения, причастия (где она заменяется хлебом и вином; в этом же ряду стоит евангельский мотив насыщения рыбой и хлебами); Иисус Христос иногда называется в ранней христианской литературе „Рыбой“ (…), а христиане рыбаками; ср. образы апостолов-рыбарей Петра и Андрея, которых Иисус Христос обещал сделать „ловцами человеков“ (Матф. 4: 19) (Топоров В. Н. Мифы народов мира. Т. 2. С. 393).
(обратно)524
Даль В. В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., 1994. С. 209.
(обратно)525
Котельников В. А. Святость, радость и творчество // Христианство и русская литература. Сб. 3. СПб., 1999. С. 64.
(обратно)526
Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980. С. 470.
(обратно)527
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 50.
(обратно)528
Даль В. В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1994. С. 230.
(обратно)529
Чалмаев В. А. От жизни к житию: логика писательской судьбы Бориса Зайцева // Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940. Кн. 2. М., 1994. С. 109.
(обратно)530
А. Блок в рецензии на первую книгу рассказов Б. Зайцева заметил, что ее автор слишком «медлит», слишком дорожит найденным, как бы вслушиваясь в некий обретенный им ритм (Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1962. Т. 5. С. 124).
(обратно)531
Иезуитова Л. В мире Бориса Зайцева // Зайцев Б. Земная печаль. Л., 1990. С. 7.
(обратно)532
Ханзен-Леве О. А. Русский формализм. М., 2001. С. 56.
(обратно)533
Грушко Е., Медведев Ю. Словарь славянской мифологии. Н. Новгород, 1995. С. 334–335.
(обратно)534
Исследователи литературы Серебряного века называют эту религиозно-культурную трансформацию «неоязычеством» и «неохристианством» (Polonsky R. English literature and the Russian Aesthetic Renaissance. Cambridge Univ. Press, 1998; Сарычев Я. В. «Неохристианство» («новое религиозное сознание») и вопросы методологии // Русская литература XX–XXI веков: проблемы теории и методологии изучения. М.: МГУ, 2004. С. 425–429).
(обратно)535
Сюжеты произведений Зайцева связаны с постоянным перемещением героев; хронотоп пути, путешествия, дороги организует не только публицистику Зайцева (паломнические хождения «Афон» и «Валаам», цикл очерков «Италия» и др.), но и художественные произведения, что отражено уже в хронотопичности названий: «В дороге», «Путники», «Странное путешествие», «Улица св. Николая», «Дальний край», «Путешествие Глеба» и т. д.
(обратно)536
«Состояние представляет собой характеристику принципиальной неотчуждаемости человека и бытия, в которой состояние означает одновременно и факт присутствия в мире, самотождественность, и реплику человека в акте коммуникации с реальностью» (Суханов В. А. Романы Ю. В. Трифонова как художественное единство. Томск, 2001. С. 75).
(обратно)537
Романович Алиция. Италия в жизни и творчестве Б. К. Зайцева // Русская литература. 1999. № 4. С. 57–59.
(обратно)538
«Путешествие, которое проделывается у Данте, в действительности – символическое путешествие, и символы географии на самом деле обозначают некую внутреннюю географию, обозначают точки пути, которые проходят при путешествии в глубины своей собственной души. Там – и Ад, и Рай, и Чистилище» (Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М., 1993. С. 19).
(обратно)539
Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж, 1984. С. 266; Адамович Г. Одиночество и свобода. СПб., 1993. С. 107.
(обратно)540
Захарова В. Т. Импрессионистические тенденции в русской прозе начала XX века: Автореф. дис… док. филол. наук. М., 1995. С. 32; Драгунова Ю. А.Проза Б. К. Зайцева 1901-1920-х годов: Автореф. дис… канд. филол. наук. Тверь, 1997. С. 9, 14.
(обратно)541
Франк С. Л. Крушение кумиров // Франк С. Л. Сочинения. М., 1990.
(обратно)542
Франк С. Л. Крушение кумиров. С. 161.
(обратно)543
Ср.: «Человек, как призванный к богоподобию, устроен именно иерархически – а вовсе не гармонически, что внушает нам внерелигиозный гуманизм нового времени. Гармоничен человекобог; гармонично то, что создано во имя его. Богочеловек иерархичен. Гармонии не было в Эдеме и нет в Царствии небесном. Она создается и остается в пределах тварного мира, конечна вместе с ним и трагически прекрасна поэтому. Иерархия, пронизывая этот мир, преодолевает его конечность и выходит за пределы мира» (Котельников В. А. Восточнохристианская аскетика на русской почве // Христианство и русская литература: Сб. статей. СПб., 1994. С. 92).
(обратно)544
Ср.: «Всюду, где человек пытается оторваться от трансцендентной реальности или просто не знает о ней в силу оборванных традиций воспитания и образования, всюду, где он пытается жить только в себе и для себя самого, силой своего субъективного произвола, там, по Франку, он неизбежно погибает, становясь рабом и игрушкой трансцендентных сил (Некрасова Е. Н. Проблема человека в русском экзистенциализме (этический аспект) // Человек как философская проблема: Восток-Запад. М., 1991. С. 109).
(обратно)545
Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. – Цит. по: Человек как философская проблема. Восток-Запад. М., 1991. С. 109.
(обратно)546
В 1925 году в эмиграции Б. К. Зайцев напишет рассказ-житие «Алексей, Божий человек», в котором даст образец духовной святости.
(обратно)547
Имя (реального) трактирщика Piccolo, объединяющего путешествующих по Италии Зайцева и Осоргина (Зайцев Б. К. Мои современники. Осоргин // Зайцев Б. К. Собр. соч. Т. 6 (доп.). С. 355) актуализирует в качестве прототипа образа Алексея не только самого автора (по свидетельству Н. Берберовой, сибарита и большого любителя «попивать винцо»), но и его друга – М. Осоргина (портрет, анархизм, страстное увлечение революцией, Италией, доброта и душевная открытость и проч.).
(обратно)548
Детская непосредственность Алеши и его сестры Лизаветы – фамильная черта. Для Степана безответственный Алеша – взрослый ребенок: «Степан стоял на углу и смотрел. Он ничего не имел против этого Алеши; напротив, он ему нравился, как бывают приятны дети» [Т. 1. С. 461]. Биографическое сиротство героя (его с сестрой воспитывала тетка) также подчеркнуто.
(обратно)549
Ср.: «Бесстыдство В. В. Розанова – от излишней доверчивости, от того, что он знает, что Бог его все равно не оставит. „Бог есть, все дозволено“ – бесстыдники дети, не желающие принимать скучно-взрослые законы морали, не хотящие выходить из Рая. Здесь русский человек теряет стыд потому, что не замечает дистанции между собой и Богом, он все еще – в райском саду, грехопадения не было, и Бог держит его в своих ладонях» (Горичева Т. М. О кенозисе русской культуры // Христианство и русская литература. СПб., 1994. С. 60).
(обратно)550
Атарова К. Н., Лесскис Г. А. Семантика и структура повествования от первого лица в художественной прозе // ИАН СЛЯ. Т. 35. 1976. № 4. С. 345–349.
(обратно)551
Николина Н. А. Поэтика русской автобиографической прозы: Учеб. пос. М., 2002. С. 102.
(обратно)552
«Импрессионистический акцент звучит уже в самом названии романа, проявляется в пейзажном и идейном лейтмотивах. Создается символический образ „узора“ (жизненного пути, судьбы), в котором слились импрессионистическая живописность и символика» (Конорева В. Н. Жанр романа в творческом наследии Б. К. Зайцева: Автореф. дис… канд. филол. наук. Владивосток, 2001. С. 14).
(обратно)553
Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопр. философии. 1989. № 2. С. 88.
(обратно)554
В образе Георгиевского присутствуют прототипические черты М. А. Осоргина, любителя древности, знатока Италии и итальянской культуры, организатора просветительских экскурсий в Италию учителей и студентов из России, обвиненного советской властью в «заговоре» (дело Помгола), приговоренного к смерти и спасенного Нансеном (Зайцев Б. К. Москва // Зайцев Б. К. Собр. соч.: В 5 т. Т. 6 (доп.). Мои современники: Воспоминания. Портреты. Мемуарные повести. М.: Русская книга, 1999. С. 118–137).
(обратно)555
Сендерович С. Георгий Победоносец в русской культуре. М., 2002. С. 41.
(обратно)556
Ср.: «Творчество – своего рода эпикуреизм, наслаждения искусства суть тоже чувственные наслаждения (…). Творчество – это высшее раздражение нервной системы, охмеление мозга и напряженное состояние всего организма (…); тем более, что с успехом связано торжество самолюбия, многие материальные выгоды и т. п.» (Из письма И. А. Гончарова к С. А. Никитенко от 8/20 июня 1860: Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М., 1980. С. 285).
(обратно)557
О близости Сенеки к христианству: Библейско-биографический словарь. М., 2001. С. 698–702.
(обратно)558
См. переложение жития св. Натальи в статье Б. К. Зайцева «Знак креста» (1958), которое приводится и в финале тетралогии «Путешествие Глеба» [Т. 7. С. 401–402].
(обратно)559
Ср.: «По слову старца Варсонофия Оптинского, произведение светского искусства способно пробудить дремлющую душу, "поднять ее над будничной, серой, обыденной жизнью и привести к Богу, однако напрасно думают, что "науки и искусства, особенно музыка, перерождают человека, доставляя ему высокое эстетическое наслаждение (…). Это эстетическое наслаждение не может заменить религию (…). Есть несколько дверей для вхождения в Царство Небесное (…) крещение (…). А другая – покаяние, иначе исповедь (…) А третья дверь – св. причащение» (Диакон В. Пантин. Светская литература с позиции духовной критики (современные проблемы) // Христианство и русская литература. СПб., 1999. С. 35).
(обратно)560
Гоголь Н. В. Размышления о Божественной литургии. М., 1990. С. 62–64. В статье «Жизнь с Гоголем» (1935) Зайцев рассматривает его предсмертное произведение как «живоносное, обвеянное Духом Святым»: «В „Размышлениях“ Гоголь поступил как музыкант, в зрелом возрасте перешедший от создания светской музыки к созданию церковной» (Зайцев Б. К. Жизнь с Гоголем // Зайцев Б. К. Собр. соч.: Т. 9 (доп.). Дни. Мемуарные очерки. Статьи. Заметки. Рецензии. М.: Русская книга, 2000. С. 143.
(обратно)561
Ср.: «Чем более конкретна нравственная деятельность человека, чем больше она считается с конкретными нуждами живых людей и сосредоточена на сегодняшнем дне, – тем больше (…) она проникнута не отвлеченными принципами, а живым чувством любви или живым сознанием обязанности любовной помощи людям, тем ближе человек к подчинению своей внешней деятельности духовной задаче своей жизни» (Франк С. Л. Смысл жизни // Вопр. философии. 1990. № 6. С. 130).
(обратно)562
Трубецкой Е. Смысл жизни // Смысл жизни в русской философии. СПб., 1995. С. 337.
(обратно)563
«В правде (всеединства. – М. X.) объединяются и связуются оба жизненные пути – и горизонтальная и вертикальная линии жизни. И в этом объединении обеих линий – сама суть христианства. Думать, что его содержание исчерпывается проповедью смысла запредельному миру, – значит не понимать самой важной его особенности – полного преодоления в нем самой противоположности запредельного и посюстороннего. (…) И сообразно с этим в христианстве центр тяжести – не скорбь мира, покинутого Богом, а именно та радость, в которую превращается эта крестная мука, – радость воскресения. Радость возвращается самым разнообразным жизненным кругам, всем сферам мирового бытия от низшей до высшей. И в этой радости обе линии – горизонтальная и вертикальная – сочетаются в одно живое, нераздельное целое, в один животворящий крест, так что в поступательном движении жизни, в утверждении ее здешнего, земного плана чувствуется подъем в иной, высший план; а подъем в иной, верхний план ощущается как реальное, действительное событие именно от того, что туда поднимается здешнее, земное: этим подъемом преодолевается непроходимая грань между различными планами – горним и земным» (Трубецкой Е. Смысл жизни. С. 323).
(обратно)564
Это относится даже к паломническим «хождениям» «Афон» и «Валаам». О. Н. Михайлов пишет: «Г. Федотов считал, что подвижническая жизнь Афона у Зайцева утрачивает свою суровость, что художнику запоминаются раньше всего очарование фракийской ночи, аромат жасмина, запах моря». Здесь же приводится письмо Б. К. Зайцева к И. А. Бунину от 1 сентября 1935 из Валаама, в котором впечатления от путешествия связаны в первую очередь с красотой природы (Михайлов О. Н. Зайцев // Литература русского зарубежья. 1920–1940. Вып. 2. М., 1999. С. 42, 44–45).
(обратно)565
Струве Г. Русская литература в изгнании. Paris, 1984. С. 103.
(обратно)566
Цит. по: Соколов А. Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. М.: МГУ, 1991. С. 114.
(обратно)567
Тюпа В. И., Бак Д. П. Эволюция художественной рефлексии как проблема исторической поэтики // Литературное произведение и литературный процесс в аспекте исторической поэтики. Кемерово: КемГУ, 1988. С. 13.
(обратно)

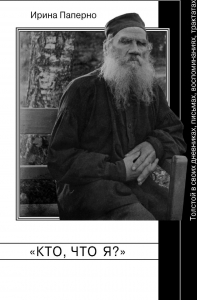
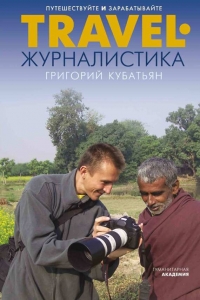
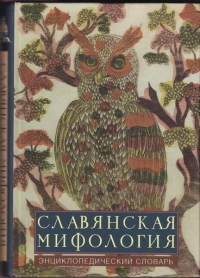

Комментарии к книге «Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века», Марина Альбертовна Хатямова
Всего 0 комментариев