ВЛАДИМИР ВЕЙДЛЕ ЗАДАЧА РОССИИ
ЗАДАЧА РОССИИ
Посвящается дорогой памяти
Владислава Фелициановича Ходасевича
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Прошлое ставит задачу, которую будущему надлежит разрешить, — таков наиболее осмысленный и достойный человека облик человеческой истории. Задача может оказаться неразрешимой, людям может не хватить воли или сил для ее решения, но она во всяком случае не разрешается сама собой и пренебречь ею вовсе – значит для народа отказаться от исторического бытия, а для отдельного человека — согласиться на отъединенность, равнозначащую бесплодности. Большинство историософских построений нашего времени, как уже и девятнадцатого века, грешат тем, что приписывают истории совсем не свойственный ей автоматизм и тем обрекают людей либо на невмешательство, либо на лихорадочную деятельность, ведущую ко злу и оправдываемую мнимой неизбежностью. На самом деле развитие народа, как и развитие личности, ни из каких предпосылок с необходимостью не вытекает, предпосылки лишь кое-что облегчают и кое-что затрудняют, толкают на один путь и мешают найти другой; даже в совокупности своей они предопределения не образуют, да простому сложению нельзя их и подвергать, потому что нельзя смешивать духовного наследства минувших поколений ни с теми условиями, в которых оно создавалось, ни с теми, в которых оно передается новым поколениям.
Русскую историю не предопределило «месторазвитие», не предопределил ее и этнический состав русского народа. На евразийской равнине могла бы процвесть и совсем иная культура, подлинно азиатского типа; народ, говорящий на одном из индоевропейских языков, мог бы подобно арийцам Индии и Персии попасть в культурную орбиту Азии, а не Европы. Если случилось иначе, то не в силу каких-либо других материальных предопределений, а потому что в самом начале ее истории России была задана задача, которую, худо ли, хорошо ли, в течение больше чем девяти веков она пыталась разрешить. Задача эта вытекает из крещения Руси и передачи ей — Византией и в византийской форме — наследия древности. В самом общем виде заключается она в том, чтобы стать частью христианской Европы, — не случайной и пассивной, конечно, а органической и творческой: не просто к ней примкнуть, а разделить ее судьбу, принять участие в общем ее деле Полностью осознавать эту задачу стали у нас немногим больше ста лет тому назад, но и древняя Русь не отатарилась, от наследства не отреклась и кончилась Петром, прорубившим окно не куда-нибудь в Мекку или Лхассу. В основном Россия выбрала свой путь в годы между Калкою и Куликовым полем, и судьба ее решилась задолго до того, как стали задумываться над ней Чаадаев и Киреевский, Герцен и Хомяков, и начали спорить о ней в московских гостиных.
Спорщики не сразу утратили общую точку опоры и общий язык: журнал Киреевского недаром назывался «Европеец». Но вскоре славянофилы повернулись спиной к Западу, а западники спиной к России, и началось затемнение задачи, которое для многих продолжается и по сей день. Западничество грешило тем, что смешивало европейскую культуру с интернациональной цивилизацией западного происхождения, которой России надлежало подражать на тех же основаниях, как если бы то была не Россия, а Турция или Япония. Представители этого направления странным образом не поднимали, что «самобытность», о которой твердили их противники, есть как раз необходимое условие для вхождения России в европейское единство, куда Франция, например, входит не только в силу того, что у нее есть общего с Италией или она отличается от них. Не совсем понимали это и славянофилы: представления их о национальном бытии (а потому и о существе европейского единства) были правильней, но им казалось, что задача России уже решена ее прошлым, что следует только воскресить его и что никакого дальнейшего сближения с Западом не требуется. Тем не менее (до Данилевского, по крайней мере) они продолжали считать самобытно-русскую культуру частью европейско-христианской, и только в наше время евразийцы попытались начисто освободить Россию от ее задачи, объявив, что принятие христианства и восприятие античности ничем не связывают ее с остальной Европой. Точно так же и по официальному советскому мировоззрению, проистекающему из малограмотного западничества, приправленного дешевым славянофильством, задача России оказывается отмененной по той причине, что для мировоззрения этого никакой христианско-европейской культуры не существует, а есть полезные знания и уменья, не прикрепленные ни к какому стержню и применимые везде.
Однако, что бы ни думали за сто лет о задаче России и как бы ни заблуждались на ее счет, важней всего этого тот несомненный факт, что никогда еще она так ревностно и так успешно не выполнялась, как именно в этот век, от Пушкина до революции. Никогда еще России так не удавалось сочетать развитие самобытности участием в европейской жизни, а в этом сочетании и заключается предуказанный ей путь. Открытием этот пути она обязана крещению, а не Петру, но Петр, если и затемнил его смысл, то облегчил движение по нему, которое давно уже замедлилось и грозило совсем остановиться. Препятствия, мешавшие по нему двигаться, были огромны с самого начала; свою задачу пришлось России выполнять в условиях исключительной трудности,
Ее уплывающие в даль пространства, слабая дифференцированность ее земель и крестьянского люда, населяющего их, искони затрудняли собирание ее для любого строительною, государственного дела. Разобщенность ее с Западом в послетатарскую эпоху толкала ее на неверный путь и вела к нездоровому замыканию в традиции слишком узкой и уже не способной к творческому обновлению. Воссоединение с Западом, при всей необходимости его, приняло форму культурного крушения, так что к самой России можно применить то, что Лесков при случае сказал об «ассамблейной боярыне», которую царь Петр «с образовательной целью напоил вполпьяна и пустил срамословить». Однако ассамблеями дело не кончилось, задаче своей Россия не изменила; напротив, только через эту катастрофу и обрела условия, в которых она становилась разрешимой. Как ни прав был Лесков, еще более прав был Герцен, когда сказал, что на вызов, брошенный России Петром, она ответила Пушкиным — и, конечно, всем тем, что выросло из Пушкина, что пушкинский ответ сделал, в свою очередь, возможным.
Изменять своей задаче, губить тысячелетнее свое дело Россию учат лишь теперь, на наших глазах, и каждая новая октябрьская годовщина ставит веху на пути этого отступничества. Нет сомнения, однако, что в длинной цепи причин, которые к этому привели, наиважнейшие те, что связаны с судьбами Запада, с судьбами всей по всему земному шару расползшейся Европы. Нет сомнения и в том, что будущее России ныне, как и всегда, остается неотделимым от общеевропейского будущего. Если ущербу Запада не будет положено предела, если он окончательно станет недостойным великого своего прошлого, тогда не только смысл его собственной, но и русской истории тем самым будет зачеркнут. Если же Запад обретет новую жизнь, то жизнь эта будет и жизнью России, возвратясь в лоно Европы, вернувшись к старой своей задаче, она вернется, наконец, к самой себе.
* * *
Живя вдалеке от России и думая о ней, автор никогда не мыслил ее иначе, чем в свете ее европейского призвания. Вот почему и представляется ему, должно быть, что разновременные записи этих его дум, ныне вновь пересмотренные им, достаточно связаны между собой, чтобы образовать книгу. Первые два наброска, в ней собранные, прямо посвящены взаимоотношению русской культуры и западноевропейской. Третий с той же точки зрения рассматривает русскую историю в ее трех основных фазах, из которых последняя только еще намечается в наше время. Четвертый сложился из размышлений о не всегда понятных Западу особенностях русского характера и русской жизни. Пятый и шестой через русско-европейский подвиг Пушкина, через колебания Тютчева между Западом и Россией возвращаются к теме первых двух. Последний связан образом Петербурга и скорбью о гибели петербургской России с главнейшим содержанием всех предшествующих. Конечно, все, что сказано на этих страницах, остается отрывочным, произвольно вырванным из необозримого контекста, но вполне связно, без пропусков, на такие темы и вообще сказать ничего нельзя.
Книга однажды уже готовилась к печати — шестнадцать лет тому назад. От осени тридцать девятого года нас отделяют немалые события. Ими не опровергаются, однако, — так по крайней мере кажется автору — мысли, высказанные в его книге. Самые убийственные мировые катастрофы, хотя бы и те, что уже свершились, или те, которых еще можно ожидать, не нарушают взаимоотношений, установившихся в духовном мире, взращенных невидимым посевом человеческого творчества. Да и что бы ни случилось, — можно верить, что Россия будет, и надо знать, что она была.
ГРАНИЦЫ ЕВРОПЫ
I
Европейская культура большинством европейцев в разное время объявлялась культурой по преимуществу или культурой вообще, причем это ее первенство понималось в двух не совсем совпадающих друг с другом смыслах. Согласно одному, все остальные культуры теряют рядом с ней значение и интерес; согласно другому, все, что есть хорошего в них, совпадает с тем, что есть хорошего в европейской культуре. В обоих толкованиях основное утверждение ложно, а для других культур к тому же и обидно — потому ли, что умаляет их ценность, или потому, что отрицает их своеобразие. Однако с точки зрения Европы второе толкование особенно досадно, так как отрицая своеобразие других культур, оно отрицает и ее собственное своеобразие и тем самым превращает европейца в абстрактного всечеловека, «гражданина кантона Ури», которым никакой чего-нибудь стоящий человек Европы никогда не был и быть не мог. Чрезмерно расширять понятие Европы вредно, но вредно и сверх меры его суживать. От расширения оно расплывается, от суживания — окостеневает. Ничто органическое нельзя растягивать, не считаясь с законами его созревания и роста, но и разрезать живое тело на части тоже невозможно, не подвергая опасности его жизнь. В обоих случаях ошибка проистекает из непонимания того основного факта, что Европа есть сложный исторический организм, подобный организму нации, а не что-то неподвижное, не меняющееся, навсегда застывшее в своих границах. Европа не безгранична, но границ ее не может указать ни территория, ни раса, язык, ни какой-либо другой заранее данный ее признак
Историк, умеющий мыслить историю, скорей оправдает тех, кто Европу делит на куски, дабы заменить ее одним куском и отбросить остальные, чем тех, кто ее преждевременно топит во всечеловечестве, потому что первые все же исходят из верного чувства реальных исторических единств, тогда как вторые пренебрегают реальностью ради пустой абстракции. Но все же и с делителями ему придется вести борьбу: на практике они оказываются столь же вредны, как и их антиподы. Желание их оградить Европу от вторжения несовместимых с нею сил ему понятно, но он понимает также, что необдуманный пыл в такой борьбе ведет в свою очередь к умерщвлению живого, к насильственной и ненужной вивисекции. Все три наиболее распространенных разновидности хирургического метода ссылаются в свое оправдание на бесспорные исторические факты и заблуждаются вследствие гиностазирования [1] частичных правд. При рассмотрении удобнее всего их расположить в порядке возрастающей обоснованности. Назвать их можно теориями германской, романской и романо-германской.
Германская теория, или северная, как ее тоже позволительно называть, наименее оправдана, но и она основана на правильном усмотрении фактов, которых сторонники противоположных воззрений большей частью не желают признавать Совершенно верно, что северный элемент сыграл крупную роль в создании европейской культуры, причем вовсе незачем приписывать ему расовый характер, в биологическом смысле этого понятия. Греки, как и италийцы, пришли с севера и принесли в ту южную среду, где расцвело впоследствии их творчество, несвойственные этой среде черты. И снова, после того как создалась и завершилась древняя история, северные «варвары» принесли в средневековую культуру свои собственные потребности, энергии, вкусы, не сводимые к греко-римскому наследию, даже и преображенному воздействием христианства. Нельзя вслед за некоторыми французскими учеными зачеркивать «варварское» право как низшее по сравнению с римским и выводить средневековое искусство из позднеантичной традиции, закрывая глаза на глубокую его противоположность античному искусству вообще. Как бы ни объяснять происхождение «Песни о Роланде» и других эпических произведений того же рода, нельзя не признать, что по своему ритму и строю, по всей своей художественной системе они представляют самый резкий контраст как греческому, так и римскому пониманию эпической поэзии. Противоположение Севера и Юга, проповедуемое историками искусства школы Стриговского, грешит произвольными обобщениями и насильственным истолкованием стилистических различий, но основная интуиция, на которой оно покоится, отрицанию не подлежит; Все дело только в том, что неизвестно по какому праву этот северный элемент европейской культуры отождествляется с ее целым, объявляется подлинной Европой, в противоположность другой, неподлинной, и вообще почитается самодовлеющим единством, тогда как все, созданное им, за самыми незначительными исключениями, создано в сотрудничестве с тем другим, южным, элементом. Греческая культура немыслима без своих ионийских составных частей, а римская еще больше обязана тому, что италийцы нашли в Италии и что занесли туда заморские этруски. Средневековые зодчие создали великую новую архитектуру, но обучились строить здания из камня, все же следуя античным образцам» точно так же, как книжные иллюстраторы каролингской эпохи, лишь копируя древние рукописи, усвоили мастерство, которое постепенно научились применять для воплощения своих собственных, не похожих на античные творческих заданий. Большинство величайших произведений новой, средневековой литературы написаны на романских языках, в которых германские элементы совершенно отступают перед латинскими. Северная стихия полнозначно проявляла себя лишь там, где вступала в сотрудничество с южной. Готический стиль родился не в Германии, а в северной Франции. Творческие силы самой Германии проявились несравненно раньше и полней в южной, романизованной ее части, нежели в северной, сохранившей мнимо-драгоценную нетронутость и чистоту. Плодотворно в духовном мире, как и в мире вообще, лишь сочетание противоположностей, а не сопряжение подобного с подобным.
Вторая форма ущербления Европы как бы в зеркале отражает первую и столь же одностороння, как она. Правды, однако, на ее стороне несколько больше, так как основой ей служит нечто еще более очевидное, чем роль северного элемента в европейской истории, а именно — наличие средиземноморского греко-римского мира, фундамента Европы, или — лучше той первичной плазмы, без которой и помыслить нельзя дальнейшего ее развития. Правда, сторонники этой романской теории не замечают, что в состав древнего мира уже входит северный элемент; но все же Юг как целое легче взять за исходный пункт, чем Север, так как он выступает в более законченной исторической форме, и в Италии, например, северные элементы нового, т. е. средневекового происхождения, в отличие от воспринятых в древности, большой роли не играли. К тому же и христианство шло с юга на север, а не наоборот, прошло через греко-римский мир раньше, чем преступить его пределы, и это уже, само по себе, — факт огромного значения. Однако слишком прямолинейные выводы и из этих истин столь же неукоснительно приводят ко лжи. При этом крайние энтузиасты латинской Европы идут по двум путям: либо признают европейскую культуру вообще лишь в пределах Римской империи и ее наследницы, католической церкви, либо соглашаются назвать европейской только культуру романских народов как непосредственных наследников эллинизированного и христианизированного Рима. Наиболее последовательно первую точку зрения провел англичанин Беллок, а вторую — француз Массис, причем каждый сам позаботился привести свою теорию к абсурду [2]. Беллоку пришлось наотмашь отсекать католическую Германию от протестантской, Голландию рассматривать, как приживалку в европейском семействе и явно преувеличивать степень романизации Британии, дабы не выбросить из Европы собственную страну: Что касается Массиса, то насчет Англии в его книге дело обстоит неясно, зато континентальная Европа кончается у него на Рейне, западнее даже, чем проходила граница Римской империи, так что города, где родились Гете и Бетховен, ему пришлось бы отнести уже к «Востоку» или к «Азии». Намерения обоих авторов самые благие: Беллоку хочется утвердить Европу в христианстве, Массису — защитить ее от азиатских поветрий и зараз; но укрепления они строят слишком близко к Риму и Парижу и отдают врагу слишком много европейской земли. Оба, кроме того, поддаются искушению Европу определить и тем самым остановить, дать ей твердую, раз навсегда очерченную форму. Беда в том, что этим способом ее спасая, можно спасти только ее труп.
Остается последний способ делить Европу, наиболее обоснованный, наиболее распространенный и потому заслуживающий наибольшего внимания. Сторонники его соглашаются признать единство романо-германского запада, но с тем, чтобы еще решительней его отделить от византийско-славянского востока. Историософия, лежащая в основе таких воззрений, одинаково усердно поддерживается по обе стороны ею же воздвигаемой перегородки. Отсюда (хоть и не только отсюда) ее устойчивость. На Западе были всегда не прочь рассматривать византийско-славянский мир как не европейский, во всем противоположный единственно-европейскому западному контуру; а на востоке Европы, точно так же, всегда было много желающих подписать этот приговор, с той разницей, что козлищ и агнцев заставляли меняться местами, сохраняя, однако, между ними спасительное средостение. Положение это аналогично тому, что создалось на самом Западе между его германской и романской половиной; однако, не совсем: половины эти с равным усердием не переставали объявлять себя целым, тогда как Восток воплощением Европы себя никогда не объявлял, предоставляя это Западу и тем самым как бы продавая ему свое европейское первородство. Различие это красноречиво: оно подчеркивает реальность разделения.
В самом деле, глубокой противоположности здесь никто не станет отрицать, и зависит она не от случайных и благоприобретенных несходств, а идет из самых основ, от самых корней Европы. Если вся европейская культура построена на христианстве и классической древности, то и христианство, и классическая древность на ее западе не те, что на ее востоке. Запад вскормлен Римом и той Грецией, что прошла сквозь Рим; Восток непосредственно питается греческим наследством и тем, что от Рима перешло в духовное хозяйство Византийской империи. Восточное христианство всем стилем своего богословия, благочестия, своего мироустроения и своего искусства так глубоко отличается от западного, что при их сопоставлении различия внутри самого западного христианства теряют свою силу и протестантизм начинает казаться лишь одним из ответвлений католичества. Этих противоположностей устранить нельзя, с ними всегда будет сталкиваться тот, кому небезразличны история и судьба Европы, и в то же время не смягчение, а как раз углубление, продумывание их до конца открывает более глубокое, чем они, и заключающее их в себе единство. Искание противоположностей тут оттого и плодотворно, что они выделяются на общем фоне, без которого противоположности не может быть. Как сопоставление отдельных наций тем больше имеет смысла, чем они теснее связаны между собой,— вследствие чего мы противополагаем китайца японцу, англичанина французу, а не венгерца испанцу и не араба лопарю, — так и в отношении более широких единств возможность осмысленного их противоположения убывает по мере возрастания их чуждости друг другу в чем можно убедиться, попытавшись сравнить запад Европы не с ее востоком, а например с Китаем и Японией. Сравнение возможно и тут, поскольку в обоих случаях перед нами человеческие культуры, а не общества пчел или муравьев, но результаты его будут бедны и мало интересны. Противоположности нет там, где нет единства, и она отнюдь не означает полной разобщенности. Если запад и восток Европы хотят считать себя совершенно разными культурами, им нужно окончательно отделить Грецию от Рима, вопреки их подлинной судьбе, одним взять Вергилия, другим — Гомера, одним присвоить себе философов, другим — юристов, и затем точно так же разделить христианство на две отдельные религии, т. е. раздвоить Христа, а на все это на западе, как и на востоке не согласится ни гуманист, ни просто историк, и меньше всего может согласиться христианин. Все они, если откажутся от привычных предрассудков, увидят, наоборот, в противоположностях — и как раз в наиболее трагических из них — самое глубокое выражение великого духовного богатства общей им всем северно-южной, западно-восточной родины.
Существует, однако, и другое понимание этой мнимой рассеченности Европы надвое, и так как оно имеет в виду главным образом Россию, то и рассматривать его нужно в применении именно к ней. Заключается оно в том, что и христианство, и наследие древности объявляют чем-то для России несущественным, наносным и, во всяком случае, принявшим там совершенно новые, неизвестные Европе формы; европейская и азиатская Росиия образуют вместе особый мир, чуждый Западу, резко отделенный от него, широко раскрытый только Азии. Взгляды этого рода разделялись нередко западными людьми, вроде французского архитектора Виолле-ле-Дюка, построившего в середине прошлого века целую теорию на мнимом родстве храма Василия Блаженного с индийскими храмами; в рудиментарном виде они даже составляют до сих пор основу народных представлений Запада о России как о стране волков, метелей, кнута и азиатских кочевников, именуемых казаками. Русским, несравненно более осведомленным, сторонникам этих теорий можно напомнить, что если называть Евразией Россию, то уж, конечно, с не меньшим правом можно назвать Испанию Еврафрикой. Геологически, как известно, Пиринейский полуостров составляет часть африканского материка, да и по сей день Гибралтарский пролив гораздо меньше отделяет его от Африки, чем высокий горный хребет от Европы. Древнейшее население его, иберы — выходцы из Африки, родственные берберам. Что же касается чингисханова воспитания, постулируемого для России, то и сами евразийцы согласятся, должно быть, признать культурно-воспитательную деятельность Омейядов и более бесспорной, и более длительной. Остается поэтому объявить Сида, а заодно и Дон-Кихота национальными героями ливийских кочевых племен, а создавшую их страну — начисто исключить из европейского культурного круга. Любопытно, что и в самой Испании появлялись время от времени если не евроафриканцы, то иберофилы, склонные совершенно серьезно рассматривать Пиренеи как непреодолимую преграду между Веласкесом и Гальсом, Дон-Жуаном и Гамлетом, Кальдероном и Корнелем и видеть в своей стране наглухо в себе замкнутый культурный мир; не додумались они только до того, чтобы распространять этот мир на всю географически однородную территорию между Пиренеями и Атласом. Никто не отрицает, конечно, что влияние Востока (а не внутреннее с ним родство) сыграло немалую роль в истории России, и особенно Испании, Семь веков арабской культуры — не та что два века Золотой Орды. В испанском характере, в испанских нравах,в испанском искусстве и даже в испанской мистике больше восточных черт, чем в русской жизни и культуре, что не мешает Испании, как и России, оставаться Европой: Сервантес — не мавр, и Пушкин — не монгол. К тому же, и в допетровской Руси можно подметить черты не только не восточные, но более западные (и северные), чем в одновременной истории греков или южных славян. Да и в отношении географии не русский восток, а скорей уж русский запад создал русскую культуру. Новгородские и псковские земли — больше Россия, чем Казань или Уфа, Киев очень не намного восточнее Петербурга, и даже из Москвы ближе путь к Балтийскому морю, чем на Индийский или Тихий океан.
Отделять Россию от Европы можно, наконец, и еще одним способом, мало замечавшимся до сих пор, потому, должно быть, что у нас он был привилегией западников, «русских европейцев». Состоит он в неустанном подчеркивании нашей отсталости и проистекающего из нее несходства с Европой, из чего делается вывод о необходимости ее догнать, сделаться как две капли воды похожими на нее. Действительно, с точки зрения современного Запада, многие черты русской культуры следует признать архаическими, отсталыми: архаически-патриархальным было то самое в русском быту, о чем до сих пор с восторгом вспоминают иностранцы, побывавшие в России; архаической (песенно-ладовой) была русская музыка, отчего ей и случилось обновить своим влиянием музыку Европы; архаическим остается до сих пор и сам русский язык, чем и объясняются его свежесть и конкретность, завидные для французов или англичан, утраченное их языками богатство внутреннего строения, приближающее его к греческому и латинскому языкам, на которых воспиталась европейская культура. Сокрушаться по поводу такого рода отсталости могут лишь те, кто верит в прямолинейный прогресс, по принципу чем дальше, тем лучше; в это как раз большинство наших западников и верило. Им очень хотелось сделать Россию Европой, но они упорно забывали, что Россия — уже Европа; для них она была лишь неопределенным чем-то, подлежащим европеизации. Европейскую культуру они представляли себе как неорганическую совокупность всяческих разумностей, полезностей, туманностей, т.е. как «просвещение», как цивилизацию вообще, а следовательно, им пристало бы с тем же успехом проповедывать ее индусам, китайцам — или готтентотам. Одна из причин русской трагедии заключается в том, что думавшие о судьбах страны разделились на тех, кто понимал и Россию, и Европу, но не хотел их сближения, и на тех, кто сближения хотел, но не понимал, с чем, собственно, и ради чего следует сближаться. У славянофилов был дар исторического созерцания и национального чувства, у западников — воля, которую вдохнул в них Петр. Враги Петра были правы, обвиняя его в насилии над Россией, которую он посылал, как выдвиженца на рабфак, в представлявшуюся его трезвому, слишком трезвому уму бездушную, уже почти «американскую» (т. е. исключительно технически промышленную) Европу; но его воля была все-таки праведной волей, и он прорвался с Россией не куда-нибудь, наугад, а именно туда, куда ее влекло уже долгое ее прошлое. То, что он совершил, было величайшим событием в истории европейского единства, великим возвратом ее востока к ее западу. На основание Константинополя, через четырнадцать веков, он ответил основанием Петербурга.
II
Вопрос о России и Западе, вопрос о месте России, в Европе или вне Европы, — не только русский вопрос, хотя нигде он с такой болезненной остротой не ставился, не обсуждался так судорожно, как в России. Очень верно ощущали его у нас как основной вопрос нашего исторического бытия. Предлагавшиеся решения его были, однако, таковы, что нелепой крайностью, односторонностью своей они только запутывали его, представляли его не разрешимым, хотя на деле его постепенно решала сама наша дореволюционная история. В отличие от нее, теоретики наши уже и ставили вопрос неверно, самой постановкой его утверждая противоположение, в незыблемости которого как раз позволительно было усомниться. Вместо того, чтобы спросить себя, какое место принадлежит России в общеевропейском культурном целом, ее заранее отделяли от него, ему противополагали. Выбор исходной точки предрешал и выводы, в крайней непримиримости своей как бы отрицающие друг друга. Вместо осознания России как неотъемлемой составной части европейско-христианского мира, временно выделенной из него (от XIII до XVII века), но имеющей вернуться в его лоно, сохраняя при этом свою особенность, свое национальное лицо, у нас либо превозносили и готовились закрепить навсегда ее отдельность, либо отрицали все личные ее черты и стремились к простому уравнению ее с Западом. Кнуто-советская империя роковым образом унаследовала оба отрицания, вытекающие из этих, столь резко контрастирующих решений: отрицание Запада, от которого она Россию отторгла, и отрицание России, которой она навязала всех со всеми уравнивающее, обезличивающее варварство. Евразия, о которой вещали евразийцы, осуществилась на деле и привела к абсурду как русский национализм, так и русский европеизм, искоренив лучшие их черты и соединив худшие в той зловещей идеологической смеси, которую можно назвать интернациональным шовинизмом или квасной универсальностью.
Это изъятие России из подлинной Европы, это ее отчуждение от ее собственного существа есть двойное насилие, совершенное над ее духовной жизнью, над ее историей, над всеми нами, и оно слишком близко нас касается, чтобы не представляться нам чем-то, что касается нас одних. Но представление это ложно. Крушение России в духовном мире, даже (или особенно) если оно сопровождается ростом ее могущества в мире материальном, не может быть безразличным для Европы именно потому, что Россия — часть ее самой. Лишаясь России, она теряет источник обновления, более чем когда-либо ей нужный, она лишается единственной страны, своей «отсталостью» способной ее омолодить, самой своей чуждостью напитать, потому что эта чуждость не такая уж чужая, потому что эта отсталость может ей напомнить ее собственную молодость. Но мало того. Россия за последние века была средоточием всей восточно-христианской, славяно-византийской традиции; утратить ее — это значит для Европы окончательно замкнуться в свое половинчатое, только западное бытие, отказаться навсегда от полноты своей исторической жизни, своего духовного, и в частности религиозного бытия, своего христианства. Но и это еще не все. Речь ведь идет не только о том, чтобы всего этого лишиться, но еще и о том, чтобы получить взамен индустриализованную Евразию, советскую безобразно расплывшуюся карикатуру на свой собственный западный промышленный подъем и духовный ущерб, огромную лабораторию, где готовят все, что способно погубить европейскую культуру. Ничто так не нужно Европе (включая, разумеется, в эту Европу и Америку), как понять, что воссоединение ее запада и се востока столь же насущно для нее, как и для нас, что мы и она — одно, что судьба России неотделима от ее собственной судьбы. Но Европа этого не понимает.
Не понимает она не только в лице своих деятелей, но и созерцателей; не только этого практически не учитывает, но и теоретически себе не представляет. Виной тому отчасти — отсутствие живого знания дореволюционной России, не восполнимое никакой фактической документацией (которая и сама, к тому же, нередко хромает), отчасти же — сам характер господствующего ныне исторического мышления, склонного неверно понимать структуру великих надисторических единств. Чтобы ее верно понимать, надо помнить прежде всего, что единства такого рода суть духовные целые, что Европа, как и любая из ее составных частей, не есть лишь «месторазвитие» (пользуясь евразийским термином, обнаруживающим сущность евразийского заблуждения), а есть сложный духовный организм, созданный людьми, т. е. народом или народами, живущими на определенном участке земной поверхности, но чей рост, чьи изменения в веках вовсе не могут быть предугаданы исходя из тех или иных черт, присущих данному участку или данному народу. Представлять себе культуру Европы или одной из ее частей, например России, совершенно независимой от той почвы, на которой она родилась и цвела, чьи соки ее питали, чей облик еще живет в созданных ею образах, — значит превращать ее в чисто рассудочную цивилизацию; но представлять ее себе всецело предопределенной, как бы химическим составом этой почвы, или, в более прямом смысле, географическими ее свойствами и этническими чертами народа, выросшего тут — значит материализировать понятие культуры, видеть в ней лишь «надстройку», как говорят марксисты, не способную ни сняться со своего первоначального места, ни пережить то соотношение человеческих сил и свойств, которое существовало при ее создании. Такое понимание культуры, если его последовательно провести, зачеркивает Европу, потому что, во времени и в пространстве, может ее только раздроблять.
Когда Европа начиналась в своем крайнем юго-восточном углу на островах греческого моря, в греческих городах на азиатском берегу, она была уже Европой, как зародыш — в потенции — это взрослый человек. Но и не только так; сравнение это не вполне точно. Духовное единство Европы следует уподоблять не столько единству человеческой особи, сколько единству духовного мира, живущего в человеке ведь частью его сознания, духа может стать и то, что вовсе им не унаследовано и даже не усвоено в раннем возрасте, В единство Европы вошли, кроме Греции, и Рим, и самый подлинный Восток в образе иудейских элементов христианства и в лице самого иудейства, которого уже не вырвать из Европы, даже если все евреи пожелают переселиться на старую свою родину. В нее вошло все то, что принесли с собой новые народы, вступившие в ее историю после падения Рима, и в нее может еще многое войти в процессе ее распространения по земле, о чем мы и не догадываемся ныне. Она некогда цвела на скифском берегу Черного моря, и в более близкие времена, не надолго, совсем особый свой облик нам явила в далекой северной Исландии. Славянским народам принесла ее Византия и научила их, конечно, не совсем тому же самому, что заповедал Рим западным народам, но все же, как и он, дала им Грецию вместе с христианством, приобщила их к прошлому, поначалу бывшему им чуждым, но ставшему их прошлым и позволившему им участвовать в создании будущего, которого иначе как европейским назвать нельзя. И в другой своей части, в другом облике своем, но та же самая Европа двигалась с юга на север, с юго-востока на северо-запад, переплыла океан, нашла новое «месторазвитие» на огромном новом континенте, куда она принесла свое прошлое, и совсем не одно только британское, иберийское или только западное, но внутри них или за ними и греко-римское, и византийское, и славянское, ибо духовное единство нераздельно, хотя, разумеется, не всегда и не повсюду оно бывает полностью осознанно.
Любопытно, или вернее — очень характерно, что наиболее продуманные историософские системы, резко отделяющие западную Европу от восточно-христианской, не менее определенно отделяют от обеих греко-римский мир. Так поступают и Шпенглер, и Тойнби, гак они, можно сказать, и вынуждены поступать, ибо византийско-русскую Европу связывает с Западом прежде всего общее прошлое их культуры и, чтобы отрицать их связь, надо от них отсечь их прошлое.
Шпенглер действовал тут наиболее решительно. Он конструировал замкнуто в себе античную культуру, во всем отличную от западной, фаустовской, и отделенную от нее тысячелетним царством третьей, чрезвычайно искусственно (хоть и весьма находчиво) построенной «магической» культуры, включающей раннее христианство Византию, ислам, вследствие чего Россия оказывается совершенно обособленной, не связанной с фаустовской Европой ни античностью, ни даже христианством, которое распадается на три вполне разобщенных между собою формы: магическую, фаустовскую и еще не развитую русскую. Понятно при такой конструкции, что Россия у Шпенглера и вообще, так сказать, остается в будущем. Все ее послепетровское развитие в его глазах — не более чем «псевдоморфоза»: подлинная ее душа лишь прорывается кое-где, у Достоевского, например, в остальном же она внешне подражает Западу, иллюзорно становится Европой. Такое понимание петербургской и пушкинской России внушено Шпенглеру отчасти русскими же славянофилами, отчасти его общей историко-философской схемой. Оно не содержит в себе ничего верного, кроме указания на фанатическое, но верхоглядствующее западничество, которое у нас действительно существовало и подвергалось справедливой славянофильской критике. Но уж, конечно, Достоевский, как и все то, что, по Шпенглеру, предвещает подлинно русскую культуру, вне Европы — и даже без Запада — непредставим; а главное, принадлежность России к Европе и сближение ее с Западом — две вещи разные, хотя принадлежность эта не могла не помочь сближению и, несомненно, содействовала тому, что оно было не иллюзорным, а вполне реальным.
Несравненно более приемлемым, чем все насильственное построение это, представляется то, которое нам предлагает Тойнби. Тут связи не разрываются совсем, а только ослабляются. Западноевропейская культура и восточно-христианская – обе находятся в отношении к античной на положении дочерей и приходятся друг другу сестрами; они не продолжают непосредственно античности, а только наследуют ей (как и христианству) и развивают наследие в разных направлениях. Формулировка эта умна и осторожна, но тем не менее следует спросить Тойнби, так ли уж разны направления, о которых он говорит, действительно ли расходятся они несоизмеримо больше, чем направления, в которых развивают антично-христианское наследие такие западные нации, как, например, Испания и Англия, или все заальпийские страны Запада, взятые вместе, по сравнению с Италией. Различение наследования и продолжения грешит характерным для английского исторического мышления социологизмом. Культура, для Тойнби неотрывна от создавшего ее общества и даже тождественна с ним (его книга различает две категории общественных союзов: примитивные общества и культуры). Он забывает, что культура, не будучи в состоянии без своего носителя — общества — возрасти, может тем не менее это общество перерасти и тем самым содействовать образованию более широких обществ. Он забывает, что можно с большим правом говорить о греко-римской культуре, чем о греко-римском обществе: общество в значительной мере продолжало быть римским на западе империи и греческим на ее востоке, но обе ее половины обладали единой культурой, хоть и различно оттененной и для каждой из них, и для их дальнейших составных частей. Единство культуры стремится создать единство общества, хотя вполне этого и не достигает. Единство Запада в наше время есть единство культуры больше, чем единство общества. Если представить себе фантастический случай полного отделения европейских наций друг от друга, то еще очень долго каждая из них жила бы общею им всем европейскою культурой, для каждой из них Шекспир или Гёте (по крайней мере, в потенции) были бы своими точно так же, как для нас теперь гекзаметры Гомера еще живут, как почти три тысячи лет тому назад. А если так, то где же граница между наследованием и продолжением? В том духовном мире, к которому относится культура, ее нет. Культура живет, хоть умерли и отцы, ее создавшие, и дети, наследовавшие им; она будет жить, пока есть люди на земле, способные ее воспринять и ее продолжить.
Будущее Европы не только в Европе. Оно в Америке, оно в России, в этих двух огромных мирах, — раньше, чем в мире вообще, раньше, чем во всем человечестве, взятом как целое. Если Европа погибнет в Америке и в России, она погибнет и для всего человечества. Если она погибнет в России, то погибнет и Россия. Не степи и леса, не земля, не столько-то миллионов народонаселения составляют Россию, а та духовная страна, часть великого европейско-христианского духовного целого, где молились некогда и молятся ныне Сергий и Серафим, где жили и поныне живут Пушкин, Достоевский — и все те, с кем да упокоится дух русских людей вовек.
РОССИЯ И ЗАПАД
>I
Безоговорочное и непримиримое противопоставление России Западу, Запада России есть ядро идейного комплекса, любопытного прежде всего тем, что его создали и дружно развивали ни в чем другом не согласные между собой умы: исключительные приверженцы всего русского в России и фанатические поклонники Запада на Западе. Первым принадлежит то преимущество над вторыми, что их воззрения, даже самой крайностью своей, содействовали осознанию национальных особенностей России, тогда как европейский Запад сам представляет собой сложное сочетание национальных культур, по отношению к которым положительная работа такого рода давно уже была исполнена. Однако, при всей неравноценности теорий, основная ошибка и тех, и других теоретиков одна: их представлению о Европе не хватает широты и гибкости. И те, и другие стремятся возвеличить «свое» путем умаления «чужого», не понимая относительности различия между своим и чужим, и само стремление это приносит им заслуженную кару, неизбежно приводя к сужению своего, которому начинает отовсюду угрожать их же собственными усилиями раздутое, разросшееся чужое. Ревнивые европейцы окапываются за Рейном и Дунаем, а наши собственные самобытники отступают от Невы к Москве-реке, покуда и Москва не показалась им еще недостаточно восточной.
Это понятие Востока, применяемое к России (а то и к славянской или православной Европе вообще), самой расплывчатостью и переменчивостью своей указывает на полемическое свое происхождение. Что такое Запад, т.е. западная Европа, это более или менее ясно всякому, но что такое Восток, гораздо менее ясно, это понятие конструируют как угодно, с тем только, чтобы оно возможно резче противопоставлялось — все равно, положительно или отрицательно — оцениваемому Западу. В сколько-нибудь последовательной системе культурно-исторических понятий европейский Запад должен противополагаться такому же европейскому Востоку, а затем оба они, в качестве Европы, — азиатскому Востоку, ближнему или дальнему Православие можно называть восточным христианством, но его нельзя назвать христианством азиатским. Русскую культуру можно называть восточноевропейской, но она родилась и развилась в Европе, а не в Азии. Понятие Евразии по отношению к России географически столь же оправдано, как понятие Евроафрики по отношению к Испании, но ни о евразийской, ни о евроафриканской культуре говорить нельзя, а можно говорить лишь о национальных культурах русской и испанской, в которых черты, занесенные с востока, сыграли большую роль, чем в национальных культурах других европейских стран. Все эти простые истины забывались бы менее легко, если бы сравнительно отчетливые понятия Азии, или Ближнего Востока, или магометанского мира, не заменялись постоянно всезначащим словом Восток, беспрепятственно дающим себя использовать любой идеологии. Стоит это слово произнести, чтобы все европейское, но не относящееся к Западной Европе, немедленно превратилось в нечто отнюдь не европейское уже, а иное, враждебное, «восточное». Эта магическая операция удавалась бесчисленное количество раз в минувшем веке, да и сейчас не лишилась способности затмевать как западные, так и русские умы. Ей мы обязаны тем неверным, идущим в равной мере от Чаадаева и первых славянофилов истолкованием допетровской Руси, которое противопоставляет ее Европе уже тем самым, что выводит ее из византийский традиции.
Византия — не Азия; она, как и западный мир, вырастает из античной и христианской основ европейской культуры. Вполне законно ее Западу противополагать, но лишь в качестве европейского Востока. Восток и Запад единой Европы — не два инородных (хот я бы и находившихся в общении друг с другом) мира, а две половины одной и той же культуры, основанной на христианстве и античности. Их потому и плодотворно друг с другом сравнивать, друг другу противополагать, что они внутренне объединены великим духовным наследием, воспринятым по-разному, но от этого не утратившим единства. Вот почему византийское влияние на Западе или позже западное воздействие на воспитанный Византией мир не может быть сравниваемо с такими явлениями, как эллинизация северной Индии, китайское христианство или восприятие Аристотеля арабами. Если византийская империя была географически в значительной мере империей азиатской, то ведь и древнегреческая культура цвела в малоазиатских городах, и христианство родилось не в Афинах и не в Риме, и крупнейшего из отцов западной церкви, блаженного Августина, лишь историк причислит к Европе, а географ оставит в Африке. Историческое понятие Европы с географическим не совпадает: историческая Европа родилась три тысячи лет тому назад на крайнем востоке средиземноморского бассейна, а северная часть европейского материка не многим больше (а то и меньше) тысячи лет вообще живет историческою жизнью. В византийской культуре, несомненно, есть больше подлинно восточных или азиатских элементов, чем в культуре западного средневековья, однако и в ней эти элементы находятся не в центре, а на периферии; их больше на окраинах, чем в столице, и в проявлениях второстепенных, чем в жизненных и существенных. Очень хорошо это видно на примере художественного творчества, где константинопольская традиция сохраняв наибольшую верность греко-христианской его основе и где поздние восточные (особенно персидские) влияния свободно проникающие в область орнаментально-декоративную, задерживаются на пороге большой архитектуры и церковного изобразительного искусства. Правда, в самом образовании византийского художественного стиля восточные элементы сыграли, как известно, значительную роль, но творческая работа, приведшая к созданию его, в том и заключалась, что эти элементы были поставлены в новую связь и по-новому оформлены эллинским ритмическим чувством и христианской волей к одухотворению телесного.
Византийская культура была прежде всего культурой греко-христианской, и только в этом своем качестве она могла стать воспитательницей еще лишенных высокой культуры народов восточной Европы. В составе огромного дара, полученного или унаследованного от нее, могли быть и специфически-восточные черты, однако в большинстве преображенные эллинством и христианством, и во всяком случае не определяющие его абсолютной ценности и исторического значения. Воспитанная Византией Древняя Русь не могла быть воспитанием этим отрезана от Европы, так как воспитание состояло прежде всего в передаче ей греко-христианской традиции; она могла быть только отрезана от Запада в силу того, что византийское христианство отличалось от западного христианства, а воспринятая сквозь Византию античность — от античности, воспринятой Западом сквозь Рим. Правда, еще до татарского нашествия Россия была открыта влияниям, шедшим непосредственно из восточных частей византийской империи, с Кавказа, из Закавказья через Трапезунд; это привело, однако, лишь к эпизодическим заимствованиям, каких было сколько угодно и в западной Европе. Как все больше выясняется, некоторые орнаментальные и архитектурные мотивы пропутешествовали частью морским путем, частью же, вероятно, и сухопутным, через Россию, на крайний Запад, Ничто так не предвещает романского искусства, как раннесредневековое искусство Армении, и такого же рода странствием с востока на запад, спустя несколько веков, можно объяснить наличие сходных декоративных принципов в скульптурном украшении суздальских церквей и некоторых памятников Кавказа, южной Германии и северной Италии. Это движение форм не имеет, к тому же, ничего общего с византийской традицией как целым. Традиция эта в области искусства, как и в других областях, противопоставила Россию вместе с остальным православным миром Западу, но не только не сделала ее ни Востоком, ни Азией, а, напротив, определила ей на века вперед быть не чем иным как именно Европой.
Церковнославянский язык, воспитавший русский и в конце концов слившийся с ним в новом русском литературном языке, в своем культурном словаре, словообразовании, синтаксисе, стилистических возможностях есть точный сколок с греческого языка, гораздо более близкий к нему (не генетически, но по своей внутренней форме), чем романские языки к латинскому. Проповеди Кирилла Туровского по своей музыкальности, по своему утонченному ритмико-синтаксическому складу ближе стоят к греческим образцам, чем даже латинские писания его западных современников к высоким образцам латинской прозы. Икона Рублева ближе к греческому пониманию полноты формы, мелодичности линии и насыщенности ритма, чем искусство Мазаччио или Фра Беато, его современников в Италии. Благочестие, благолепие, благоговение, благообразие, чистосердечие, милосердие, целомудрие, умиление, — все это не только по-гречески сложенные слова, но и по-гречески воспринятые образы жизни и мысли, ставшие сперва церковно –, а потом и народно-русскими, как о том напоминает старец из «Подростка», знающий единое осуждение: «Благообразия не имеют», — и наставляющий близких к блаженному и благолепному житию «Православие, – сказал Розанов, — в высшей степени отвечаем гармоническому духу, но в высшей степени не отвечает потревоженному духу». Если же когда-нибудь была культура гармонического духа, то это — греческая культура, и если это греческое христианство, пронизывающее всю древнерусскую духовную жизнь, называть «Востоком», или Азией, то неизвестно, что же тогда будет позволено называть Европой.
Опираясь на факт византийской преемственности, можно подчеркивать особенность русской культуры по отношению к Западу, но только утверждая ее принадлежность к общей христианско-европейской культуре, наследнице классической древности. Поэтому новейшие последователи и отчасти исказители славянофильской традиции опираются уже не на этот факт, а на факты, свидетельствующие в их глазах о связях Древней Руси не с Византией или неопределенным «Востоком», а непосредственно с тюрко-татарской или монгольской Азией. Факты эта распадаются на две категории: одни предшествуют отпочкованию древнерусской культуры от культуры византийской (и могут касаться поэтому лишь географических, этнических и фольклористических предпосылок русского культурного развитая), другие относятся к векам, когда эта византийско-русская культура уже существует и живет историческою жизнью (так что следует рассмотреть, не образуют ли они всего лишь совокупность ее наносных, внешних и заимствованных черт). О той и о другой категории фактов можно сказать, что евразийские наблюдения, относящиеся к ним, верны, но что выводы, делаемые из этих наблюдений, неправильны. Евразия как «месторазвитие» — плодотворная формула, многое объясняющая в русской истории, при условии не считать месторазвитие предопределением и не создавать таким образом новой разновидности географического детерминизма Точно так же наблюдения, касающиеся этнического состава русского народа или известных черт русского языка, народной музыки и народной орнаментики, позволяющих сближение с аналогичными чертами азиатских народов, сами по себе ценны, но должны быть истолкованы как относящиеся к материалу, из которого строится культура, или к почве, на которой она растет, а не к самой культуре. Русский язык как этническое явление обнаруживает некоторые черты сходства с тюрко-татарскими языками, но русский язык как явление национальной культуры, иными словами, русский литературный язык, сложился не под татарским, а под греческим влиянием, к которому прибавилось впоследствии влияние западноевропейских языков. В высоких памятниках искусства, литературы, религиозной жизни Древней Руси столь же мало азиатского, как и в культуре послепетровской России. Что же касается отдельных элементов, перенятых у татар после татарского нашествия или заимствованных Москвой у Персии, Индии или Китая, то они, конечно, сыграли свою роль, подобно тому, как арабские влияния сыграли еще гораздо большую роль в испанской культуре, но греческое христианство, Византию, а следовательно, Европу, они из России не вытравили, точно так же, как мавры не сумели превратить Испанию в неевропейскую страну.
Позитивистические или натуралистические предпосылки евразийства сказываются в стремлении целиком выводить культуру из данных географии и этнологии, забывая о том, что духовная преемственность может оказаться сильней и тех и других, а также в понимании национальной культуры как некоего непосредственного выделения народа, тогда как она может содержать не только не народные по своему происхождению, но и противонародные черты. Стать на точку зрения такой теории — значит не признавать венгров европейским народом, не видеть, что эллинство Гёте или Гёльдерлина столь же подлинно, как их германство, что западность и русскость Пушкина — одно; это значит, в конечном счете, утверждать, что христианами могут быть только евреи или что в средневековой Франции цвела исключительно французская, но никак не христианско-европейская культура. Верно в этих воззрениях лишь то, что духовная преемственность протекает не в царстве духа, а в условиях исторического существования, вследствие чего христианство, античность, византийство и все вообще, что распространяется и передается, неизбежно меняет свой облик под влиянием местных условий, окрашивается по-новому в новой этнической среде. Для того, кто хочет определить степень «восточности» Древней Руси и степень ее принадлежности Европе, открыт только один путь: проверить, в какие именно тона окрашивает она византийскую культуру, каким образом делает она ее русской, тем самым видоизменяя, перетолковывая ее на новый лад. Если бы историки согласились правильно поставить вопрос, а именно — спросить себя, была ли Древняя Русь, так сказать, западней или восточней Византии, они давно нашли бы правильный ответ, который избавил бы их от лишних споров и недоразумений.
Допетровская русская культура была западней византийской, и потому дело Петра было лишь законным завершением того кружного исторического пути, который начался перенесением римской столицы в Константинополь и кончился перенесением русской столицы в Петербург. Религиозная, государственная, правовая жизнь Древней Руси, при всех отличиях от Запада, все же меньше отличалась от него, чем соответственные области византийской культуры, а кое в чем была ближе к нему, чем к самой византийской своей наставнице. Св. Сергий Радонежский, в конце концов, более похож на средневекового западного святого, отчасти на Франциска, отчасти на Бернарда, чем на любого византийского подвижника. Русский раскол, несмотря на все те черты, что так глубоко отличают, его от западной Реформации, все же по своим социальным и духовным последствиям ближе к ней, чем любое религиозное движение в византийском мире. Государственный и правовой быт удельного периода, во всяком случае, менее похож на Византию, чем на Запад, а византийская идеология Москвы весьма сильно отличалась от московской действительности. Там, где великое воспитательное дело Византии завершилось полным усвоением се дара и самостоятельным творчеством, т. е. прежде всего в области искусства, мы видим, что русские мастера отошли от византийских образцов как раз в направлении западном, а вовсе не восточном. И дело тут совсем не в заимствованиях, которые случайны и редки. Новгородская орнаментика связана со скандинавской не подражанием, а внутренним родством, и стилистические принципы ее проникают также и в новгородскую икону. Деревянное зодчество русского севера опять-таки родственно скандинавскому и склонно к вертикализму, тому самому, который в XVI веке находит свое выражение в шатровых храмах, окончательно порвавших с византийской традицией и направленных скорей к созданию некоей русской готики, совершенно независимой от западной, резко от нее отличной, да ничего и не знающей о ней, и все же более близкой к основным устремлениям ее, чем к древним религиозно-эстетическим канонам византийской архитектуры. В искусстве искони выражались всего ясней неосознанные, но глубокие потребности, чаяния, стремления духовной жизни. Допетровское русское искусство, прежде всего орнамент и архитектура, менее чем иконопись связанные церковным послушанием, — неопровержимое свидетельство не только европейскости России (в ее пользу говорит уже сама византийская преемственность), но и ее поворота к Западу, не придуманного, а отгаданного и так свирепо, судорожно, но и бесповоротно завершенного Петром.
II
Древняя Русь, уже в силу византийского воспитания своего, была Европой, т. е. обладала основными предпосылками европейского культурного развития; однако резкая обособленность ее, особенно в московский период, могла привести под конец и к полному отъединению европейского Востока от Запада: Россия могла выпасть из Европы. Этого тем не менее не случилось, даже и за пять веков от татарского нашествия до Петра, потому что препятствовали этому не только сохранившиеся, хотя и слабые, связи с западным миром, но и еще больше те западные сравнительно с Византией черты, что проявились в духовном обиходе и культурном творчестве Московской Руси. Опасность была окончательно устранена Петром, Константин раздвоил, Петр восстановил европейское единство. Удача, по крайней мере в плане культуры, совершенного им всемирно-исторического дела засвидетельствована всем, что было создано Россией за два века петербургской ее истории. Судить о нации нужно как о личности — не столько по корням ее, сколько по ее плодам; у нас слишком часто судили о России не по тому, чем она стала, а по тому, чем якобы обещала стать. Даже если бы древнерусская культура не была частью европейской, а соответствовала во всем славянофильским или евразийским представлениям о ней, новой русской культуры было бы вполне достаточно, чтобы доказать предначертанность для России не какого-нибудь иного, а именно европейского пути. Если бы Петр был японским микадо или императором ацтеков, на его земле завелись бы со временем авиационные парки и сталелитейные заводы, но Пушкина она бы не родила.
Воссоединение с Западом было делом отнюдь не легким и не безопасным. Славянофилы это поняли, и тут их было бы не в чем упрекнуть, если бы их истолкование опасности не было основано на той же ошибке, какую постоянно совершали западники и которая больше всего помешала плодотворному развитию знаменитою идеологического спора. Ошибка заключается в противоставлении друг другу Запада и России как чужого и своего, как двух величин, ничем органически одна с другой не связанных. Западники предпочитают чужое и хотят его поставить на место своего; славянофилы предпочитают свое и хотят очистить и отмежевать его от всего чужого. Для западника его любимый Запад — всего лишь носитель некоей безличной цивилизации, которую можно и должно пересадить в полудикую Россию, точно так же, как после открытия межпланетных сообщений ее можно и должно будет пересадить и на Луну. Для славянофила, более подготовленного к восприятию органических культурных единств, таким единством представляется Россия, или православие, или славянский мир, но на Европу он эту концепцию не распространяет, а в Западе видит или иное, враждебное восточному культурное единство, или чаще, как западник, безличную совокупность «плодов просвещения», которую он склонен, однако, не благословлять, а проклинать. Ни тот, ни другой не видит той общей укорененности России и Запада в европейском единстве, которое только и делает тесное общение между ними плодотворным и желательным. Оба противника рассуждают недостаточно исторически, слишком отвлеченно, как будто воссоединение с Западом России, христианской и воспитанной Византией страны, а значит, страны европейской, не в географическом только, но в культурном смысле, могло и в самом деле быть чем-то подобным европеизации Перу или Китая, т. е. столкновению двух чуждых друг другу культур, могущему кончиться либо полным истреблением одной из них, либо превращением обеих в такую механическую смесь, которую уже нельзя назвать культурой.
В действительности происходило, конечно, совсем другое. Воссоединиться с Западом значило для России найти свое место в Европе и тем самым найти себя. Русской культуре предстояло не потерять свою индивидуальность, а впервые ее целостно приобрести — как часть другой индивидуальности. Европа — многонациональное единство, неполное без России; Россия — европейская нация, не способная вне Европы достигнуть полноты национального бытия. Европеизация неевропейских культурных миров — дело в известном смысле беспрепятственное, но и бесплодное; сближение России с Западом было делом трудным, но и плодотворным. Трудность его объясняется долгим отчуждением между ними и зависит от постоянной возможности преувеличений и односторонностей вроде галломании конца XVIII века, гегельянства сороковых годов или «пенкоснимательства» и западнического чванства, никогда не исчезавших из русской действительности. Опасность денационализации России была реальна, и те, кто с ней боролись, были тем более правы, что лишенная национального своеобразия страна тем самым лишилась бы и своего места в европейской культуре. Опасность эта проявилась с самого начала благодаря излишне резкому и насильственному характеру Петровской реформы, но очень рано сказался и тот национальный творческий подъем, который ею же был вызван. Русская речь при Петре была надломлена и засорена, однако из нее очень скоро выработался тот общий литературный язык, которого так не хватало допетровской России. Русский стих еще до Петра принял под западным влиянием несвойственную ему структуру, но усилия Тредиаковского и Ломоносова, отнюдь не возвращая его на старый путь, впервые поставили его на твердую почву и обеспечили его дальнейшее развитие. В судьбе русского стихосложения особенно ясно выразилась судьба русской культуры. Старый путь был узок и к созданию большой национальной (а не народной только) поэзии привести не мог; первый натиск Запада, положивший ему конец, был хаотичен и случаен, как и многое другое в Петровской реформе и в заимствованиях, ей предшествовавших; но более серьезное ознакомление не с ближним Западом только, а с совокупностью западноевропейских национальных культур привело одновременно к осознанию национальной особенности русского стихосложения и к занятию им определенного места среди национальных стихосложений Европы. Русский стих оказался близок не к польскому (или французскому), а к немецкому и английскому, хотя и с ними не во всем совпал. Тот, кто в свете этого примера взглянет на русскую историю, уже не согласится ни со славянофилом, готовым в некотором роде довольствоваться народным тоническим стихом, ни с западником, уху которого стих Кантемира должен казаться более «радикально-европейским» и значит «передовым», нежели стих Пушкина.
Утверждаясь в Европе, Россия утверждалась и в себе. Современникам Екатерины это было так ясно, что споры, связанные с этим, касались лишь частностей, а не существа дела; и почти столь же ясно это было современникам Александра I. Славянофильство и западничество возникли характерным образом лишь после того, как были осознаны или хотя бы почувствованы некоторые перемены, произошедшие в самой западной культуре; только исходя из них и можно понять настоящий смысл обеих доктрин, то, что внутренне разделяло их, хотя и затушевывалось нередко в узаконенных формулах их полемики. Перемены, о которых идет речь, сводятся к наметившемуся на рубеже нового века медленному превращению старой семьи органически выросших и жизненно сросшихся между собой национальных культур в интернациональную научно-техническую цивилизацию. Западники — последователи того течения европейской мысли, которое этому превращению содействовало и с восторгом принимало его плоды; славянофилы — ученики тех противников его, что и на Западе пытались с ним бороться. Западноевропейское происхождение той и другой идеологии очевидно, но и вполне законно: их борьба — только часть той большой борьбы, что велась во всей Европе и противополагала просвещенчество XVIII века романтической защите сверхразумных ценностей. Наличие этой борьбы в России — свидетельство ее принадлежности к Европе, но вместе с тем уже не к старой Европе, а к новой, проблематической Европе XIX столетия. Чаадаев и ранние славянофилы в этом отношении занимают еще не совсем отчетливые идеологические позиции (в частности, Запад Чаадаева — католическая, а не «просвещенная» Европа) тем не менее именно с тридцатых годов Россия принимает участие не просто в европейской духовной жизни, а в том новом, особо потрясенном и критическом фазисе ее, в который Запад вступил на полвека раньше. Пушкин едва ли не целиком еще по ту сторону этого перелома. Его гений сродни Рафаэлю, Ариосто, Расину, Вермеру, Моцарту и двум последним старым европейцам — Гёте и Стендалю. Он весь обращен к старой, дореволюционной и доромантической Европе; ему врождены все ее наследие, память, вся любовь; его основная миссия — сделать ее духовной родиной будущей России. Миссию эту он выполнил во всю меру отпущенного ему дара, но сращение России с Западом в единой Европе совершилось уже в новой обстановке, Пушкину чужой, с точки зрения которой он сам кажется обращенным не к будущему, а к прошлому. Россия завершилась, досоздалась в грохочущей мастерской девятнадцатого века.
Девятнадцатый век то же для России, что века Возрождения для Италии, что для Испании, Англии и Франции конец XVI и XVII век, он — то же, что для Германии время, очерчиваемое приблизительно годами рождения и смерти Гёте. Но если в истории России он занимает особое место, то это совсем не значит, что русский девятнадцатый век есть что-то от европейского девятнадцатого века отдельное и ему чуждое. В том-то и дело, что окончательное своеобразие свое в европейском сложном единстве Россия получает в этом веке, когда сама Европа чем дальше, тем больше перестает быть тем, чем она была: отныне врастая в нее, Россия врастает и в ее распад, в ее трагическую разъятость и бездомность. Отсюда необычайно сложное строение нашего «великого века», — как по сравнению с «великими веками» других народов, так и по сравнению с тем же столетием на Западе. Сращение с европейским прошлым привело к расцвету русской национальной культуры, но сращение с европейским настоящим окрасило этот расцвет в такие тревожные тона, какие не были свойственны культурному расцвету других европейских наций. Стихийных жизненных сил, тех, что сказались, например, в первозданно-земном и телесном гении Толстого, в России прошлого века было больше, чем на Западе, но рожденное ими не осталось только достоянием России, а влилось в общий для Запада и нее европейский девятнадцатый век. Искусство Толстого или Достоевского — русское искусство; Достоевский — русский, как Шекспир — англичанин или как Паскаль француз, но как и они, чем глубже он укоренен в своей стране, тем глубже прорастает в Европу. Условия, сделавшие возможными появление Шекспира и Паскаля, наступили раньше в Англии и во Франции, чем сходные условия в России, где Достоевский — столько же современник Шекспира, как и Диккенса, и Паскаля, и Бодлера, а Толстой — позднорожденный эпический поэт, зрячий Гомер, соблазненный хитростями отрицающего и доказывающего разума. Трудом поколений от Петра до Пушкина вся Европа принадлежит России, вся Россия — Европе; все, что было создано в России после Пушкина, принадлежит европейскому девятнадцатому веку.
Русская литература от Лермонтова и Гоголя до наших дней — вся результат переворота, произведенного европейским романтизмом, она участвовала в нем, его продолжила и ни в чем от него не отреклась. Русская музыка больше получила от музыки западной, чем от музыки народной; и больше всего связана она с западной музыкой после Бетховена. Русская живопись, даже та, что в лице Иванова и Врубеля осталась верна религиозной своей основе, возвратиться к иконописи минуя европейское искусство все же не могла, и лишь укоренясь в этом искусстве, подчас находила форму одновременно европейскую и независимую от Запада. Русская философия начинается с Шеллинга и Гегеля, русская наука — с западной науки. Даже русская богословская мысль столько же исходит из собственной восточно-христианской традиции, сколько из традиции западной философской и богословской мысли. Дело тут не в нашей переимчивости и не в западном засилье, а в том, что на Западе и в России девятнадцатый век — един. Пусть не ссылаются на непонятность русской культуры для немцев, французов или англичан; между собой в былые времена им было куда труднее объясниться. Еще и сейчас елизаветинская драма доступна лишь избранным во Франции, а французская трагедия скучна для англичан; на континенте весьма редко читают Мильтона, а французы не без труда принимаются за Данте и Гёте. Зато русские писатели девятнадцатого века если не усваиваются Европой, то лишь по лени, по незнанию языка, по нерадению переводчиков: все они плоть от ее плоти, все они соприродны ей, да и нет в европейской литературе последних пятидесяти лет более европейских имен, чем имена Толстого, ученика Руссо, и Достоевского, поклонника Корнеля и Расина, Жорж Санд, Диккенса и Бальзака. Запад уже не только дает нам свою культуру, но и принимает нашу от нас. Взаимопроницаемость Запада и России, совместимость их, условность и относительность всякого их противоположения таковы, что уже во многих случаях трудно решить, его ли собственный забытый дар возвращает Западу Россия или нечто новое, доселе неведомое ему дарит. Вернее, решать этого нельзя и не нужно. В том-то и дело, что Иванов и Мусоргский, Достоевский, Толстой и Соловьев — глубоко русские люди, но в такой же точно мере и люди Европы. Без Европы их бы не было, но не будь их, не будь России, и Европа в девятнадцатом веке была бы не тем, чем она была. Русская культура вытекает из европейской и, соединившись с Западом, себя построив, возвращается в нее, Россия — только одна из европейских стран, но уже необходимая для Европы, только один, но уже неотъемлемый голос в хоре европейских голосов.
«Европа нам мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять возьмем и не захотим быть перед нею неблагодарными». Это не западник сказал; это по ту сторону западничества, как и славянофильства, на вершине мудрости, на пороге смерти, пишет Достоевский в «Дневнике писателя». Последнее упование его — мессианство, но мессианство в существе своем европейское, вытекающее из ощущения России как некоей лучшей Европы, призванной Европу спасти и обновить. Пусть упование это было неоправданным, но люди, хранившие такую веру, не обращались «лицом к востоку»; они обращались к Европе, веруя, что в Европе воссияет «восточный», т. е. русский, т. е. обновленно-европейский свет. Они еще не знали только, что пророчество свое, в меру его исполнимости, исполнили они сами. Русско-европейское единство никогда не было с такой силой утверждено, как в знаменитых словах Ивана Карамазова. Европейское кладбище, о котором он говорит, — колыбель новой России, залог ее культурного существования. «Дорогие покойники» потому так и дороги, что столько же, как Европе, они принадлежат и нам. И то, о чем Иван Карамазов еще не говорит, чего еще не чувствует Достоевский, нам нетрудно теперь почувствовать. Нам нетрудно понять, что он сам, как в разной мере все современники его, все русские люди его века, не только унаследовали европейские могилы, но участвовали в европейском будущем, сами были творениями и творцами европейской культуры, сами говорили от имени Европы, того не зная, что делом их времени, что судьбой девятнадцатого века было Россию и Европу слить в одно.
ТРИ РОССИИ
Двух или трех десятилетий было достаточно современникам Петра, чтобы прошлое, еще непосредственно памятное им, обернулось в их же глазах чем-то от их настоящего невозвратно отделенным. Того же недолгого срока достаточно и нам, чтобы Россию, созданную Петром, ту, где мы родились и жили, увидать такой же законченной, уходящей вдаль, навек минувшей, какой стала для современников Петра допетровская Русь. Разве возвращение столицы в Москву не есть символ начала и конца, совершенно подобный тому, каким было некогда основание Петербурга? Для нас существуют отныне две завершенных эпохи русской истории и третья, едва начавшаяся, о которой можно предсказать, что она будет во всяком случае не больше похожа на две другие, чем те были сходны между собой, и уж, конечно, меньше отвечать планам своих строителей, чем ответила замыслу Петра петербургская Россия. Было бы странно, если бы такое настоящее, как наше, не помогло нам видеть отчетливей наше прошлое. На реках вавилонских нет нужды учиться плачу, но можно учиться созерцанию.
I
Россия не удалась в том смысле, в каком удались, что бы ни случилось с ними дальше, Италия, Англия или Франция. Национальной культуры, такой всесторонней, последовательной, цельной и единой, как эта страны, она не создала. Ее история прерывиста, и то лучшее, что она породила за девятьсот лет, хоть и не бессвязно, но связано лишь единством рождающей земли, а не преемственностью наследуемой культуры. Ее творческие силы скудными никогда не были, но их полное цветение стало возможно лишь за сто лет до такой катастрофы, какая еще никогда не постигала ни одну из европейских национальных культур. Ей самой, к тому же, прообраз этой катастрофы пришлось и в прошлом пережить не раз: в гибели киевской земли, в падении Новгорода и особенно в петровской реформе. Уже кочевание ее столицы не может не поразить, если смотреть на него из Рима, Лондона или Парижа, а отъединенность ее последних двух веков от семи предыдущих есть рана, которая накануне ее революционного разгрома еще только начинала заживать. Русская история не раз обрывалась и начиналась вновь, так что приходилось и русское государство заново строить, и русскую душу заново воспитывать, а делать это было тем труднее, что русский народ никогда целиком в этих усилиях не участвовал и нередко о них вообще ничего не знал. За итальянским Возрождением, за образованием английского государства и Британской империи, за Францией Шартрского собора, как и за Францией наполеоновских войн, стоит весь итальянский, английский, французский народ; но в русской истории весь народ проявлял себя до сих пор почти исключительно в явлениях стихийных: в крестьянской колонизации, казачьей вольнице, в восстаниях Разина и Пугачева, в возвращении с фронта в 1917 году Основная трудность, с которой так и не справилась ни киевская, ни московская, ни петербургская Россия, как раз и заключается в этой разобщенности народа и культуры, народа и государства, лишающей культурную традицию настоящей прочности и препятствующей лечить однажды происшедший в ней разрыв. Эта трудность уже налицо, когда начинается Россия. Она исконна потому, что ее породила сама русская земля.
Об этом говорили тысячу раз и, кажется, не все еще сказали: первый факт русской истории — это русская равнина и ее безудержный разлив. Широкими волнами растекающаяся вдаль безбрежная земля есть воплощение беспредельности гораздо более полное, чем море, потому что у моря есть берег и есть другие, дальние берега, к которым уже отплывает Синдбад или Колумб, тогда как земля, и земля, и еще земля без конца ни к какой цели человека не влечет, а только говорит о собственной бескрайности. Русские просторы зовут странствовать, бродить, раствориться в них, а не искать новых стран и новых дел у неведомых народов; отсюда непереводимость самого слова «простор», окрашенного чувством, мало понятным иностранцу и объясняющим, почему русскому человеку может показаться тесным расчлененный и перегороженный западноевропейский мир; отсюда и русское, столь отличное от западного, понимание свободы не как права строить свое и утверждать себя, а как права уйти, ничего не утверждая и ничего не строя. По русской равнине разлился крестьянский народ, завоевал ее, особенно в лесной полосе, упорным, нескончаемым трудом, но трудом однообразным, размеренно-повторным, воспитывающим если не пассивность — в этом земледельца упрекнуть нельзя, — то привычку ко всегда одинаковому, уже не ощущаемому как волевой акт усилию. Этот разлитой в необозримом пространстве народ никаких масс до последнего времени не образовывал нигде и потому культуру удушить не грозил, но, отказываясь и вообще сплачиваться в более тесные, изнутри расчлененные группы, он ее вечно распылял, рассасывал, растворял, не давая ей отстояться в твердой и выношенной форме, а то, что не поддавалось растворению, нес неохотно и при первом случае готов был сбросить с плеч.
Конечно, народная жизнь и сама не бескультурна, а потому конфликт, о котором идет речь, следует формулировать точней. Русский фольклор, как известно, весьма богат, и притом, если принять во внимание огромность его площади распространения, очень однороден. Эта, как я предлагаю ее назвать, горизонтальная культура не только несравненно лучше сохранилась еще и в послепетровской России, чем в большинстве других европейских стран. Она, по-видимому, уже и в Древней Руси была более разработана, шла глубже, захватывала жизнь полней, чем в этих странах. Такой была она, однако, именно потому, что оставалась горизонтальной, что другая, вертикальная культура из нее не выросла, а если и воздвигалась, то несколько поодаль, впитывая из нее лишь немногое и обогащая ее лишь ценою собственного упадка. Всякий фольклор с течением времени беднеет, и состав его меняется. При нормальном историческом развитии лучшее, что в нем есть, уходит в высокую культуру и заменяется постепенно ее отработанными ценностями, «опускающимися», т. е. уходящими в народ. Древнее народное искусство Запада дало ростки, из которых после их скрещивания с позднеантичной художественной традицией выросло великое средневековое искусство; зато в настоящее время народная одежда французских провинций хранит всего лишь память о старых городских модах, а песни, что поют в немецких деревнях, происходят по большей части из альманахов XVIII века. Напротив, русский мужик так и не нарядился в барские обноски, и городской романс до самой революции не вытеснил из деревни старую народную песнь. Правда, из допетровской культуры народ многое взял и сохранил в себе, но в результате этого усвоения как раз и рассыпалась сама эта культура, не сумевшая, в отличие от культуры западного средневековья, вобрать в себя все народное творчество; и народ остался со своей, народной, предоставив строить другую господам, по чужеземному образцу.
Богатством русского фольклора нельзя не восхищаться, но горизонтальная культура вертикальной ни при каких условиях не может заменить. Самый лучший лубок несравним с рублевской иконой, «Царь Максимиан» — не «Макбет» и былина об Илье Муромце — не «Божественная Комедия» и даже не «Песнь о Роланде». Для литературы и искусства допетровской Руси характерно обилие произведений, приближающихся к фольклорным и достигающих, с точки зрения народного искусства, весьма высокого художественного уровня, но также характерны редкость и отъединенность таких созданий высокого вкуса или бурного творческого огня, как «Слово о полку Игореве», проповеди Кирилла Туровского, «Троица» Рублева, Покровская церковь на реке Нерли или храм в Коломенском под Москвой. Сложившиеся за эти долгие века церковный быт и религиозно-нравственное сознание русского народа составляют едва ли не самое глубокое и прекрасное проявление народного христианства, какое вообще явила нам история; это, однако, не должно заставить нас закрыть глаза на чрезвычайную скудость древнерусской религиозной мысли сравнительно с западной или византийской, на полное отсутствие у нас чего-либо подобного возникновению великих монашеских орденов, подъему философского и мистического созерцания, всему тому расцвету высокой религиозной культуры, каким отмечена вершина западного Средневековья. И точно так же разнообразным, развитым, утонченным формам народного общественного быта противостоит в Древней Руси слабость, расплывчатость или первобытная грубость государственного устройства и вообще высоких общественных форм. Повсюду возвращаешься к той же картине: русский народ растекается по бескрайным своим степям и лесам, он живет совсем не дикарской, но осмысленно-трудовой, благообразной и не лишенной творчества жизнью, однако, этой жизнью, этой степенью творчества он как будто и готов удовлетвориться, отказавшись от тех его степеней, что требуют совсем другого дерзания, напряжения, риска, а в социальной своей основе — прежде всего неравенства.
Если культура остается горизонтальной, вместо того чтобы тянуться ввысь, то это всегда и повсюду означает невыделенность творящего высокую культуру слоя, недостаточную иерархичность в строении общества. Слабость иерархического принципа, инстинктивное отталкивание от него было всегда характерной чертой России. Великим воспитателем западного мира — идеи службы, идеи чести, идеи оправданного неравенства — был феодализм, которого Россия не знала, ибо отдельные учреждения, родственные феодальным и существовавшие у нас, целостным его смыслом не обладали, а главное, были всего лишь утилитарными приемами государственной власти, тогда как феодализм на Западе был всеми разделявшимся образом мысли, способом представлять себе общественные отношения, из которого выросли конкретные формы государственного устройства. В том-то и заключалось особое положение уже и Древней Руси, что в ней государство и осуществлявший государственную власть правящий слой оставались чем-то внеположным по отношению к народу, не соединенному с ними теми многочисленными связями, какие рождает иерархически построенное общество. Сами выражения «правящий слой», «культурный слой» подходят более к России, нежели к другим странам, где правящую или творчески наиболее активную часть народа не снимешь с его толщи, как «слой», как сливки с молока, потому что при большом количестве промежуточных ступеней нельзя и разобрать, где начинаются сливки и где кончается молоко; одна Россия всегда была похожа на огромную ватрушку из отличного теста, которую скаредная хозяйка едва прикрыла тонким слоем творога. Иностранцам народ и культурный слой всегда казались у нас чуть ли не двумя разными народами. Дело тут не в этнической чуждости, хоть и она сыграла роль, особенно в киевской и петербургской России (но не решающую, как видно по сравнению с совсем иной судьбой завоеванной норманнами Англии); дело в том безучастии, с каким смотрел на свою историю и на культурное творчество верхов народ, тяготевший не к исторической, а скорей к фольклорной жизни.
Рассказ летописи о призвании варягов, как бы ни толковали историки его прямой смысл, имеет еще и смысл символический. Варягами, хоть и самого русского корня были московские бояре, варягов призывал из-за границы или воспитывал у себя дома Петр, варяжским делом была и российская империя, и русская революция, да и нас самих, эмиграцию, можно возвести к некоему изгнанию варягов. Варяги правили Россией, как умели, встречая иногда активное сопротивление Разиных и Пугачевых, а гораздо чаще — пассивное, всего русского населения. Руководились они обыкновенно правилами хищнического хозяйства, т. е. стремились добиться немедленных результатов, не слишком думая о будущем. Государству нужны были служилые люди, и оно их добыло самым простым способом: раздачей крестьянских земель, а затем и прикреплением крестьян к этим землям; служилый человек получил кров и стол, а государство, передав ему заботу о крестьянах, само от этой заботы избавилось. Организовать население более совершенным образом оно не умело, да население и довольствовалось теми старыми горизонтальными формами организации, которыми издревле обладало, стремясь в остальном не столько государство освоить, сколько от государства убежать. Городская и корпоративная жизнь у нас не расцвела, кроме Новгорода и Пскова, которых на всю Россию было мало и которые погибли от неумения государственной власти понять свою задачу иначе как уравнительно. Равнина располагает к равенству — в свободе или рабстве. Допетровское государство равенства не уничтожило, но сверху всех равно придавило своим аппаратом — потому что правящий класс только этим аппаратом и был, не больше, — придавило, но не пронизало, ни к государственной, ни к культурно-творческой работе по-настоящему не привлекло: «все» остались народом, но не стали нацией.
Национальное бытие, которое важней, чем национальное сознание, и нормально должно предшествовать ему, предполагает совместное, хоть и иерархически расчлененное, участие всего народа в создании высших духовных ценностей. Конкретный создатель этих ценностей – личность, но личность, не оторванная от совокупности культурного слоя, в свою очередь укорененного в народе. В допетровской Руси культурный слой был тонок и расщеплен. Едва выплыв из народной гущи, он снова в ней тонул, и с ним вместе тонули и растворялись в ней созданные им ценности. Характерно, что русская письменность за семь веков не выработала общего литературного языка, а русское искусство — целостного и последовательно развивающегося художественного стиля. Стилистическое единство всегда начинается с архитектуры, но в древнерусской архитектуре оно образовывалось четыре раза — в новгородских, владимирских, шатровых и так называемых нарышкинских церквах, каждый раз обрываясь после двух-трех выдающихся творений и не доведя развития до конца. Русская икона — несмотря на отличие новгородско-псковской школы от владимиро-московской — обладает гораздо большим стилистическим единством, но этим она обязана Византии, ибо она скорей продолжает византийский стиль, привнося в него некоторые национальные черты, чем создает свой собственный (как это сделала, исходя из той же византийской живописи, Италия). Последний век допетровской Руси являет поразительную картину возвращения культуры на уровень фольклора, всеобщего распыления и рассасывания в народе высоких культурных форм. В области религиозной жизни показатель тому — раскол, восстание народной религиозности против более ученого, дисциплинированного и сознательного православия; в области литературы — торжество народной повести и усилившаяся анархия языка; в области искусства — путь от мастера Дионисия к ярославским росписям, от строгого иконного письма к иллюстрации и лубку, от сосредоточенной и выразительной архитектуры шатровых храмов к декоративному растворению любого строительного замысла. Все отчетливо оформленное, носящее печать личности, все сотворенное до конца неудержимо растекается в завитках, переливах, узорах. Вместо форм — узорочье, меткое слово тех лет, лучше которого не найдешь для определения того чем кончилась, куда излилась душа старой России накануне цирюльников, казарм и всепьянейшего надругательства над церковью. После того как все расшаталось, осело размякло, не так уж много осталось и разрушать.
II
Петровская реформа неверно оценивается славянофильской традицией как беспримерный в истории, извне навязанный народу культурный перелом, но и западническая традиция тоже неправа, когда видит в ней всего лишь осуществление чего-то давно подготовлявшегося и вполне необходимого. Ее можно сравнить с тем, тоже очень болезненным, переломом, какой пережила Германия за два века перед тем, когда ее старая, укорененная в душах средневековая культура столкнулась с неудержимой волной Возрождения, шедшего из Италии. Пропасть, разделявшая эти два мира, была ничуть не меньше той, что отделяла Россию царя Алексея от современного ей Запада: процесс сращения их был столь же длителен и труден, и к тому же ничто в самой Германии не подготовляло ее к восприятию чуждых ей культурных форм, в то время как Древняя Русь обладала чертами, уводившими ее от Византии и приближавшими к Западу. Две особенности, однако, отличают реформу Петра от переворота, пережитого Германией: низкое качество того, что она хотела России навязать, и само это навязывание, т. е. революционный ее характер. Германия столкнулась лицом к лицу с Флоренцией и Римом, с Леонардо и Макиавелли, а России приказано было заменить Царьград Саардамом, икону — «парсуной», а веру и церковный быт — шестипалым младенцем из царской кунсткамеры. В Германии никто не заставлял Дюрера подражать итальянцам или позже Опица писать стихи на французский лад, а в России Петр резал бороды и рукава и перекраивал мозги в меру своего знания о том, как это делать. То, что он совершил, было первой революцией, какая вообще произошла в Европе, ибо английская революцией в собственном смысле не была, а до французской никто и не думал, что можно в несколько лет создать нечто дотоле неизвестное: канувший в прошлое мир, старый режим. Если бы дело сводилось к изменению русской жизни путем прививки ей западных культурных форм, можно было бы говорить о реформе, и притом о реформе вполне назревшей и своевременной, но путь шел к снесению старого и к постройке на образовавшемся пустыре чего-то разумного, полезного и вытянутого по линейке, а такой замысел иначе как революционным назвать нельзя.
Петр был первым технократом новых времен, первообразом того, что один историк (Тойнби) предложил назвать Homo Occidentalis Mechanicus Neobarbarus. Вольтер ценил в нем революционера, Дефо — державного Робинзона, плотничающего посреди русской пустыни, современный «прогрессист» мог бы ценить в нем своего предшественника, для которого культура уже сводилась целиком к технической цивилизации. Россию он переделывал во имя здравого смысла и очередных практических нужд, не спрашивая ее мнения, не считаясь с ее чувствами, разрушая в ее укладе не только то, что казалось вредным, но и то, что казалось недостаточно полезным. Ограниченность его была велика, но все же не превышала его гения. На Западе он не видел ничего, кроме еще неясных очертаний будущей Америки, но, толкнув Россию к Западу, он все же исполнил ее судьбу и сделал то, что как раз и требовалось сделать. Он воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и Пушкина; он думал о верфях и арсеналах, но вернул Европе Россию, а за ней — весь православный мир, поворотом с востока на запад восстановил единство христианского мира, нарушенное разделением Римской империи. Он парализовал на два века деятельность русской церкви, он окончательно отрезал от народного быта культурный быт, он многое в России покалечил и многое окостенил, но в самом главном он успел как не слишком заботливый хирург, ничего не спасший больному, кроме жизни. Дело Петра переросло его замыслы, и переделанная им Россия зажила жизнью гораздо более сложной и богатой, чем та, которую он так свирепо ей навязывал.
Двояким образом, однако, вся ее дальнейшая судьба была отмечена печатью его гения: он хотел от нее творчества, хотя бы и только технического и материального, и она ответила ему творчеством в самом широком смысле слова; он представлял себе государство по старой русской привычке, получившей поддержку в рационалистическом абсолютизме современного ему Запада, как нечто внеположное стране, почти как смирительную рубашку на сумасшедшем, который иначе стал бы буйствовать, и страна ответила ему еще обострившимся против прежнего взаимным отчуждением государства и народа. В конечном счете мы обязаны Петру и всем тем великим, что было создано петербургской Россией, и той катастрофой, что положила ей конец.
Царь-плотник, к несчастью для нас, был в очень малой мере царем-садовником. Рощи лиственниц он любил сажать, но Петербург на сваях вбил в болото; и все же одно насаждение его — русское дворянство — удалось ему едва ли не лучше, чем все то, что он для России смастерил. Новый правящий слой отличался от старого своей многочисленностью и открытостью, полным отсутствием кастовой замкнутости (по крайней мере, в эпоху своего расцвета), а главное тем, что он был одновременно и культурным слоем, чего нельзя сказать ни о служилом сословии времен царя Алексея, ни о чиновничестве и знати времен Александра III и Николая II, ни, еще того менее, о полуграмотных партийцах, ныне управляющих Российской империей. Дворянство и создало культуру петербургской России, причем важно не то, что Ломоносов не был дворянином, а то, что в дворянской культуре нашлось место и для Ломоносова. Помещик, к тому же, был естественно ближе к крестьянину, чем позднейший городской интеллигент: в знании народа, еще никакой разночинец не превзошел Пушкина, Толстого или Бунина; трагедия тут заключалась не в кровной и стихийной розни — в этой области как раз была общность, а не рознь; она заключалась в непримиренности культурных традиций, во все той же несогласованности культуры горизонтальной с вертикальной, несогласованности, которую Петр не исправил, а только углубил, в неизменной безучастности народа и к тому, как живут верхи, и, что куда важней, к тому, что они творят. До тех пор, однако, пока все это так грозно не обернулось тем безмолвием народа в день четырнадцатого декабря, что было страшней всех выстрелов на сенатской площади, до тех пор, да еще и много лет спустя, русская культура, созданная дворянством, жила такой полной и счастливой жизнью, какой больше никогда, ни позже, ни раньше, никакая культура в России не жила. Культура эта была национальной, хотя русский народ в целом еще не превратился в нацию. Ее величайшим созданием был литературный язык, благодаря образованию которого новая русская литература попала сразу в совсем иное положение по сравнению с литературой Древней Руси. Другие искусства, напротив, не достигли той степени стилистической цельности, которой они достигали по временам в России допетровской, что объясняется отчасти общими изменениями, постигшими все европейское художественное творчество, а отчасти особыми свойствами дворянской культуры, тяготевшей в области пластических искусств скорее к широкой декоративной прелести, чем к насыщенности их индивидуальной формы. Однако и тут были у нас обрусевшие или русские строители Петербурга, был Шубин и Козловский, Левицкий и Сильвестр Щедрин, был гениальный живописец — Александр Иванов.
От восемнадцатого к девятнадцатому веку все углублялась и росла вся наша духовная жизнь: современниками Пушкина были Серафим Саровский и Сперанский; все углублялась и росла — пока не случилась трещинка.
К середине тридцатых годов трещина обнаружилась вполне. Она сказалась в чаадаевских сомнениях о смысле русской истории, в славянофильском восстании Москвы против Петербурга, в пониженной оценке Пушкина, а значит и того, на чем был построен пушкинский мир, во всеобщем потускнении символов императорской России. Как передает Сергей Соловьев, Блок в 1915 году «развивал мысль о пушкинско-грибоедовской культуре, которая, по его мнению, была уничтожена Белинским, отцом современной интеллигенции». До него Розанов писал о приходе разночинца, разрушившего «дворянскую культуру от Державина до Пушкина». Конечно, суждения эти упрощают дело, однако они верны в том смысле, что кризис тридцатых годов совпал с рождением интеллигенции, и не только совпал, но был с ним глубоко связан, интеллигенции же предстояло в себя включить значительное число «разночинцев», которые через двадцать или тридцать лет уже стали вытеснять из нее дворян. Перемена, происшедшая таким образом в составе русского культурного слоя, имела огромное общегосударственное значение, не потому, конечно, что дворяне были хороши, а интеллигенты плохи, но потому, что дворяне были одновременно и культурным, и правящим слоем, а интеллигенция стала лишь частью культурного слоя и с самого начала противопоставила себя слою правящему. Отсюда и получилось то гибельное для России расщепление культурных сил, с точки зрения которого прав оказывается умный, хоть и давно забытый наблюдатель русской жизни Р. А. Фадеев, писавший в семидесятых годах: «Вопреки примерам, стоявшим перед нашими глазами, мы сделали опыт, никому еще не удавшийся в Европе и шедший вразрез всему содержанию нашей послепетровской истории: окунулись в полную бессословность, растворили в массе свое, еще недостаточно связное, еще не созревшее культурное сословие, требовавшее времени и самодеятельности для того, чтобы стать на ноги — и теперь вкушаем уже первые плоды начавшегося всеобщего нравственного разброда, но только первые — далеко еще не последние плоды».
Ошибка Фадеева только в том, что он пользуется юридическим понятием сословия, а не социологическим — слоя или класса. С середины века единого культурного слоя в России действительно больше не было, а была бюрократия, была интеллигенция и были не примыкавшие ни к той, ни к другой образованные и творчески одаренные люди. Эти последние чем дальше, тем больше, становились подлинными носителями русской культуры, но к русскому государству не имели никакого отношения — ни правительственного, как бюрократия, ни оппозиционного, как интеллигенция. Бюрократия и интеллигенция жили исключительно политическими интересами (хотя «политика» значила для них не то же самое) и потому хирели культурно; относительно аристократического и чиновничьего мира это, кажется, ясно всем, но это столь же ясно и относительно враждебного ему лагеря: Герцен и Бакунин были высококультурными людьми, Чернышевский и Добролюбов стояли уже на более низком уровне, Михайловский и Лавров были людьми еще более ограниченной культуры, а после них классический интеллигент начинает вымирать, уступая место либо интеллигенту, кое-чему научившемуся от не причислявшихся к интеллигенции образованных людей, либо прямому своему наследнику, полуинтеллигенту; о культурном уровне которого свидетельствует сама полученная им кличка. То, что именно полуинтеллигент был единственным прямым наследником интеллигента, явствует из унаследования им одним основной интеллигентской черты: исключительной одержимости политикой, убеждения, что горсть политических идей важней религии, важней культуры, важней всего прочего содержания жизни и истории. Интеллигент одинаково не признавал своим человека, не разделявшего его политических идей, и человека, безразличного к политическим идеям. У Врубеля, Анненского или Скрябина могли быть (как, впрочем, и у любого бюрократа) интеллигентские черты, но классический интеллигент не счел бы этих людей своими и окончательно отшатнулся бы от них, если бы мог им поставить на вид малейшую политическую ересь, — подобно тому, как достаточно было профессору не высказать одобрения студенческой забастовке, чтобы его отчислили от интеллигенции. Недаром существовали у нас две цензуры, действовавшие с одинаковым усердием и успехом, хотя одна имела в своем распоряжении государственный, а другая лишь общественный аппарат, одна — запрет, другая — организованную травлю. Травили у нас Леонтьева, Писемского, Лескова. К духовной свободе относилась враждебно как большая часть бюрократии, так и большая часть интеллигенции. Оттого-то подонки интеллигенции в союзе с подонками бюрократии и могли образовать послереволюционную правящую верхушку.
Было, впрочем, время — то, что зовут «эпохой великих реформ», — едва ли не самое трагическое в русской истории, когда весь еще не распавшийся культурный слой, включавший и подраставшую интеллигенцию, и правившее еще дворянство, и государство, и общество, и всю ту Россию, что была нацией, но не народом, обратился к этому народу, чтобы дать ему то, в чем, казалось, он нуждался, чтобы с ним соединиться, чтобы сделать нацией и его. Но время потому и было трагическим, что попытка не удалась, и все реформы, включая и освобождение крестьян, были приняты народом как барские затеи, которые могут быть выгодны ему или нет, но всегда остаются ему чужды. Крестьяне хотели не столько избавления от крепостного права, сколько избавления от государства, будь оно представлено помещиком, исправником или воинским начальником; если бы они могли найти подходящие слова, они сказали бы, что им не нужна история, а довольно и своего крестьянского быта, и что они просят сохранить за ними быт на вечные времена. 22 апреля 1861 года Юрий Самарин написал письмо (позже опубликованное в «Красном Архиве»), которое принадлежит к самым замечательным документам русской истории. Он говорит там о явлении, «которое теперь обнаружилось перед всеми с сокрушительной ясностью. Это — полное, безусловное недоверие народа ко всему официальному, законному, т. е. ко всей той половине русской земли, которая не народ. Обыкновенно официальность и образованность относятся к народу, как власть, т. е. передают приказание и требуют послушания. В настоящем случае пришлось толковать, объяснять, убеждать, разуверять. Мы встретились с народным убеждением и сами убедились, что оно не только не подвластно нам, но что вообще слово не берет его, не действует на него нисколько. Спор возможен только при одном условии, когда у спорящих есть хоть одна общая исходная точка, хоть один факт, в котором они не сомневаются. Этого-то и не оказалось на сей раз. Манифест, мундир, чиновник, указ, губернатор, священники с крестом, высочайшее повеление — все это ложь, обман, подлог. Всему этому народ покоряется, подобно тому, как он выносит стужу, метели и засуху, но ничему не верит, ничего не признает, ничему не уступает своего убеждения. Правда, носится перед ним образ разлученного с ним царя, но не того, который живет в Петербурге, назначает губернаторов, издает высочайшие повеления и передвигает войска, а какого-то другого, самозданного, полумифического, который завтра же может вырасти из земли в образе пьяного дьячка или бессрочно отпускного».
При встрече с народом новая Россия разбилась о наследие Древней Руси, не преобразованное Петром и его преемниками на троне или у трона; она разбилась о географию, о неизменность народной жизни, ее победил все тот же стихийный разлив русской земли. Будучи побежденной, она пошла навстречу своему распаду: с шестидесятых годов начинается история русской революции. Быстро стали образовываться два враждебных механизма, бюрократический и интеллигентский, правительственный и революционный, два механизма, мешавшие видеть, мешавшие отличать реальные нужды страны от теоретических постулатов революции или контрреволюции, постоянно нарушавшие естественное развитие культурной жизни. Чеховский разбитый параличом мир обязан своим происхождением действию обоих механизмов, а не одного только, как обычно думают. И точно так же, в обоих лагерях, а не только в одном, крушение реформ, не достучавшихся до народного ума, вызвало особое тяготение к народу. Интеллигенты «ходили в народ», что бывало подвигом истинной любви, но с народом пытались сблизиться и официальные верхи русского общества, в чем подвига (благодаря методам сближения) было меньше, но толку точно так же не было совсем. Опрощался барин Толстой, и в этом было по крайней мере столько же от барства, сколько от мотивов, прозрачных для интеллигенции; опрощались такие толстовцы, в которых простоты было от природы более чем достаточно; но опрощались и русские цари, и в каком-нибудь будущем историческом музее косоворотка и сапоги Толстого будут висеть недалеко от косоворотки и сапог Распутина. Россия, созданная Петром, кончилась покаянием, но не только за царевича Алексея и казненных стрельцов, а за Грозного, за Калиту, за призвание варягов. Сами варяги и каялись — за то, что Россия стала нацией, но не включила в нацию народа.
III
Самое поразительное в новейшей истории России то, что оказался возможен тот серебряный век русской культуры, который предшествовал ее революционному крушению. Правда, длился этот век недолго, всего лет двадцать, и был исключительно и всецело создан теми образованными и творческими русскими людьми, которые не принадлежали ни к интеллигенции в точном смысле слова, ни к бюрократии, так что не только народ о нем ничего не знал, но и бюрократия с интеллигенцией частью его не замечали, частью же относились к нему с нескрываемой враждой. Правда и то, что сияние его — как и подобает серебряным векам — было в известной мере отраженным: его мысль и его вкус обращались к прошлому и дальнему; его архитектура была ретроспективной, и на всем его искусстве лежал налет стилизации, любования чужим; его поэзия (и вообще литература), несмотря на внешнюю новизну, жила наследием предыдущего столетия; он не столько творил, сколько воскрешал и открывал. Но он воскресил Петербург, воскресил древнерусскую икону, вернул чувственность слову и мелодию стиху, вновь пережил все, чем некогда жила Россия, и заново для нее открыл всю духовную и художественную жизнь Запада. Конечно, без собственного творчества все это обойтись не могло, и как бы мы строго ни судили то, что было создано за эти двадцать лет, нам придется их признать одной из вершин русской культуры. Эти годы видели долгожданное пробуждение творческих сил Православной Церкви, небывалый расцвет русского исторического сознания, дотоле неизвестное общее, почти лихорадочное оживление в области философии, науки, литературы, музыки, живописи, театра. То, чем эти годы жили, что они дали, в духовном мире не умрет; только для России теперь всего этого как будто и не бывало. Это могло быть преддверием расцвета и стало предвестием конца.
Те, чьим делом были эти двадцать лет, прожили их в колебавшейся не раз и все же до конца протянувшейся иллюзии, что писаревщина кончилась, что шестидесятые годы на полвека отошли назад, что одна цензура всеми признана столь же нелепой, как и другая, что Горький балагурит, когда пытается запретить постановку Достоевского в Художественном театре, и даже, пожалуй, что Нечаев и Ткачев были всего лишь героями романа, и что это «Бесах» кто-то предложил ради торжества революции уничтожить все население России возрастом свыше двадцати пяти лет. На самом же деле оказалось, что с шестидесятыми годами еще не покончено, и Бюхнер с Молешотом еще не сданы в архив; оказалось, что знаменательный перелом, происшедший на пороге нового столетия в мировоззрении Булгакова, Бердяева, Струве и стольких других бывших марксистов, бывших нигилистов, бывших интеллигентов, сыграл роль лишь в предреволюционном цветении России, а в дальнейшей ее судьбе роли не сыграл. С каким презрением относились люди серебряного века к передвижникам и знаньевцам, к горьковским буревестникам, репинским бурлакам и гражданской скорби из «Чтеца-декламатора»! А ведь именно передвижники и знаньевцы вместе с «Чтецом-декламатором» в конце концов и победили, и мы узнаем если не их скорбь, то их стиль в планетарном провинциализме нынешней России. Победили же они потому, что духовный багаж классического интеллигента в свое время не просто развеялся по ветру, а стал, сильно отощав, достоянием полуинтеллигента, и от него еще до революции просочился кое-где в народ. Начетчики из полуинтеллигентов стали идеологами революции — той революции, которая удалась; потому что готовилось много революций, но удалась только одна: та, что хотела прежде всего до последнего камня все разрушить, а не одновременно строить и разрушать, и не о России думала, а только о себе и об условиях своей удачи.
Откуда этот пафос разрушения? Только в очень малой доле от марксизма, и ту революцию, что в России удалась, сделал не Маркс и не Плеханов: она идет от нигилистов шестидесятых годов, пафос разрушения — от пафоса отрицания. Недаром изъятие Бога и отметание всех духовных ценностей (т. е. таких, которые не сводятся к практической выгоде для особи или общества) есть основной догмат русского коммунизма в гораздо большей мере, чем все специфически марксистские догматы: этим он изменял не раз, тому всегда оставался верен. Для Ленина марксизм был только орудием, которым он пользовался с большим искусством для своей настоящей цели — разрушения. Ленин хотел революции не ради каких-нибудь ее целей, а прежде всего ради нее самой, и сделал ее он, а не другие, именно потому, что другие хотели ее и еще чего-нибудь в придачу, а он — ее и ее одну. Конечно, он бы этого не признал, а может быть и не сознавал, но его образ действий и его успех объяснимы только этим. Пока революция делалась, марксистские лозунги были выгоднее всех других, кроме вытекающих из состояния войны, вроде лозунга бросать фронт и уходить домой, лучшего ленинского козыря; когда же революция была сделана, пришлось волей-неволей проводить их в жизнь, потому что ничего другого в запасе у победителей не оказалось. Ленин был едва ли не одареннейшим из всех революционеров, когда-либо делавших революцию, но одарен он был именно для этого дела, а не для какого-нибудь другого (ведь не требуем же мы от виртуоза на балалайке еще и уменья играть в крокет). Свой изумительный талант он показал в эпоху Брестского мира, когда Троцкий сумел лишь пролепетать о чем-то несуразном, что одновременно не мир и не война, а главное — всем своим руководством революцией, лишь по видимости основанном на учении о классовой борьбе, на самом же деле проистекавшим из понимания исконной, хоть и дремотной, вражды русского народа не столько к кулаку и толстосуму, сколько к барину, т. е. человеку, быть может, и не богатому, но носящему пиджак и воротничок, читающему книжки, живущему непонятной и не нужной народу жизнью. Лучшей гарантией успеха было для революции истребление правящего и культурного слоя, и эту гарантию Ленин от народа получил.
В каждой революции есть три момента: восстание, регламентация, компромисс. Восстание народа против мундира, чиновника, указа и всего того, что перечисляет Самарин в своем письме, было явлением стихийным, и потому не лишенным трагического величии. Ленин на нем сыграл, но Ленин его не выдумал; это оно победило в Гражданской войне, и оно же вызвало тот глубокий переворот в судьбе России, которого не отменят никакие дальнейшие события; поэта и художника только оно и способно было вдохновить; памятником ему останься «Двенадцать» Блока да, быть может, еще «Рассея» Бориса Григорьева. Сущность революции, однако, сказывается не в восстании, а в регламентации (которой Блок не вынес), ибо она исходит из принципов и схем, желающих стать реальностью. Убийстве Кокошкина и Шингарева относится к восстанию, деятельность Дзержинского и постройка Беломорского канала – к регламентации. Аппарат слежки и расстрела был первым успешно действующим аппаратом русской революции, как гильотина — революции французской; в остальном царило долгое время хаотическое бумагопроизводство и сплошная «комиссия наблюдения за комиссией построения» — пока не пришлось считаться с реальностью, хотя бы для того, чтобы не умереть голодной смертью. Отсюда начинается эра компромисса, продолжающаяся и теперь, когда восстание давно кончилось (в 1921—1922 годах), а регламентация в смысле оседлания действительности революционными схемами заменяется регламентацией в смысле оседлания народа государственной властью. От условий, на которых он заключен, от линии, по которой движется компромисс, зависит будущее.
Кнуто-советская империя утверждает, что она строит бесклассовое общество и что эксплуатация трудящихся в ее пределах отменена, тогда как всем давно известно, что там образуется новый правящий класс, а трудящиеся эксплуатируются государством в интересах этого класса и его правящей верхушки. Тем не менее пропаганда лжет умней, чем кажется, потому что трудящийся, эксплуатируемый государством, если он верит, что это государство действительно принадлежит ему так же, как и всякому другому, легче мирится со своей судьбой, а верить он этому готов, если правящий класс мало чем отличается от остального народа в бытовом и особенно в культурном отношении. Вопреки мнению экономистов, культурные различия переживаются болезненней имущественных; отсюда относительная слабость классовой борьбы в Америке; отсюда преимущество иметь правящий слой, который не являлся бы культурным слоем. По этой линии и двигался компромисс. Испугавшись неурожая, Ленин разрешил торговлю, но запретил культуру. Сталин, торговлю отменивший, ничего не имел против накопления материальных ценностей, но не допустил проявления ценностей духовных. Пока не будет свободы верить, мыслить и творить, не будет культуры (кроме материальной) и, следовательно, может процветать мнимо-бесклассовое, но подлинно бесцветное и бесплодное с точки зрения духовной общество. Такова основа советского строя, остальное — техника, и техника нередко совершенно такая же, какую применяли прежде, в досоветском государстве. Подобие Внешторга существовало при Петре; особые войска, применяемые для охраны порядка, напоминают потешных или опричнину; аракчеевские военные поселения — образец колхозов; комсомольцы, стахановцы, выдвиженцы — будущее служилое сословие; боязнь выпускам подданных за границу была известна Московской Руси и России Николая I. Россией всегда было трудно управлять, и управляли ею всегда механически и жестоко; теперь ею управляют жестче и механичнее, чем когда-либо, но укорять в этом некого, угнетателей не видно, все кругом по-домашнему уютно и серо, и сам отец народов, пока не напялил военного мундира, снимался в тужурке и русских сапогах. Основное различие между западной историей и нашей в том, что у них народ хотел овладеть властью, а у нас – уйти от власти. Чем меньше он ее чувствовал, тем больше она ему была по душе. Однако при неизменности такого положения вещей тяжба неразрешима. Власть тем круче, тем свирепо-прямолинейней, чем больше растекается под ней и ускользает от нее народ; и чем больше склонны от нее бежать и все, что к ней относится, называть казенным, тем казенней она становится. Анархическому инстинкту русского человека противостоят исключительно жесткие, железные, негнущиеся (а потому в конечном счете и непрочные) формы государственного управления. Покончить навсегда с этим противоречием или хотя бы в достаточной мере и надолго его сгладить не удалось до сих пор ни одному из существовавших в России государственных устройств. Очень возможно, что для русского будущего революционным десятилетиям суждено сыграть в этом отношении решающую роль. Не то чтобы нынешняя власть сумела положительным образом разрешить вытекающую из сказанного труднейшую задачу. Напротив, она опозорила себя навек таким насилием таким произволом, каких Россия никогда не знала и каких еще на свете не было. Однако тем самым — можно надеяться — она привела к абсурду не только всякий механический и навязанный сверху способ управления, но и то, что ему противостояло: формобоязнь, недоверие к любому праву и к любой власти, политическую уклончивость и немоту русского народного сознания. Есть основание думать, что после падения свирепой как никогда, но зато и добравшейся не до шкуры его только, а до самого его костяка власти, русский народ поймет необходимость уже не бежать от государства, а организовать его изнутри, из себя, — именно организовать, а не только построить, т. е. сделать его не железным, а живым.
Третья Россия будет сильней и первой, и второй. Революция принесла ей три дара: сознание единства всей огромной страны, участие всего населения в ее исторической жизни, правящий слой, близкий к народу; внутренне не отделенный от него; ни одним из этих даров Россия еще никогда не обладала. Нет сомнения, что именно теперь она на пути к тому, чтобы впервые за почти тысячелетнюю свою историю стать нацией, включающей в себя весь народ. Те, кому этого довольно, т.е. кого удовлетворяет внешняя сила и материальное преуспеяние, должны эту третью Россию счесть своей; так они, конечно, и сделают — это вопрос времени и устранения внешних препятствий. Что же касается других, то им следует знать, что хотя революция и принесла России эти неоценимые дары, она кое-что у нее и отняла. Искоренение творческой свободы даром пройти не могло и не прошло. Философия, свободное знание (кроме наук известного направления или в которых не может быть никакого направления) запрещены. В литературе жалкие перепевы «гуманных» мотивов девятнадцатого века и отдельные проблески живого дара или живой мысли тонут в стандартном хламе, вываренном по казенному образцу. Живопись вернулась к Верещагину, скульптура — к Антокольскому; музыка и архитектура подвергаются окрикам людей, ничего не смыслящих ни в той, ни в другой. Вертикальная культура русского образованного общества уничтожена, но уничтожается и горизонтальная культура народа в ее религиозной и бытовой основе. Всеобщая грамотность вполне совместима со всеобщим варварством, а чтение Пушкина — с непониманием азбуки его искусства. Когда культурная преемственность так порвана, как в России, таким повальным истреблением или изгнанием ее носителей, — ее восстановление будет во всяком случае очень трудным. Оно станет невозможным при дальнейшем воспитании молодежи в духе партийной дисциплины и технического идолопоклонства. Одно из двух — или что-то такое случится с Россией, что ее воссоединение с прошлым в последнюю минуту все-таки произойдет, или и в самом деле она перестанет быть Россией. У современной Греции не много общего с Грецией Платона; у будущей России может оказаться еще меньше общего с Россией Пушкина. Имя останется, быть может, и официально будет ей возвращено — но по праву оно принадлежит чему-то иному, не территории, не стольким-то миллионам людей, а всему тому, что ею было создано, всему, чем она жила. Что бы ее ни ждало впереди – мы знаем, что это было.
МЫСЛИ О «РУССКОЙ ДУШЕ»
Иностранец этих слов в кавычки не поставит и рассуждать на обозначенную ими тему будет непринужденнее чем мы. Так и нам говорить о национальных чертах немцев, французов, англичан легче, чем о своих, а о собственной душе и упоминать неловко; однако за неимением более удобного выражения можно воспользоваться и этим, самой же темы все равно не избежать. Все мы в наших мыслях о себе и о своем народе исходим из некоторого общего представления о том, что приходится называть слишком расплывчато его душой или слишком узко — его характером. Почему же не попытаться представления эти проверить, хотя бы частично, и хоть что-нибудь разглядеть в обманчивой, но влекущей глубине?
Мнением иностранцев при этом отнюдь не следует пренебрегать. Конечно, русский человек изнутри знает кое-что о себе и о России, что другому узнать трудно; но сколько-нибудь ясно высказать то, что подсказывается этим смутным знанием, тоже ведь очень нелегко. Чужие ошибки в этой области ничего не стоит указать, но как трудно выразить в словах нашу собственную, чувствуемую, однако, правду. Тут-то и помогают суждения иностранцев – наблюдения со стороны: благодаря им становится легче разобраться в полувнятном нашем самосозерцании. Неоценимо полезны с этой точки зрения бывают не только писания, в общем дружественные России, как известная работа покойного французского ученого Жюля Легра (несвободная, однако, от некоторых предубеждений), но и книги наблюдателей, настроенных враждебно, если только они талантливы и умны, как маркиз де Кюстин или особенно как Виктор Ген, балтийский немец, автор замеательных книг о Гете и об Италии, прослуживший полжизни в петербургской Публичной библиотеке, страстно ненавидевший все русское, включая музыку и литературу, и все же оставивший записи (изданные посмертно), которым трудно найти что-либо равное по зоркости и остроте [3].
Случай Гена — крайний: прозрение, внушенное злобой, ясновидение вопреки несправедливости; общее у него с другими только то, что и он «со стороны». Именно так, все равно что чужими глазами, надо и нам посмотреть на себя, чтобы себя понять, и, пожалуй, сейчас, когда мы отделены от России чем-то большим еще, нежели версты или годы, нам легче стало видеть многие из тех черт, что составляют ее единственность. Конечно, глядя на нее, думая о ней, мы не можем быть только стороной — мы также и она сама; только раздвоясь, угадаем мы даже самую ничтожную ее черту; но раздвоение это как раз и стало доступнее, чем прежде. Впрочем, пусть оно трудно и сейчас… О чем же думать в эмиграции, если не о России? Как не возвращаться к мысли о ней тем чаще, чем дальше мы, кажется, отходим от нее, проникаясь чужеземным опытом?
I
В Эрмитаже когда-то я всегда останавливался перед картиной Иорданса «Семейный портрет», напоминавшей мне почему-то Россию Петра — или Европу, как ее должен был видеть русскими глазами Петр, — хотя написана она на полвека раньше и ничем не связана с петровским временем. Позднее я понял, что ошибался: в картине есть что-то не от петровской России, а от России вообще. С той ее связывают лишь случайные ассоциации, с этой — одна черта, только одна, но без которой не представляешь себе образа России. Кажется, с этой черты и надо начинать, когда думаешь о ней.
В эрмитажном портрете, как и во всей живописи Иорданса, есть особое и необычайно острое чувство семьи, взаимной близости, связанности ее членов, нераздельности человеческих особей в лоне вскормившего их рода. Людям в его картинах тесно и тепло; они заполняют весь холст; они живут вместе, сообща, одною жизнью, одной душою; один начинается там, где кончается другой, один заканчивает, доживает в собственном бытии телесно-душевную целостность другого. Если у него в собственном смысле слова изображена семья, то дети и в самом деле соединяют в себе отца и мать, братья и сестры — разветвления одного ствола, и какой-нибудь старый дед корнями уходит в глубь родовой жизни. Вот в этом именно чувстве семейной связанности, домашнего тепла и тесноты есть что-то русское, сохранившееся в русском быту, хотя, конечно, не повсюду одинаково, и хотя от него, как от многих других характерно русских черт, может ничего не остаться в будущем. Чувство это с огромной силой отражено русской литературой, и сильней всего Толстым, который, быть может, именно в этом отношении больше, чем во всех других — самый русский из русских писателей. Воплотилась эта черта не только в его творчестве, но и в жизни, что особенно ясно видно из воспоминаний Александры Львовны, где Толстой, да и Софья Андреевна рядом с ним, неизменно присутствуют, зримо или незримо, как священные пращуры, как домашние боги в мире простых смертных — детей, домочадцев и гостей. Подрастая, женясь, выходя замуж, дети все же остаются нераздельными с семьей, если не в реальном быту, то в душе, в памяти или верней, в крови: их радость и горе, их различные судьбы, даже их любови разлучают их, но не разъединяют. Множество эпизодов и подробностей, рассказанных Александрой Львовной, устанавливают необычайно крепкую связь Толстого с женой и детьми, сказывающуюся в его остром (все равно — сочувствующем или враждебном) переживании любовных увлечений дочерей, в его вчувствовании в семейную жизнь сыновей, в собственной, не внешней только, но и внутренней опутанности тенетами семейных отношений. Можно думать, что и предсмертный его уход был не только результатом давно уже назревавшего решения покинуть обстановку, обрекавшую его вести не ту жизнь, какая вытекала из его учения, но и чем-то большим: попыткой бежать от себя, того семейственного начала в себе самом, что всегда существовало и глухо боролось в его душе с чисто индивидуальным, не знающим ни чад, ни домочадцев, усмотрением его разума и совести.
В книгах Толстого живет такое чувство семьи, какого не знала европейская литература со времен патриархальных и которое в эти патриархальные времена не могло быть выражено так, как его выразил Толстой. «Война и мир» — повествование о семьях больше, чем о людях, и «Анна Каренина» не случайно начинается знаменитой фразой о счастье и несчастье семейств, а не людей. Нигде не показана так, как у Толстого, та совместность душ, что внутренне объединяет даже и очень отличных друг от друга по умственным способностям, характеру, таланту членов одной семьи. Единство это стихийно, доразумно; в изумительной сцене предложения Левина на другой день после счастливого объяснения его с Кити старые князь и княгиня не просто сочувствуют дочери, не радуются ее счастью, а участвуют в нем в самом буквальном смысле слова: дочь не до конца от них отделена; в ее любви, в ее будущем материнстве они с ней, ее замужество — событие не личное, а родовое. Стоит сравнить эту сцену с той, что происходит у Анны с Вронским после ее «падения», чтобы понять насколько для Толстого не то, что истинна, но и художественно изобразима лишь та любовь, что неразрывна с материнством и семьей. Отсюда и различие всего отношения его к любви Анны и Вронского сравнительно с любовью Левина и Кити, различие, внушенное в конечном счете (как и весь замысел романа) не отвлеченно игральным принципом, а ощущением жизни, более непосредственным, чем всякая мораль. Любовь признается Толстым только родовая. Иную он отвергает как человек; и даже как художник, способен изобразить ее, только подчеркнув ее разрушительную силу (как в любви Анатоля и Наташи), обнажив ее устремленность в небытие. Ни в чем так не проявилась глубина толстовского чувства семьи, как в том, что сама любовь окрашивается у него семейно и знает только одну эту родовую «сублимацию». Чувство это принадлежит, однако, не ему одному, а в некоторой мере всей России, и им самим переживается именно таю как самоочевидное и всеобщее. Он его выразил всего сильней, но его легко найти как бы в предварительном очерке у Пушкина, потом у Аксакова, у Тургенева, даже у Достоевского (хотя ему лично оно скорее чуждо), и характерно, что розановское обожествление пола имеет в виду первобытную детородную стихию и этим противополагается, например, проповеди Лауренса, прославлявшего, так сказать, искусство для искусства, т. е. половую жизнь ради нее самой.
Именно этой близостью эротического и семейного, исконной нераздельностью семьи с природной, дочеловеческой ее основой Россия отличается от Запада. Семейные устои очень сильны, например, во Франции, но здесь семья — учреждение, которое должно уважать, которое охраняется законом: она не дана, а задана. Семью здесь основывают как некую новую общественную единицу, ее члены — как бы граждане малого государства, управляемые неписаной конституцией. Она основана на праве больше, чем на морали, и на морали больше, чем на первичном, не проверенном разумом влечении. Ей присуща прочность хорошо построенного здания, но не гибкость и обновляемость живого организма. Это различие простирается за пределы собственно семьи, основанной на браке и единокровности. Если во Франции и на Западе вообще семья тяготеет к государству и публичному праву, то в России и сама государственная, публично-правовая жизнь как бы стремилась всегда к состоянию жизни семейственной. Наши семьи не замыкались, а распространялись Домочадцы и даже гости участвовали в семье. «Дворовые и слуги чрезвычайно много разделяли интересов частной, духовной и умственной жизни своих господ в былое время», — говорит Версилов у Достоевского, и достаточно одной русской литературы прошлого века, чтобы уверить нас, что он говорит правду. Лакей — не только не русское слово, но и не русское понятие; зато всевозможные нахлебники и приживалки, а также отставные кормилицы, ушедшие на покой няни и окончившие службу денщики всегда составляли пограничную стражу русской семьи, оберегавшую ее от слишком четкого чертежа внешней, жесткой, несемейной жизни.
Дело тут даже не в одной лишь семейной традиции самой по себе. Русский и в отрицании семьи не столько ограждает свои личные права, как француз, сколько восстает против принятия ею институционной, ограничивающей, суживающей формы. Зато чувство, близкое к семейному, могло возникать у нас в любой не слишком обширной социальной группе, ибо личность в России не до конца выделялась из своей среды, оставалась связанной с тем, что лучше назвать общиной, а не обществом. Эту особенность имеет в виду Ген, когда говорит, что в России «личность погружена в субстанцию семьи». Но он склонен смешивать ее с патриархальностью в строгом смысле слова, хотя patria potest as с римским оттенком государственного властвования вовсе не характерна для России Покойный французский критик Жак Ривьер в своей книге о Германии рассказывает о том неизгладимом впечатлении, какое произвели на него русские солдаты, виденные им в немецком плену, своей странной сплоченностью, как бы приклеенностью друг к другу. Быть может, даже та особая форма группового помешательства, что проявилась у русских военнопленных, содержавшихся после 1918 года в одной из итальянских лечебниц для душевнобольных, состоит в некоторой связи с этой особенностью русского душевного уклада. Люди эти молчаливо и беспрекословно подчинялись вожаку, как бы сосредоточившему в себе всем им общую душу — волю и разум всей этой навсегда сросшейся внутренне общины. Можно истолковать это как болезненное обострение той невыделенности лица из народа, общины, артели, семьи, которую иные наблюдатели называли стадностью; однако стадное чувство в известных условиях может овладеть скоплением людей любой национальности, любой толпою, тогда как для русских людей характерно некоторое постоянное ощущение своей связанности с близкими, какими бы признаками ни определялась эта близость.
Легко наметить отсюда переход к еще более русской черте: преобладанию личных отношений над отношениями профессиональными, служебными, вытекающими из общественных норм и государственных установлений. «Русский купец, — говорит Ген, — с неохотой уплачивает по векселю, даже если он миллионер. Ему трудно расстаться с деньгами, а главное, его теснит точно установленный срок. Ему хочется устроить дело полюбовно, в дружеской беседе, путем просьбы, уговариванья, обещания, лести, умиления, отказа, уступки, словом в порядке личного общения». Подмечено это верно, хотя и односторонне оценено. Бюрократическая механизация человеческих отношений никого так не пугала, как русских людей: об этом свидетельствуют, среди многих других, Гоголь в «Шинели» и Гончаров в «Обыкновенной истории»: «И каждый день, каждый час, и сегодня, и завтра, и целый век, бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей — одни колеса да пружины». Анна Каренина говорит с отвращением о муже: «министерская машина»; и это отталкивание от механизма повсюду чередуется у нас с его непониманием, с нежеланием признать, что он все же налицо. Пусть иногда бестолково и невпопад, но в «должностном лице» у нас всегда склонны были искать человека и, не находя, впадали в отчаяние или в негодование. Глупая чеховская старуха, сующаяся с челобитной не по адресу, путающая учреждения, по неспособности видеть что-либо, кроме живых людей, — лишь карикатурное отражение этой склонности. Для русской литературы губернатор, околоточный, делопроизводитель — либо исчадия ада, либо человеческие существа, начисто изъятые из того мира, к которому они принадлежат по должности. Толстой ненавидит суд, Салтыков — администрацию, Чехов терпит лишь тех профессионалов, которые не терпят своей профессии. Понятие городового в уме русского интеллигента приобрело метафизический смысл, зачеркнувший его бренное естество: Февральская революция, как известно, была «бескровной», хотя трупы городовых, сложенные, как дрова, на невском льду, исчислялись сотнями. Наши террористы были добрые молодые люди, готовые даже и жизнь положить за будущее счастье человека, но для которых представитель государства уже не был частью человечества.
В конечном счете, отрицание государственной и всякой вообще функциональной связанности человека сводится к отрицанию того, что так почитается на Западе: морального долженствования, вообще долга . Русский человек, если творит добро, то не по долгу, а по любви, и вообще делать, творить, работать он хочет — как совершенно правильно заметил и Легра — только если труд ему по сердцу, а не в силу того, что он должен, обязан, хотя бы это долженствование ему предписывала собственная выгода или практическая необходимость. Конечно, это нередко приводит к пассивности, легко переходящей в простую лень, а ленивым бывает и моральное чувство; однако Гончаров не совсем неправ, когда, восхваляя Штольца, наделенного немецкой фамилией, да еще и намекающей на нравственную гордыню), он тайно предпочитает ему Обломова. В отрицании долга, в выведении всей морали из любви и в предпочтении этой морали праву заключается также и вера в положительное, действенное добро, тогда как юридическая мораль приводит к системе запрещений, к пониманию добра как простого воздержания от зла или как внешнего, иссушающего сердце исполнения закона.
Первенство личных отношений в русской его форме, отрицательная сторона которого выражается специфически русским понятием кумовства, ничего не имеет общего с персонализмом английского типа. Личность у нас оставалась недоочерченной, недовыделенной из семьи и общины, а потому и недостаточно защищенной от них, недостаточно утвержденной в своем личном праве. Нельзя, однако, смешивать этого положения вещей ни со слабостью самой личности, ни с отсутствием знания о ней и о ее силе. Русское чувство личности бывает очень острым, но оно питается не столько сознанием своей личности, сколько непосредственной интуицией личности чужой. Русский человек нередко бывает вправе сказать о себе, что его интересует не столько достоинство его личности, сколько выпуклость, прелесть или странность личности другого. Оттого русский роман ищет не типического, а индивидуального, но личности автора предпочитает личность героя; оттого в русской жизни так редки были случаи, когда человек решался напрямик собою вытеснить, собою зачеркнуть другого; оттого Россия сравнительно так мало страдала от обезличивающего индивидуализма — послереволюционного западного бедствия. И точно так же женщина у нас не потому уважалась, что сумела, как в англосаксонских странах, по-мужски отстоять себя, а потому, что мужчина не сумел ее обезличить, не научившись разделять того, что ему в ней нравилось, как в женщине, от того, что привлекало в ней, как в человеке.
С этой слабостью не самосознания, а самоутверждения, связана другая, нередко отмечавшаяся особенность русского человека: слабое чувство собственности. В частном разговоре немец, живший в России до 1914 года, долго хвалил русских, но затем прибавил, что они, к сожалению, «diebisch angelegt», склонны к воровству. Почти такое же мнение высказал было и Легра, но сразу же добавил, что склонности к захватыванию чужого добра соответствует готовность расстаться со своим добром: русский человек отдает свое так же легко, как берет чужое. Не всегда отличая свое от чужого, он тем более не будет склонен отличать собственность от владения. Смешение это, несомненно, пронизало весь русский быт, столь противоречащий твердым определениям римского права, ставшим как бы второй натурой западного человека, особенно человека латинской цивилизации. Как правило, мелкий должок не слишком тревожит русскую совесть, но зато и сам, давая в долг, русский человек зачастую просто дает, а не ссужает, — недаром этот глагол реже употребляется у нас, чем preter, leihen, to lend и другие западные его синонимы. Порой представляется даже, что русское моральное сознание оценивает все имущественные отношения с точки зрения не вещной, а личной, принимает во внимание не убыток, а ущерб, оправдывает вора по бедности (или даже по богатству того, кого он ограбил), что с великим негодованием отмечает в своих записях Ген и что, конечно, не лишено опасности, и уж во всяком случае находится в резком противоречии с логикой римского, да и всякого вообще права.
Логика права враждебна русской совести, как и русскому уму; интеллектуальные и моральные особенности русского человека тут неразличимы. В самом деле, благодаря логической и юридической недисциплинированности мышления стираются границы между тем, чего хочется, и тем, что есть, между обещанным и осуществленным, между утверждением и предположением. Конечно, ворует и лжет и западный, а не только русский человек, но различающий оттенок заключается в том, что с одной стороны чаще преобладает голый расчет и явная корысть, с другой — известная текучесть представлений о собственности и об истине, недаром и русское слово «правда» означает не столько интеллектуально-отчетливое соответствие икса игреку, сколько нечто среднее между мудростью и добром. Неточен ведь и сам русский язык, по сравнению, например, с французским, и не только в смысле меньшей логической строгости в словоупотреблении и построении фразы, но даже и в самой фонетике: неударные гласные звучат неопределенно, концы слов проглатываются. Неотчетливая артикуляция — наша главная ошибка, когда мы говорим по-французски, более заметная для французов, чем все наши отдельные погрешности. Зато насколько наш язык выразительней, конкретней, а главное — задушевней и горячей не только французского, но и всех Других западных языков, насколько ближе к чувствам и вещам, во сколько раз живей передается в нем биение человеческого взволнованного сердца!
Ничто так не раздражает последовательного западного человека в русском, как пренебрежение логикой ради чего-то, что, может быть, ниже, а может быть, и выше логики, как подмена права и справедливости милосердием и любовным снисхождением к слабостям — своим и чужим. Ген рассказывает о том, как немецкий врач не нашел никакой болезни у многосемейного пьяницы-псаломщика, и с негодованием прибавляет, что этот бесспорный диагноз вызвал всеобщее недовольство, так как детям псаломщика нечего было есть, а по болезни ему выдавали бы казенную субсидию. Кто прав? Вероятно, и сейчас большинство русских людей захочет, чтобы врач солгал и чтобы дети были сыты. Le coeur a ses raisons, которых не знает не только разум, но и запрещающая, рейдирующая нравственность. Постоянное преобладание этих «доводов сердца» над разумом и моралью, ничего не знающих о них, разумеется, опасно, легко приводит к хаосу, где гибнут одновременно и милосердие, и справедливость.
Угроза хаоса означает известную первобытность культуры; культуре поздней угрожает не хаос, а чрезмерный порядок улья или муравейника. Даже Ген прекрасно понимал ту прелесть России, что зависит от ее молодости и широты, от отсутствия стесняющих перегородок. В России, по крайней мере в старой России, было нечто, чего, может быть, уже нигде на свете нет: ощущение очень большой свободы — не политической, конечно, не охраняемой законом, государством, а совсем иной, происходящей от тайной уверенности в том, что каждый твой поступок твои ближние будут судить «по человечеству», исходя из общего ощущения тебя как человека, а не из соответствия или несоответствия твоего поступка закону, приличию, категорическому императиву, тому или иному формально установленному правилу.
Все эти черты не просто существовали у нас; они вплетались в трагическую антиномию [4], впервые подчеркнутую Виктором Геном, увидевшим оба ее полюса и описавшим их с неизменным своим отвращением и гневом. Он не устает укорять Россию за невыделенность личного из общего, за отсутствие твердо очерченных границ, в которых могла бы утвердиться личность; существование артелей, например, представляется ему «признаком еще не пробудившейся индивидуальности»; по его словам, «нравственный мир русского человека начинается и кончается семьей»; но вместе с тем он считает, что тот же русский человек ценит больше всего порядок «в механическом смысле слова», проявляет «Neigung zum mechanischen, zur ausseren sol– datischen Einrichtung». «Нигде, — говорит он, — не господствует так, как здесь, отвлеченно-механическое отношение к делу, как если бы культура покоилась на известном количестве форм и формул, вводимых посредством декретов».
Слова эти звучат пророчески; однако напоминают о них не только нынешние способы управления Россией, но и прежние, всегдашние. Там, где кончаются «личные отношения», сразу же начинается у нас ими же вызванная антитеза: царство извне навязанной мертвенной регламентации, «военщины», «казенщины», того, за что проклинали Петра и ненавидели Николая I, за что, в частности, так ненавидел царя Толстой. Противоположность нужно видеть здесь не между самодержавием и свободой, а между бездушием государственной машины и безгосударственной, бесформенной душевностью, к которой тяготеет русский человек. Нельзя не вспомнить и тут Толстого: описания того, как Каренин, приехавший в Москву с ясными намерениями и твердыми решениями, весь размягчается, растворяется, теряет как бы духовный свой скелет, поглощенный стихийным добродушием Стивы Облонского.
Антиномия здесь касается не только «быта и нравов», но чего-то гораздо глубже скрытого: устройства самой души. В мысли и деятельности того же Толстого первичное чувство жизни борется с рассудочным схематизмом, проявляющимся уже в рассуждениях «Войны и мира», а затем и в поздней толстовской философии. Отвлеченное мышление у него тем больше стремится к какой-то арифметической наглядности, чем оно, по существу, протекает затрудненнее и тяжелее. Борьба, которая происходит в душе Толстого, родственна той, что разделяет Россию на Облонских и Карениных, на дремотное добродушие семейственного совместного нутра и насилующие его жестокие схемы железною государства и свинцовой логики. Россия, однако, все же больше в творчестве, чем в отвлеченном мышлении Толстого, больше в Облонском, чем в Каренине, по крайней мере та Россия, которую мы знали и детьми которой останемся до конца. Самое глубокое слово о ней сказано было митрополитом Филаретом и записано Гоголем. О русском народе митрополит сказал: «В нем света мало, но теплоты много». Недаром «светит, да не греет» — чисто русская поговорка, которой никакое «греет, да не светит» не противостоит. И разве мог бы не русский человек сказать о себе как Розанов в «Уединенном», удивительные слова, которые едва ли не вся Россия готова была за ним ежедневно повторять; «Я похож на младенца в утробе матери, но которому вовсе не хочется родиться. Мне и тут тепло».
II
Родилась ли вообще Россия или так и пронежилась тысячу лет в материнском лоне, так и не вышла до революции из предрассветного, утробного бытия? Разве и впрямь не дремала она, содрогаясь, вскрикивая и бормоча, но не открывая глаз — до страшного пробуждения, и то лучшее, что родилось и взошло на ее просторах, — не приснилось ли ей оно и не забудет ли она его так же неизбежно, как все мы забываем среди дневных дел ночные сны? Черты первобытности, «отсталости», которых так стыдились, которыми так попрекали ее те, кто вечно боялся «отстать от века», хотя сам этот страх был им внушен представлением о культуре, состарившемся еще в XVIII столетии, — эти черты (как бы мы ни оценивали их) были, несомненно, ей присущи. Россия, несмотря на Петра и продолжателей петрова дела, все еще была широко раскинутой деревенскою страной, жившей в значительной мере старой патриархальной жизнью. Обе ее культуры, горизонтальная и вертикальная, крестьянская и барская, продолжали быть едва ли не одинаково далеки от городской, научно-технической, стандартно-утилитарной цивилизации, которая уже начала вытеснять на Западе древнее наследие его подлинной духовной жизни. На эту цивилизацию не только славянофилы, но и наименее поверхностные из западников, как Герцен, взирали не без отвращения и угадывали в ней знамения конца. Начало было в России, будущее принадлежало ей; ее младенчество, ее непробужденность были залогом ее величия.
Так смотрели на Россию все те, кто не отчаивался в ней Герцен напрасно считал, что лишь у него и в его лагере надежда и любовь питаются пророчеством, а в лагере Аксаковых одним воспоминанием; на самом деле и воспоминание, т. е. все славянофильское превознесение Древней Руси, только и имело тот смысл, что давало материал и повод для пророчества. Тютчев только в будущее России и верил, больше того: только это будущее и любил; на ее настоящее отвечал равнодушием или раздражением. Пушкин в 1822 году писал: «Только революционная голова, подобная (…) Пестелю, может любить Россию — так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и на этом русском языке». Это значит, что Россию можно любить только как материал для русского будущего, как страну неготовую, недостроенную, где tout est а creer, где «все еще нужно создать» и в области государственной жизни, и в области литературы, — мнение, от которого Пушкин не отрекся бы и в тридцатых годах, хотя в революции он к тому времени и разочаровался. В каком вкусе следовало строить здание — мнения об этом сталкивались и менялись, но никто не сомневался в том, что предыдущие века самое большее заложили его фундамент и что настоящая постройка должна начаться с часу на час. Там, где культурные формы не только не превратились в формулы, но еще и не вполне сложились — там надежды сильней воспоминаний и будущее дороже прошлого. Не только в пушкинское время казалось, что все у России впереди; это могло казаться и в наше время, потому что и девятнадцатый век Россию не довершил, оставил в ней многое нераскрытым, непроявившимся, будущим, возможным. Мы еще знали ее недоделанной, неотвердевшей, готовой во многом принять тот образ, что нашему и дальнейшим поколениям, казалось, суждено было в ней запечатлеть. То, что ей многого не хватало, было призывом к творчеству обещало дать смысл нашей жизни и применение нашему труду.
Неоформленность русской культуры не есть, однако, прост примитивность, и слишком много веков отделяет нас от крещения Руси, чтобы можно было эту неоформленность сводить к младенчеству. Первобытность России — не просто «стадия развития», давно пройденная Западом, но удержанная русским крестьянством, а потому окрасившая в известной мере и культурную жизнь городов или образованного меньшинства. В ней есть что-то отвечающее глубокой и общенациональной потребности, которая с особенной силой проявилась в прошлом веке, в нашем лучшем веке. Есть особое свойство русской души, не мирящееся как будто ни с какой иной культурой, кроме той, что обладает чертами «недоразвитости», первобытности. При соприкосновении не со всем, но кое с чем из того, что считается задачами культуры, подымается в этой душе чувство, которое можно назвать формобоязнью. Чувство это сказалось на многих областях русской жизни и творчества в минувшем веке; оно отразилось на судьбе самого русского языка. Если взять хотя бы литературный язык и сравнить его с западноевропейскими литературными языками, легко заметить, что многое в нем как бы не установилось, не выровнялось, не приняло незыблемых и четких форм. Дело тут не только в несомненной архаичности его грамматической структуры, роднящей его с языками классической древности, от которой зависят такие его черты, как преобладание видов над временами в системе глагола или сохранение флексий, позволяющее свободно расставлять слова в предложении, но и в таких его особенностях, что не столько проистекают из этой архаичности, сколько ее объясняют, так как восходят к некоторым постоянным (хотя большей частью и бессознательным) стремлениям говорящих или пишущих на нем людей. Сам факт сохранности флексий и видов глагола или таких оборотов, как «мы с тобой» (вместо «я с тобой») или «у меня есть» (вместо «я имею»), указывает на общую слабость логических и аналитических потребностей, которой отвечает тяготение к выразительной или поэтической функции языка в ущерб его функции рассудочной и практической. Синонимы у нас разграничиваются чаще по эмоциональной окраске, чем по точному смыслу, синтаксис неохотно подчиняется дисциплине разума, и даже правила грамматики скорей, чем в других языках, уступают напору взволнованного чувства. Наш литературный язык свободнее всех западных в отношении словоупотребления, строения фразы, применения грамматических форм и даже произношения отдельных слов. Этой свободы он хотел, она не просто была ему дана; кажется, нет другого языка, который так бы упорно отвергал всякую чересчур узкую, рассудочную, раз навсегда установленную форму.
Язык поэзии у нас зрелей и разработанней, чем язык прозы, и этого нельзя объяснить одной лишь естественной последовательностью исторического развития. Пушкин жаловался в 1824 году на то, что «метафизического языка», т. е. отвлеченной прозы, «у нас вовсе не существует», и несмотря на все ее успехи, нам и сейчас ее не хватает более всего. Недаром в русской литературе повествование, сказ и живая речь первенствуют над всеми другими видами прозаического стиля; недаром самый оригинальный и глубокий из русских мыслителей, Достоевский, был художником, как Платон или Ницше, а не ученым, как Декарт или Кант, и мыслил не отвлеченными понятиями, а прибегая к образам и мифам; недаром лучшая книга Соловьева написана в форме диалога, а лучшие книги Розанова — в форме отрывков, и притом неслыханно интимным, противокнижным, закадычным языком. Средний уровень философской и научной прозы у нас и поныне весьма низок, а у величайших наших писателей небрежность языка странным образом уживается со стилистической гениальностью. Так, в «Подростке» читаем: «более высшую мысль», «знакомой рукой» (вместо «привычной»)– «чем же она формулировала» (вместо «аргументировала»), а в «Анне Карениной»: «гораздо после» (вместо «позже»),
«О, прелесть моя, думал он на Фру-Фру» того душевного расстройства, которое на него всегда производили слезы». Писатель у нас как бы отказывается от пристальности в отношении слова, по-настоящему всматривается в него, лишь когда оно наполняется до краев чувством и ритмом, когда язык прозы превращается в язык стиха. Относительная безыскусственность русского прозаического стиля (выражающаяся также в относительной неразработанности его ритмических возможностей) как бы возводит в художественный принцип общую нефиксированность, шаткость и свободу языка. В некоторых отношениях это недостаток, в других — огромное преимущество. Знаменитый языковед Антуан Мейе не без основания считал, что русская литература минувшего века в значительной мере черпала свою силу из необыкновенной свежести и жизненности языкового материала, который находился в ее распоряжении. Слишком большая пристальность могла бы эту жизнь умертвить; русская литература предпочла полноту жизни совершенству формы.
Поэзия Пушкина есть чудо живой формы, безыскуственного искусства, но такое чудо повториться не могло. Трагедия культуры заключается в том, что жизнь и форма не могут быть приведены в постоянное, устойчивое соответствие. После пушкинского чуда всякая другая поэзия отвердела бы, иссохла; русская разрыхлилась, разными способами расшатала форму — не пушкинскую, а форму вообще. То же случилось с русским романом после «Героя нашего времени», с русской музыкой после Глинки; что же касается других русских искусств, то они тяготели к бесформенности и в XVIII, и в XIX, и продолжают к ней тяготеть в XX веке. Во Франции классический стиль Империи жестко торжествен и насквозь сух, но русский усадебный «ампир» — самая мягкая, самая неархитектурная архитектура на всем свете. Первое, что бросается в глаза в портретах Шубина и Левицкого сравнительно с их французскими образцами – это опять-таки некоторая мягкость и рыхлость форм, очень подходящая, впрочем, к характеру тех русских лиц, что они изображают на холсте и в мраморе. Приблизительно в том же духе недооформлен Венецианов, и в совсем другом, но еще менее оксюрмлен Суриков. Крушение передвижников объясняется не отсутствием таланта, а тем, что они стыдятся живописи и заботятся о чем угодно, кроме нее. Затаенная боязнь формы приводит к применению готовых форм, каких попало, в надежде, что вывезет «нутро». Музыкальная грамматика Запада отталкивает русских музыкантов, и гений Мусоргского обходится без нее, а Чайковский, усвоивший ее вполне, относится к ней с опаской и потому не умеет, где нужно, ее сломать. Некрасов так шарахается от всякой формы, что нет-нет да и напялит на себя такие жалкие ее побрякушки, от которых непременно отказался бы последовательный и строгий формалист. Но все это не просто изъян; это лишь обратная сторона величия русской литературы и русского девятнадцатого века. Формобоязнь так же неразрывно связана со всем лучшим, что у нас есть, как наивно-прямолинейное отрицание искусства у Толстого с толстовским художественным гением.
Та непосредственность, что так поражает иностранцев в русской актерской игре, русском танце, пении, русском романе, что заставляет их в недоумении спрашивать себя, где же кончается русская манера жить, русский обиход и где начинается искусство Толстого или Чехова, — эта непосредственность, прямота, простота есть лишь следствие того недоверия к форме, той боязни, что она солжет, которыми одержим русский человек и ради которых он способен отбросить всякое искусство. Чувство это приводит к злейшей расхлябанности слова, как в стихах Полонского или Случевского, к слабости композиционных, т.е. рассудочно-волевых элементов в живописи и архитектуре, в музыке и романе, к недостаточной дифференцированности чувственных восприятий, что сказывается, например, в отсутствии последней колористической зоркости у живописцев или в ритме прозы, то не вполне проверенном (как у большинства), то чересчур подчеркнутом (как в лирических периодах Гоголя или Андрея Белого). За пределами искусства тот же инстинкт ведет к отрицанию иерархического принципа, признание которого смешивают у нас с чинопочитанием, и к непременному восстанию не столько против власти как таковой, сколько против власти, облеченной интеллектуальным или моральным авторитетом. Иерархия и авторитет — духовные формы, которые русский человек отказывается свободно признавать, предпочитая, чтобы их грубая материализация была навязана ему силой. Точно так же отказывается он считаться с тем расстоянием, что отделяет всякого человека от всякого другого человека; отсюда фамильярность — от лобзаний до рукоприкладства — в отношении высшего к низшим, смесь неуважения с подобострастьем в отношении низших к высшему, а между равными — распространеннейший из русских видов пошлости: панибратство. На иных путях та же боязнь формы ведет к бесчеловечной жесткости или к ненужной притязательности форм там, где обойтись без них представляется невозможным: к табели о рангах и «кнуто-германской империи» или к педантически-возвышенному и неосуществимо-грандиозному замыслу «Мертвых Душ» или ивановского «Явления Христа народу». Доведенная до предела формобоязнь легко переходит в решительное формопоклонство; Кутузов и Сперанский, Бакунин и Пестель одинаково русские умы, и несносная накрахмаленность брюсовских стихов — только реакция против души нараспашку его предшественников.
И все-таки за всем этим скрывается то самое, что составляет наибольшее своеобразие и величайшее сокровище русской культуры: ее все еще расплавленное, не застывшее, как у других народов, религиозное, христианское ядро. Боязнь формы в самых глубоких своих корнях есть не что иное как боязнь самодовления любой ценности, забывшей о всеединстве, пренебрегающей своим оправданием в религии. В искусстве, да и не только в искусстве она оборачивается прежде всего боязнью красоты — любой красоты, которая не есть одновременно правда и добро и которая именно поэтому грозит оказаться риторикой, декорацией, пустым блеском, суетой и мишурой. «Не говори красиво» — не только девиз такого симпатичного тургеневского нигилиста, но уже и завет Пушкина, чье отвращение к фразе, к изящному иносказанью, к многословной украшенности речи отнюдь не внушено одной лишь эстетической разборчивостью. Не надо быть русским, чтобы ценить сдержанность, трезвость, четкость в жизни и в искусстве; такие требования нередко предъявлялись к человеку и к художнику у всех народов, и выполнение их повсюду приводило к простоте, отбрасыванью лишнего, к честной прямоте приемов и манер. Однако Пушкин хочет простоты прежде всего потому, что ищет правды, и никто не станет смешивать рецептов классицизма или джентльменства с русским презрением ко всему, что можно назвать духовной нарядностью, с русской тягой к святой и убогой наготе. Тут нет ничего общего с трезвостью, сдержанностью и четкостью, тут — не призыв к умеренности и добрым нравам, а совсем иная жажда, идущая из совсем иной душевной глубины. Древнерусское искусство иконописцев, зодчих, проповедников не боялось формы и не стыдилось красоты, потому что красота была для него лишь сиянием Божией Славы, которое даже и не мыслилось отдельно от ее источника. Зато величайший русский художник нового времени Александр Иванов вопреки придуманному своему неверию именно стыдится своего дара и лучших своих удач, и мечтает лишь о той картине, где должны воплотиться истина (археологическая) и добро (сведенное к рассудочной морали). Отсюда же проистекает толстовское отношение к искусству и его же, как и многих русских людей, отношение к истине. Слишком многие у нас стыдились обоих, поскольку не усматривали в них никакой связи с практической нравственностью. Русское неуважение к науке как таковой столь же мало похоже на западный утилитаризм, как русская боязнь искусства — на западное пуританство; у нас подмешивали добро к истине и красоте лишь потому, что, сами того не зная, жаждали их растворения, их единства в том всеобъемлющем сиянии.
Той же тоской по нем, тем же ущербом его осознанности при еще непотушенном христианском пламени внутри объясняется, вероятно, торжество в русской культуре нового времени того религиозного мотива, что на богословском языке называется кенотическим [5].
Это мотив исконно христианский, могущественно представленный в Древней Руси, хорошо известный Западу (наряду с Достоевским, его величайший выразитель в искусстве — Рембрандт), но никогда с такой исключительностью не пронизавший целую культуру, как это случилось в России в девятнадцатом столетии. Державин был, кажется, последним русским, видевшим Бога на престоле, во славе; после него никто не видел Его вверху, а все — внизу. Прозрения Достоевского о Богородице — мать-сырой земле так же относятся сюда, как его Мармеладов, Мышкин, «дитё», как все его творчество, как вся русская литература (идущая не от «Шинели», а от «Станционного смотрителя»), как все русское «кающееся дворянство» и народничество, как мужицкий Христос Толстого и красноармейский Христос Блока. И не только в непосредственно-религиозных видениях, в непосредственно-религиозном опыте сказывается эта основная склонность русской души, но и в той зачарованности всем смиренным, униженным, падшим, что «сквозит и тайно светит» повсюду, в самом глубоком, что было у нас создано. Быть может, в 1830 году, в Болдине, начинается кенозис русского искусства, который, несмотря ни на что, не кончился и сейчас. Когда читаешь:
Два только деревца. И то из них одно Дождливой осенью совсем обнажено, И листья на другом, размокнув и желтея, Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея. И только. На дворе живой собаки нет. Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед. Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка И кличет издали ленивого попенка, Чтоб тот отца позвал да церковь отворил, Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил… —сомневаться нельзя: это и есть та поэзия в рабском виде, та святая убогость, та смиренная красота, для которой Тютчев нашел кратчайшую поэтическую формулу и которую давно успел заметить и понять даже и «гордый взор иноплеменный». Больше сорока лет назад Жак Ривьер, прослушав «Бориса Годунова», писал: «Мелодия Мусоргского — это повесть об уничижении», — и развивал свою интуицию в короткой, но замечательной статье, лучшей, быть может, из всего, что написано об этой музыке. С тех пор многие на Западе сумели понять, что значит у Достоевского непереводимое это слово: «кроткая», и тайное свечение открылось многим. Конечно, нельзя объявлять кротость, отсутствие фарисейства и даже «милость к падшим» неотъемлемыми чертами русского характера, хотя и верно сказал Розанов: «Ницше почтили потому, что он был немец, и притом страдающий (болезнь). Но если бы русский и от себя заговорил в духе; «падающего подтолкни», — его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать». Нельзя в смирении, в уничижении видеть (как хотел этого Достоевский в Пушкинской речи) осуществленную добродетель, победу принципа «смирись, гордый человек»; однако именно на этих свойствах основан русский идеал человека, русское представление о добре и святости; на этих дрожжах изошла вся новая русская культура.
Культура всегда — здание, построенное на вулкане и достраиваемое неустанно из охладевшей лавы последнею извержения. Здание колеблемо подземными толчками и грозит обрушиться на своих строителей, но оно стоит, пока не потух вулкан, и лишь без его огня оно погибнет. Мы знаем со времени «Рождения трагедии из духа музыки», на какой зыбкой основе высятся греческий Акрополь и греческий Олимп. Буддийская культура построена на культе священного уничтожения, мусульманская — на противотворческом понятии рока, христианско-европейская на сверхкультурных ценностях, с точки зрения которых сама культура серединна: ни горяча, ни холодна. Здание русской культуры — части христианской — было построено из неостывшей лавы и должно было рухнуть от первого землетрясения. Зато пламя так подлинно в ней пылало и такой жар исходил из ее недр, что он мог согреть и оживить весь христианский мир, заново разжечь его потухающую сердцевину. В минувшем веке вулканическое начало нашей культуры всего полней было олицетворено Достоевским, а дух зодчества, осуществления формы — Пушкиным; однако и Пушкин в ту болдинскую осень заглянул на самое дно своей души, и Достоевский, через пятьдесят лет после того пророча о Пушкине, мог опереться на здание русской культуры, хоть и говорил от имени ее скрытого подземного или небесного огня. Для нас теперь, да и не только для нас, все это слилось воедино. Не многого стоило бы здание, если бы не было в нем пылающего очага, и хоть рухнуло оно именно потому, что не могло вынести внутреннего жара, все-таки все, что миру дала Россия, из этого сердца родилось и на себе несет его жгучую печать. А если под камнями и щебнем тлеет былой огонь, если когда-нибудь разгорится он новым пожаром – тогда восстанет и Россия и снова возвестит миру оборвавшуюся на полуслове, ей одной преподанную весть.
ПУШКИН И ЕВРОПА
Пушкин — самый европейский и самый непонятно для Европы из русских писателей. Самый европейский потому же, почему и самый русский, и еще потому, что он, как никто, Европу России вернул и Россию в Европе утвердил. Самый непонятный не только потому, что непереводимый, но и потому, что Европа изменилась и не может в нем узнать себя.
Лучшее, что сказал в пушкинской речи Достоевский, это слова о «всемирной отзывчивости» Пушкина, истолкованной им как высшее выражение общенациональной черты, всеотзывчивости русского народа. С тех пор, кажется, все согласились с ним, да и как отрицать пушкинскую открытость чужому или свойственные русскому человеку восприимчивость, переимчивость, гибкость, умение приспособляться (черты, получающие подчас окраску не такую уж и отрадную). В двух отношениях, однако, Достоевский не сказал всего или даже сказал не совсем то, что было бы нужно сказать на эту тему. Он не указал особого направления пушкинской отзывчивости, поставившего ей известные цели и пределы; а в отзывчивости, самой по себе, не пожелал узнать черту, присущую в той или иной мере всякому вообще гению.
Быть гением — это не значит уметь обходиться без чужого (в том числе и национально чужого); это значит уметь чужое делать своим. Гений не есть призвание к самоисчерпыванию, но дар приятия и преображения самых бедных оболочек мира. Очень часто он состоит в способности доделать недоделанное, увидеть по-новому то, что уже было видено другими. «Буря» — единственная драма Шекспира, чья тема и многочисленные черты ее разработки не заимствованы у одного или нескольких предшественников. Зерно «Фауста» — пьеса для кукольного театра, а последние два сборника Гёте — подражания персидской и китайской поэзии. Восприимчивость столь же существенная черта гения, как и оригинальность (не та, которую приходится искать, а та, от которой нельзя избавиться); однако гении узкие и глубокие менее щедро ею наделены, чем те, что покоряют гармонией и широтою. К ним относится Пушкин; его творчество напоминает Ариосто, стихи которого легко внушают мысль, что он лишь вполне удачно повторил не столь удачно сказанное другими, или Рафаэля, в чьем искусстве терпеливый знаток, начисто лишенный художественного чутья, нашел бы только полный инвентарь всего, что сделали итальянские мастера за предыдущие полстолетия.
От гениев, ему родственных, Пушкина отличает, однако, глубокая осознанность его дара впитывать и преображать и особенно сознание той роли, которую призван выполнить этот дар не только по отношению к его собственному творчеству, но и ко всему будущему творчеству его народа. Принимая или отбрасывая ту или иную часть русского литературного прошлого, он знал, что и современники, и потомки последуют его примеру. Отбирая и усваивая все то, что можно было усвоить в литературном наследии Европы, он знал, что усвоение это совершает сама Россия при его посредничестве. Призвание поэта было ему дорого, но он не забывал и писательского долга перед языком, ему дарованным, и литературой, этим языком рожденной. Долг этот был, разумеется, не насильственным, а любовным, не переходил никогда в докучную обязанность. Им были внушены занятия русской историей, изучение народной поэзии, записи песен, подражания сказкам, но еще более толкал он Пушкина в другую сторону к приобщению ко всему тому, что составило духовную мощь Европы, что принадлежало по праву рождения как европейской нации и России, но чего Россия была веками лишена вследствие направления, принятого некогда ее историей. Дело это было прямым продолжением дела Петра, дела Екатерины, перенесенного в область, где оно могло совершаться беспрепятственней, но где оно тоже не могло обойтись без самоотверженного труда. Чем больше Пушкин жил, тем больше должен был понимать, что это и было его дело. В последние годы после женитьбы он с особенным усердием выписывал в свою библиотеку и читал иностранных авторов, по возможности на их собственном языке, вникал в их мысль и в средства ее выражения, переводил их либо для печати, либо для того, чтобы лучше усвоить созданные ими приемы и привить их русскому языку и русской поэзии.
«Переводчики — почтовые лошади просвещения». Вслед за Жуковским не погнушался и он впрячься в тяжелый рыдван западной литературы и тащить его по русским ухабам, даже и выбиваясь иногда из сил. «Мера за меру» – гениальная, хоть и не вполне удавшаяся драма Шекспира, но попытка Пушкина сгустить ее в поэму гениальность устранила, удалась же она гораздо менее. Точно так же и стихотворное переложение из Бэньянова «Странника», несмотря на восторг Достоевского, к лучшим его созданиям отнюдь не принадлежит. Однако сожалеть о затраченном на эти попытки времени было бы близоруко, тем более, что и «Пир во время чумы» — перевод, еще в большей мере, чем «Анджело», но все же осуществивший то чудо, которое Пушкину так часто удавалось совершать. Сам выбор переведенного отрывка, лучшего куска в безразличной пьесе посредственного автора, дословность перевода большинства стихов и легкая, но решающая переделка немногих, замена обеих песен, использующая, мотивы, уже намеченные у Вильсона, но меняющая окраску целого и дающая ему новый смысл, – все это свидетельства именно пушкинского переимчивого и преображающего гения. Неизбежность преображения была такова, что завзятым переводчиком, как Жуковский, Пушкин не сделался; ему даже казалось, что и Жуковский переводит слишком много сам он больше подражал и переделывал, тем самым продолжая, однако, деятельность того, кого недаром называл учителем. Переделки могли не удаваться, но здесь и намерение важно, не только результат, да и не в отдельных удачах или неудачах дело; дело в том, что Пушкин всю жизнь дышал воздухом европейской литературы и так впитал ее в себя, что вне ее (как, разумеется, и вне России) становятся непонятны основные стимулы и задачи его творчества.
Это едва ли не единственный случай в истории литературы, чтобы великий поэт, величайший поэт своей страны, признавался, что ему легче писать на иностранном языке, чем на своем, и действительно писал на этом языке свои любовные письма и письма официального характера, а также предпочитал бы обращаться к нему для изложения мыслей сколько-нибудь отвлеченных. Когда ему надо было рассуждать, он делал это большей частью по-французски, и русское выражение редко приходило ему первым на ум, как это показывают черновики его критических писаний. На французской литературе был он воспитан больше, чем на русской, и не отрекся никогда от иных кумиров своей юности — Парни, Вольтера, не говоря уж о Шенье, которого полюбил немного позже. Впоследствии, правда, его отношение к ней резко переменилось; он осуждал и ее традицию в целом, и особенно строго судил современников, продолжая, впрочем, усердно их читать; пощадил он из них в конце концов (если не считать Шатобриана и г-жу де Сталь, которых уважал) только Стендаля, Мериме, Жанена, Сент-Бёва и автора «Адольфа» — романа, особенно им любимого. Как он, однако, против французской литературы ни восставал, своей давней с ней связи он порвать не мог, и даже Буало не окончательно перестал законодательствовать на его Парнасе, хотя бы в том смысле, что так и не позволил ему оценить домалербовскую эпоху французской поэзии. Если не его стихи, то его проза до конца свидетельствуют об этой связи, и Мериме был прав, когда по поводу «Пиковой дамы» писал Соболевскому: «Я нахожу, что фраза Пушкина – совершенно французская фраза, т. е. французская фраза XVIII века, потому что нынче разучились писать просто».
Как высоко ни оценивать, однако, значение для Пушкина той французской литературной стихии, которую он с детства в себя впитал, оно во всяком случае не перевесит того, что ему дало свободное и глубокое увлечение литературой английской. Французское влияние было неизбежным и всеобщим, английское он выбрал сам; французское можно сравнить с тем, что дает человеку рождение и семья, английское — с тем, что ему позже может дать любовь и дружба. Ни об одном французском писателе он не служил панихиды, как о Байроне через год после его смерти. «Отца нашего Шекспира» он, конечно, с совсем другим чувством читал, чем на лицейской скамье какого-нибудь Вержье или Грекура, да и то, что он уже в 1824 года думает о Расине, отнюдь не похоже на юношеские восторги Достоевского. «Скупой рыцарь» недаром выдан за перевод с английского, а «Пир во время чумы» с английского переведен. В «Борисе Годунове» больше Шекспира, чем Карамзина. Без Вальтера Скотта не было бы «Арапа Петра Великого», «Капитанской дочки», «Дубровского», а быть может, и «Повестей Белкина». Притом дело тут вовсе не в том, что историки литературы любят называть влиянием, т. е. в использовании подходящих приемов и материалов, а в ощущении внутреннего родства, постепенно идущего вглубь по линии от Байрона к Шекспиру Характерно, что единственным литературным направлением современного ему Запада, чьи художественные принципы Пушкин вполне одобрял, была английская «озерная школа», свое отношение к которой он подчеркнул тем, что подражал Вордсворту, переводил Соути, обратил внимание на близкого к ней Вильсона и заботился о переводах из Барри Корнуолла для «Современника» еще в утро последней дуэли. Всего характернее, однако, отношение его к одному из поэтов этой школы, которого в зрелые годы он любил едва ли не больше всех своих западных современников, – к Кольриджу.
Европейскому читателю, не знающему русского языка, очень трудно дать понятие о стихотворной технике и поэтическом стиле Пушкина, но ближайшее к ним, что ему можно на Западе указать — это все же Кольридж. Несмотря на огромное различие мыслей, чувств и всего душевного склада, нет другого великого европейского поэта, чей стих, стиль, чье отношение к слову так напоминали бы Пушкина. «Remorse» и «Zapolya» несравненно слабее «маленьких трагедий», главным образом вследствие вялости построения и связанных с ней длиннот, но общий тон, окраска диалога, отношение фразы к стиху (то, что французы называют coupe) в них очень близки к пушкинским. Как насыщенный пушкинский стиль, с его сплошной игрой гласных и согласных (типа «Медного всадника»), так и обнаженный (типа «Румяный критик мой…» или «Пора, мой друг, пора…») находят себе подобие в стихах Кольриджа и больше нигде или почти нигде. Объясняется это не влиянием, а родством; не родством души, но поэтической совести и поэтического вкуса. Пушкин недаром читал и перечитывал [6] эти родственные ему стихи, недаром собирался было из «Remorse» взять эпиграф для «Анчара», а гораздо позже, из материалов для «Папессы Иоанны», составить поэму в стиле «Кристабель». Он должен был чувствовать к Кольриджу нечто вроде братской любви поэта к поэту. Когда вышла книга стихов его сына, он немедленно ее выписал. Смерть его была Пушкину небезразлична, как видно из надписи на сохранившемся среди пушкинских книг экземпляр «Застольных бесед»: «Купл. 17 июля 1835г., день Демид, праздн. в годовщину его смерти» [7]. Уже смерти Пушкина вдова его получила счет от книгопродавца на заказанную им книгу «Разговоров» Кольриджа. Этих разговоров он не прочел, но заочную беседу валлийским поэтом, с тех пор, как познакомился с ним и пока был жив, он едва ли прерывал надолго.
Теплота отношения к Кольриджу характерна и для этого особого братского чувства, и в то же время для отношения Пушкина к западной литературе вообще. Современников он читал жадно и всегда с радостью, даже с восторгом отмечал то, что ему у них нравилось, будь то роман Манцони или стихи Сент-Бёва. Но еще сильней тянуло его к предкам. Глубокое преклонение перед Гёте, как и чувство, какое испытывал он к Данте, Петрарке, Сервантесу, Кальдерону, Шекспиру, Мильтону и многим другим, не может быть названо иначе, как сыновней любовью Их имена были для него священны, как и все прошлое западных литератур; они все, не один Вальтер Скотт, были «пищею души»; они все, не один Шекспир, были его «отцами» в несколько ином, но едва ли и не в более глубоком смысле, чем это можно сказать о Державине, Жуковском или Карамзине. С русской стороны у колыбели Пушкина не столько им противостояли русские писатели, сколько противостоял сам русский язык, в который Пушкин как бы их включил, подняв его на высоту их мысли, их искусства. Язык этот он заставил совершать чудеса, и притом так, что они совершаются как бы сами собой, точно сам язык сделался поэтом. Разве не одной уже прелестью языка хотя бы и первая глава «Евгения Онегина» лучше Байрона, а «Капитанская дочка» лучше Вальтера Скотта? По размаху творческого воображения Пушкин не был равен Данте, Шекспиру или Гёте, но достаточно прочесть сцену из «Фауста»» «Подражание Данту» и монолог скупого рыцаря», этот несравненный образец прививки шекспировского стиля иной поэзии и иному языку, чтобы убедиться, что в пределах отрывка, образца (что уже немало, потому что ткань гения везде одна) он сумел потягаться с ними, стать их спутником, оставаясь в то же время самим собою. Чудо гения во всех этих случаях есть прежде всего чудо самоотверженной любви. Но любовь выбирает и не может не выбирать; это не просто «всемирная отзывчивость».
II
«Россия по своему положению, географическому, политическому и т. д., есть судилище, приказ Европы. Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны». Слова эти, написанные в 1836 году, свидетельствуют не о национальном самопревознесении, которого от Пушкина не приходится ожидать и которому противоречит ирония последней фразы, а о понимании той истины, что русскому легче разобраться в западных спорах, чем западным людям, разделяемым национальными предрассудками и наследственной враждой, к которым Россия долгое время не имела отношения. В области литературы русскому легче, чем французу или англичанину, одновременно полюбить Шекспира и Расина; кроме того — и это еще важней — ему легче почувствовать то, что, несмотря на все различия, у них есть общего: их европейство. Немец, француз, англичанин воспринимают друг друга прежде всего как чужих, и в чужом узнают свое лишь в противоположении чему-либо еще более чужому; русский же способен в каждом из них воспринимать европейца прежде всего, а потом уж немца или англичанина. Если бы Пушкин продолжил свою мысль (внушенную чтением книги Шевырева о западной литературе), он нашел бы, что Европу как целое всего легче увидать, если глядеть на нее именно из России. Не об этой ли Европе он думал, когда писал Чаадаеву в ответ на приглашение пользоваться русским языков «mon ami, je vous parlerai la langue de i'Europe, elle m'est рlus familiere que la notre» [8]. Французский язык был для него не столько языком Франции, сколько языком европейского образованного общества; он открывал ему отчасти доступ и к другим литературам, хотя настоящего ключа к ним все же не давал. Французская литература была лишь частью европейской и не могла заменить целого, а к этому целому он и стремился, только оно и могло его удовлетворить.
Не только понятие европейской литературы было Пушкину близко, он пользуется и самим этим выражением. Оно встречается в наброске предисловия к «Борису Годунову» в том месте, где критикуются те «журнальные Аристархи», что «самовластно разделяют европейскую литературу на классическую и романтическую», т. е. забывают о ее единстве. Достойно внимания, что слова эти написаны в том же самом 1827 году, когда Гёте в разговоре с Эккерманом и в знаменательной журнальной статье создает свое понятие всемирной литературы. Две эти концепции совершенно не равнозначны; с известной точки зрения они даже противоположны, и расхождение это вызвано тем, что отношение обоих поэтов к соответствующим вопросам на протяжении их жизни изменялось в противоположном направлении. Гёте к старости все более расширял свой кругозор в сторону Индии, Персии, Китая; Пушкин, напротив, приближаясь к зрелым годам, постепенно суживал его, ограничивал пределами Европы. После возвращения с юга он уже не выписывал турецких слов в свою тетрадь; после 1824 года не написано ничего, что могло бы сравниться с «Подражаниями Корану». В апреле 1825 года он пишет Вяземскому: «Знаешь, почему не люблю я Мура? Потому, что он чересчур уж восточен. Он подражает — ребячески и уродливо — ребячеству и угодливости Саади, Гафиза и Магомета. Европеец и в упоении восточной роскоши должен сохранить вкус и взор европейца». Впрочем, уже и за три года до того он писал из Кишинева тому же Вяземскому о том же Муре, как о «чопорном подражателе безобразному восточному воображению». Возможно, что недоверие к Востоку было у Пушкина отголоском классицизма, но дело тут вообще не в недоверии, не в отталкивании, вовсе не гаком уж и остром, а в слишком сильном притяжении Европы, которую надлежало России вернуть, в России укоренить. У Гёте забот этого рода не было, оттого он и размышлял о всемирной литературе, а Пушкин — о европейской.
Но более того: даже и внутри европейского литературного предания Пушкин различает как бы два разных пласта, усвоение которых Россией не одинаково неотложно и насущно. В 1830 году он пишет: «С тех пор, как вышел из Лицея, я не раскрывал латинской книги и совершенно забыл латинский язык. Жизнь коротка, перечитывать некогда. Замечательные книги теснятся одна за другой, а никто нынче по латыни их не пишет. В XIV столетии, наоборот, латинский язык был необходим и справедливо почитался первым признаком образованного человека». Чем латинский язык был для Петрарки, тем французский был для Пушкина. Латынь не совсем исчезла с его горизонта, принимался он и за греческий язык, однако центр тяжести был в другом, и об этом, а не только об устремлении личных вкусов, сказано с полной ясностью уже в 1825 году в письме к Бестужеву. «Изучение новейших языков должно в наше время заменить латинский и греческий — таков дух века и его требования»; этим требованиям Пушкин и стремился удовлетворить. Будучи с детства обучен лишь французскому языку, он позже познакомился — хоть и поверхностно, нужно думать, — с итальянским и немецким, усердно изучал английский и достиг, вероятно, хорошего его знания (только с произношением так и не сладил до конца), занимался испанским, переводя отрывки из «Цыганочки» Сервантеса. Инстинкт поэта помогал ему и там, где знания не доставало, и благодаря этим часам, проведенным над грамматиками и словарями, русский язык, «столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам», получал пищу, нужную ему, вступал во владение Европой.
Этим и была прежде всего Европа Пушкина: романо-германским миром Средних веков и Нового времени, христианским Западом с его пятью главными литературами на пяти великих языках. Конечно, он помнил то, чего не забывал и Гете, несмотря на все свои экзотические увлечения; он знал, что основа и корень Европы в греко-римской древности, что, порвав с ней связь, Европа перестанет быть собою; но и тут положение его было не то же, что у Гёте: путь его к древнему миру пролегал не прямо, а только сквозь новый европейский мир. Пушкин отлично сознавал, что у России есть собственная античная традиция, идущая непосредственно из Греции, через Византию, минуя Рим, традиция неотъемлемая, укорененная в религии и в языке, в глубочайшем достоянии народа. Разумеется, он совсем и не думал эту традицию устранять, но делу соединения России с Западом она не помогала, скорей ему препятствовала, приводя к тому, что у Запада и у России оказывалось как бы две разных античности, мало чем связанные между собой.
Надлежало эти традиции сблизить, утвердить сознание общеевропейского классического наследия. К этому Пушкин и стремился, во многом вполне сознательно, и притом двояким образом: прежде всего в своей работе над литературным языком, добиваясь в нем равновесия между элементами западного и церковнославянского происхождения (с преобладанием чисто русских), а затем еще и ведя русскую литературу не прямо к Греции и Риму, а к их живому преданию в западных литературах, ко всему тому, что исходя из этого предания было создано.
Пушкинской отзывчивости им самим были поставлены пределы, пушкинскую Европу он сам очертил уверенной рукой, и однако знание границ никогда не означало у него узости, и европеизм его был вполне свободен от основного изъяна позднейшего западничества: поклонения очередному изобретению, «последнему слову», от склонности подменять западную культуру западной газетной болтовней. Ему-то уж, конечно, были вполне чужды «невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне», эти признаки «полупросвещения», которые он так сурово осудил в Радищеве. Его Европа современностью не только не исчерпывалась, но и чем дальше, тем больше ей противополагалась. Он воспитался на литературе восемнадцатого века, но дальнейшее развитие его заключалось не в том, чтобы он старался поспешать за девятнадцатым, а в том, что он как бы возвращался вспять к семнадцатому, к шестнадцатому, к великим векам Европы и к другим не меньшим, но более ранним ее векам, так что современная французская литература представлялась ему вырождающейся, упадочной. Байрона ему заменил Шекспир, уже не Парни, а «ветхий Данте» у него в руках, и даже старофранцузский «Roman de Renart» так его увлек, что он перевел на новый французский язык его начало. Правда, интересы и вкусы такого рода мог воспитать в нем и сам современный ему европейский романтизм; книга Августа-Вильгельма Шлегеля по истории драмы, вероятно, сыграла немалую роль в расширении его литературного кругозора: однако это и есть главное или почти все, что он от романтизма получил, как это видно уже из того, какой он смысл вкладывал в само это слово:
Так он писал темно и вяло (Что романтизмом мы зовем, Хоть романтизма тут нимало Не вижу я; да что нам в том?).Эти строки, как и многие другие высказывания Пушкина, свидетельствуют о его нежелании называть романтизмом то, что все вокруг него называли этим именем.
Ленский — романтик в общепринятом смысле слова, и его романтизм Пушкину не нравится; но существует еще и другой, настоящий романтизм, с которым у Ленского нет ничего общего; что же он такое? На это у Пушкина легко найти ответ. Для него Гёте — «великан романтической поэзии»; «Борис Годунов» — «истинно романтическая трагедия», потому что построена по правилам шекспировской драматургии; Данте для него — зачинатель романтической поэзии, которая, как мы видим, отнюдь не ограничивается (что отвечало бы первоначальной английской терминологии) Средними веками, — для средневековой поэзии у Пушкина есть особый термин: «готический романтизм». К романтической литературе относятся у него, как это он особенно ясно высказал в известном историко-литературном наброске 1834 года, и Ариосто, и Тассо, и Спенсер, и Мильтон, и великие испанцы, и Монтень, и Рабле, и даже «Сказки» Лафонтена и «Орлеанская девственница» Вольтера [9], т. е. вся западная литература от Данте до Гёте, за исключением французской классической трагедии. Такое словоупотребление тоже, по всей вероятности, было внушено ему Шлегелем, но в самом понимании дела Пушкин отходит от него, и недаром, уже ознакомившись с его книгой, пишет (в 1825 году Бестужеву): «Сколько я ни читал о романтизме, все не то».
Различие тут в том, что Шлегель самого себя и своих друзей ощущал прямыми продолжателями Данте, Шекспира и Гёте, тогда как Пушкин противополагал этим гениям своего Ленского и всех Ленских вместе с ним. В его понимании романтическая литература противополагалась не только классической древности, но и романтизму его современников; и если к такому словоупотреблению возврата нет, то именно оно окончательно уясняет нам пушкинскую идею европейской литературы.
Пушкин весь обращен не к сомнительному будущему, а к несомненному и великому прошлому Европы. Он ее еще видел целиком такой, как она некогда была, а не такой, какой постепенно становилась; именно эту Европу он для России открыл, России вернул, не «просвещение», от которого исцелился, не романтизм, которым так и не заболел, а старую, великую Европу, в ее зрелости, в ее здоровье, с еще не растраченным запасом поэтических, творческих ее сил. К этой Европе он сам всем своим существом принадлежал, будучи русским, любя Россию и ее одной и той же сыновней любовью, и если «Европа тоже нам мать», то потому, что Пушкин не на словах, а всем творчеством своим назвал ее матерью. Он был последним гением, еще избегнувшим романтического разлада, еще не болевшим разделением личности и творчества, формы и души. Когда-то это понял Мериме, полюбивший его издали, видевший французское в его прозе, но греческое в его стихах, поклонявшийся в нем последнему божеству своей собственной духовной родины. Другие этому божеству изменили; как же им было понять творения поэта, метко застреленного европейцем, но плохо переведенного на европейские языки? Европа восхищается воспринятой на азиатский лад, искусственно-экзотической Россией, но в Пушкине не узнает себя; если же узнает, то узнанного не ценит: ей хочется чего-нибудь поострее, поизломанней… А Россия, знает ли она еще, что Пушкин не только Пушкина ей дал, но и Данте, и Шекспира, и Гёте — а потому и Гоголя, и Толстого, и Достоевского, — что в его творчестве больше, чем во всех революциях и переворотах, совершилась судьба ее самой, что из всех великих дел, начатых или задуманных у нас, ни одно так сполна не удалось, но ни одно и не предано так всей историей нашей через сто лет после него, как именно его дело?
ТЮТЧЕВ И РОССИЯ
Казалось бы, всем известно, что думал Тютчев о России и какой любовью он ее любил. Славянофильские мечты и ура-патриотические чувства, коими вдохновлены многие из лучших его стихов, как будто не оставляют на этот счет никаких сомнений. В том же свете воспринимают обычно и его французские статьи, а эпиграммы и bons mots, противоречащие им, легко истолковываются как обычное фрондерство. На самом деле, однако, нет у нас писателя, чье отношение к России было бы противоречивей и сложней. Это раскрывается в его письмах, читаемых мало, хотя только в них дается ключ ко многим сторонам его личности и творчества [10]. С их помощью можно попытаться проникнуть в одну из тютчевских тайн, идя от поверхности к глубине, от наружного слоя к тому, что скрыто под ним, а оттуда, быть может, и к третьему, еще более глубокому
I
Один из самых удивительных парадоксов тютчевской жизни (и всей истории поэзии) заключается в том, что ум его во всю эту жизнь был по-настоящему занят одним: политикой. Источник поэтического творчества в душе его не оскудевал до последних дней, но внимание его ума если когда-либо направлялось на литературу, хотя бы и стихотворную, то лишь в молодости, и то не настолько, чтобы сделать его литератором или хоть внушить ему заботу о судьбе собственных стихов. Ни к каким писательским группировкам Тютчев не принадлежал, ни одной строчки на русском языке, кроме стихов, не напечатал. Отзывы о литературных произведениях в его переписке редки и случайны, и ни одного общего суждения по литературным вопросам он, кажется, никогда не высказал. Европейскую поэзию, как это видно по упоминаниям, намекам, переводам, знал он хорошо, но то была духовная пища, издавна усвоенная его гением, а не предмет его размышлений и даже не то, чем заполнял он свой досуг. В 1847 году, во Франкфурте, Жуковский читал ему свой перевод «Одиссеи», и он писал жене, что при этом случае ему была возвращена «давно дремавшая способность искренно и полностью отдаваться чисто литературному наслаждению». Двенадцать лет спустя он жалуется ей же на Москву, «город архилитературный, где вся эта пишущая и читающая братия слишком уж принимает себя всерьез», так что очередное заседание Общества Любителей Русской Словесности кажется важней, чем «грозные события, готовящиеся на Западе».
Для Тютчева события, почти всегда грозные, на его взгляд, и угрожающие Западу, едва ли не больше, чем России, были тем, что всю жизнь заставляло работать его ум с наибольшим напряжением и страстностью. Деревенской жизни бежал он именно потому, что не мог обойтись без новостей, газетных депеш, без политических толков, слухов и предсказаний. В переписке с женой политика господствует над всем, даже над светской жизнью, ревматизмом и дурной погодой. Восемнадцатилетний студент уже увлечен «восточным вопросом», и Погодин записывает в свой дневник его суждения о греческом восстании и судьбе Турции: «Целый народ выгнать трудно. Проезд целого народа через Мраморный пролив будет занимателен». А старик, разбитый параличом, незадолго до смерти, еще «жаждет, — по словам Аксакова, – говорить о политике и общих вопросах», опять-таки политических, диктует на эти темы глубокомысленные письма своим заграничным корреспондентам и даже свою болезнь называет, как не всякому придет в голову — «мой Седан». Годы, проведенные на дипломатической службе, уже потому даром не могли пройти, что, по-видимому, отвечали исконному его призванию. Политика, увлекающая Тютчева — внешняя политика; вопросы, интересующие его — международные вопросы. Он и Россию, поскольку созерцает ее разумом, видит прежде всего как государство, а в государстве этом самое важное для него — не внутреннее устройство, а внешнее могущество и влияние. Патриотизм его, из чувства превращаясь в мысль, Россию мыслит не иначе как мощным рычагом европейской и мировой политики. Этим и определяется его отличие — в исходной точке более, чем в выводах, — от ближайших единомышленников его славянофилов.
«Милый, умный, как день умный, Федор Иванович» (так поминал его Фет) со славянофилами дружил, выдал за одного из них старшую дочь, но недаром, должно быть, голова Аксакова под венцом показалась ему похожей на «деревянную раскрашенную куклу, изображающую Карла Великого»: зятя он ценил, и тот почитал тестя, но в биографии, памятнике их духовной связи, «бесценнейший Иван Сергеевич» все же довольно заметно упростил личность ее героя, и его мысль. Уже за семь лет до этой свадьбы, в 1858 году, Тютчев в письме к жене сетовал на многословие и вечные повторения своих соратников собравшихся у Хомякова, а в 1870 году ей же писал о некоем «славянском обеде», на который не пошел, «дабы не подвергаться скуке слушать бесполезное и даже смешное пережевывание общих мест, тем более мне опротивевших, что я и сам отчасти в них повинен». Он прибавляет, что люди и вообще нередко делают для него неприемлемыми его собственные мнения и что он особенно ценит тех, кто, как Самарин, такого впечатления на него не производит. Конечно, в суждениях этого рода многое проистекает из простого раздражения, которому подвержен всякий мыслящий человек, убедившийся в том, что и так называемые единомышленники его не застрахованы от недомыслия. Однако в расхождении Тютчева со славянофилами, более существенном, быть может, чем казалось обеим сторонам, было и нечто другое, нечто, в силу чего славянофилы должны были являться Тютчеву в образе несколько провинциальном, а сам он — представляться им слишком уж петербургско-царскосельским человеком, и даже попросту человеком западным.
В 1830 году Иван Киреевский писал о нем из Мюнхена домой: «Он мог бы быть полезен даже только присутствием своим, потому что у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам». Сходные отзывы повторялись не раз, и, конечно, Тютчев был европейцем не только в том смысле, в каком это можно сказать (и потому неинтересно говорить) о любом русском образованном человеке нового времени. Во всем, что касается мысли, он был европейцем, не только сквозь Россию, но и непосредственно, и как бы от России независимо. Он не только усвоил европейскую культуру, но и европейскую землю чувствовал своей землей. Мыслил он европейски, т. е. исходя из целого Европы, просто потому, что иначе мыслить не умел, и Россия была для него хоть и восточной Европой, а Европой. Настоящий Восток был ему чужд, и ничего азиатского он в русском не искал. Еще за два месяца до смерти он писал в Париж княгине Трубецкой: «Мы тут заняты чествованием шаха персидского. Что до меня, то все эти полуварварские восточные люди не внушают мне ничего, кроме ужаса и отвращения». Другой культуры, кроме европейской он не знает. «Большое неудобство нашего положения, – пишет он Вяземскому, — заключается в необходимости для нас называть именем Европы то, что следовало бы называть не иначе, как его настоящим именем: цивилизация». Это значит, что Тютчев не одобряет русскою нарочитого европеизма, т. е. рабского подражания Западу, но это значит также, что двух цивилизаций, двух культур, русской и западной, для него нет, а есть лишь одна, европейская, одинаково принадлежащая Западу и России. Судьба этой общеевропейской цивилизации и есть то, что волнует его всю жизнь; заботами о ней вызваны самые глубокие и пророческие его мысли вроде той, что была им высказана жене во время франко-прусской войны о нелепости, моральной невозможности войны «en pleine civilisation». «Это — как бы публичный опыт людоедства. Сама правильность, вводимая цивилизацией во все эти избиения и грабежи, делает их еще более омерзительными».
Достойно внимания, что все три тютчевских статьи по внешнеполитическим вопросам написаны не столько с точки зрения русских интересов, сколько с точки зрения интересов европейских; и то же, вероятно, можно было бы сказать о его книге «Россия и Запад», если бы он удосужился ее написать. Письмо, адресованное в 1844 году редактору Gazette Universelle d'Augsbourg, всецело посвящено немецким делам и рекомендует германским государствам такую политику, которая прежде всего должна пойти на пользу им самим. Докладная записка о «России и Революции» тоже имеет в виду прежде всего Германию, которую Россия призвана защитить от наступающих на нее из Франции революционных идей, а может быть и войск. Наконец, статья «Римский вопрос», напечатанная в Revue des Deux Mondes, вдохновлена тревогой за судьбу католичества и убеждением, что его спасет лишь воссоединение церквей и проистекающий из него союз с несокрушимым православным царством. Правда, все эти статьи, наброски к ненаписанной книге, как и политические взгляды Тютчева вообще, покоятся на вере в провиденциальное призвание России и в великое будущее российской империи; однако, характерно для него, что и будущее, и призвание это все как-то созерцает он из милого Мюнхена или с не менее любезных его сердцу берегов Женевского озера, хотя бы в ту минуту и беседовал он с Хомяковым и Аксаковым в Москве или глядел на Невский проспект из окон своей квартиры. Можно почти сказать, что Россия нужна ему только для Европы, и во всяком случае взгляды его не питаются, как у славянофилов, никаким предпочтением, которое он отдавал бы русской культуре перед европейской. Он не собирается Европу, хотя бы и гибнущую, приносить в жертву России; он только полагает, что Европа погибнет, если Россия не спасет ее от гибели.
Нет сомнения: Тютчев был горячим русским патриотом, негодовал на политику Нессельроде, ведшего Россию на поводу австрийских интересов, скорбел об исходе крымской кампании, не всегда бывал доволен Горчаковым, желал усмирения поляков, и вообще требовал твердости, воспевал мощь, молился об одолении супостатов. Однако поскольку речь идет об идейных, а не стихийных источниках его патриотизма, можно сказать, что источники эти были универсальными, а не национальными. Заветнейшая мечта его, «Великая Греко-Российская Восточная Империя», была мечтой о новой Европе, о вселенском утверждении обновленной христианской культуры, а не о воскрешении московского царства и не о торжестве специфически русских начал. Уже в стихах «На взятие Варшавы» он оправдывал покорение Польши не необходимостью, не выгодой, не славой, а этим универсальным замыслом, этой «всемирною судьбой России», как он скажет двадцать лет спустя. В порядке возможного нового «нашествия двунадесяти язык» он готов противополагать Россию Западу, но не придавая этому смысл окончательной и непреложной розни, и не гибели Запада желая, а его спасения. Россию же видит он при этом не в ее реальности, не в настоящем, а в чаемом и возможном будущем. Если вера в это будущее пошатнется, самый образ России заколеблется в его душе. Недаром в едва ли не лучшем из его политических стихотворений по случайному поводу; быть может, не только в связи с ним, он спрашивает себя:
Ты долго ль будешь за туманом Скрываться, Русская звезда, Или оптическим обманом Ты обличишься навсегда? Ужель навстречу жадным взорам, К тебе стремящимся в ночи, Пустым и ложным метеором Твои рассыплются лучи?Одержимость политикой, не Тютчева, но тютчевского ума, нередко приводила к суждениям опрометчивым и поспешным по поводу событий не столь уж значительных и оцениваемых односторонне, с точки зрения одних лишь междугосударственных отношений. В предвидении ближайшего будущего он часто ошибался, считал, например, в 1870 году, что Франция неминуемо раздавит Германию, хотя будущее более отдаленное угадывать умел, и в бисмарковском «культуркампфе» (как он о том писал в предсмертном письме барону Пфеффелю) узнал все то, что полвека спустя составило идею тоталитарного государства. Россию он видел в грандиозной — и совершенно верной — всемирно-исторической перспективе, однако несколько отвлеченной и внешней в силу самой этой грандиозности. Посещение Москвы и Кремля после двадцатилетнего пребывания за границей дало ему образ византийско-русского мира, более древнего в его истоках, чем сам Рим, и к этому чувству прошлого неизбежно присоединилось, говорит он, «предчувствие неизмеримого будущего». Рядом с таким взглядом обычные славянофильские мельче, но теплей. Завороженность будущим, вырастающим из самой глубины прошлого, приводит к ослаблению чувства конкретной русской истории, которая Тютчева, по-видимому, не очень интересовала, и даже конкретной русской действительности, в которой он слишком склонен был видеть лишь самое близкое — политические интриги или самое общее — российскую державу в ее отношениях с другими политическими силами. Оттого-то политические стихи его и слабей других, что их питают сравнительно поверхностные чувства и мысли, тогда как все то сложное, что скрыто под этой наружной пеленой, не получает в них почти никакого выражения. Если же пелену приподнять, сразу открывается совсем иной образ России, который в Тютчеве жил, хоть он вовсе и не был ему рад, и в котором нет ничего общего с тем, что лег в основу его политической мысли и политической поэзии. Или если общее есть, то разве лишь то, о чем говорит замечательная формула, найденная однажды в Варшаве пятидесятилетним поэтом, из очередной заграничной поездки возвращавшимся на родину: «грязь милого отечества, полная будущим», cette salete pleine d'avenir de la chere patrie.
II
Часто в стихах и чаще еще в письмах встречается у Тютчева эта тема — возвращение домой, и каждый раз чувствуешь, как тягостен возврат, как грустно расставаться с тем, что осталось позади, как трудно дастся ему Россия. В 1839 году он пишет родителям из Мюнхена: «Я устал от этого существования вне родины, и время подумать о пристанище в старости, которая уже подходит», а пять лет спустя, из Петербурга, он жалуется им же, что отвык от русской зимы, которой не испытывал девятнадцать лет. И не только от зимы он отвык, но и от осени, и весны, от петербургской оттепели, от ранних сентябрьских холодов, от всей русской погоды — что значило немало для человека, у которого от перемен погоды менялся и весь строй души [11]. В письмах к жене с поразительным постоянством повторяются жалобы и восторги по поводу солнца и дождя. В Петербурге, на Островах, лето 1852 года прошло недурно, однако погода испортилась в первых числах сентября, и этого было достаточно, пишет он, чтобы «окраска моих мыслей перешла из нежно-серой в решительно-черную». Август 1854 года, кроме эпистолярных восторгов, породил и стихотворение «Какое лето, что за лето», а когда 24 числа сильный ветер положил конец очарованью, Эрнестина Федоровна получила приличное случаю торжественно – грустное поминальное письмо. Славословий зиме Тютчев не слагал, она и вообще редко появляется в его стихах, и чтобы метель, пороша или рифмующие с морозом «девичьи лица ярче роз» его пленяли, что-то не слышно. Любил он только хорошо прогретое лето и теплое начало осени. Июльскими днями 1856 года, проведенными в Петергофе, он остался настолько доволен, что назвал их сверхъестественными для тех широт, зато холодный июнь два года спустя заставляет его лишний раз воскликнуть: «Ах, что за страна!» («Ah! quel chien de pays!»): лучшего от России ожидать трудно. Ведь и в тех августовских стихах говорится:
Гляжу тревожными глазами На этот блеск, на этот свет… Не издеваются ль над нами? Откуда нам такой привет?Настоящая ласка, настоящее тепло — только там, «на золотом, на светлом юге». Поэт только и мечтает о том, чтобы
Сновиденьем безобразным Скрылся север роковой, О, если б мимолетный дух, Во мгле вечерней тихо вея, Меня унес скорей, скорее Туда, туда, на теплый Юг.Конечно, если бы все ограничивалось нелюбовью Тютчева к суровой русской зиме или пасмурному небу Петербурга, об этом не стоило бы говорить; но немил его сердцу был и русский пейзаж, не была согласна его душа и с особым обликом русской природы. Он любил теплое море, горы, снеговые вершины, отраженные в синем зеркале озер, пейзажи Ривьеры, Швейцарии, южной Германии. Отрадно ему было, подняв глаза, созерцать
на краю вершины
Круглообразный светлый храм
или те «недоступные громады», где прозревал он ангельские образы. Увиденный под конец жизни Киев воскресил в нем нерусские впечатления ранних лет и возвратил его поэзии давно породнившийся с ней мотив:
Там, где на высоте обрыва Воздушно-светозарный храм Уходит ввыспрь — очам на диво, Как бы парящий к небесам;но равнинная, растекшаяся вдаль, бескрайняя Россия пугала ею воображение, и не Волга была ему родной рекою, а скорей уж Рейн или Дунай. В 1843 году, оставив жену в Мюнхене, едет он в Россию, чтобы подготовить к следующему году свой окончательный переезд туда со всей семьей. За Варшавой, пишет он, расстилается грозная скифская равнина, столь пугавшая тебя на моей рельефной карте где она образует такое огромное пятно. В действительности она нисколько не более приятна». Через четыре года, вернувшись на лето за границу, с каким восторгом описывает он вновь посещенные берега Рейна, баденский и гейдельбергский замки, Цюрих, Базель, прогулку в окрестностях Вильдбада, побудившую ею благодарить Бога за то, что на свете есть еще горы, столь утешительные, когда смотришь на них «после долгих трех лет, проведенных среди равнин и болот»; что и говорить: «ma fibre occidental a ete grandement remuee tout се tempsci» (западный нерв моей души был все это время очень растроган). И вновь, шесть лет спустя, вернувшись из очередной заграничной поездки, жалуется он на грустную страну, где нечем заменить горы, кроме облаков, и спрашивает себя, как это «великий поэт, создавший Риги и Женевское озеро, мог подписать своим именем подобные плоскости», de pareilles platitudes.
«Чего бы я не дал теперь, чтобы была тут предо мною настоящая что ни на есть гора!» Этот стон проходит через всю его жизнь. В те же времена Некрасов ездил за границу и, воротясь, написал (в 1857 году) «Тишину»:
Все рожь кругом, как степь живая, Ни замков, ни морей, ни гор… Спасибо, сторона родная, За твой врачующий простор!Но Тютчева простор не врачевал. Однажды он писал из Берлина, перед тем как пуститься в обратный путь: «Наконец, наконец, остается сделать последний шаг, и не далее, как сегодня вечером, я окунусь, — не в вечность, как повешенный в Англии, а в бесконечность, как путешественник в России». В тот год (1859-й) ему особенно не хотелось ехать домой (хотя совершенно сходные жалобы повторяются и позже, например в 1862 году); еще из Вены он писал Эрнестине Федоровне в Париж: «Я разделяю вполне только твое сожаление покинуть Париж, но и твой ужас при мысли о возвращении. Сегодня мы совершили прогулку в замок Отвиль… Что за воздух, что за освещение, какие виды. И, глядя на это озеро и горы, в светящейся дымке, казалось, грезившие наяву, я вдруг вспомнил, что меньше, чем через шесть недель, я снова буду видеть перед собой Гостиный двор, печально освещенный с четырех часов дня фонарями Невского проспекта, и содрогнулся». В ту осень дорога из Кенигсберга в Петербург внушила Тютчеву еще более грустные стихи, чем те, что были написаны почти за тридцать лет до того («Через Ливонские я проезжал поля»), но основное переживание осталось тем же. И, конечно, это не случайное впечатление вылилось в них, а всегдашнее чувство родной страны:
Родной ландшафт… Под дымчатым навесом Огромной тучи снеговой Синеет даль — с ее угрюмым лесом, Окутанным осенней мглой…Случай не родит таких стихов, как эти:
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья, Жизнь отошла — и, покорясь судьбе, В каком-то забытьи изнеможенья, Здесь человек лишь снится сам себе.Тут, конечно, не одна словесная живопись; да и не один «ландшафт» делал тягостным для Тютчева возвращение домой, и не одним зрением, не одними внешними чувствами воспринимал он образ своей России. Русский постоялый двор он однажды назвал «lа plus triste des choses degoutantes», но, конечно, и не отсутствие дорожных или иных удобств настраивало его на хмурый лад, хоть он и говорит о поэзии комфорта, еще не известной России, в том самом сентябрьском письме 53-го года, где он прощается в Варшаве с «гнилым Западом, столь опрятным и удобным, pour rentrer dans cette salete pleine d'avenir de la chere patrie». Из других писем и устных высказываний Тюгчева явствует, что «salete» тут можно понимать не только в прямом, но до некоторой степени и в переносном смысле, через всю жизнь пронес он не радующее чувство нецивилизованности, неотесанности, а то и прямого варварства России. Летом 1825 года, когда начинающий дипломат впервые вернулся домой после двухлетнего пребывания за границей, Погодин записывает в дневнике: «Остро сравнивал Тютчев наших ученых с дикими, кои бросаются на вещи, выброшенные им кораблекрушением». А также: «Говорил с Тютчевым об иностранной литературе, о политике, об образе жизни тамошнем. Мечет словами, хоть и видно, что там не слишком занимался делом. Он пахнет Двором. Отпустил мне много острот. "В России канцелярия и казармы. Все движется около кнута и чина"». Из этих слов не следует делать поспешных выводов о политически «левых» настроениях, позже, будто бы, сменившихся другими. Что самовластье, по мнению Тютчева, может развращать, видно из его стихов, посвященных декабристам; однако, он и позже проводит различие между самодержавием и абсолютизмом (т. е. именно самовластьем), не переставая в то же время быть верным слугой российского самодержца и вообще — «пахнуть Двором». Критика его, от которой он не отказывался всю жизнь, шла почта исключительно по двум путям: либо касалась внешней политики (тут он бывал крайне резок, например, в осуждении всей внешнеполитической системы николаевского царствования), либо вдохновлялась уже не столько политическими идеями, сколько прямыми интересами культуры, а в этой области и стиралась всего легче грань между пороками власти и свойствами русской жизни вообще.
«Кнут и чин» были и остались ненавистны Тютчеву, прежде всего тем, что с их помощью происходило подавление духовной свободы, то, что в одном из горьких писем, вызванных крымской войной, он назвал «раздавливанием разума», «ecrasement de l'intelligence». В том письме, написанном в особенно мрачную минуту, он говорит, что подавление это систематически проводилось правительством за последние годы и привело к результатам всеобъемлющим: «Все подверглось подавлению, все кретинизировалось». Последнее выражение характерно: многое в России казалось Тютчеву именно глупым, то невинно глупым, а то и преступно глупым и тогда ведущим к гибели. В те же критические годы он пишет жене, что управление делами «принадлежит мысли, которая сама себя не понимает»; «чувство такое, как будто находишься внутри кареты, катящейся вниз по все более крутому склону, и вдруг замечаешь, что на козлах нет кучера». С порабощением мысли он боролся по мере сил при Александре, заседая в Комитете иностранной цензуры, но, конечно, и многое другое, темное, видел он кругом, что казалось ему неотъемлемым и непреоборимым. Любопытно, что в письме, появившемся в 1844 году в аугсбургской газете, он не оспаривает, по существу, того, что говорят за границей о «несовершенствах нашего общественного строя, пороках нашей администрации, положении наших низших классов», а лишь ссылается на пример ирландских крестьян и манчестерских фабричных рабочих, которым живется еще хуже, чем даже русским, сосланным в Сибирь. Международная роль России, в настоящем, и особенно в будущем, перевешивает в его глазах всю неурядицу ее внутреннего строя; перед иностранцем он ее защищает, не отделяя грехов власти от грехов страны; но в собственном своем сознании, продолжая их видеть слитно, он все же их видит, эти общие, русские грехи, и от них во всю жизнь не перестает его коробить.
Коробит его от многого в нравах, в манерах, во всем пошибе русского знатного и образованного общества. По поводу роскошного приема у Кушелевых он пишет однажды: «Есть некий хамский стиль, — style canaille, — очень эффектный на золотом фоне». От впечатлений такого рода, отнюдь не единичных, он ищет утешения в мысли о некоторой первобытности русского общества и, значит, девственности, невинности самих его пороков, В 1853 году в Петербург приезжала Рашель, и Тютчев не удивляется, что ей понравилось в Петербурге. «Я понимаю, — пишет он, что для натуры, все испробовавшей, все исчерпавшей, была отдохновительна эта простодушная среда, столь мало тронутая разложением, столь несложная в своей испорченности. Это входит в ее курс лечения ослиным молоком». Но в то же время по сравнению с безукоризненно воспитанным западным человеком это же общество кажется ему нестерпимо неотесанным и простоватым. На празднествах коронации в Москве повстречал он у Бахметьевых молодого лорда Актона, и встреча, как он говорит, навела на него глубокую меланхолию, «настолько я был потрясен контрастом между естественным аристократизмом этого молодого человека и столь же естественной вульгарностью всего, что его окружало». Тот, кто знает, что значила для Тютчева «светская жизнь», т. е. хорошо отстоявшиеся формы цивилизованного общения между людьми, поймет, почему вечер у Бахметьевых, да еще мюнхенские воспоминания, всплывшие на нем, привели к очередному припадку той болезни, которую так часто вызывали у него люди, природа, погода его страны — тоски по чужбине, или, как он сам выразился в этом случае, «nostalgie en sens contraire».
III
Тоска по чужбине — таков итог отношения Тютчева к России, открывающегося под наружным пластом политических убеждений и надежд и отвечающего непосредственным его чувствам, а не каким-нибудь отвлеченным построениям. После его смерти князь И. С. Гагарин вспоминал его слова: «Je n'ai pas le Heimweh, mais le Herausweh». Эти настроения не были случайны, они возвращались к нему постоянно, были спутниками всей второй половины его жизни после возвращения на родину. Когда семья за границей, основной мотив его писем — «зачем я не с вами», но когда он сам за границей, а семья в Овстуге или в Петербурге, он соболезнует Эрнестине Федоровне, но не торопится возвращаться к ней. В 1858 году он за границу не уехал и осенью пишет об А. О. Смирновой, что она «еще раз отложила свой возврат в милое отечество» и что он, разумеется, далек от того, чтобы ее за это порицать. Несколько позже, в ту осень, он возвращается к той же теме: «Возвращающиеся из-за границы столь же редки и столь же нереальны, как выходцы с того света, и право, трудно упрекать тех, что не возвращаются, настолько хотелось бы быть в их числе». В следующем году он ездил в Германию и Швейцарию, в 1860 тоже, в 1861 оставался в России, в 1862 «Herausweh» было особенно сильным, как видно по одному красноречивому письму, и он вырвался вновь в Висбаден и к берегам Женевского озера… Так проходила жизнь. Издали тревожила и манила старая Европа, ее духовный уют, ее согретая историей природа, поросшие мхом камни и виноградники на солнечном склоне гор, а в «милом отечестве» было бесприютно и не по себе, и самую страшную душевную боль не подумал он развеять в русских степях, а повез утопить в Средиземном море:
Зыбь ты великая, зыбь ты морская, Чей это праздник так празднуешь ты? Волны несутся, гремя и сверкая, Чуткие звезды глядят с высоты. В этом волнении, в этом сиянье, Весь, как во сне, я потерян стою — О как охотно бы в их обаяньи Всю потопил бы я душу свою…Что ж, надо ли согласиться с Тургеневым, писавшим Фету из Буживаля 21 августа 1873 года: «Глубоко жалею о Тютчеве; он был славянофил, но не в своих стихах, а те стихи, в которых он был им, те-то и скверны. Самая сущная его суть — le fin du fin — это западная, сродни Гёте»? Нет, согласиться нельзя. Западническое мнение это тоже упрощает дело, хоть и не столь грубо, как упрощало бы мнение противоположное, т. е. такое, по которому славянофильством Тютчева исчерпывалось бы его отношение к России. Совершенно верно, что в политических стихах дана лишь внешняя пелена этого отношения и что в них не высказалась «самая сущная суть» поэта. Однако и тяга на Запад, быть может, не самое глубокое, что в нем было, и уж во всякое случае человеческая и стихотворная суть его стихов, хотя бы только что приведенных стихов, написанных в Ницце не французская, не немецкая, а чисто русская. Если, хваля звуковую изобразительность стихов Вяземского о Венеции, Тютчев сказал: «Что за язык этот русский язык!», — то разве каждый не говорил себе того же, читая тютчевские стихи только не политические, а другие? Конечно, и Даль, и Гильфердинг выучились писать по-русски, но тютчевская степень слияния со стихией русского языка могла быть дана только глубоко русскому человеку, русскому, быть может, не в привычках и вкусах, не в устройстве ума, но в самой сокровенной сердцевине своей личности. Тютчев был предан российской империи, но душою дружил с Мюнхеном и «зеркалом Лемана»; однако сильней этой преданности и этой дружбы была та незримая Россия, что жила не вовне, а в нем самом. Два раза был он женат на немках, но «последняя любовь» его — русская любовь. Французские письма его написаны прекрасно, с очень немногими отступлениями от правил чужого языка и в полном соответствии с тем, что хочется назвать не его духом, а его умом; но французские его стихи все же оказываются чересчур русскими по своему ритму, звуку, по самому чувству, которое хочет выразиться в них. Языковед и историк литературы Фосслер рассказал в одной из своих работ о немке, прожившей жизнь вдалеке от родины и разучившейся говорить по-немецки, вплоть до последней мучительной болезни, когда, для нее самой нежданно, язык ее детства стал языком ее предсмертных лоб и молитв. Так и Тютчев: по-французски он размышляет и острит, по-французски ведет письменную и устную беседу с друзьями, но только в русских стихах изливает душу, потому что душа эта – русская душа.
О том, что не так просто, как думал Тургенев, обстояло дело с тютчевским «le fin du fin», говорит уже то смущение, которое испытывает он, когда вспоминает о своей «fibre occidentale», о неспособности чувствовать себя в России, как в своей естественной среде, и быть в самом деле, «как дома», когда он дома. Извиняет он себя тем, что не в России провел лучшие годы, что не с ней связаны первые радости, печали и утраты; но извинение — не утешение, и рана остается незалеченной всю жизнь. В августе 1846 года, на пути в Овстуг, он писал жене из Москвы: «Я еще не знаю, какое впечатление произведет на меня место моего рожденья, покинутое 28 лет тому назад, и по котором я так мало тосковал. Боюсь, что из меланхолических чувств я найду там одну скуку. Ведь ни одно из моих живых воспоминаний не восходит к тому времени, когда я там был последний раз. Моя жизнь началась позже, и все, что предшествовало ее началу, мне столь же чуждо, как канун моего рождения». Встреча с родными местами и в самом деле была безрадостной, как, по-видимому, и встреча с матерью в Москве за три года до того. В сентябре Эрнестина Федоровна получила длинное, грустное, несколько растерянное письмо и при нем стихи, кончавшиеся так:
Ах нет! Не здесь, не этот край безлюдный Был для души моей родимым краем, Не здесь расцвел, не здесь был величаем Великий праздник молодости чудной! Ах, и не в эту землю я сложил То, чем я жил и чем я дорожил!Сказанное об Овстуге могло быть сказано и о России. Невеселое письмо, невеселые стихи в сущности относятся и к ней. Тут один из источников той грусти, что, начиная с этого времени, постоянно сквозит в насмешливом (по отношению к самому себе) тоне его писем и заглушается (быть может, по инстинктивной потребности его натуры) славянофильской риторикой в патриотических стихах. Немало должен был он думать о своей особой судьбе, чтобы однажды — в письме из Веймара от 20 октября 1859 года — найти для нее такую острую формулу: «Что бы ни говорили, но единство места – одно из трех единств старой, подвергавшейся стольким нападкам классической драмы — более необходимо, чем думают, для того, чтобы пьеса нас могла интересовать, по крайней мере в действительной жизни».
Поэзия строится из противоречий; личность может от них погибнуть, но и на высшую ступень своего единства она не взойдет, если их нет. Тютчев жил в мучительной раздвоенности, но в глубине ее он был един, а мукой и борьбой питался его гений. На поверхности был образ Российской державы с ее победами, знаменами и врагами, а поглубже — «1а salete pleine d'avenir de la chere patrie», но совсем глубоко было другое, другая Россия, хоть лишь изредка выступали на поверхность ее не умом, а чутьем угаданные черты. Однажды, после осенней прогулки на Островах (в 1868 году), он писал жене: «На меня навел меланхолию вид бедных деревьев с опадающей листвой. Они были похожи на чахоточных». И еще за пятнадцать лет до того петербургская осень внушила ему, в письме, где особо подчеркнута его тоска по горным пейзажам Запада, такую фразу: «За отсутствием альпийских великолепий, мы имели здесь, благодаря нескольким ясным осенним дням, чудесную игру световых бликов на водах Невы, таких прозрачных и таких покорных, и на купах пестрой листвы, которая скоро исчезнет». Эти бедные, чахоточные деревья, эти покорные воды (французское выражение, les eaux resignees, непереводимо, оно свидетельствует о несравненной прозорливости) как бы содержат в зародыше тот образ России, что был запечатлен 13 август 1855 года в знаменитом стихотворении, где и в самом деле все угадано и понято, что «тайно светит» в ее убожестве, скудости, в ее смиренной наготе. Образ этот сроднился с тютчевской душой как-то исподволь, должно быть, и для него самого незаметно, не отменяя других, более скептических или более победных, более тревожных или более праздничных. Присутствие его чувствуется уже в стихах, внушенных остановкой в Ковно за два года до того (в том же году, когда было написано письмо о бедных и чахоточных деревьях). Стихи эти лишь на поверхности, голым своим сюжетом — победой России над наполеоновскими войсками — напоминают бравурно-патриотические его произведения (которые, впрочем, продолжал он писать и после того). По существу же тот Другой, что стоит на страже России, отнюдь не символ, хотя бы и религиозный, материального ее могущества, а уже тот Небесный Царь, что два года спустя явился поэту «в рабском виде» и удрученный тяжестью креста.
О той России, что открылась ему в наибольшей глубине его духовного опыта, он сказал всего меньше, потому что о самом сокровенном вообще говорить не любил. Передают, что он каждый раз болезненно сжимался, когда речь заходила о его стихах, так что под конец с ним вообще никто не решался говорить на эту тему. Однажды (по Аксакову) «в осенний дождливый вечер, возвратись домой на извозчичьих дрожках, весь промокший, он сказал встретившей его дочери: "j'ai fait quelques rimes"»; то были «Слезы людские, о слезы людские»… И подобно тому как с той же крайней скромностью и почти извинением говорил он всегда о своих стихах, так и Россию предпочитал публично превозносить и частным образом поругивать, а самое тайное, что о ней знал, во всей полноте только раз и как-то само собой у него сказалось — больше он к этому не возвращался, даже и в стихах продолжал молчать. Впрочем, говорить, рассказывать, расписывать было и не нужно: достаточно было оставаться тем поэтом, каким он всегда был. Стихи и тайное ведение России несказанным образом были в нем одно. И в сущности все, что он думал о ней, вся гордость, и тревога, и печаль, — все это было ничто рядом с тем, как она дышала в дыхании его стиха, как жила и живет до сих пор в жизни его слога.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА
«Зияли триумфальные арки, как мосты, разоренные слишком тяжкой проездною пошлиной. Бездомные псы поднимали ногу на коринфские колонны. Пулеметы изрезали аканфы белыми звездами. Посиневшие от холода прохожие — молчаливые призраки, обутые в галоши, – казались под щиплющим снегом такими же оштукатуренными, как стены мокрых домов, с которых в вышине человеческого роста облезла краска. Из труб вместо дыма поднималась одна лишь черная бумага сожженных писем; заделанные ржавым железом двери отворялись неохотно, а по вечерам не отворялись совсем; разговоры можно было вести только за семью замками у себя дома или в тюремной камере. Под низким небом конные статуи, позеленевшие, как стильтонский сыр, скакали по линии горизонта и не могли ее перескочить».
Таким увидел Петербург французский писатель, проездом заглянувший туда лет через пять после «Октября». Он говорит о невымытых стеклах «окна в Европу», о прекраснейшем, быть может, из европейских городов, уподобляемом ныне Венеции, Равенне или Пэстуму, с который сравнил его Уэллс. Впечатление обветшалого величия, которое вынес Поль Моран из разоренной и заброшенной столицы, возникало в те годы у всех посетителей ее; о них же, хоть и не столь цветистым языком, повествует немец Блумберг, посетивший ее немного позже. «Северная Пальмира» показалась ему стареющей прелестницей, облеченной в неопрятное «неглиже». Даже на Невском заметил он немало домов с окнами без стекол, сквозь которые виднелись полусорванные обои и зияющие отверстия дверей. Снятые с петель двери пошли на топливо. Многие крыши провалились. Одни дома сохранили только фасад, скрывавший уже давние развалины; другие стали необитаемы вследствие порчи печей и водопровода; третьи с трудом удалось привести в жилой, но неприглядный вид. Зимний дворец, облезлый и дряхлый, увидел он похожим на пришедший в упадок усадебный дом какого-нибудь разорившегося помещика. И только Исаакиевский собор показался ему непоколебимым, не боящимся невзгод в гранитной своей одежде, с высоким порталом, где еще сияли золотые буквы: «Господи, волею Твоею да возвеличится царь».
Когда Федотову, разбитую параличом, везли, уже при новых господах, по московским улицам, мимо Малого театра, она заплакала и сказала: «Милый, какой ты стал грязный, какой скверный». Так и мы скажем еще и сейчас, если доведется нам увидеть Петербург, хоть его, должно быть, и поштукатурили с тех пор, починили, вычистили… Не в одной штукатурке дело.
На конверте с заграничной маркой мы ставим глупые четыре буквы и партийную кличку ставшего безымянным города. Мы адресуем письмо куда-нибудь на проспект Володарского или на Вторую улицу Деревенской Бедноты и с трудом представляем себе, что почтальон понесет его вдоль портиков Адмиралтейства, вдоль обгорелых стен Окружного суда, мимо деревянного домика Петра Великого. Разве не призрачными стали — даже не для нас, а именно для оставшихся там — Петропавловская крепость, растреллиево чудо в Смольном, Академия, Биржа, Инженерный замок, Александрийский театр? Будущий Петербург будет лишь тенью нашего. Трагический облик его в первые годы революции — окровавленный, голодный и порфироносный — понемногу сменяется другим, более обыденным, более житейским, таким, что лишь неистребленная его архитектура и неистребимое дерзновение его замысла мешают ему стать похожим на все другие – обесцвеченным, захолустно-индустриальным, безнадежно-современным городом. Судьба Петербурга и петербургской России предчувствовалась давно; на наших глазах она свершилась.
I
«Петербургу быть пусту». Пророчества иногда сбываются. Их было много — от самых давних, приписываемых тому времени, когда еще только закладывался город, до полупредвидений, полупроклятий Зинаиды Гиппиус в 1909 году:
Нет! Ты утонешь в тине черной, Проклятый город, Божий враг, И червь болотный, червь упорный Изъест твой каменный костяк.Камень, правда, не изъеден, но ведь и в стихах не о камне идет речь, и если взять их основной смысл, они — конечный вывод из разраставшейся от поколения к поколению тревоги, из непрерывно углублявшегося сомнения. Возрастание это началось, однако, не сразу; пророчества и предчувствия сперва продремали под спудом добрый век. О них почти не помнили при Екатерине, при Александре I. Казалось, что новой столице скоро суждено врасти в чуждую ее замыслу страну, что рана, нанесенная разрывом с прошлым, уже зарубцевалась. Залогом новой жизни казалась сама память о венчанном бунтаре, память, не в пример мавзолею на Красной площади, приуроченная к жилищу, а не к могиле. О домике на Петербургской стороне прусский генерал Фридрих фон Гагерн заметил в 1839 году: «Ему придали вид часовни, в которой великому человеку поклоняются, как святому», а три года спустя Герцен писал: «В Петербурге одни и есть мощи — это домик Петра». Характерно, впрочем, что Герцен ошибался: он забыл о Лавре, где в огромной, неимоверной тяжести раке из литого серебра хранились мощи Александра Невского. К сороковым годам этот символ восстановленной преемственности между старой и новой Россией уже померк, и никто не предвидел, что через сто лет разрушители и наследники петербургской России попытаются вновь его использовать. Было время, однако, когда он ощущался живым, и недаром именно в своих «Стихирах св. Александру Невскому» Сумароков с такой ничем не омраченной надеждой призывал:
Ликуйте вы, Петровы стены, Играйте, Невски берега!Другой, более прославленный призыв, «Красуйся, град Петров…», звучит уже не так, не столь безоблачно: торжественней, но и тревожней. Пушкин в 1833 году более, чем когда-либо, приемлет Петра и утверждает Петербург, но и ясней, чем прежде, видит, что их судьба еще не решена, что борьба еще не кончена. Призыв похож на заклинание, рожденное ощущением опасности:
Красуйся, град Петров, и стой Неколебимо как Россия. Да умирится же с тобой И побежденная стихия.А что если не умирится? Да и вполне ли она побеждена? И ведь не об одной природной стихии, не об одних «финских волнах» идет речь. Правда Евгения не уничтожена, не превращена в ложь правдою Петра, его города, его России. В «Медном Всаднике», как это бывает лишь в величайших творениях искусства, совмещены два казалось бы исключающие друг друга переживания. В нем — восторг перед «державцем полумира», благословение его делу, страстная вера во власть государственной узды над хаосом бунта и наводнения; но в нем есть и другое:
Судьба с неведомым известьем, Как с запечатанным письмом,пустынный остров на взморье, «домишко ветхий», раздавленная человеческая жизнь. «Горделивый истукан», мир на бронзовом коне» вряд ли вполне равнозначен неотразимо живому, излучающему жизнь Петру «Полтавы» «Стихия» покорена, побежден Евгений, но пророческим ужасом содрогается поэт при мысли о «силе черной», рвущейся истребить искусственный город, искусственную Россию Петра. Нет гимна Петербургу, который сравнился бы с «Медным Всадником», но потому как раз, что он – трагический гимн, что не безмятежное превознесенье в нем дано, а впервые схвачена и навек запечатлена трагедия Петербурга, Петра, России.
Само равновесие — т. е. художественное здоровье его – трагично, ибо основано на равноценности двух правд, из коих одна, ни в чем не изменяя себе, все же терзает и насилует другую. Бронзовый Петр и гранитный Петербург одновременно увидены тут в предельном великолепии своем и в роковой неразрывности с несправедливостью, страданием и смертью. Но созерцать трагедию не всякому дано, а непрерывно ее переживать и вообще недоступно человеку. Неповторим был к тому же и тот исторический момент, когда еще с полным торжеством звучало «да», но и «нет» уже было произнесено, и когда явился Пушкину замысел его поэмы. За пять лет до того он и сам положил начало — не слиянию отрицания и утверждения, огня и льда, а более односторонне: холодку сомнению, иронии.
Город пышный, город бедный, Дух неволи, стройный вид, Свод небес зелено-бледный, Скука, холод и гранит.Стихи эти переходят в мадригал, и до некоторой степени они случайны; думаю, однако, что они все же показательны. Через четыре года после них и за год до пушкинской поэмы Хомяков уже писал в петербургский альбом С Н. Карамзиной стихи, начинающиеся так:
Здесь, где гранитная пустыня Гордится мертвой красотой… —и снабженные двумя вымышленными эпиграфами на английском языке и на французском: «Быть в Петербурге, имея душу и сердце, истинное одиночество» и «Я увидел город, где все из камня: дома, деревья и горожане». В тот самый год, когда писался «Медный Всадник», Печерин работал над своей драматической поэмой «Торжество смерти», где некая неправедная столица погибает от наводнения, согласно никогда окончательно не исчезавшим поверьям о Петербурге. А два года спустя молодой балтийский немец Виктор Ген писал брату: «Ты спрашиваешь, как мне понравился Петербург? Холодное великолепие. Гигантские строения без души. В этом каменном городе нет живого, горячего кровообращения, как в Лондоне и Париже. Он построен в северной пустыне и, быть может, скоро будет похож на пустынные развалины Баальбека и Пальмиры. Петербург — искусственный город, возникший необычайно быстро, и когда российское государство распадется, он исчезнет с такой же быстротой» [12].
Чувство Петербурга у русских и у иностранцев меняется одновременно. К концу тридцатых годов тс и другие преимущественно воспринимают в нем чужеродность, каменность, холодность, — а также непрочность; ожидают его гибели.
В знаменитом описании Жозефа де Мэстра, предпосланном первой беседе «Петербургских вече, ров» и отнесенном автором к 1809 году, только и читаешь о великолепии города и величии его творца, о полноводной Неве, гранитных набережных, зеленых островах: «Все что слышит ухо, все, что созерцает глаз на этой велико лепной сцене, существует лишь мыслью того мощного ума, что воздвиг на болоте столько горделивых зданий. На этих печальных берегах, откуда природа изгнала жизнь, Петр расположил свою столицу и создал себе подданных». Кюстин через тридцать лет уже не верит в дело Петра и не слишком восторгается его городом. По его словам, «никто не верит в будущее этой чудесной столицы», да и чудесна она для него только в самом буквальном смысле слова: он не находит ничего прекрасного в ее роскоши, и классические формы ее архитектуры кажутся ему неуместными на невских берегах. Произвол Петра, по де Мэстру, оправдан, по Кюстину — он только и держится произволом его наследников. Он предвидит конец в духе старых пророчеств и в согласии с мнением Гена. «Пусть самодержец, — пишет он, — хоть на один день забудет свою столицу, лишенную корней и в истории, и в самой почве, на которой она стоит; пусть какой-либо новый политический расчет обратит взоры ее властителя в другую сторону, и сразу же раскрошится покрытый водой гранит, наводненные земли вернутся в прежнее состояние и обитатели пустыни завладеют своим старым жилищем».
Если верить графу Соллогубу, Лермонтов любил «чертить пером и даже кистью вид разъяренного моря, из-за которого поднималась оконечность Александровской колонны с венчающим ее ангелом». Через год после смерти Лермонтова Герцен писал: «Жизнь Петербурга только в настоящем; ему не о чем вспоминать, кроме <как> о Петре I, его прошедшее сколочено в один век, у него нет истории, да нет и будущего; он всякую осень может ждать шквала, который его потопит». «В судьбе Петербурга есть что-то трагическое, мрачное и величественное». Он — «блестящий, удивительный, один из самых красивых городов в мире», однако в нем есть официальность и мертвенность, которые Герцену невыносимы, и потому «любить Петербург нельзя», хоть он и чувствует (как западник), что «не стал бы жить ни в каком другом городе России». Петербург вбит сваями «не в русскую, а в финскую землю». «Петербург не разлил жизни около себя; и не мог, наоборот, почерпнуть жизненных соков из соседства; и в этом опять его трагический характер». Для Герцена весь он «сжимается, лепится, сосредоточивается около Зимнего дворца», — в соответствии с фразой Гена из уже приводившегося письма: «Петербург ничто сам по себе, в силу своего местоположения, своей истории; он существует лишь в качестве резиденции российских императоров».
Петербург — основной символ императорской России; связь между знаком и тем, что он знаменует, не только не ослабела, но еще усилилась с годами; отсюда помертвение символа и приобретает всю свою значительность.
II
В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенева замечательно рассказано о переломе, произошедшем в середине тридцатых годов и окончательно определившемся к началу сороковых, о падении того, что он называет «ложно-величавой школой» с ее риторикой государственной мощи в духе Марлинского, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова и о наступлении новой эры, связанной прежде всего с именами Белинского и Гоголя. Самое интересное в этом рассказе то, что, по Тургеневу, дело тут отнюдь не ограничивалось Кукольником или Марлинским; он говорит без обиняков: «Медным Всадником» нельзя было любоваться в одно время с «Шинелью». Свидетельство это не ложна самый глубокий перелом во всей русской истории от Петра до Ленина совершился именно тогда, двумя датами — 1833-й и 1842-й годы — можно обозначить его начало и конец, а так как с ним связана судьба петербургской России, то и судьба Петербурга не может быть от него оторвана. На первый взгляд, Акакий Акакиевич от Евгения не так уж далек, хотя этот — захудалый дворянин, а тот — безродный разночинец, различие в историческом отношении немаловажное; однако они и вообще принадлежат к двум разным поэтическим мирам, к двум противоположным образам России. Пушкин смотрит на нее как бы с той гранитной глыбы, на которой воздвигнут фальконетовский Петр; Гоголь смотрит — или по крайней мере хочет смотреть — и на Россию и на Петра глазами ничтожного, потерянного, раздавленного человека. Когда читаешь:
И он по площади пустой Бежит и слышит за собой, —нелегко представить себе, что в том же городе есть другая площадь, где «какие-то люди с усами» снимают шинель с титулярного советника Башмачкина. Для Евгения Петербург еще имеет смысл — тот же, что для Петра, хоть и приносит ему гибель; для Акакия Акакиевича (и Гоголя) — это всего лишь департамент, будочник, «значительное лицо», т. е. нечто, в чем вообще нет смысла.
С «Шинели» идет решительное развенчание Петербурга, которое затем ширится и углубляется из года в год. Предпочтение, отдаваемое славянофилами Москве, отнюдь не заставляет западников восторгаться Петербургом. Формуле Гоголя (из «Петербургских записок» 1836 года) «Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия» как будто противостоит формула Герцена «необходимость Петербурга и ненужность Москвы», но ведь Герцен в той же самой статье своей «Москва и Петербург», как мы уже видели, заявил, что любить необходимый этот город он не в силах. Не любил его и Тургенев, и в начале шестидесятых годов (в «Призраках») именно он, а не какой-нибудь фанатик «исконных начал» и Москвы, описал его так: «Эти пустые, широкие, серые улицы; эти серо-беловатые, желто-серые, серо-лиловые, оштукатуренные и облупленные дома, с их впалыми навесами над крыльцами и дрянными овощными лавчонками; эти фронтоны, надписи, будки, колонны; золотая шапка Исаакия; ненужная, пестрая биржа; гранитные стены крепости и взломанная деревянная мостовая; эти барки с сеном и дровами; этот запах пыли, капусты, рогожи и конюшни, эти окаменелые дворники в тулупах у ворот, эти скорченные мертвым сном извозчики на продавленных дрожках, — да, это она, наша Северная Пальмира».
Независимо от западничества и славянофильства, Петербург стал казаться русским людям каким-то безрадостно-громоздким, необжитым, как бы и нежилым. Приезжим было в нем не по себе, точно въезжая в него, они выезжали из России, и сами петербуржцы в нем жили на отлете, на сквозняке, не обрастая густым и прочным русским бытом, и по-русски говорили как-то скучнее и суше, чем в Москве. Своей одеждой, манерами, самим своим лицом петербуржец внушал представление о чем-то чужом, жестком, неуютном. «Наружность у Орлова, — в чеховском «Рассказе неизвестного человека», — была петербургская: узкие плечи, длинная талия, впалые виски, глаза неопределенного цвета и скудная, тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. Лицо у него было холеное, потертое и неприятное». Через несколько строк мы узнаем, что у Орлова всегда наготове ирония, «точно щит у дикаря». Точно так же и Толстой не терпит Каренина прежде всего за петербургские его качества, чиновничью исполнительность, официальную холодность; и за те же черты не любили Петербург провинциалы и москвичи. Пушкинская формула «скука, холод и гранит» приобрела совсем новую безвыходность и бесповоротность.
В одном слове это можно выразить, сказав, что Петербург, стал чем-то казенным, т. е. перестал быть символом живо, го государства, и стал символом государства, в которое не верят, которого не любят, с которым не связывают былых надежд. «Казенщина» — какое это русское слово, и какое петербургское понятие! Им окрасился постепенно весь образ «невских берегов», и дело тут не в идеологиях, не в личных вкусах, а в выветривании смысла, в увядании надежд, в ощущении непрочности петербургской России. Всего выразительней раскрывается это у Достоевского, если проследить, как изменялось с годами столь острое чувство Петербурга — вплоть до оценки его внешнего облика, его архитектуры — вместе с ростом тревоги о его судьбе.
В одном из фельетонов «Санкт-Петербургских Ведомостей» за 1847 год, озаглавленных «Петербургская Летопись» и подписанных буквами Ф. Д., встречаются такие строки: «Не помним, когда случилось нам прочитать одну французскую книгу, которая вся состояла из взглядов на современное состояние России. Конечно, уж известно, что такое взгляд иностранцев на современное состояние России; как-то упорно не поддаемся мы до сих пор на обмерку нас европейским аршином. Но несмотря на то, книга пресловутого туриста прочлась всей Европой с жадностью. В ней, между прочим, сказано было, что нет ничего бесхарактернее петербургской архитектуры; что нет в ней ничего особенно поражающего, ничего национального, и что весь город одна смешная карикатура на некоторые европейские столицы; что наконец, Петербург, хотя бы в одном архитектурном отношении, представляет такую странную смесь, что не перестаешь ахать да удивляться на каждом шагу. Греческая архитектура, византийская архитектура, архитектур рококо, наша православная архитектура — все это, говорит путешественник, — сбито и скомкано в самом забавном виде, и, в заключение, — ни одного истино прекрасного здания.
Эти взгляды французского путешественника, в котором легко узнать Кюстина, еще за пять лет до статьи Достоевского вполне разделялись Герценом, писавшим: «Оригинального, самобытного в Петербурге ничего нет (…) Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож», и еще: «в нем даже русские церкви приняли что-то католическое». Достоевский, однако, горячо возражает Кюстину. «Петербург — глава и сердце России. Мы начали об архитектуре города. Даже вся эта разнохарактерность ее свидетельствует об единстве мысли и единстве движения. Это здание в растреллиевском вкусе напоминает екатерининский век, это — в греческом и римском стиле, позднейшее время, но все вместе напоминает историю европейской жизни Петербурга и целой России. И до сих пор Петербург — в пыли и мусоре; он еще созидается, делается; будущее его еще в идее, и идея эта принадлежит Петру I, она воплощается, растет, укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но во всей России, которая вся живет одним Петербургом…» [13]. Далее Достоевский развивает мысль, что если Москва знаменует собой национальное прошлое России, то Петербург — это ее не менее национальное настоящее и будущее. Ударение ставит он на будущем, и в этом, незаметно для себя, перекликается со своим противником Кюстином, который писал: «В других странах создавали большие города в память великих подвигов прошлого. (…) Санкт-Петербург во всем своем великолепии и своей огромности — трофей, воздвигнутый русскими во славу будущей их мощи; надежда, которая порождает такие усилия, кажется мне возвышенной». Зато когда надежда ослабеет, когда померкнет вера в будущее Петербурга, тогда и отношение Достоевского к нему коренным образом изменится.
Через шестнадцать лет, в год тургеневских «Призраков. «Зимние заметки о летних впечатлениях» вновь упоминают о екатерининском, о «растреллиевском» веке: «Одним словом, вся эта заказная и приказанная Европа удивительно как удобно уживалась у нас тогда, начиная с Петербурга — самого фантастического города с самой фантастической историей из всех городов земного шара» Фантастический — это значит «невсамделишный», призрачный, иллюзорный, не оправдавший положительных надежд; и Европа здесь — только заказная, приказанная Европа. Еще десять лет спустя, в «Маленьких картинках», включенных в «Дневник писателя», Достоевский высказывает взгляд на петербургскую архитектуру, вполне совпадающий с тем мнением о ней «пресловутого туриста», которое он когда-то так ревностно оспаривал. В архитектурном отношении Петербург ему представляется теперь отражением «всех архитектур в мире, всех периодов и мод; все постепенно заимствовано и все по-своему перековеркано». Ему уже не нравится ни «бесхарактерная архитектура церквей прошлого столетия», ни классицизм Империи, ни византийские стилизации Тона, ни подражания венецианским или римским дворцам Возрождения и барокко. Строителям этих дворцов «слишком уж крепким и ободрительным казался установившийся (…) порядок вещей, и в появлении этих палаццо как бы выразилась вся вера в него: тоже века собирались прожить. Пришлось, однако же, все это почти накануне крымской войны, а потом и освобождения крестьян…».
В черновой записи 1876 года Достоевский возвратился к той же теме: «Говорят, австрийский император похвалил наш город: "Красив, хорошо выстроен". Я этого не понимаю, хотя очень люблю архитектуру. Красивых зданий действительно, довольно, но до того все это разнохарактерно выстроено, что другого такого города, я думаю, нет на свете. Все типы архитектуры, рядом с полной бесхарактерностью, увидите чуть ли не на каждой улице. Если бы вдруг мы перенеслись на тысячу лет спустя, и Петербург как-нибудь сохранился, как Помпея, то всякий бы спросил: "какой это такой народ жил в этом городе? Какая у него была идея, какой был у него характер?" Все было, все характеры, и ничего, значит не было…»
Отчасти мысли эти объясняются не только тем, что изменился Достоевский, но и тем, что изменился Петербург. В качестве примера «бесхарактерности» его архитектуры он совершенно справедливо приводит «княжеский дом» на Неве. Дом этот, по его словам, претендует, подобно своим итальянским образцам, на «заявление независимости, силы, твердого убеждения. И вот, ничему этому я не верю, никакой силе, никакому твердому убеждению. Мне даже кажется, что владелец палаццо до сих пор решительно больше любит юрту, палатку, деревянный домишко, который можно сейчас снести, а что палаццо эти только так у нас, для моды…» Далее идут излюбленные мысли тех лет о том, что занесенная в Россию западная цивилизация не может с ней органически срастись, что она приносит с собой формулы, для России не имеющие смысла. Однако изменившееся отношение Достоевского к Петербургу не объясняется полностью ни влиянием славянофильства, ни архитектурным безвременьем, ни какой бы то ни было переменой личных его вкусов. Он Петербурга не разлюбил: об этом свидетельствуют страницы, посвященные ему в «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Подростке», «Вечном муже». Город сроднился навсегда с его душой, но видит он его теперь без прикрас, во всей его наготе: «Это самый угрюмый город, какой только может быть на свете» (1873). Тема о призрачности Петербурга, намеченная еще в ранних рассказах, теперь появляется все чаще, меняет свой первоначальный смысл, приобретает трагическую глубину, становится пророческим видением. Герой и рассказчик «Подростка» говорит: «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: "А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне? Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится – и все вдруг исчезнет"».
Но отчего же разлетится туман, какой катаклизм уничтожит город? Об этом ничего не сказано в «Подростке», но об этом говорится в одном из черновых набросков 1873 года к «Дневнику писателя»; и Достоевский сам подчеркнул в этой записи слово «переворот» и последние два слова:
«Я часто спрашивал себя: как без переворота можно согласиться бросить такие дворцы — кстати, что будет с Петербургом, если бросят? Уцелеют немцы, множество домов без поддержки, без штукатурки, дырья в окнах, а посреди — памятник Петра ».
III
«Ужо тебе!..» Мы узнаем облезлые дома и выбитые стекла поруганной столицы. Можно ее отстроить, но воскресить нельзя; столицей ей не быть; век ее прошел; Петербургский апокалипсис исполнился. Совершилось торжество многоголового, безликого Евгения над Медным Всадником, создателем Петербурга. Смиренный Акакий Акакиевич, восстав из гроба, поснимал шинели со всех «значительных лиц». И не только штукатурка облупилась и дворцы пошли на показ или на слом, но перед лицом истории город и в самом деле «исчез, как дым», и мы все, кому он снился много лет, проснулись.
Теперь, когда глянешь назад, кажется, что в таком конце вообще никто не сомневался, как не сомневаются в смерти, хотя каждый в миг ее прихода может сказать, что жил и не думал умирать. Этому не противоречит возврат восхищения, гордости Петербургом, начавшийся в девяностых годах и захвативший первые годы революции. Оправдание петербургской красоты, которым обязаны мы живописцам и поэтам, новой жизни — хотя бы только в искусстве — ему не принесло. С оценкой петербургской архитектуры у Кюстина, в «Призраках», в «Дневнике писателя» никто уже теперь не согласится; но если Росси был последним гением европейской архитектуры, то подражание ему так и осталось подражанием. Исправление вкуса — еще не обновление творчества, а любовь к прошедшему не всегда имеет власть над настоящим. Никогда еще так не любили Петербурга, Пушкина, Петра, как в годы, которые мы все помним, но у людей с воображением, у имевших глаза, чтобы видеть, любовь эта была неразрывна с чувством и предчувствием трагедии. Тому свидетельства — «Петербург» Белого, стихи Блока (особенно из цикла «Город»), мучительные строчки Анненского, как бы написанные для того, чтобы нам их припоминать, когда не спится ночью:
Желтый пар петербургской зимы, Желтый снег, облипающий плиты…и дальше:
Только камни нам дал чародей, Да Неву буро-желтого цвета, Да пустыни немых площадей, Где казнили людей до рассвета. А что было у нас на земле, Чем вознесся орел наш двуглавый, В темных лаврах гигант на скале, — Завтра станет ребячьей забавой…и еще:
Ни кремлей, ни чудес, ни святынь, Ни миражей, ни слез, ни улыбки… Только камни из мерзлых пустынь, Да сознанье проклятой ошибки.Как же благоденствовать стране, у которой такая столица? И как столице самой не уйти, не исчезнуть в тумане, когда о ней пишут такие стихи?
Но раньше, чем рассеялся сон и развеялось марево Петербурга, нам дано было увидеть наш город в таком сиянии правды, в таком неподкупном, чистом, горнем свете, каких он еще не знал и знать не мог. Когда все было решено, все кончено, все заколочено и пусто, и бездымными высились вдали тени фабричных труб, — в осень, когда умер Блок, когда прохожий, бредя посредине мостовой, выходил на безбрежную необитаемую площадь и сажени сырых дров закрывали с Невы фасад Дворца, — в те дни Петербург был прекрасен как никогда, широко раскинутый, царственный, ненужный. Арка Главного Штаба бескорыстно замыкала свой полет, Биржа за рекой стала и вправду храмом, игла крепости светилась в легких небесах; из времени он вернулся к вечности. Подолгу, подолгу с моста можно было глядеть на линию дворцов, и казалось, что стены их истончаются, светлеют, что проступают сквозь них тощие деревца, чухонские болота, а потом леса, пажити, разливы, степи, вся равнинная русская нескончаемая даль, что вся Россия просвечивает, и уж навсегда теперь, сквозь ставшие прозрачными камни Петербурга.
БЕЗЫМЯННАЯ СТРАНА
* * *
Что это такое — Россия?
Если бы мне задали этот вопрос, разбудив среди ночи, я, вероятно, ответил бы: Пушкин. После чего пришлось бы мне задуматься и уже не спать, пожалуй, до утра.
Пушкин. Я мог бы также сказать: Толстой, Тютчев; первая страница «Мертвых душ». Или вспомнить «иззябло дите, промерзла одежонка» и весь сон Мити Карамазова, после допроса в Мокром, о том, «чтобы не плакало больше дите».
Да и мало ли что еще. Успенский собор. Адмиралтейство. Колея, откос, плетень по откосу, а за ним уходящая вдаль безбрежность волнистых полей.
Образы России неисчислимы. Исчерпывающего нет и не может быть. Не о них и была первая моя мысль. «Пушкин» не о том; и не о литературе. Мысль моя была о языке.
«Шипенье пенистых бокалов», а то и разговор Селифана с лошадьми, его напутствие шустрой девчонке «Эх ты, черноногая!» — это и есть Россия: та, где живу, та, что живет во мне. Говорю, пишу не на этом одном языке, но живу в нем и тем самым живу в России. Довольно мне этой, если нет другой. Ее язык — наш и мой язык. Пушкин, и Толстой, и Тютчев, и Селифан, и московские просвирни, и вы, и я, и все мы в нем одно. Оттого и ответил я на тот вопрос, назвав Россию именем ее поэта.
Правдиво ответил, и от этой правды не отрекусь. Но все ли я сказал что нужно? Разве для Пушкина — как раз для него — одним этим была Россия? «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…» Для него она воплощалась не в одном языке, но еще и в обширной, мощной державе, не только вмещавшей в свои пределы все, что он о России знал, все, что в ней любил, но и сливавшейся со всем этим воедино. «Россия! встань и возвышайся!» Это было им сказано по особому поводу и не без воинственного задора, но никогда бы он этого не сказал, если бы мыслил душу России отделенной от ее тела, от страны, носящей это имя, и даже от царства-государства, нареченного тем же именем (оно-то, собственно, и дало имя стране). Как же мне следовало ответить на тот ночной вопрос, чтобы не разойтись с Пушкиным? Быть может, так: Россия? Да ведь это то самое, что зовется нынче СССР. Скажут: верно; так оно и есть. «От финских хладных скал до пламенной Колхиды» — СССР. От далеко на запад продвинутых границ эти «до стен недвижного Китая» — СССР. «Слух обо мне пройдет» по всему великому Союзу Советских Социалистических Республик. Только я все же между Россией и СССР знака равенства не поставлю, будите меня хоть десять ночей подряд. Ведь эти четыре буквы или четыре слова всего лишь ко всем услугам готовая и ради них придуманная кличка, которая при случае подошла бы к Патагонии или Новой Зеландии не хуже, чем к Московии; больше того, как раз и рассчитанная на такой случай. И обозначает она, конечно, не душу России и даже не ее тело, а лишь универсального покроя мундир, напяленный на нее совершенно так же, как он напялен на многие другие страны и который закройщики его готовятся напялить на весь мир. Что же касается другой клички, менее ходкой, РСФСР, то Россия тут хоть и упомянута, но в виде прилагательного, как если бы человека назвали не Иваном, а ивановской разновидностью блондинов среднего роста. Имя тем самым было бы у него похищено. И точно так же, пять ли букв или четыре наклеить на живую плоть, это значит не имя ей дать, это значит украсть у нее имя. Нет, Россия не то самое, что зовется СССР. Так зовется лишь мундир, или футляр, или тюрьма России.
Безымянная страна! То, что было Россией Пушкина и Толстого, как и Русью Троице-Сергиевской лавры, инока Андрея иконописца, то нынче безымянно. Нет больше имени, которым назывались бы совокупно и Гоголь, и Селифан, и «шипенье пенистых бокалов», «Медный всадник», «дите», колея, плетень и поля. Не то, чтоб пропало. Оно живо, оно все то же; все его знают; знают и там не хуже, чем здесь. Но страну лишили его, и потому оно стало тайным, а став тайным, стало святым — святее, чем в былые времена. Грех поминать его всуе. В стране четырех букв, если не всуе поминают его, то поминают с опаской, потому что знают: не тюрьма именуется им, а все то, что нынче в тюрьме. Нам же здесь, за рубежом, нужно помнить твердо: СССР не Россия; и столь же твердо: Россия — там, под этим никчемным ярлыком. Не мы, а новые поколения русских людей, те, что уже пришли или еще придут на смену старым, сделают то, чего мы сделать не можем, — не вернутся назад, но свяжут будущее с прошлым, буквы сотрут и скажут:
— Встань, безымянная страна,
Россия! встань и возвышайся!
Мы вернули тебе отнятое у тебя имя. Мы в душе все проведшие годы им называли твою душу. Отныне ты вся им будешь зваться, как прежде, вновь и навсегда.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ОТКРЫТКИ
Рассматриваю открытки, петербургские открытки. Не теперешние — старые, тех времен, когда я под стол пешком ходил, или, вскинув ранец на плечо, с Малой Конюшенной на Мойку бегал. Невского без двух уродов, новеньких, хвастливых — дома Елисеевых и дома Зингера – не помню, но Вавельберга дом — злосчастная помесь дворца Дожей и палаццо Питти — строился при мне. А рядом с ним, пониже и без причуд — четырехэтажный темно-красный. Там «Балабуха. Сухое киевское варенье». В младенчестве моем я и всякое называл балабухой.
На одной открытке — конка (ездил я и на конке); на других — уже трамвай. Гостиный Двор почему-то кажется приземистым и захолустным. Адмиралтейство за деревьями вдали — другое дело. Но игла его в лесах. Какой же это год, когда ее чинили? Городовой. Два извозчика. С твердыми знаками «Ресторан Лейнер», и напротив английский магазин, где покупалось то черное глицериновое мыло, которым моюсь и теперь. Все то же оно, с недушистым – тем и приятным — запахом. Теперь, как и тогда. А он, мой город? Все тот же? Сорок с лишним лет минуло с тех пор, как я прощался с ним.
Ответа не получу. Но ведь и спрашиваю некстати. Разве эти открытки на него похожи? Их много, тут не один Невский. Есть и дворцы — Михайловский. Мраморный, Зимний; кариатиды Эрмитажа, Исаакий, Летний Сад, Александрийский театр. Чудесная Театральная улица. Только все это не то. Не та улица, не тот сад. Купол не тот. Не то объятие колоннад перед Казанским собором. Это почему же? Плохие старые снимки? Лубочная порой раскраска?
Нет, дело не в этом. Те три дома — не оттого ли я с них и начал? — похожи, но ведь эта мешанина и «стиль модерн» — это в Петербурге не-Петербург; а все другое, хоть и узнаваемо, да мертво, дразнит память и не оживает. Ходил я по этим самым улицам, мимо этих самых зданий и домов, но видел не их. Биржа за рекой, Петропавловская крепость, Смольный… Рассматриваю. Они все на месте. Хорошо построено. Пощупать нельзя, но то, вот именно, и плохо, что как бы можно пощупать. Когда я в Петербурге глядел на них, я и видел их, и снились они мне. Петербург — не штукатурка, не камни. Петербург — это видение.
* * *
Больше ста лет прошло с тех пор, как Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» назвал его «самым фантастическим городом с самой фантастической историей из всех городов земного шара». Фантастичность означает в данном случае нереальность, «невсамделишность», призрачность, а в основе всего этого — парадоксальность, искусственность; черты эти восходят к самому основанию города и присущи восприятию его отнюдь не одним только Достоевским. Не история Петербурга фантастична — Петербург фантастичен, оттого что порожден фантазией, прихотью Петра; призрачен, потому что создан его произволом. Парадоксален замысел новой столицы, выбор места для нее — где-то скраю, да еще и на болоте. Парадоксальна совершенная нерусскость облика, особенно первоначального облика ее. Парадоксально само ее имя.
Имя это голландское: Санкт-Питербурх. Так оно в первые времена и произносилось, и писалось. Оттого в простонародном обличье своем и стало оно не Петером, а Питером. Переименование столицы в 1914 году было трижды нелепым. Во-первых, мы тогда с Голландией не воевали; во-вторых, Петр окрестил город не своим именем, а именем святого, которое ему самому дано было при крещении, так что по-русски соответствовало бы этому наименование Святопетровск, а не Петроград; в-третьих, даже если бы Голландия объявила нам войну и если бы Российская держава уже тогда, а не через несколько лет после того, решила отречься от христианства, переименовывать столицу все же было бы нелепо.
Дело Петра было сделано, отменять его, возвращаться в Московскую Русь никто ведь тогда и не собирался. Для России, если не для Руси, имя Петербург стало русским именем. Но в 1703 году парадокс был и в самом деле парадоксом, и по-голландски названная новая столица в самом деле могла казаться русским людям чужеземной выдумкой, наваждением, неживучим сонным маревом.
Такой она им и казалась — и когда основана была, и когда стала столицей уже не в замысле, а на деле, да еще и много позже… Недаром перешептывались: «Петербургу быть пусту». Недаром три года всего после смерти Петра, недавние его льстецы, бояре, которым обкарнал он бороды и кафтаны, внушили его внуку промолвить: «Не хочу гулять по морю, как дедушка», да и двинулись со всем скарбом назад в Москву с остзейских берегов, стали уже и забывать о них, пока через пять лет курляндская Анна их к тем берегам не возвратила.
Еще ведь и памятно было, что все на тех берегах началось с наводнения и цинги; знали, во что обошлись те каналы, мостовые и на заморский лад возведенные палаты, которые, по словам очевидца, еще в двадцатом году тряслись и качались, когда карета проезжала мимо них. Людей Петр не берег, как впрочем, и себя; пекся о будущем, а не о настоящем. «Парадиз» его строился насильно, каторжным и убийственным трудом. Справедливо Ключевский писал: «Едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте». В первое же лето множество их перемерло от цинги и поноса; а под осень австрийский посланник доносил, что две тысячи раненых и больных утонули в первом наводнении. О втором, года спустя, Петр писал Меншикову: «Зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа сидели, не точию мужики, но и бабы».
Столь забавное зрелище видел он не в последний раз: в его царствование: столица перенесла одиннадцать наводнений. Пожарами посещалась она тоже вполне исправно. В десятом году сгорел Гостиный Двор на Петербургской стороне; в восемнадцатом — Сенат и Военная коллегия. Опасность пожаров была тем более велика, что каменные строения высились лишь вдоль рек; все, что окаймлялось их фасадами, было деревянным. Но и бревен не хватало, не только камня. Все привозилось издалека. Для острастки воров виселицы стояли возле складов. Таково было начало.
* * *
«Люблю тебя, Петра творенье!» Кто бы мог это сказать в те годы, кроме самого Петра? Он все задумал, он всем руководил, все выполнялось по введенному им регламенту, отступить от которого значило подвергнуться строгой каре. В регламентации — секрет Петербурга, корень его отличия от других русских городов, да и от тогдашних западных столиц. Улицы проводились по ранжиру, дома воздвигались по установленным свыше образцам. Деревянные предписывалось обшивать тесом и раскрашивать под кирпич, чтоб смотрелись понарядней. Неладно построенные каменные — «по архитектуре поправлять». На крыльцах всех тех, что тянулись вдоль будущей Адмиралтейской и Дворцовой набережной, поставить чугунные балясы. В 1721 году Петр нашел, что здания бойни возле устья Мойки сделаны «весьма худо», и распорядился вправить их «в линию регулярно, подобностью якобы жилое строение, и с фальшивыми окнами, и для лучшего вида расписать красками». Заботился он обо всем, всякие беды старался предотвратить; велено было мох, употреблявшийся для конопаченья стен, обваривать кипятком, чтобы в домах не заводились тараканы. Как ни тягостно было для многих это вечное «этак, а не так», это «регулярно, это «в линию», все же и о «лучшем виде» при этом не забывалось. Хоть и много было в широко планированном и наспех застраиваемом городе фальшивых окон — в прямом и переносном смысле слова, хоть и обживаться по-настоящему начали в нем, вероятно, лишь ко времени Елизаветы, а все-таки прав был птенец Петрова гнезда Неплюев, когда сказал: «Сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими». И то же самое мог бы он сказать об основанной Петром столице.
«Люблю тебя»… При Екатерине, при Александре многие говорили это в мыслях Петербургу, а у кого любви к нему не было, тот все же вторил беспрекословно восторгам иностранцев. Перемена тут наметилась в те годы, когда он раз навсегда был прославлен Пушкиным. Скоро Герцен напишет: «Любить Петербург нельзя». Хомяков еще за год до «Медного Всадника» назвал город «Гранитною пустыней», а красоту его «мертвой»; она и начнет скоро умирать, — отчасти оттого, что перестанут ее видеть, отчасти же потому, что примутся ее уродовать. Регламент был ей нужен, этой особой петербургской красоте, этому новейшему из великолепных городов Европы. До смерти лучшего, может быть, из его зодчих, Росси, его еще «поправляли по архитектуре»; но когда архитектура приказала долго жить, то и на «правку» махнули рукой.
В 1843 году опубликован был указ, разрешавший домовладельцам строить дома и красить их как заблагорассудится. Последствия столь неуместно «либеральной» меры императора Николая не замедлили сказаться, но самые тяжкие из них пришлись уже на следующее царствование. Едва ли не тягчайшим была застройка уродливыми и разношерстными домами набережной между двумя флигелями Адмиралтейства в результате продажи морским министерством соответствующего участка в 1871 году; к тому времени Петербургом давно уже перестали любоваться. Тургенев в очень непривлекательном виде описал его в «Призраках». Писемский в «Тысяче душ» (1858) называет его «могильным», а одного из героев своей книги заставляет говорить о нем, вздохнув: «Город без свежего глотка воздуха, без религии, без истории и без народности». Иван Аксаков в письме к Достоевскому призывает его, ради той же народности, но уже безо всяких вздохов, «плюнуть Петербургу в лицо и ненавидеть его всеми силами души». Достоевский, пожалуй, был бы и не прочь, старался, но не то что возненавидеть, он и разлюбить его до конца не смог. Думал он о нем много, чувствовал его острее, чем кто бы то ни было, даже чем то, новое поколение после его смерти, которое вновь полюбило его город любовью искренней, нежной, но все-таки другой, чересчур рассудительной, хоть и со слезой, слишком уже знающей, слишком книжной…
Не прошло и года после «Зимних заметок», как он (в «Записках из подполья») вернулся к своей формуле и ее исправил. «Петербург самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре» — так пишет он теперь, и теперь с ним трудно не согласиться. Отвлеченный? Да. Планированный, регулярный — «Твоих оград узор чугунный»; «Громады стройные»; «Однообразная красивость»… Какая ни на есть, а все же — «Люблю тебя!». Умышленный? Верно. Но ведь умысел все-таки удался! Чего только город не пережил — нынче население его, нужно думать, на девять десятых новое, другое; и все же — так передают, и я этому верю — лицо его сохранилось, мыслят и чувствуют в нем не совсем так, как в остальной России, как в Москве. А различие это — «на нем все тесто взошло», оно — неотъемлемая, драгоценная черта всей послепетровской, послепушкинской России. «Бессмертная ошибка», — сказал об основании Петербурга Карамзин; но зачем же называть ошибкой такой верный выбор, такой оправданный произвол?
Без этой двойственности скучна была бы Россия. Без железного этого корсета расплылись бы ее телеса. Будь одна у нее московская литература, калачами она бы нас кормила да блинами. Не было бы четкости Пушкина, если бы до нее не было четкости Петра. Пусть и впредь будет так. Пусть еще подтянет Москву Петербург — не вожжами, не уздой, а улыбкой и вполголоса: опомнись, оправься, не заносись, проверь разумом разрыхлевшие твои чувства. Русью быть хорошо, но еще лучше Россией. И — сей город отечество наше привел в сравнение с прочими.
Верю. Хочу верить — бессмертен Петербург. Не ошибкой бессмертен. Под чужим именем жив. Хоть и заштатная столица, а столица. Правда, а не выдумка. И все же — нет Петербурга, не тот он, Петербург, если не двоится он, если не в тот же он миг и действительность, и мечта; и твердо на сваях стоит, и рассеивается миражом. Умышленный и отвлеченный этот город, он и впрямь какой-то невесомый и сквозной. Оттого-то и есть, должно быть, в нашей любви, даже в пушкинской любви к нему, что-то бесплотное — от виденья больше, чем от прикосновенья. Оттого-то и открытки эти на столе передо мной — даже арка Главного Штаба, хоть и пеленали меня тут, хоть и жил я потом десять лет по соседству с ней, даже «всадник бронзовый, летящий на недвижном скакуне», — нет, картинки эти, не нужно мне их. Глядел, разглядывал, и будет. Бог с ними. Старый приятель их принес, хотел подарить… С благодарностью возвращаю. Не потому, что уж слишком был бы я ими растревожен: когда прощался, знал твердо, что прощаюсь навсегда. Но потом; что не глядя, глаз не открывая, я вижу его ясней внутри себя. Теперь мне рукой провести по его камням не хочется. Одно неосязаемое вижу; оно нежней, но и сильней того, что можно осязать. Зингерова дома не вижу. Нет ни «Балабухи», ни вербных базаров, ни масленичных балаганов. Зато нет и домов, что въелись в Адмиралтейство. Только оно, его игла. Нет и ни того, и ни другого «града», только Петербург. Небо над его садами и дворцами, набережная, ширь Невы…
С белой площади Сената Тихо кланяюсь ему.Так прощался Блок с пушкинским домом, Пушкиным, Петербургом.
Так прощусь с ним и я. В последний раз.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Пора вернуться в Россию. Не нам, а России: детям и внукам всех тех, с кем мы расстались, когда мы расстались с ней. Пора им зажить в обновленной, но все же в той самой стране, где мы некогда жили, в России-Европе, в России, чья родина — Европа. Из нерусского, мирового по замыслу, но Европе враждебного СССР пора им вернуться в Россию и тем самым в Европу; пора вернуться на родину. Они и сами это знают, с каждым годом все лучше, без нашего совета. Возвращение уже началось. Когда оно завершится, пусть не будет нас больше в живых, — вернемся и мы в Россию, вернутся все те, кто умер вдали от нее, сохранив ей верность, сохранив верность России-Европе, в те годы, когда безымянная страна, занявшая ее место, отреклась от нее, отреклась от России и от Европы. Это возвращение тоже началось. Другого и быть не может для тех, кому перестала быть родиной страна, отрекшаяся от собственной родины.
Ходячее западное противопоставление Запада Востоку коренится в политике и прежде всего запутывает ее же, подсказывая мысль, что есть единый Восток и единый Запад и что мир между ними разделен; но не одной политике оно вредит и питается скверной привычкой, с нынешним положением вещей не имеющей ничего общего. В Париже издавна существует Институт восточных языков, где преподают, среди других, и новогреческий, и все славянские языки. Нечего и говорить, что в старой России на факультетах восточных языков эти языки не преподавались. Досоветская Россия, в государственном сознании своем, славян и греков восточными народами не считала себя к Востоку не причисляла. Несмотря на свои огромные азиатские владения, она сознавала себя Европой. Географически, разумеется, относилась она к восточной Европе, но «восточная Европа» — это ведь всего лишь восточная часть Запада, потому что европейский мир, включающий в себя и всю Америку с Австралией, — этой есть западный мир, короче говоря, «Запад». Новая, отрекшаяся от своего имени Россия — в европейской своей части, да и вся целиком, раз столица ее находится на запад от Урала, — точно так же, логически рассуждая, не имеет никакого основания считать себя Востоком, тем более, что и антихристианская (и тем самым исторически антиевропейская) идеология, отторгнувшая ее от Запада, отнюдь не восточного происхождения. Но политика, сперва внушавшаяся этой идеологией, а теперь использующая ее, о логике не заботится. Приверженцы этой политики одной из главных своих задач считают овладение Востоком (на пути к овладению всем миром), и им представляется выгодным, чтобы страна, подвластная им и дающая основу для расширения их власти, слыла уже сейчас (пусть лишь до поры до времени) Востоком, представляла, возглавляла бы Восток. Политика эта встречает непредвиденные (оттого что вскормлены они самой что ни на есть «нашей» и «родной» идеологией) затруднения; но ведь недаром «Востоком» был назван и тот сверхвоздушный корабль, на котором русский звездоплаватель совершил свой первый, вызвавший всемирные восторги, ракетно-ядерный полет.
Называли Россию — в самой России — Востоком и прежде; но не ее государи или их министры, а интеллигенты наши обоих толков, как западнического, так и славянофильского. Владимир Соловьев — и тот ее вопрошал: «Каким ты хочешь быть Востоком, Востоком Ксеркса иль Христа», забывая, как будто, что могла она ему ответить: не хочу быть Востоком Ксеркса, как и не хочу быть Западом Торквемады, религиозных войн или гильотины, водруженной на площади Согласия; но помню, что христианство получила я, как и Запад, не столько даже и с востока, сколько с юга, и что оно-то меня с Западом и роднит, и вместе с ним нехристианскому Востоку противополагает; вам же, Владимир Сергеевич, вовсе и не следовало бы называть меня Востоком, ведь хорошо вам известно, сколь многие зовут меня так на Западе, считая меня при этом Востоком именно Ксеркса, а вовсе не Христа.
Права была бы Россия, если бы так ответила Соловьеву, но в конце концов не так уж важно было нам, русским, не так уж важно наследникам нашим в Советском Союзе, считают ли на Западе нашу и их страну Востоком или нет. Гораздо важней, чем мы сами, вчерашние или нынешние, ее считаем. Если Востоком — то это значит, что мы порываем с собственным прошлым, зачеркиваем и лишаем смысла свою историю. Восток и Запад — не географические, а исторические понятия. Важно не то, что Россия — восточная Европа, которую позволительно, внутри Европы, противополагать Европе западной. Важно, что она — Европа. Важно, что русский народ принадлежит к семье европейских народов, и русский язык — к семье европейских языков. Для истории Восток — это Азия. Азия создала великие культуры, но русская — не их отпрыск, а отпрыск культуры европейской, вне которой она непонятна, исторически немыслима. Противополагать Россию Западу, прикреплять ее к Востоку — это значит искоренять ее из Европы и тем самым отрекаться не только от наследия Пушкина и Петра, но и от всего ее тысячелетнего христианско-европейского прошлого. Лицемерная хвала этому прошлому может воздаваться и при полном затемнении подлинного его смысла, но предначертанная им преемственная связь, уже ослабленная, уже во многом разорванная, окончательно оборвалась бы, если бы удалось оторвать Россию от Запада, отсечь восточную Европу от остальной Европы. Пусть те, кто распоряжается нынче судьбами России, считают именование ее Востоком, противопоставление ее Западу уместным и для их целей полезным; оно от этого не перестанет противоречить разуму и совести.
Порой до чего-то близкого этому договаривались и в былое время, но лишь в нашем веке наметилось соответствие дел этим на ветер брошенным словам. В 1918 году Блок писал:
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами! —и пророчил о том, что Россия обернется к Западу «своею азиатской рожей». Риторика этих стихов, что и говорить, даже поэтически была выразительна; но если бы провозглашающие Россию Востоком пожелали принять их всерьез, а то и, чего доброго, извлечь из них политическую программу и тем самым пророчество их выполнить, то у их подданных достаточно будет, нужно надеяться, здравого смысла, чтобы сказать — если мужества хватит, то и вслух, — примерно следующее.
О скифах давно бы все забыли, не опиши их Геродот и не будь их искусства, греческого, хоть и не по духу, но по выучке и совершенству, с которым, однако, даже и древнее наше искусство ничего не имело общего. Певец их знал о них не много и наделен был фамилией не скифской, а немецкой, что не помешало ему быть русским поэтом, не отличавшимся, кстати, ни жадностью взора, ни раскосыми глазами. Неизвестно, к тому же, почему надо обзывать рожами азиатские лица и считать, что раскосые глаза непременно должны быть жадными. А главное, зачем же России обращаться не лицом, а рожей, пусть и не азиатской, к кому бы то ни было, и тем более к Западу; к европейскому миру, вне связи с которым не было бы у нее ничего — ни литературы, ни мысли, ни музыки, — ничего, чем она веками жила и еще живет. Не было бы и Блока…
Он тогда же писал в дневнике об Англии и Франции, недовольных Брестским миром и собиравшихся было «погубить революцию», что они вследствие таких замыслов «уже не арийцы больше» (подчеркнуто Блоком). Вот, мол, откроем ворота, и «на вас прольется Восток. Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины». Поэты бывают пророками, даже когда беснуются. Насчет арийцев постарался Гитлер. Шкуры, даже и со своих «партейных», Сталин посдирал. Что же до китайских тамбуринов, то они как раз теперь звенят и напоминают России, что она — не Азия. Да и самой Азии в наше время все трудней становится жить своим азиатским наследием. Мы им во всяком случае жить не можем. Лишь вернувшись в Европу, мы вернемся на родину, и Россия станет вновь Россией, только сделавшись снова европейской страной.
* * *
Из Европы она ни в какие времена полностью не выпадала. Духовная жизнь ее выросла на основе христианства, преподанного ей Византией, наследницей Греции и наследницей Римской империи. Преемственность эта и после татар не оборвалась, а с Западом в дотатарские два века наша Древняя Русь была гораздо теснее связана, чем Византия. Новгород и Псков эту связь сохраняли до утраты независимости, а с Ивана III она стала намечаться и в Москве. Для ощущения единства христианско-европейского мира, отличавшего Киевскую Русь, но не исчезнувшего и в Московской, при всем ее недоверии к «латинству», характерно, что русская Церковь, в противоположность византийской, сочла и никогда не переставала считать своим праздником «Перенесение мощей иже во святых отца нашего Николая Чудотворца из Миры во град Бари», хотя доставили их туда западные военно-торговые люди, завладевшие ими не без вероломства и насилия. Отчуждения Московии от Запада преуменьшать ни в коем случае нельзя: за него-то мы, по всей вероятности, Революцией с большой, с пребольшой буквы и вызванным ею новым отчуждением в конечном итоге и заплатили. Но непроницаемой преграды между нами и Западом старомосковское то отчуждение все же не воздвигло, с Азией нас сколько-нибудь решающим образом не сблизило и задолго до Петра начало заметно ослабевать. Когда ему не было еще и двенадцати лет, в октябре 1683 года во всех московских церквах служили благодарственные молебны по случаю освобождения Вены от турецкой осады: басурманской столицей та раскольничья, стрелецкая, избяная белокаменная все же не была.
Когда Петр, подросши, растолкал, взбудоражил ее, осрамил и развенчал, когда он всю страну «вздернул на дыбы» и выстегал заморской плетью, многое так и осталось поруганным и оскверненным, но переворот был все-таки направлен верно, окно прорублено на Запад, а не на Восток. Доказательством этому служат все дальнейшие двести лет и прежде всего тот необыкновенно бодрый и быстрый рост государственной, хозяйственной и созидательно-духовной жизни, которым было отмечено время от Ломоносова до Пушкина. Кто же нас воспитывал тогда, если не Запад? И воспитание это было нам нужно. Без него мы бы не стали тем, чем мы стали благодаря ему.
В допетровской Руси не было общепринятого, т е. соответствующего языковым навыкам образованного общества, литературного языка (потому что не было и самого этого общества). При Петре язык был засорен хаотической массой заимствований из голландского, немецкого, английского, французского языков; но уже через два или три поколения заимствования эти были отброшены или усвоены, было найдено равновесие между русскими и церковнославянскими элементами книжной речи, и через сто лет после смерти Петра у России был общелитературный язык, уже не намного менее гибкий и богатый, чем у англичан или французов. Их литературы, другие, влились в нашу, оттого что сделались впервые переводимыми на наш язык. И точно так же впервые было выработано стихосложение, родственное немецкой и английскому, и, в отличие от прежнего, вполне отвечавшее особенностям русского языка. Только что сложившись, оно уже послужило Державину, поэту общеевропейского масштаба, а затем Пушкину, после чего применение этого масштаба к нашей литературе полностью узаконилось: она стала равноправной составной частью европейской литературы. То же можно сказать о музыке, архитектуре, изобразительном искусстве. Вся работа мысли и воображения перестроилась у нас на западный лад, обрела новую основу, созданную Западом. Старая, византийско-киево-московская основа не исчезла, не могла исчезнуть, но первенствующее значение сохранила лишь на большой глубине: в мысли и чувстве, питаемых религией, а также в религиозно-бытовом укладе народной жизни. В языке она отошла на второй план — вернее, легла на дно, — как и в литературе, поскольку писатель не делал того душевного слоя или того быта, что ею определялись, предметом своего изображения. В музыке, живописи, архитектуре от нее остались — на поверхности их — лишь совсем слабые ее следы. Если придавать слову «язык» самый широкий смысл, обозначая им все средства выражения и общения, доступные человеку, можно сказать, что уже со времени Ломоносова и тем более начиная с Карамзина, Жуковского, Пушкина, Глинки, Захарова, Востокова, Сперанского, Россия заговорила на языке, которому научил ее Запад. Сближаясь с Западом, она европеизировалась, что в данном случае значит: возвращалась в семью родственных ей европейских народов.
Долго была она с этой семьей разлучена, но другой не обзавелась: этому помешал греко-христианский стержень ее духовной жизни. Европейское будущее было ей предначертано самым давним прошлым. Вот почему так грубо ошибаются западные историки, приравнивающие этот ее возврат к европеизации Индии или Японии. Эти страны сохраняют своеобразие вопреки европеизации и ровно в той мере, в какой она не завершена; Россия заложенное в ней своеобразие только вернувшись в Европу и смогла полностью осуществить. Она стала, конечно, более похожей на западные страны, чем была до того, но это сходство не уничтожило несходства, а сочеталось с ним и привело к цветению, которое вне такого сочетания было бы немыслимо. Ущерб ей был нанесен только грубостью петровской хирургии, слишком резким отсечением старого от нового, приведшим к чрезмерному разладу между тем, чем продолжало жить крестьянство, и тем, к чему устремлялось дворянство, а потом интеллигенция. Славянофилы оценили это правильно, не поняв только, что разлад при всей трагичности — или как раз в силу ее – был и творчески плодотворен; потому, вероятно, что совсем непримиримого разлада между двумя христианско-европейскими наследиями не могло и быть. Зато позднейший славянофильский национализм впал в явное заблуждение, противополагая «самобытность» европеизму, как будто она не могла быть внутриевропейской, как будто Европа вся сплошь не состояла из враждующих и все же объединенных в ней, самобытных, несходных между собой и все же неотъемлемых одна от другой наций. Единство Европы неотделимо от ее множественности – национальной прежде всего, но и еще более дробной, сказывающейся и внутри отдельных наций. Это у нас во второй половине прошлого века стало ускользать из поля зрения не только славянофилов, но и западников, как либеральных, так и революционных. Европа для них либо превращалась в безличный образчик всяческого «прогресса», либо подменялась еще более узкими идеологическими схемами, применимыми где угодно, а потому объявлявшимися обязательными и для нас. Кто не понял Европу, не поймет и Россию. Противоположные одно другому заблуждения относительно ее места в мире стали на верхах образованного общества исчезать лишь к началу нашего века. На его низах они держатся до наших дней.
Самобытность — нечто совершенно естественное и превосходное, поскольку не смешивают ее с квасным патриотизмом и не называют единственно правильное «европейское» понимание ее «низкопоклонством перед Западом». Одинаково несправедливо и неумно зачеркивать национальное своеобразие безличным интернационализмом и абсолютизировать его, называя «безродным космополитом» всякого, кто — по примеру Достоевского, кажется, уж патриота и даже во многом шовиниста — склонен будет утверждать, что кроме России у него есть и другая родина: Европа. В официальной идеологии Советского Союза эти два противоположных заблуждения парадоксальным образом сосуществуют — «рассудку вопреки, наперекор стихиям»; раньше этого, конечно, не было: заблуждались либо этак, либо так. Прежняя Россия такого сочетания беспрекословной подчиненности занесенным с Запада взглядам с самохвальным осуждением этого самого Запада, унаследованным от вульгаризованного славянофильства, не знала, как не знает и не знало его и русское Зарубежье. Тут, в Зарубежье, евразийцам, пытавшимся даже и талантливо, но все же безуспешно выселить Россию из Европы, противостояли последние интеллигенты старой формации. Самобытности не признающей и не понимающей ее роли в европейском единстве. Один из них обвинял меня (упоминаю о себе, потому что это характерный пример) после выхода в свет моей книги «Задача России» в суеверном «мессианстве» и в противоречии самому себе. Как это я, прослывший западником, могу говорить о единственности России, о «ей одной преподанной вести», о ее миссии в отношении остальной Европы? Но отчего же нет? Быть Мессией — одно; обладать особым призванием — совсем другое. Давно пора понять, что Россия так же единственна в европейском целом, как Англия или Италия. Причем значение части для целого как раз и определяется ее несходством с другими его частями.
Оба заблуждения эти одинаково опровергаются всей нашей историей. Воссоединившись с Западом, Россия расцвела, и она вновь расцветет, только если снова — не как часть Западной Европы, а как часть Европы — с ним соединится. Как только произошло в последней четверти прошлого века пусть лишь частичное отчуждение от него, как только затуманилось для нас лицо Европы, тотчас постигла нас странная сонливость, и повсюду стали замечаться уныние, застои; убыль духовных сил. Наши шестидесятники заклеили окно на Запад прокламациями и подметными листками, отказались от всего его богатства ради горсти лозунгов, ничего не дававших мысли, но пригодных для борьбы. Как ни расценивать эту борьбу и всю их деятельность с других точек зрения, с точки зрения культуры она была в высшей степени вредоносна. Недаром проявляли они столь крайнюю нетерпимость ко всем инакомыслящим и столь резкую вражду ко всему, что нельзя было поставить на службу политике (разумеется, их политике): к религии, философии, поэзии, искусству и даже к научному знанию, не пригодному для пропаганды и не направленному на непосредственное удовлетворение практических нужд. Ближайшим образом все это привело (вместе с подавлением крамолы, столь же упростительным, как она сама) к провинциализации России, очень верно отраженной Чеховым; в конечном же счете послужило образованию того умственного склада, который вскоре стал характерен уже не для верхних и даже не для средних, а для низших слоев интеллигенции, что и позволило ему восторжествовать после Октября, когда полуинтеллигенты пришли к власти, а интеллигенция более высокого культурного уровня оказалась выгнанной или уничтоженной. В России началось снижение культуры, а потом и сдача ее на слом при Сталине, вместе с отчуждением от остальной Европы, достигшим размеров, невиданных в послепетровские времена. Россия отходила от Запада. Нынешнее молодое поколение знает, что это значило. Самобытности она этим не приобретала. Наоборот, чем дальше отходила, тем становилась меньше похожей на себя.
* * *
«Всякая революция влечет за собой временное одичание», писал в свое время Фридрих Шлегель. Одичание это длилось у нас исключительно долго, но вот уже лет десять как наметился выход из него, как обозначился просвет, который то быстрей, то медленней, но все же расширяется с каждым годом. Молодое поколение новой интеллигенции в лучшей своей части к этому просвету устремлено; оно правит свой путь по двум звездам, мысленно различимым, но на деле слившимся в одну; можно звать эту звезду «Европа», можно звать ее «Россия» — большой разницы при этом не получится. Именно в стране, которая была бы Европой, будучи вместе с тем Россией, этим русским молодым людям и хотелось бы отныне жить. Глядят ли они на Запад, вспоминают ли о том, о чем так долго воспрещалось вспоминать — они ищут одного: утраченной родины, не телесной, но духовной.
Родина — это не территория плюс народонаселение, и даже не просто семья и родной дом. Кошки привыкают к дому, собаки к людям, и привязанности человека, вырастающие из этих животных привязанностей, святы, нужны и неотъемлемы от его человеческого естества. Но все же родину любит он не одной собачьей или кошачьей любовью. Облик ее, живущий в его душе, к одним ощущениям не сводим, так что способен и вовсе обойтись без запаха березового листа и вкуса гречневой каши. Россия — это духовное, умопостигаемое целое, меняющееся во времени, да и окрашенное для каждого слегка по-иному, но все же очерченное с достаточной ясностью и пребывающее не в прошлом только, но и в связи будущего с прошлым. Одичание исказило образ России именно тем, что затемнило и ослабило эту связь. Усилия нового поколения как раз направлены — ясно ли или смутно оно это сознает — к восстановлению этой связи.
Связь требуется восстановить, как это все, по-видимому; и чувствуют, прежде всего с самым недавним прошлым, с двадцатыми годами, когда мысль и воображение не совсем еще были вытравлены у нас, хоть и притеснялись все усердней с каждым годом, а затем и с дореволюционным началом века, положившим конец провинциализму предшествовавших лет. Восстановление преемственности невозможно без пересмотра тех нелепых оценок, которыми так долго заграждался путь к этому близкому нашему прошлому, без тщательного ознакомления с тем, что было им сделано, как и с тем, что было сделано в русском Зарубежье, по мере сил продолжавшим его. Запрет нынче снят лишь с очень малой доли этого наследства, но раскрепощение памяти, хоть и робко, все же началось. Смысл его, всякий это понимает, не в возврате к тому, что было. Преемственность не состоит в повторении пройденного. Искать надо в прошлом не образцов для подражания и не мыслей, с которыми заранее согласен, а «пищи для ума», и тут, в нашем и недавнем, легче ее будет найти, чем где бы то ни было. Через это близкое ведет путь и к пониманию более далекого. Преемственность восстановима только в выборе, в борьбе, только путем усвоения одного и отбрасывания другого. Нельзя утвердить ее, продлить, передать будущему, не прибавив к старому ничего нового. Но чтобы прибавить, надо знать, к чему прибавлять. Россия должна заново осознать себя Европой и Россией, стать Европой и Россией. Это и будет для всех русских, где бы они ни жили, где бы ни умерли они, возвращением на родину.
НАСЛЕДИЕ РОССИИ
* * *
Россия была. Взгляните на карту: нет на ней больше такой страны — Россия. Если же кому все равно, называть свою родину ее именем или нет, то и столь суконное равнодушие к слову еще не даст ему права утверждать, что произрастает на этих четырьмя буквами объярлыченных просторах неоскудевшее и неискаженное продолжение того, что на них произрастало в былые времена. Не о государстве мы говорим или «общественном строе», и не о русском житье-бытье называлось Россией и другое, главное. Когда скажешь «Франция», подумаешь прежде всего не о трех династиях, двух империях, пяти республиках и не о нравах и модах, не о феодализме или «классовой борьбе», а о том, что означает Франция для Европы и для мира. Так и Россия. О том особом мы думаем, что она значит для нас и не для нас (а не о том, что значит любая земля для того, кто ею рожден и выкормлен). О том, чего нет у других, и что, будучи личным, достойным имени, как раз и не терпит ярлыка. О России, которую осязаем душой, когда видим, слышим, читаем созданное ею. Эта Россия была. Осталось ее наследие.
Разрыв преемственности
…как будто и весь род русский только
вчера наседка под крапивой вывела.
Лесков
Наследство получают от тех, кого больше нет. Но чередование рождений и смертей, образующее историю, совершается непрерывно и само по себе никаких единовременных передач общего достояния ото всех отцов ко всем сыновьям не предполагает. Если мы говорим о наследии России, то лишь потому, что ощущаем перерыв — не в совокупности ее духовного бытия, но во всем или в очень многом из того, что ему дает своеобразие, что составляет лицо России. Сюда не входят математические и строго экспериментальные науки, науки, управляющие техникой или (на естествознании основанной) практикой (врачебной, например). О них мы не скажем ничего. Во-первых, потому, что никакого перерыва тут не произошло, а во-вторых, потому, что вся эта область духовной жизни рассудочна (построена на точно доказуемых данных) и тем самым универсальна; ничего свойственного одной России в ней нет и не может быть. (Русские физики или медики могут являть в своей научной деятельности национальные черты, но не сама названная по ним и по их стране «русской» физика или медицина.) Речь у нас не об этом, а о самом русском в России, о языке, литературе, искусстве, и не столько даже о них самих, сколько о мысли, которая их питала, которой Россия жила и которая с разной степенью силы выражалась также и во всех тех науках, где вычисление или эксперимент могут играть лишь второстепенную роль. Здесь разрыв и произошел. Здесь и была нарушена преемственность. Преемственность — непреложный закон истории; вернее сказать, самого человеческого бытия. Первый показатель этого — язык, который не выдумывается заново каждым новым поколением (оттого, что выдуман быть не может: дитя, рожденное глухим» остается тем самым и немым), не передается сам собой путем биологической наследственности, а усваивается через преподавание, материнское большей частью, то есть именно не передается, а преподается — старшим поколением младшему. Преподавание и есть основа всякой предания, а основа всякого преподавания есть передача языка. Тем более, что ведь при передаче слов передаются не одни их звуки, но и смыслы, а тем самым и образ мира, в этих смыслах заключенный, ими отраженный. Не будь у нас этих смыслов, мы не были бы людьми.
Всякую преемственность можно представлять себе по образцу передачи языка; можно, да и должно, так как это помешает нам представлять ее себе слишком упрощенно. Она не есть простое продолжение, продление. Русские говорят по-русски не совсем так, как говорили их деды и даже отцы. С каждым поколением меняется устный язык; письменный более устойчив. Но и продольные сечения обнаруживают различия не слабее поперечных. Люди одного поколения не все говорят одинаково, и не все обладают тем же запасом слов. Спокон веку детям пекарей знакомы многие слова и речения, не знакомые детям мясников, и наоборот. Такие вариации бесчисленны, но и очень различны по значению. Преемственность не являет собой чего-то сплошного, однородного; она состоит из множества не без труда уживающихся между собой традиций или преданий; и не исключает она обновлений и перемен, а напротив требует их, ими живет. Она предполагает усвоение новым поколением того, что ему передается, а значит, и обновление, хотя бы частичное, переданного; но предполагает она все же и непрерывность этой передачи, непрерывное наследование меняющегося наследия.
Вещественное наследство переходит к сыну после смерти отца. Духовное наследство переходит к новому поколению еще при жизни двух или трех предыдущих поколений. Передача совершается беспрерывно, хоть и неравномерно, и не на одних прямых путях, но и на обходных, сплошь и рядом, например, от дедов к внукам, минуя отцов, а то и от прадедов к правнукам. Каждое поколение оценивает полученное по-новому и принимает лишь часть того, что ему передается; но то, чего не принял сын, примет, может быть, внук; то, чем многие поколения пренебрегали, что казалось забытым навсегда, все-таки порою воскресает, вновь оказывается нужным и становится любимым. Овеществленное духовное наследство хранится в библиотеках, архивах, музеях и помимо них в том, что зовется памятниками искусства и старины, но ни для кого все хранимое одновременно и полностью не оживает, и ожившая его часть — не та же самая для каждого поколения как и (но при другом объеме и характере несходства) для отдельных лиц внутри поколения, к которому они принадлежат.
Так бывает при «нормальном», т. е. более обычном ходе истории. Но когда возникает перебой, когда преемственность сколько-нибудь резко прерывается, тогда и передача наследства или значительных частей его вызывает вопрос. Полного разрыва европейская история не знает. Самым серьезным был тот, что отделил от Древнего мира западное Средневековье и византийско-славянский мир. Непрерывность передачи от поколения к поколению в очень многих областях духовной жизни им была нарушена, и преемственность удалось восстановить лишь многовековой работой, задним числом, и мысленно, нежизненно: древних греков и римлян больше не существует. В дальнейшем такой разрыв не повторился. Даже петербургский период нашей русской истории таким разрывом от московского не отделен, а в прошлом западных народов нет ни одного перелома, по резкости сравнимого с революцией, произведенной Петром. Французская революция отнюдь не обозначила в духовной жизни Франции столь решительного конца и нового начала.
«У нас, — говорит рассказчик в «Запечатленном ангеле» Лескова, — с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела». Сказано это было хорошо, но слишком сильно; подошло бы лучше для нынешних времен. Нельзя, однако, отрицать, что разрыв связи, произведенный Петром, продолжал (все слабее, правда) сказываться и чувствоваться целых двести лет, вплоть до нового разрыва, еще более крутого, символом которого, наряду с переименованием Петербург и перенесением столицы назад в Москву, следует считать переименование самой России — деяние вовсе не обычное. Символам этим соответствует и действительность последних пятидесяти лет, хоть и надлежит сразу же упомянуть, что насильственное набивание мозгов невероятно узкой, плоской и деспотической идеологией не привело — хоть и могло привести — к разрыву совсем уж безоглядному или даже к полному отказу от наследства вроде того, который нынче, на основе той же идеологии, намечается в Китае. Тем не менее преемственность оказалась прерванной еще грубее, чем при Петре, а главное — без всякой компенсации варварства остротой смекалки. Налегли на весла, отточили топоры, но рулевому мешала ненависть ко всему тому необъятному, что звал он поповщиной, как и наивная вера в ту «поповщину», которую он почерпнул из толстой немецкой книги, вышедшей сто лет тому назад. Окно, прорубленное Петром в ту самую сторону, куда необходимо было его прорубить, оказалось заколоченным надолго, и обухами тех же топоров забили наглухо дверь, ведущую ко многому из самого русского и самого ценного в нашем прошлом. О том, что лезвиями их делали, лучше умолчим. На эсэсэсэрском языке это до сих пор зовется «гуманизмом».
Заколачивание окон и дверей может производиться разными способами. Речь идет о духовном наследстве России, (но европейской России, а тем самым и Европы). В его передаче нужно различать три момента — три условия, при отсутствии которых передачи этой нет или она крайне затруднена. Во-первых, сохранность того, в чем наследство овеществлено; во-вторых, доступность этих «вещей», книг, например, или картин, и еще многого другого; в-третьих, свобода выбора и свобода усвоения, после того как картина увидена или книга прочтена, и то, что было вещью, становится нашим духовным достоянием. Эти три ступени можно пояснить примером от обратного: передачи не произойдет, если картина сожжена, если не разрешают ее видеть, если покажут нам ее в таком освещении, окружении или при такой обработке нашего сознания, которые сделают невозможным полное и беспристрастное восприятие ее. Представим себе, что партитура Скрябинского «Прометея» была утрачена или что оркестрам раз навсегда воспрещено было ее исполнять. В обоих случаях мы лишились бы этой частицы нашего музыкального наследства. Но не унаследовал бы ее и тот, кто единственный раз слышал «Прометея» в совершенно неприемлемом фальшивом исполнении, а то и в исполнении корректном, но предназначенном служить подтверждением ретивой пропаганды насчет «декадентской уродливости» этого произведения. Отдельные слушатели, быть может, и не поверили бы пропаганде; но их было бы очень мало, если бы пропаганда велась годами в государственном масштабе. Когда при Гитлере была устроена выставка изъятых из музеев произведений «выродившегося искусства», посетители выставки, за немногими исключениями, послушно их высмеивали, и от этой части своего немецкого (или общеевропейского) наследства — картины затем увезли для распродажи в Швейцарию — с легким сердцем отреклись.
К заграничным или вымышленным примерам нам, однако, вовсе и незачем прибегать. На недавнюю выставку акварелей в Третьяковской галерее попали из ее недоступных публике запасов две акварели Шагала. Их тотчас велено было убрать и вернуть туда, где хранятся другие произведения того же мастера и многих других мастеров, знакомство с которыми не разрешается начальством. Лучше, конечно, картины прятать, чем сжигать, как это тоже делалось при Гитлере; лучше также, чем сжигать, продавать их за границу (как были проданы при Сталине две трети лучших холстов Эрмитажа) или обменивать иконы (не очень старинные и замечательные, но иконы) на итальянские пиджаки, как это делал, даже по сошествии с престола, один из преемников торговца Тицианами и Рафаэлями. Но если уж стать на точку зрения начальства, недовольного «поповщиной», то следует признать, что всего проще и верней избавляет нас от наследства его материальное уничтожение; то самое, которому подверглись у нас четыре сотни старинных большей частью церковных зданий, в одной Москве, и около девяноста процентов всего нашего девятисотлетнего церковного и монастырского зодчества. Подсчеты эти произведены не нами здесь, а русскими — к чести их будь это сказано, — все еще русскими людьми, в России. Не начальственными, о нет! Эти продолжают помнить о том, как весело горят иконы да церкви, особенно деревянные. Свезли в Кижи полдюжины безыконных церквей, чтобы от других через год головешки не осталось, и воспитанников своих сворой туда пустили, как и на Соловки, где один такой прошедший учебу малый из ружья стал палить в колокола: пусть, мол, звенят, если звонить им на Руси не велено, — а другие — надписи выцарапывать, фрески соскабливать, рамы высаживать, окна вышибать. Щусев, говорят, на коленях молил в свое время пощадить Симонов монастырь. Ишь, что вздумал; да пропади он пропадом! Чего же лучшего вся эта поповская рухлядь заслужила?
Знаем, знаем, путеводители публикуют, и прехорошенькие. Второе издание Владимиро-Суздальского в Финляндии напечатали (в СССР за пятьдесят лет не совсем еще научились) — любо-дорого смотреть. Для Интуриста старались; недаром слух о том пошел, что некий, нарицательный, вероятно, Ротшильд, посетив Суздаль, воскликнул: «Дайте мне этот город, хоть на два года, и я в два года удвою состояние». Думаем, что удвоил бы он капитал за второй год, если бы первый употребил на необходимые работы. Путеводитель помечен 1965-м годом, составлен превосходным знатоком, но насчет плачевной судьбы Рождественского собора там не сказано ни слова, тогда как в том же году и в «Огоньке», и в «Литературной газете» появились статьи, где сообщается, что решетки в соборе заржавели, окна выбиты, все покрыто толстым слоем пыли и что росписи его приближаются к полной гибели. Хорошо, что статьи эти — русских, не по фамилиям одним, авторов, — были написаны и даже напечатаны. Хочется авторам этим, чтобы храм не погиб; да и чужеземный богатей произвел бы, несомненно, починки, хотя бы для того, чтобы «удвоить состояние». Но начальственные лица богатеют и без починок, а духом, к тому же обитают или понуждаются обитать не в России, а в Союзе Республик, которому, по замыслу его, по намерению этого замысла, советы и социализм (как они его понимают) – дело, а Россия ли или Патагония, все одно.
Итак, сомнения нет: жечь, разрушать, давать разрушаться всего проще. Но почему-то сжигать книги — или, скажем картины — считается неприличным, более неприличным, чем уничтожать церкви или монастыри. Да и всякому ясно, что костры такого рода излишни: чтобы лишить людей наследства, совершенно достаточно воспрещение доступа к нему. Такие запреты существовали у нас и раньше, но в размерах ничтожных сравнительно с положением вещей, установленным Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Нынче они практикуются немножко менее резво, но «в основном» (как пишут через каждые две строчки сыны этой Революции) «являются» (как привыкли говорить они же) не отмененными по сей день. За полвека не была переиздана ни одна книга дореволюционных наших мыслителей; издавались или переиздавались только такие мнимо-философские или околофилософские книги, авторов которых никто на свете мыслителями не считает. Владимир Соловьев? Само это имя встречается разве что – с ярлыком, вроде бубнового туза на спине, — в энциклопедиях и лжеисторических обзорах, да еще в комментариях к произведениям Блока и весьма неохотно издаваемого Андрея Белого. Федоров, Бухарев, Страхов, Несмелое, оба Трубецких, Флоренский, Лопатин? Запретные имена. Чаадаев, Хомяков, Самарин, Леонтьев, Розанов? Слыхали (а то и не слыхали). Не знаем. Читать не велено. Были тома «Литературного наследства», куда попали Леонтьев и Чаадаев, но это их еще в настоящее наследство не включает. Где книги Гершензона о том же Чаадаеве, о Печерине, где другие превосходные его книги (да и без «является» написанные); где книги всех перечисленных отнюдь не олухов, как признавали всегда («в основном») и злейшие их врага? Знаем, не сожжены. Во множестве экземпляров своевременно отправлены «Международной книгой» за границу; остальное бдительно хранится в библиотеках, бдительно в том смысле, что для чтения выдается лишь благонадежным, строго проверенным читателям. Все это приобщено к опечатанной части имущества; доступно лишь тем, кто обязался в это наследство не вступать.
В 1922 году, по велению дикарей, чего-то устыдившихся или пресыщенных людоедством, было выслано за границу сто с лишним выдающихся русских мыслителей, ученых и писателей — интеллигентишек этаких вроде Булгакова, Бердяева, Лосского, Франка, Вышеславцева, Ремизова, Муратова, от которых всего можно было ожидать, кроме рукоплесканий Дзержинским да Менжинским, или (в другом плане) виршам Демьяна Бедного. Все написанное ими после высылки, как и все напечатанное до нее, присоединилось все к тому же золотому запасу, объявленному оловянным, но так или иначе не поступающему в обращение. Его полный инвентарь любопытно было бы опубликовать. Дискриминации подверглась вся наша прежняя литература, что отнюдь не мешает всю ее ежедневно провозглашать самой что ни на есть «нашей», родной, несравненной и драгоценной. Даже Достоевского долгое время не издавали; «Бесов» вне полного собрания сочинений не печатают и теперь. «Дневник писателя» только еще обещают напечатать в предстоящем «полном собрании», вдали от «масс». А отдельно? Достаньте-ка «Исповедь» Толстого! Думаю, что в отдельном издании и «Смерть Ивана Ильича» достать будет трудновато. Не знаю, как нынче, но еще недавно тексты наших столь прославляемых классиков подвергались к тому же и чистке: фальсификации путем пропусков. Приведу лишь один пример. Всем известно, что актеров и актрис лучше наших, советских, или хотя бы и русских, никогда и нигде на свете не было. Поэтому, если Чехов забылся в телячьем восторге и написал из Парижа, что таких актрис, как Сара Бернар, у нас нет, фразу эту необходимо из письма его вычеркнуть, что и было сделано в наиполнейшем издании его сочинений и писем. (Это и другое в том же роде путем сличений выяснил Г. П. Струве.) Обычный способ лишения наследства путем фальсификации его заключается, однако, не в пропусках, а в пояснениях. Для этого служат предисловия и примечания, где наряду с полезными сведениями и дельными мыслями, а также святоотеческими цитатами (из «классиков марксизма») и переводом иностранных слов (вплоть до «мерси» или «пардон») даются порой и вовсе неуклюжие перетолкования публикуемых текстов на желательный для начальства лад. Пушкина тридцатых годов полагается изображать таким же единомышленником Рылеева и Пестеля, каким он (до некоторой степени) был лет за десять или пятнадцать до того; задача нелегкая, но от посильного выполнения которой не избавлялись до сих пор даже исследователи столь одаренные и, в пределах дозволенного, добросовестные, как покойный Томашевский. Без передержек или, в лучшем случае, замалчиваний такое перекрашивание обойтись не может, но неискушенный читатель редко бывает способен их заметить и пушкинское свое наследство получает лишь отчасти в червонцах, отчасти же в ассигнациях, подправленных красным карандашом. Также и толстовское. Толстой был под старость проповедником внецерковной религиозной морали, но по мнению величайшего и даже единственного вероучителя нынешней России, того, чьим мощам поклоняются у стен Кремля, проповедь эта — такая же «поповщина» (хоть и без попов), как православный катехизис или философия всех, кроме некоторых антифилософских, философов. Надлежит поэтому религиозную, или хотя бы лишь нравственную эту проповедь изображать социально и политически революционной, то есть выворачивать ее наизнанку: производное и второстепенное делать в ней главным, главное же — второстепенным, а то и вовсе не заслуживающим внимания. Этим и занимаются по команд как ничтожные писаки, так и превосходные ученые вроде покойного Эйхенбаума, которого заставили-таки на склоне лет прикладываться к мощам и ссылаться в истолковании Толстого на священнейшее из писаний. Те же, кто по части учености остались на задворках, даже и в «Крейцеровой сонате» (добро бы в «Воскресении») находят «социально-обличительный пафос» (см. Собрание сочинений, 1953» Т. 12. С. 304). — Нет вообще ни одного нашего крупного писателя, которого не пытались бы приспособить для приготовительного класса партийно-приходских школ и набальзамировать так, чтобы тем же благоуханием он благоухал, каким благоухает мавзолей на Красной площади.
Кроме уничтожения, сокрытия и порчи наследства, существует, наконец, и еще один способ передачу его затруднить и сделать ее с точки зрения начальства менее опасной. Казалось бы изъятие из обихода стольких досоветских авторов должно было бы наше литературное наследство сильно обеднить. Так оно и есть; но в отношении качества, отнюдь не количества. «Классиков» у нас теперь куда больше, чем прежде, причем я имею в виду не тех, что от марксизма (их стало меньше на один номер), а всевозможных «направленцев», писавших, хоть и кое-как, но по-русски, и причисляемых к «революционным демократам» (или демократическим революционерам). Очень серые сочинения образуют почтенного вида многотомные собрания сочинений. Герцен, Тургенев — прекрасно; а Глеб Успенский, ишь ты сколько написал! Златовратский, Решетников, это и в самом деле наша «великая русская литература»? Такое заваливание хорошего плохим, или никаким, практикуется всего усердней в области стихотворной, где запретов немного, кроме как в отношении начала нашего столетия (да и тут — как будто Сологуба, Гиппиус, Кузмина, Гумилева, Ходасевича, Волошина собираются читателю всех в одной миске и каждого по столовой ложке выдать к празднику). Выдадут ли еще? Неизвестно. Запретов немного, но зато в антологиях и в «Библиотеке поэта» на одну доску поставлены Михайлов и Тютчев, Якубович-Мелынин и Фет, а только что названные пять или шесть поэтов займут все вместе, да еще, кажется, с Бальмонтом и Вячеславом Ивановым, в «Библиотеке» этой один том, потоньше, боюсь, чем тот, что в ней занял единолично Курочкин. Конечно, оценка отдельных писателей или поэтов переменчива и споры о ней в некоторых границах всегда возможны. Но изменение вкусов, чередование литературных школ — одно; навязывание литературе (и чему бы то ни было) неподвижной идеологией выработанных мерил — совсем другое. В том-то и беда, что наследство, даже и не спрятанное, мертвеет, когда у новых поколений отнимают право выбирать в нем то, что им нужно, и это выбранное оценивать по-новому.
Такую работу совершают не историки литературы, а писатели и критики; в России не совершает ее никто. Исследователи нашего прошлого, и не одного литературного, работают весьма успешно — не только по розыску материалов и публикации их, но и по их истолкованию и даже критической оценке, поскольку дело касается времен отдаленных, особенно литературы и искусства Древней Руси. Но в отношении наиболее нам близкой литературы последних двух веков все оценки либо остались на старых своих местах, там же, где были в 1925-м, скажем, году, либо изменились по требованию не жизни и не живой мысли, а остановившейся, законсервированной мысли — идеологии. Эти изменения дальше не меняются, да и совсем другое значат; живых не могут заменить. Историки же о неодинаковом качестве икон Рублева (или его школы) рассуждают охотно и толково, но сказать, что такое-то стихотворение Пушкина далеко не так совершенно, как другое, отказываются наотрез. Предположим, что это не их дело, как теперь многие думают (без достаточных оснований) и на Западе; но не делает этого дела у нас и никто другой. Никто не решается даже и подтвердить или опровергнуть отзыв Толстого о «Воскресении» (которого он и романом не считал): «Все неверно, выдумано, слабо» (дневник, 5 января 1897), или через три года (18 декабря декабря 1899): «Нехорошо. Не поправлено. Поспешно». Никто не осмеливается — но это уже из прямой боязни нагоняя — заново развенчать давно развенчанных Верещагиных и Шишкиных, заявить во всеуслышание, что Репин хуже Серова, или — не дай Бог — что передвижники ни одного мастера не дали, который хоть издали мог бы сравниться с Мане, Ренуаром или Дега. В результате всего этого наследие наше, даже и в доступной и плакатами не сплошь залепленной своей части, остается неунаследованным, неучтенным даже по-настоящему. Его изучают, но не обсуждают; восхваляют огулом, без проверки, заранее готовой шовинистической хвалой. Если спорят (о Достоевском, например), то эти споры в основе своей искривлены, прежде всего идеологией, ни для кого не питательной, но обязательной для всех, а затем и славой имени, которая мешает видеть ребячливость подростка-Лермонтова, слабость очень многого у Некрасова или понять, что Достоевский становится подлинно великим, величайшим нашим писателем, рядом с Толстым, лишь начиная с «Записок из Мертвого дома».
* * *
Есть Россия, куда нынешней России заказаны пути; да и та, куда ей путь открыт, задернута туманною завесой. Редеет этот туман за последние десять лет, приоткрываются даже и запретные дороги, но медленно, очень медленно. Охранники продолжают накладывать печати, мешать общению с Западом и знакомству с русским Зарубежьем, идущим теперь на убыль, но где преемственность в течении полувека оставалась если и обуженной, то не нарушенной, и к повторению пройденного не свелась. Работают, однако, гасители куда менее уверенно, чем прежде. И доверие к ним подорвано. Они выбирают за Россию. Может быть, Россия совсем и не то выберет, что они от нее прячут, но она хочет выбирать сама. Люди ее молодого поколения, поскольку они мыслят, поскольку удается им мыслить вопреки вызубренным из-под палки мнимым истинам, никаких заслонов не одобряют и преемственность всеми силами стремятся восстановить, отлично чувствуя, что это одновременно европейская и русская преемственность. Но есть, кроме домашних препон, кроме идеологического мракобесия еще и другое огромное препятствие на их пути, которое лишь немногие из них отчетливо различают.
Повсюду в мире, и в Советском Союзе, как везде, воцаряется все решительнее с каждым годом та научно-техническая цивилизация, которая хоть и выросла из прежней европейской цивилизации-культуры, но все ясней отделяется и отрекается от нее, преемственной связи с ней не отрицая, но истолковывая эту связь по образцу прогресса науки и техники. Были, мол, Данты и Шекспиры, но ведь не на телеге я поеду на Луну; на что мне самострелы и пищали при термоядерных моих подвигах? Так думают многие и в нынешней России, среди технократических, как и политических ее хозяев, причем эти последние не понимают, что идеология их, с точки зрения науки, порождающей всю эту технику, не то чтобы ложна, а попросту бессмысленна, как бессмысленно все, что недоказуемо вычислением или экспериментом, кроме, разумеется, хорошо засвидетельствованных фактов, которые, однако, лишь потому не бессмысленны, что нет никакого смысла говорить о их смысле. Науку и технику устранить нельзя; нужное им мышление рано или поздно идеологию отметет как заведомую чепуху (для него девять десятых «Капитала», т. е. все, кроме фактов, — такая же «поповщина» как девять десятых Библии); но жить этой технико-научной мыслью человек не может, не превратившись в электронную машину. Противопоставить же этой мысли нечто не сплошь рассудочное, но разумное, высокое, достойное человека и необходимое ему, если он хочет остаться человеком, возможно только на пути восстановления преемственности. Общеевропейской, греко-христианской преемственности, но для русских, конечно, в русском истолковании ее и облике. Да, быть может, и для многих других то, в чем уже видят порой и они самое сокровенное сокровище России, послужит исцелением от горчайших нынешних отрав. Если только мы сами найдем дорогу к нему. Если мы его поймем и к нему вернемся…
Нелегко изъяснить, в чем оно состоит. Почувствовав легче. Есть слова, которые могут к этому чувству, и, пожалуй, не к одному лишь чувству, привести. Попробуем вслушаться в них.
И ПОЛНЫЕ СВЯТЫНИ СЛОВЕСА
…греческая древность осмеяна,
святыня обоих Заветов обругана.
Пушкин
Нет ничего банальнее, чем суждения о прежней нашей литературе, существо ее усматривающие в проповедовании гуманности, человечности, любви к ближнему, сострадания к нему. Одинаково банальны они — и притом издавна — и на Западе, и у нас; только повторяют их на Западе реже, потому что боятся банальности сильней. До того боятся, что не отличают банального от ложного, и если не видят возможности банальность опровергнуть, хранят на ее счет самолюбивое молчание. Такое правило поведения к истине, однако, не ведет, и считать его общеобязательным было бы малодушно. Да и не может быть нам все равно, верны ли те суждения или нет. Разумнее будет присмотреться к ним поближе.
Литература, конечно, не проповедь, хотя проповедь из литературы не исключена и хотя нередко именно у нас литература в проповедь переходила. Но незачем и утверждать, что для русской литературы характерно проповедование чего бы то ни было. Достаточно указать на черту, которую мы в сердце, в глубине ее, и многое другое русское находим, — даже и там или по преимуществам, где она вовсе не становится предметом нарочитых поздравлений или нравоучений. И потом — какая же это, собственно, черта? Не без намерения привел я четыре разных ее имени. Которое из них ее именует всего точней?
«Гуманность» и «человечность», по буквальному смыслу этих слов, должны и могут значить то же самое. Но «гуманность» отвлеченней и прохладней по той же причине, по которой «филантроп» холодней и отвлеченней, чем «человеколюбец». Еще холоднее «гуманности» — «гуманизм», оттого, что и сам суффикс этого слова иностранный. Вот почему постоянное применение его в нынешней России вместо «гуманности» или «человечности» не только создает безобразную путаницу с другим его смыслом (тем, который, например, Блок ему придавал, когда писал о «Кризисе гуманизма»), но и внушает мысль о подмене человечности чем-то весьма отдаленно на нее похожим. Однако и сама «человечность» — слово хоть и безупречное, но слишком расплывчатое, и для разговора о своеобразии чего бы тони было мало пригодное. Недостаточно прочно прикрепляется оно к своему более узкому смыслу «любовь к человеку», а если бы и прикрепилось, этого было бы мало, так как оставалось бы неясным, обращена ли любовь эта к живому, «вот этому» человеку или к человеку «вообще», предмету науки о народонаселении и о размножении человеческого рода. Другое дело — «любовь к ближнему». В евангельской заповеди о ней отчетливо имеется в виду любовь — и, конечно, праведная, бескорыстная любовь, — к людям, с которыми соприкасаемся мы в жизни; не к одним тем, кого зовем мы близкими, но, разумеется, и к ним; и притом деятельная, в поступках воплощенная, жертвенная, если нужно, любовь Евангелие же, однако, и выделяет в этой любви первенствующую, самую необходимую: любовь к «страждущим и обремененным». Она зовется состраданием. На этом слове, если мы о наследии русской литературы, о наследии России помышляем, нам и следует прежде всего остановиться.
Не то чтобы оно было одним из тех непереводимых слов, какими богат наш язык — вроде как «простор», например, или «подвох». Будь оно таким, оно вряд ли могло бы нечто очень важное обозначать в составе наследия, открытого всему миру. Оно само — перевод или, как выражаются лингвисты, словообразовательная калька того греческого слова «симпатия», которое и в переводах, и в оригинале перешло едва ли не во все европейские языки, как раз в переводах сохраняя (хоть и не всегда: немецкое «Mitleid» значит не более чем «жалость») силу и глубину; тогда как «симпатия» повсюду означает нечто более поверхностное, разжиженное. Быть может, для русских и характерна привычка делить людей на симпатичных и несимпатичных и чаще других европейцев к таким оценкам прибегать; но как бы то ни было, «страдание» из «симпатии» выветрилось. Зато в слове «сострадание» оно сохранилось, и притом яснее в этом русском, чем во всех западных переводах, зависимых от латыни. Позднелатинское passio, перейдя в новые языки, стало значить «страсть», хоть и возникло для обозначения страданий Спасителя, «страстей Христовых», к которым сострадание, в общехристианском первоначальном понимании своем, именно и обращено. Сострадание к человеку проистекает из сострадания к Богочеловеку; оно и в человеке сострадает тому высокому, божескому, что страдает в нем. Этим и положено основание его отличию от жалости. Жалость может сочетаться с презрением, сострадание — не может. Сострадание требует, жалость — не требует любви.
Итак, не гуманность, не человечность, даже и не просто любовь к людям, а в сострадание вложенная любовь… Пусть так, но разве далеко мы ушли этим путем от банальности, в которой намеревались разобраться? Разве не говорилось уже давным-давно, в первой же серьезной французской книге, посвященной русской литературе, — «Русский роман» Мельхиора де Вогюэ (1886) — о «религии страдания», у Достоевского прежде всего, но характерной, по мнению автора, и вообще для русских писателей его века? Да и кроме того, религия страдания, или сострадания, что, конечно, то же самое, это ведь просто-напросто христианство, а если так, то почему же мы надеемся вывести отсюда нечто особливо русское, в наследии России живущее, светящееся как бы сквозь него? Что ж, за оригинальностью мы не гонимся, примыкаем к традиции; к ней и Вогюэ в свое время через русские чтения и русских друзей своих примкнул; думаем только, что в преподанном ею необходимо выделить исконное ядро, уже тогда затуманенное, а в наши дни и совсем растворившееся в чем-то сомнительном и зыбком. Если удастся это, то и выяснится, быть может, что Россия прошлого века сохранила и впрямь нечто уже исчезавшее «на древнем Западе, стране святых чудес». Сколько было сказано лишнего на эту тему, неверного, да и невежественного, шапками-закидательного, квасного! А все–таки, может быть, крупица правды в этом и была.
Один из русских осведомителей Вогюэ, старый литератор (Григорович, вероятно), сказал ему: «Все мы вышли из гоголевской "Шинели"». Очень это понравилось; повторялось другими, как и самим Вогюэ (на открытии памятника Гоголю); но правильней было бы, в этой «сострадательной» связи, ссылаться не на «Шинель», а на «Станционного смотрителя». «Вникнем во все это хорошенько, — говорит Иван Петрович Белкин, — и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием». Имеет он в виду незавидную смотрительскую службу вообще, но подходят его слова и к содержанию рассказа. Недаром Макар Алексеевич Девушкин в «Бедных людях» с таким восторгом читает этот рассказ и так отрицательно отзывается о «Шинели», где есть одна-единственная, да и то скорей «гуманная», чем жалостливая тирада, но где всем остальным, о Башмачкине сказанным, посажен мелкий жучок под стекло и приколот энтомологической булавкой. Никаких тирад у Пушкина нет и никакой нарочитости ни здесь, ни в похвале Ломоносову за то, что был он «деятельно сострадателен», ни в срединных строчках стихотворения «Румяный критик мой…», где все лучшее у столь нарочитого Некрасова предвосхищено; да и не изобретал он ничего нового, когда — весьма часто, в тридцатых годах, — чувствовал так и писал; но все-таки именно у него, в эти годы, прорывается всего непосредственней, проще, и всего действенней тем самым, вот это, грустное и доброе, «сердобольное», чему вполне точного имени нет, но что знакомо было уже и Древней Руси и не из язычества, конечно, выросло. Как это очень русское не описывай, не определяй, оно все-таки лишь особый оттенок общехристианского завета, выражаемого словами «сострадание» и «милосердие».
* * *
Второе это слово было Пушкину едва ли не еще дороже. «Милосердие». По буквальному смыслу того, не греческого на этот раз, а латинского, но опять-таки позднего, церковнолатинского слова, которому оно служит переводом, оно могло бы значить то же, что и «сострадание». Misericordia — это обращенность сердца к бедным и несчастным. Словарное определение соответствующего французского слова гласит: «Чувство, при посредстве которого чужая беда (misere) трогает наше сердце». В немецкой кальке, Barmherzigkeit, первый слог точно так же говорит о бедности или беде (начальная согласная к его смыслу отношения не имеет). Но не из классической и не из бытовой латыни это слово идет, не сострадание человека имеет первоначально в виду, но сострадание Бога в ответ на молитву Miserere (как в пятидесятом псалме: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей»); сострадание, обращенное не просто к страждущему, но к виновному, кающемуся, грешному человеку (в псалме о прощении молит тяжело согрешивший царь Давид). Вследствие этого понятие милосердия содержит две к состраданию прибавленные черты: это сострадание «милостивое», прощающее, обращенное к тому или тем, кто прощения ищет или, не ища, нуждается в нем, и это сострадание, не только деятельное, но и наделенное могуществом, — силою простить, силою помочь. Милосердие есть высокая жалость и милость к «падшим». Так именно в работе над стихами, где Пушкин подводил итог своему жизненному делу, он это слово в полном его смысле и раскрыл.
В четвертой строфе этого стихотворения, точнейшим образом следуя не мыслям, но ходу мыслей в «Памятнике» Державина, он перечисляет свои заслуги и высшую называет последней (кроме плана, сохранил он количество строф и размер, с той лишь разницей, что укоротил на две стопы последний стих каждого четверостишия) Державин высшее свое полагал в том, чтобы «истину царям с улыбкой говорить»; Пушкин — в том, что призывал (царей или царя — это осталось, однако, невысказанным) к милосердию. Он написал было «И милосердие воспел» но потом себя исправил. Не просто ведь он милосердие воспел или воспевал, не просто «восславил» его, как «восславил» он «свободу»: он именно к нему призывал (не раз и не два), он «милость к падшим призывал». «К падшим» – это значит, не отрицая их вины, что уже заключалось и в «милосердии», но теперь оказалось выраженным еще яснее. Напрасно подневольные комментаторы толкуют слово «падшие» так, как если бы оно приближалось здесь по значению к «павшим в бореньи» или «на поле битвы» (см. Словарь языка Пушкина Академии Наук. Т. III. С. 281): на что же тогда борцам этим милость, достаточно было бы и жалости. Лучше бы вспомнили написанное тогда же переложение молитвы Ефрема Сирина,
… которую священник повторяет Во дни печальные Великого поста; Всех чаще мне она приходит на уста И падшего крепит неведомою силой,или — не для слова, а дня сути дела — «Пир Петра Первого»:
Нет! Он с подданным мирится; Виноватому вину Отпуская, веселится; Кружку пенит с ним одну; И в чело его целует, Светел сердцем и лицом; И прощенье торжествует, Как победу над врагом.Не было бы прощения, если нечего было бы прощать. И милосердие — это не просто заповедь, противоположная той, о которой далее будет речь, — «падающего еще толкни»; оно не падающего и не упавшего милует, а падшего. Оно — не сострадание только, но и отпущение вины.
Если о милосердии, однако (в смысле милости к «падшим»), не всегда уместно говорить, если себя считать — или хотя бы желать быть — «милостивым» простому смертному и вовсе не подобает, то это не потому, что милость предполагает вину (для христианского сознания не существует «ближнего», который был бы вовсе невинен и безгрешен), а потому, что ожидать милосердия мы можем от всех (хоть и от них одних), кто в силах его оказать, но милость — лишь от тех, кто поставлен или кого мы сами ставим выше нас самих. У кого нет права — или хотя бы лишь власти — казнить, у того и возможности нет миловать, тому остается лишь милость призывать, а в себе искать жалости, прощения, сострадания, любви. Этому и учит учение, которому и теперь следуют иные по мере сил, даже из тех, кто отвергли его основы, даже из тех, кто ни о них, ни о нем ничего не слышали. Этому вместе с Пушкиным учит и почти вся русская литература прошлого столетия. Через полгода после его смерти, накануне больших в ней перемен, Белинский писал Бакунину (10 августа 1837) о том, что делит человечество «на два класса — на людей с зародышем любви и людей, лишенных этого зародыша»; как видим, это еще не совсем учение о классовой борьбе. Достоевскому, Толстому и многим другим казалось — не без основания казалось — что зародыш этот, что способность сострадания и прощения живет в очень многих простых русских людях, пусть и неграмотных, пусть и весьма грешных, пусть и преступных. Казалось даже, что сострадание и прощение дороже им, ближе их сердцу, чем сама справедливость; и даже сердцу некоторых бар. О своей княжне Марье Толстой говорит. «Княжна никогда не думала об этом гордом слове справедливость». О чем же она «думала»? Она испытывала жалость. Это первая ступень Но ведь жалость совместима с презрением? Княжна Марья это знает и страшится этого; ищет высшей жалости, благочестивой, той, что в средневековой латыни и по-итальянски сливается с благочестием в общем для них имени (pietas, pieta; по-французски оно раздвоилось на piete и pitie), той, что по-русски зовется состраданием.
«Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества». Устами князя Мышкина это говорит Достоевский. Не из Швейцарии князь это вывез; и не он один, не один Достоевский это говорит. Много позже, в 1911 году, Розанов с полным правом мог написать: «Ницше почтили потому, что он был немец и притом страдающий (болезнь). Но если бы русский и от себя затворил в духе: "падающего еще толкни "», — его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать». Но чем же внушается этот единодушный приговор над отказом от сострадания (к которому более чем упрощенно сводится тут весь Ницше), эта любовь к состраданию, свойственная, я уверен, и теперь большинству русских, даже и всяческого ныне возможного звания и состояния? Уж конечно не «филантропическим пантеизмом», который Леонтьев приписывал князю Андрею из «Войны и мира» и которого княжне Марье он не мог бы приписать. Не «женевскими идеями», названными так Версиловым в «Подростке», о «добродетели без Христа», о любви (или, верней, о претензии любви) к умопостигаемому, в нашу дверь не стучащемуся «общечеловеку». В «Дневнике писателя» о ней сказано (1873): «Любить общечеловека значит наверно уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека». «Женевские идеи» проистекают из протестантизмом истолкованного христианского завета любви, но подменяют христианскую, еще и в протестантизме живую веру в священность каждого лица и несоизмеримость его с другими лицами доктриной о равноценности и одинаковой врожденной безгрешности – по Руссо — всех экземпляров человеческой породы; как и соответственно этому сострадание — рассудочной утопией об уничтожении страданий, а совесть, подсказывающую нам, что все перед всеми виноваты, — равнодушным, высокомерным и безответственным учением о том, что никто ни перед кем не виноват. Это все еще «человечность», это, быть может — две капли на стакан воды — все-таки еще и сострадательность. Но прозорливо писал Розанов через год после приведенных только что его слов: «Европейская цивилизация погибнет от сострадательности. (…) Не от сострадательности, а от лже-сострадательности… В каком-то изломе этого». У христиан, писал он, была любовь; «"гуманность" (общества и литературы) и есть ледяная любовь… Смотрите: ледяная сосулька играет на зимнем солнце и кажется алмазом. Вот от этих алмазов и погибнет все».
«Ледяные сосульки» нынче, в «стране святых чудес», так при неоновом освещении и сверкают; но того, каким образом в России «погибнет все», и Розанов в 1912 году представить себе не мог. У нас ведь теперь и сострадательность называют гуманностью, чаще же всего «гуманизмом», без всякого различения — на это уже сама терминология указывает — между состраданием подлинным и ложным, а то и лживым. Когда Владимир Мономах в «Поучении» своем писал: «Человеколюбивый Бог милостив и премилостив», он знал, что значат эти слова. Когда Державин стихи о «Праведном судии» начинал словами: «Я милость воспою и суд», — он тоже знал, что такое милость, да и что такое праведный суд, хоть и не много было в его время у нас добропорядочных судов и судей. Знал и Пушкин, что такое призываемая им милость, хоть и не была она оказана (отчего и назвал он, в предыдущей строке, свой век жестоким). Знал и Достоевский вслед за ними, что сострадание — «закон бытия», хоть и не исполняемый закон, хоть и закон, до конца, быть может, не исполнимый; знал, потому что жил в том же еще мире, что и они, в том же мире, где все мы жили, начиная с Владимира — не Мономаха даже, а первого Владимира, — в том же мире, где жил, например, и современник его, Диккенс, которого почтил он именем «великого христианина». Зато нынче объявляют Мономаха «гуманным» (в хрестоматии отличного знатока древней нашей письменности Гудзия) — за то, вероятно, что призывал он сыновей к «покаянью, слезам и милостыне», а все прочие похвально поминаемые предки для нынешних выкрестов — «гуманисты»; неизвестно с кем во главе; может быть, с Пушкиным (который, по излишку грамотности, себе такого титула никогда бы не присвоил), а может быть, и с милостивым и премилостивым Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, как известно, нежной душой ласкавшим преимущественно детей, — не знаем лишь чьих, детей ли тех, кого ставил он к стенке, или детей «вообще», общечеловеков в детском возрасте.
Высокие слова, почти все, рано или поздно снижаются и ослабевают. Давным-давно мы говорим «помилосердствуй» или «скажи на милость», подобно тому как прощаемся, не зная, что просим прощенья, и бормочем «спасибо» безо всякой мысли о Боге или спасении. О словах же, заменивших высокие, можно, пожалуй, и не жалеть, когда снижают и их, разоблачают их ничтожество и фальшь. Невеликий писатель бывшей земли русской, но как-никак нобелевский якобы и всея Руси лауреат, упавших своих или падших (по его мнению) собратьев с отвратительной грубостью «еще толкнул», на соответствующем съезде заявив, что призывавшие, во спасение их, милость властей предержащих, лишь «прикрывались словами о гуманизме» и что «гуманизм — это отнюдь не слюнтяйство», как хорошо, мол, известно гуманнейшим из гуманных, но без малейшего слюнтяйства приговаривающим к расстрелу военным судам. Насчет «гуманизма», в его и многих понимании, мы теперь, таким образом, осведомлены, — тем более, что ведь это он, проливая слезу над опочившим в полном зверстве хозяином своим, Отцом Народов, назвал его (в «Правде») «человечнейшим из людей». Так умирают слова. Не всем из тех, кто к ним привык, доставила их кончина радость. Не все сказали «спасибо» чумазому их гробовщику. Сказано ему было и другое. Не во всеуслышание, но все же и не на ухо. Не о словах, а о том, что могли бы они значить, и что гораздо ясней означают другие слова, те «полные святыни словеса», которые младенцам некогда внушала
Смиренная, одетая убого, Но видом величавая жена,хотя иной «младенец» уже и тогда «превратно толковал»
Понятный смысл правдивых разговоров,
не извращая, однако, их смысла в пух и прах, полностью их не перевирая. Есть и еще одно такое слово. Нужно и его упомянуть. Но не прежде, чем радость выразив, которую все мы испытали, вдалеке пребывающие, последние, когда узнали, что все-таки сказана была тому безобразнику правда, что не все у нас нынче сплошной СССР, что есть за этими буквами Россия.
* * *
«Благообразия не имеют», говорит старец Макар Иванович в «Подростке», и задевают его слова самого «подростка», повторяет и он: «У них нет благообразия», хочет благообразия искать. Да и не один Достоевский церковное и народное это слово услышал и воплощение его смысла в образе своего старца увидал. До него, в «Войне и мире», Толстой о Платоне Каратаеве молвил: «В его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия».
Что же это такое, благообразие? Если верить академическому «Словарю современного русского литературного языка», — «приятная внешность». А «благообразный»? «Имеющий привлекательную наружность, приличный, приятный на вид». Тут же указано, что слово это устарело. Но ведь устарелые слова лучше других сохраняют свое значение. И если современный русский читатель решит, что старец Макар Иванович хлопочет всего лишь о приятной внешности, а Платон Каратаев понравился Пьеру и Толстому тем, что «самым простым событиям» в рассказе о них придавал некое, «торжественное» почему-то, приличие и такую же приятность, то придется ему насчет Академии Наук почесать затылок да и подумать, пожалуй зная, сколь охотно цитирует она в этом издании своем и Достоевского, и Толстого, что действует эта почтенная – или, быть может, лишь полупочтенная дама без всякого благообразия. Как, увы, и «Русско-английский словарь» Смирницкого, где благообразие рекомендуется понимать как comeliness. Бедные англичане и американцы! Много они доймут в нашей литературе, если примут того Макара и этого Платона за каких-то фатов, или франтов, озабоченных лишь «привлекательной наружностью». Что и говорить, перевести это слово нелегко; как и другие греками нам завещанные слова — благочестие, благоговение, благолепие, — оно на западные языки, в сущности, не переводимо. Можно такие слова пояснить, на смысл их навести (но, конечно, не путем фальшивого их перевода). Дело это не безнадежное: Запад тоже Греции внук, но при другом отце; однако слов, в точности соответствующих этим словам, не по составу только, но и по смыслу, на его языках нет. Этой своей особливостью, греческою русскостью они и требуют нашего внимания. Они Россию, оторванную Петром от немалых сокровищ своего прошлого, связывают с Древней Русью, а через нее с Византией, а через Византию с Древней Грецией. «Благообразие» — едва ли не самое знаменательное из них. Недаром привлекло оно взгляд как Достоевского, так и Толстого. Позволительно видеть в нем ключ, один из драгоценнейших ключей к еще не осознанному Западом и пренебрегаемому Россией наследию России.
В благообразии есть и внешняя сторона. Старец из крестьян Макар Иванович и солдатик-мужичок Платон Каратаев были, каждый по-своему, и внешне благообразий хоть и не так, чтобы внешность их просто-напросто можно было назвать «приличной», «приятной» или «привлек тельной». Но не в их внешности дело, и сами они (в этом отчасти их благообразие и состоит) вовсе о ней не думают. Видимое благообразие для них, как и в облике их – лишь сияние невидимого духовного и душевного; а оно само — не что иное как нераздельное слияние добра и красоты, оттого и проступающее наружу, что красота, в последней своей сути, ничем другим и не может быть как излучением добра. Ничего нет прекрасного для них, как и в облике их, что тем самым не было бы добрым, и ничего доброго, что не сияло бы красой. В этой неразрывности, в этом отказе от разрыва и состоит та основа духовной жизни, из которой выросло все то в нашем прошлом, о чем всего крепче мы, как и другие, чувствуем, что оно — наше.
Основу эту создали не мы. Мы получили ее от греков вместе с христианством, полученным от них. Напрасно было сказано (Вейнингером) о нас, что мы самый негреческий из всех народов. Мы только самый немраморный, неолимпийский, и в этом смысле наименее языческий. Греки не статуи одни создали; они создали иконы и саму их идею; да и в статуях было предвестие икон, а не одних только гипсовых «антиков». Греческий язык никогда отчетливо не отделял добра от красоты, и еще Платон не во всем и не до конца их разделяет. К этому стремился современник его, софист Продик, положив начало тем бесчисленным усилиям мысли, в результате которых эти, как и многие, понятия уточнились, заострились, но и обособились до такой степени, что породили пуритан, чурающихся искусства, наряду с пуританами эстетики, отвергающими нравственность. Мы от греков переняли нашу разумную безрассудность или от них разрешение получили надолго ее сохранить. В переведенной с греческого Книге Бытия Творец, созерцая творение свое, говорит о нем: «добро зело», или по-русски: «хорошо весьма», что в обоих случаях означает похвалу красоте, но при полной невозможности для нас помыслить эту красоту злою. «Доброта» значило некогда «красота»; древнерусское житие св. Февронии повествует о «неизреченной добро те» не ее сердца, но ее лица (как это отметил давно уже отец Павел Флоренский). И столь же двойственным — вернее, обоюдным — остается даже и доселе слово «хороший».
Мы говорим «он хорош собой», и лишь для очень недогадливых и неискушенных по части языка читателей
Онегин, я тогда моложе, Я лучше, кажется, была, —может означать, что в юности Татьяна была добродетельней или добрей, чем после замужества. Верно, однако и то, что Пушкин не мог не чувствовать красоту Татьяны доброй и что Феврония сердцем была столь же прекрасно добра, как и лицом. Не в смешениях и смещениях смысла дело, не в словах, а в том, что затаено под ними, в глубине, у корней Слова. Благого образа взыскую. Недоброй красы не хочу. Не хочу, да и не вижу добра, если не теплится оно, пусть и неярко, да тепло, как свеча перед иконой. Так мыслит язык, для которого крестьяне — христиане, и который палку поперек палки — крест — именует именем Христа.
Что и говорить, рассудок давно вступил в свои права, памятуя не о смыслах, а о пользах. Слова для него — разменная монета, и, решая крестословицу, никто не помышляет о кресте. Но в глубине совести — о, разумеется не чистой, – что-то все же шевелится, благодаря чему в раскрещенной России удачное это словечко заменили низколобо украденным «кроссвордом», а крест после имени покойника – черною рамкой, намекая, надо полагать, на тюремное окно. Да и все эти мысли, некогда вложенные в слова, — конечно, все они не протокол, а постулат, не дважды два — четыре, а вера — вера и надежда, вера и любовь. «Удивительное дело, — восклицает Позднышев в «Крейцеровой сонате», – какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не слышишь глупости, а слышишь умное. Она говорит, делает гадости, а ты видишь что-то милое…» Но ведь слышишь и видишь ты это, потому что ты влюблен и потому что влюбленность твоя приподнялась до любви, иллюзорно осуществившей требуемую ею нераздельность. Если не приподнялась бы, не создалось бы иллюзии, не было бы и надобности в ней. В требовании этом, а не в иллюзии все дело. Толстой ведь и сам, хоть и писал: «Добро не имеет ничего общего с красотой» (думая об искусстве, в книге «Что такое искусство?»), все-таки всю жизнь прожил в этом отказе отделясь добро от красоты. Все заблуждения его насчет искусства и многого другого связаны с этим, но и все величие, как и вся правда, что и в заблуждениях сквозит. Позднышеву он сам мог сказать, да в сущности уже и сказал: красива, быть может, красавица твоя, да неблагообразна; не той красотой хороша, несовместимы с которой гадости и глупости. А Достоевский, если б дожил до «Крейцеровой соната», подумал бы, припоминая слова Шатова в «Бесах»: нет, если «мир спасет красота», то не эта красота. И, быть может, пришла бы ему на ум утреня Великой Субботы, где, обращаясь ко Христу, поют: «Ад умертвил еси блистанием Божества».
И страданием Божества. Не эта ли в страдании обретенная, страданием просветленная красота спасает мир? Не она ли ад умерщвляет в душах наших? Так, даже не зная о том, верила Россия. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». В этом было сокровище ее. В этом самая сокровенная сердцевина ее наследия. Оттого и не хотела она красоты, не осиянной добром, оттого искала и в добре того побеждающего смерть блистания. Оттого и готова была, вместе с Раскольниковым, как и вновь будет готова, если обретет наследие свое, «всему страданию человеческому» поклониться. Как он в земном поклоне перед Сонечкой, так и она перед всем, что было замучено и поругано за долгие эти годы, в земном поклоне страданию безымянной нашей страны и состраданию к ней, которое в Сонечке было, по слову Достоевского, но верю, что не в ней одной есть и будет — ненасытимым .
РАЗГОВОР О БАХВАЛЬСТВЕ
— Отчего это ваши соотечественники, — говорил мне как-то, не так давно, старик-француз, бывавший в России и хорошо понимающий по-русски. — Отчего это ваши соотечественники так склонны к самовосхвалению, к хвастовству, к тому, что так метко называется у вас — ах, как богат, как великолепен ваш язык, — бахвальством? Не то чтобы к индивидуальному бахвальству, этого я не замечал, а к собирательному, коллективному, к такому, которое говорит не «я», «мое», а «мы», «наше». На поверку это ведь сводится к тому же самому: «я» — составная часть этого «мы», «мое» — составная часть этого «наше». Если я скажу: «Мы лучше всех», то ведь я тем самым сказал: «Я лучше всех», – если не всех, кто внутри этого «мы», то всех, кто за пределами его, а их ведь очень много. Вот я читаю ваши газеты, а там на все лады и повторяют это самое «мы лучше всех».
Тут я прервал его: да полноте, разве это мы одни? Ведь и ваши соотечественники любят прихвастнуть — индивидуально и коллективно, всячески.
— Да, да, — сказал он, — я знаю. Классик один ваш еще полтораста лет назад молвил про нас: «Французик из Бордо, надсаживая грудь…», и в надсаживании этом ощущал он, наверно, какой-то оттенок тщеславия. Что и говорить, тщеславия у нас много и теперь. Да и самомнения, единичного и коллективного; об этом спору нет. Но к прямому бахвальству, без малейшего стеснения, в печати, приводит оно редко. Где же вы видите в наших газетах через каждые три строки выражения вроде: «наше мудрое правительство», «под заботливым руководством нашей мудрой партии» (причем пишет это член партии, очевидно, и сам себя причисляя к мудрецам), «наша первая в мире литература», «наша самая передовая наука», «наша великая социалистическая культура», не говоря уже об эпитетах, пристегиваемых к словам «народ», «страна», «родина», и о фразах, произносимых — так и чувствуется — именно «надсаживая грудь»: «нас не напугаешь», «нас не проведешь», «мы победим», «мы опередим».
– Постойте, — остановил я его. — Значит, это вы тамошнюю печать имеете в виду, казенную (другой у них и нет); так бы и сказали. Но если и о ней говорить — что ж, это ведь просто, с одной стороны, патриотизм, и нельзя же людей бранить за то, что они — патриоты; с другой — неотесанность, дурные манеры; а с третьей, как бы это назвать… Ну, скажем, партийная дисциплина.
– Странная дисциплина! У нас и в армии такой дисциплины нет, чтобы все хором должны были восхвалять что бы то ни было. А патриотизм — это любовь к родине, а не расхваливание ее на всех углах. Родина — это мать. Я люблю ее как мать. Но ведь никому и в голову не придет писать в газетах: моя мать лучше всех матерей, она всех умней, всех красивей и тому подобное. Да и знаю я очень хорошо, что у матери моей могут быть и недостатки. Не потому я люблю ее, что у нее их нет. Конечно, моя мать — одно, а наша общая — другое, но это не значит, что мы сообща должны ее превозносить, как будто без этого и любить ее не станем. Что же касается партии, то не рассказывайте мне, что все это самовосхваление — мы всех сильней и лучше — только в СССР и началось. Еще когда с японцами вели войну, говорили: мы их шапками закидаем. А вышло, что и не закидали.
Туг я и смутился, и негодование почувствовал одновременно.
– Перестаньте, — почти что крикнул я. — Какой-то негодяй пустил тогда эту фразу, и всем стало тотчас стыдно за него и за нее. Шапками закидаем! Да ведь это в поговорку вошло именно как пример глупого бахвальства! Я вырос в России, я жил там еще и в первые семь лет после революции и смею вас уверить; те, с кем я знался, ни к какому коллективному бахвальству склонны не были, и в том, что я читал — ну, правда, с разбором читал, — его тоже не было ни тени. Я его меньше видел вокруг себя в России, чем в любой из тех стран, которые узнал потом. Над квасным патриотизмом у нас смеялись. Вы знаете, что это такое? Это убеждение, что квас — лучше всех заграничных напитков именно потому, что он напиток русский; или что Репин — не хуже, а то и лучше, чем Веласкес или Рембрандт, именно потому, что он русский живописец. У нас считалось столь же неприличным самопревозноситься вкупе, как и в одиночку. Это только «великая социалистическая культура» сама себя хвалит, не как гречневая каша — та делает это молча, — а как замоскворецкая купчиха, высмеянная еще Островским: «Ах, как я умна, ах, как хороша!».
— Ну, ну, — улыбнулся француз, — я ведь только так, подразнить вас хотел. Я помню. Бахвальство нынешнее у вас в стране Сталин завел, в Италии — Муссолини, а в Германии — Гитлер. Как все слабости, что поделать, есть и эта в человеке; надо лишь уметь использовать ее. Те трое умели. И «великая социалистическая культура» — «наша, наша», так кричит она у вас, так кричала бы и у нас, — следуя примеру тех троих, тоже умеет этой слабостью пользоваться, очень даже успешно. Только все-таки, вы меня простите… Я ведь вашу страну люблю. Не один лишь язык ее чудесный, но и многое другое, вплоть до черточек иных в манере вашей жить и с людьми дружить, вплоть до еды и питья… Когда-то, давным-давно, я ведь и квасу вашего испробовал: хорош! Жаль, что нигде его не достать; нынче, кажется, даже и у вас. О писателях ваших, прежних, больших, тех, кого «классиками» величают — чтоб отделаться от них, что ли? – нечего и говорить… Не любить их невозможно. Но знаете, не сердитесь — отчего это у них немцы всегда такие глупые, англичане вашим столярам да слесарям в подметки не годятся, французы — либо краснобаи, либо попросту мерзавцы? Один Ламберт в «Подростке» чего стоит – помните? Ohe, Lambert! As-tu vu Lambert? Да и у Толстого его рамбаль и другие французы в 1812 году. А два «полячка» из «Братьев Карамазовых»? А совершенно идиотическая чеховская англичанка? Или вот, не хотители, у Тургенева в «Первой любви» — граф Малевский, негодяй, поляк, чье лицо, когда автору он особенно стал гадок, «приняло на миг жидовское выражение». Нет, нет, об этом последнем пункте ни слова, ни-ни. Но почему, скажите, когда писатели ваши русское хвалят — тот же и Тургенев, не говоря уж о Достоевском, Толстом, — то как-то не стесняются, точно сами они не русские? Конечно, до «великой, величайшей нашей литературы, науки, культуры» дело у них не доходит; этого бы они постеснялись, да и вовсе этого не думали. Но предпосылки бахвальства порой у них все же тут как тут. А в зарубежной вашей печати — не прогневайтесь, я ведь почитываю и ее — обо всем этом вашем (хорошем, хорошем, не спорю) говорится нередко совсем почти в том же тоне, что и в советской. Где уж, мол, мелкоте этой, сантимникам? Разве они понимают? Вот, бывало, у нас… Мы… Наше… Великая… И в прошлом не хотят видеть никаких пустот, изъянов, пробелов. Молчу, молчу. И пора мне.
Договоримся, разберем все это ближе в следующий раз.
* * *
На этом мы с ним и расстались, но словечко это — бахвальство — долго еще вертелось у меня на уме и мучило меня. Ему что? А мне стыдно — за Россию. «У ней особенная стать», в этом бахвальства нет. «Россия, встань и возвышайся», и в этом нет бахвальства. Даже
Гром победы раздавайся, Веселися, храбрый Росс! —и тут не вижу греха. Но уже насчет гоголевской тройки – сомневаюсь. Зачем это ей лететь так, чтобы косились на нее «другие народы и государства»? Не вижу, чтобы честь или слава России состояла в том, чтобы кого-нибудь «оставить позади», и не нахожу, чтобы даже величайшие наши умы и сердца так-таки вообще опередили или превзошли не «наши», но все равно родные нам сердца и умы христианства, Греции, западного мира. Прав был Карамзин, когда писал в 1802 году: «У французов еще в шестом-на-десять веке философствовал и писал Монтень: чудно ли, что они вообще пишут лучше нас?» Думал так же и Пушкин; и не находили они нужным искать в Московской Руси доморощенных Платонов и «быстрых разумом Невтонов», которых у нее не было. Смешна похвальба, основанная на невежестве; глупа — основанная на применении к нам особой мерки, что ведь как раз Россию и унижает. Отвратительна та, что ни на чем не основана, кроме как на слепоте ко всему «чужому». Противно было и вызывало брезгливую жалость к Шмелеву, когда он, много лет назад, отвечая на анкету «Чисел» в Париже, объявил Баранцевича и Альбою писателями нисколько не хуже Пруста. Но еще противней похвальба, основанная на лжи и лести. Мучительно стыдно читать, только раскроешь любой советский листок комплименты тем, у кого палка в руках, перемешанные с готовыми — истошным голосом на ленту записанными – «наша великая», «наша могучая», «наша первая в мире»…
Если бы они еще гордились… Но нет; куда там. Они льстят и хвастают, чтоб и всем, и себе польстить, а не только начальству, не отделяя уже лести от хвастовства. Тот, кто чем-нибудь горд, — тот этим хвастать не станет. Гордость доведенная до предела, бывает страшна, бесчеловечна. Можно осуждать гордеца, можно его жалеть, можно ненавидеть его. Хвастуна можно только презирать
* * *
Месяцы прошли, много месяцев; не видал я моего француза. Но вот на днях позвонил: приду, надо поговорить. Пришел, сел, наклонил свою седую голову и вымолвил:
– С повинной я к вам. Принимайте покаяние.
– Обрусели вы совсем, милый друг. Как Пьер Паскаль, как Брис Парэн. Да и не знаю, каются ли даже они. А главное, вы-то передо мной – в чем же вам каяться?
– Ну, помните, насчет бахвальства.
– Вы теперь думаете, что его у нас меньше, чем вы думали тогда?
– Н-нет… Нет, нет, этого я не думаю. И здешние порой… А уж тамошние… Читал последнее время о допетровской Руси новые книги, интересные, толковые; но всем авторам этим до зарезу нужно показать, что нисколько и ни в чем не уступала эта Русь современному ей Западу. Оно и верно, что прежде Милюков, скажем, да и другие, этак немножко свысока, с Эйфелевой башни Просвещения (и позитивизма) на нее взирали, а нынче я ведь и сам, Алэна ученик, из Нормальной Школы безбожник, готов приложиться к рублевской Троице; только им чернеца этого, да и самого Преподобного, и Лавры его мало; Новгорода, Владимира — все мало; и уже насчет искусства обижаются они, как это церкви эти Владимиро-Суздальские, или верней скульптурные их украшения кто-то романскими назвал. Никакие, мол, не романские, а сами по себе: лучше романских; и вовсе нам, знайте, готических ваших громоздких соборов не нужно, и Ансельма не нужно, и Фомы не нужно, и без Данта обойдемся. Если поповщина наша поскромней была вашей, тем лучше. Зато беспоповщина! Стригольники-то наши и жидовствующие, они во! (простите, это я Толстого некстати цитирую, из «Власти тьмы»). Ну и все это я, конечно, в сгущенных красках изображаю, но не лгу, сами знаете, не лгу. Да и пусть рельефы эти, скажем, и узоры правильней к романским не причислять, но что же в таком причислении обидного? Ведь, к тому же, и как мало их, кот наплакал, а романская скульптура одной лишь Испании Франции — конца ей нет, и разве не хороша? Или вот еще варяги. Это их, видите ли, из ненависти, из презрения к России, тут, на Западе, мы, головорезы буржуазные, придумали. А мне что? Вовсе я за варягов этих не держусь. Но если бы они и были, что ж тут такого страшного? Насчет норманнов англичане, например, не обижаются, все в порядке, а соотечественники ваши нынешние из-за варягов прямо-таки на стену лезут. Как бы там кого ни называли, а все всегда «у нас, в СССР», были мы да мы, и больше никаких. Скифов к рукам прибрали; изделия их — это, мол, сокровища нашего искусства. Да и страна Урарту, чего древней, а вроде как наша…
– Тем более, что и бывший наш хозяин, Отец, Великий Языковед, по соседству родился. Все это так, увы. Но ведь это опять о бахвальстве. В чем же хотели вы каяться?
– К этому и перехожу. Осенило это меня внезапно, как раз после такого чтения. Выхожу я раз из библиотеки, перед праздниками, недавно, иду по Сен-Жерменскому бульвару, и возле углового кафе, где мы сиживали с вами, в киоске, вижу английский еженедельник, ну самый, знаете, солидный, «Литературное приложение к Таймсу», и через всю первую страницу заголовок — латинскими буквами, но слово как бы вроде и русское: САМОДОВОЛЬНОСТЬ. Не совсем ведь так, кажется; говорят «самодовольство», правда? Удивился я немного, но потом…
– Так и вы этот номер видели? От 8 декабря 66-го года. Забавно…
– Потом я шел и все об этом слове думал, и о том, что оно значит. Самодо… Но вы хотели что-то сказать.
– Успею. Продолжайте. Я номер этот видел, статью прочел и письмо в редакцию о ней написал…
– Поправили ошибку? Я не купил. По-английски читаю с трудом. Но вот шел все и думал: самодовольство — по прямому смыслу, по составу слова, это могло бы быть и не так плохо. Ишь ведь: «святое недовольство собой». Отчего же нельзя мне быть довольным чем-то, что мне удалось, поступком, которого никто злым не назовет, «то и вообще собой, если не терзает меня совесть? Или должна терзать?
Всегда довольный сам собой, Своим обедом и женой. —не Достоевский ведь тут иронизирует и не Блок. Нет, у них, у всех, думал я, в языке их, «самодовольный» — это нехорошо. «Что-то такое слишком уж спокойное в нравственном смысле». Откуда это? Достоевский, конечно… Пришел домой, перелистал, в «Подростке» нашлось, отмечено у меня было. Сам «подросток» и говорит о лице Крафта, немца, конечно: «Что-то было такое в его лице, чего бы я не захотел в свое, что-то такое слишком уж спокойное в нравственном смысле, что-то вроде какой–то тайной, себе неведомой гордости». Крафт — серьезный, хороший, чистой души человек. Значит, мало этого. Тот хвастунишка с надрывом не совсем его одобряет. Поймите, поймите, я и возмущаюсь, и восхищаюсь одновременно. Крафт бы хвастать не стал, ни скверным, как тот, ни хорошим. Гордость бы ему помешала? Ей во всяком случае с хвастовством не по пути. Как и самодовольству? Бывает хвастливое, но такое осуждается везде. А не хвастливое? Самодовольство без бахвальства? Здесь вы его у первого встречного найдете. Его на Западе не осуждают, пожалуй, даже и не отличают от чувства собственного достоинства. «Незлобивое и деликатное» было у Крафта лицо, «хотя собственное достоинство так и выставлялось во всем»; видимо, и там, у них — у вас — этих двух вещей не отличают… Осуждают обе? А как насчет бахвальства без самодовольства? Тут и осенило меня. Есть бахвальство, но зато… Ну, вы уже поняли. Вот я каяться и пришел.
— Спасибо. Тем более, что тогда, после нашего разговора, мне все это в голову совсем не приходило. Когда же я насчет «самодовольности» прочел, я им написал, во-первых, что такого слова нет, а во-вторых, что слово, которое есть, всегда означает по-русски, как и родственные ему «самонадеянность» и «самоуверенность», нечто оцениваемое отрицательно. Письмо мое через две недели напечатали, а в дальнейших двух номерах два ответа на него: автора статьи, озаглавленной «Самодовольность» и автора книги, на которую эта статья была рецензией. Судя по статье, думаю, что книга эта – о Толстом, молодого оксфордского ученого Джона Бэйли, – очень недурна. Не читал ее, но прочесть собираюсь. В ней подчеркивается, по-видимому, семейственность, сплоченность и замкнутость семьи, важная черта (о которой сам я некогда писал) в романах и в мировоззрении Толстого. В ней подчеркивается, по-видимому, семейственность, сплоченность и замкнутость семьи, важная черта (о которой сам я некогда писал) в романах и в мировоззрении Толстого. Это самодовление семьи Джон Бэйли, видимо, и называет самодовольством. В письме своем он ссылается на сомнительное для меня различие смысла русских суффиксов «-ство» и «-ость», причем последний будто бы безоценочен, нейтрален (не знаю, почему «гадость» более беспристрастно, чем «свинство», или «стойкость» — чем «мужество»); рецензент же в своем письме приводит два изданных в Англии русско-английских словаря, где он «самодовольность» нашел и где слову этому дано безоценочное значение. Я ни тому, ни другому не отвечал; с первым, я уверен, сговорился бы легко, весь наш спор ограничился бы спором о словах; но раз англичане эти думают, что знают русский язык, а я не знаю, Бог с ними.
– Вы, значит, уверены, что «самодовольство», «самодовольный» всегда звучат неодобрительно? Ведь так?
– В нынешнем языке — да. Академический словарь (многогрешный, что и говорить, но и многотомный, то есть подробный, и даже добросовестный, там, где идеологии незачем совесть упразднять) никаких примеров нейтрального значения не дает. Но вот у Пушкина (через соответственный словарь) нашел я словоупотребление очень любопытное. Один лишь раз, но встречается у него, кроме самодовольства, которым он недоволен, как и все мы, еще и «самодовольствие», — в «Капитанской дочке»: «Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою»…
– Как это хорошо!
– Для вашей новой теории о компенсации бахвальства?
– Конечно! Но и для Пушкина, для моей, для вашей любви к Пушкину. Подумайте только: он еще знал, из предыдущего столетия получил (надо это проверить) старое западное понятие (каким бы словом оно ни выражалось) о таком довольстве собой, которое может быть смешным – как у «рогоносца» в первой главе «Онегина», — но может быть и святым, не хуже недовольства…
– Святым-то все-таки вряд ли…
– Как я рад, что это вы говорите! Ловлю вас на русскости. Но «самодовольствие» в «Капитанской дочке», не можете же вы спорить, — справедливое, доброе. Пушкин такое понимал. А вот после него всякое самодовольство стало скверным. И все открытие мое в том, что бахвальство, у соотечественников ваших, именно из отсутствия, или, точнее говоря, из запрета самодовольства и проистекает.
– А запрет откуда?
– Вы, конечно, скажете: из Писания и учения Церкви, из «поповщины» прежней. Или, что почти то же: от воспитанного ею — сквозь века и века — крестьянского народа. Не спорю, но и у нынешних, советских, плоды просвещения, этого просвещения нахожу. Похвальба их, включая присоединение скифов, включая и стригольников, и варягофобию, и «нашу великую», «величайшую в мире», не от самодовольства она вся, а от запрета самодовольства – даже и коллективного, тем более личного. Если бы в самом деле довольны они были собой и своим, ни к чему были бы им все эти аннексии и контрибуции, рукоплескания, не всегда искренние, «братских республик», превознесение до небес разных там «Бурлаков» и статеек Добролюбова о «Луче света в темном царстве». Ведь понимают же там, ну хоть те, кто побойчей, что Запад был почти во всем, почти всегда…
– Тут вы уже, кажется, увлеклись немного. Ничего они не знают, меру, общеевропейскую меру, потеряли, которой и у нас мерили, до них. Но, может быть, верно, что бахвальство, даже у них, наигранное, молодечество – показное. Неведения много, а потому и вполне искренней веры в превосходство над хорошим чужим плохого своего. Самоуверенности подлинной нет, а потому и настоящего самодовольства — не кичливого, «самодовольствия» — тоже нет. Зато кичливого сколько угодно. Коллективное бахвальство, кроме того, все ведь время подхлестывается там искусственно. Отдельный же человек — в нем еще старая совесть жива, и самомнения, даже простой удовлетворенности тем, каков он есть, да и всего «слишком уж спокойного в нравственном смысле» он по-прежнему стыдится. Не всегда только знает, что стыдиться надлежит и самохвального «мы», а не одного лишь тщеславного «я».
— Но вы все-таки «открытию» моему на Сен-Жерменском бульваре сочувствуете?
– Сочувствую.
– В Россию верите?
– Сквозь сомнение, сквозь отчаяние — верю.
ОТЧЕГО НЕРУССКИЕ ЛЮБЯТ РУССКОЕ?
Долгие годы живя за границей, я не раз задавал себе этот вопрос, хоть, конечно, и знал, что не найду простого и ясного на него ответа. Да и сам вопрос нужно еще пояснить. Он не предполагает (Боже упаси!), что нерусские — все или в большинстве — так-таки и готовы всем русским восхищаться, так-таки и тянутся ко всему русскому. Вовсе ведь и русский не обязан — хотел бы, да не могу сказать: не способен — без разбору любить все русское. Скажу, однако: плох тот русский, который отказывается разбирать. Отнюдь не должен быть ему «сладок и приятен» смрадный «дым отечества». В разборе, в выборе все и дело… Что же до нерусских, то иные из них (и далеко не одни натерпевшиеся от нас в прошлом соседи) ко всему русскому относятся (или относились) более чем отрицательно. А нынче, кроме того, существует в притяжениях и отталкиваниях этих невероятнейшая путаница, вызванная переименованием России, приводящим к ее отожествлению с Советским Союзом и к отожествлению советской власти, советских порядков со всеми теми, кто вынужден этой власти поддакивать и эта порядки выносить. России на карте и в газетах нет, а русские люди превращены в советских подданных или (как зря говорится) граждан, вследствие чего друзья или даже полудрузья советского строя с легкостью объявляют противников его врагами России, тогда как, в недавние годы, противников гитлеризма или фашизма никто, кроме разве что самых заядлых гитлеровцев и фашистов, врагами Германии или Италии не объявлял. С другой же стороны, и друзья «Советов», корыстные или нет, изображают или воображают себя друзьями России, да порой (при достаточном простодушии) и становятся на деле обожателями — как раз без разбора — всего наирусейшего, хоть и далеко не лучшего в нашем настоящем, а то и прошлом. Ведь и небывало разросшийся за последние десятилетия интерес к нашему языку и нашей литературе в зарождении своем объясняется, увы, пушками, а не Пушкиным: идеологической пальбой по не очень проворным мозгам, да и пушками в самом деле, оказательством физической, техникой умноженной силы, но отнюдь не самим обаянием того, с чем, заинтересовавшись, иностранец получает возможность ознакомиться. Часто, чаще всего, он приходит к русскому сквозь советское — как, впрочем, и нынешний русский в России. Хорошо еще, что возможно оболочку убрать, забыть о ней, к драгоценностям, упакованным в казенном пакете, а то и не попавшим в него, найти доступ не казенный, иной. Но если он найден… Верно ли, что и чужому русское это станет дорого; а главное — чем? В этом весь наш вопрос.
В этом он весь, но еще с двух сторон надо его уточнить. Во-первых, не о вовсе чужих и далеких народах мы думаем, когда его ставим, и не о родственниках, не о ближайших соседях; о Западе мыслим, о людях Запада, родных, но и чужих, о тех, что как будто и мы, а все же во многом не мы. Во-вторых, не о том идет речь, что могут они понять, полюбить как свое у писателей наших и, когда в совершенстве осилят язык — у поэтов. Речь идет о любви к тому русскому, что кажется им именно русским, а не своим, и что совсем не совпадает с тем хорошим или очень хорошим, с тем хорошим «вообще», что могут они, вслед за нами или независимо от нас, найти у наших писателей, поэтов, мыслителей, композиторов, художников. То русское, что любят нерусские (когда они его любят), может найтись и там, на высотах, но может сквозить — для них сквозить — и в самой будничной ткани русских обычаев, нравов, привычек, отражаемых литературой даже и не высокого полета, или непосредственно воспринятых, помимо всякого искусства, на улице подобранных, найденных в быту…
* * *
Бывал я нередко, в былые времена, у благоволившею мне, как и другим русским парижанам — Адамовичу, Фельзену — французского писателя, умершего накануне войны (критика, прежде всего), Шарля Дю Боса, человека широкого ума и открытой души. В литературе, в литературах (не одна французская была ему близка) прожил он жизнь. Необычайно любил Чехова. Прочел все, что было переведено, письма, мельчайшие пустячки. То, чего не было по-французски, прочел по-немецки или по-английски. Перечитывал неустанно, восхищался вновь и вновь. Многим у Чехова восхищаюсь и я, но долго не мог я понять ни причин, ни меры — безмерности даже — его восхищения. Постепенно, однако, из разговоров выяснилось, что не искусство Чехова его восхищало, а изображенная Чеховым — без всякого восхищения — русская жизнь. Не вся целиком и не в тех ее чертах, которые Чехов порицал или описывал с грустью, а в тех, которых он вовсе не силился «подмечать»: они сами собой включались в повествование, чье правдоподобие, однако, и впрямь было бы утрачено без них. Черты эти соответствовали, несомненно, характеру чеховского дарования, но были все же сами по себе просто-напросто чертами русской жизни, которые могла бы Дю Босу явить сама чеховская или дочеховская Россия и с которыми могли бы ознакомить его десятки других наших «беллетристов», весьма скромно одаренных и нынче давно забытых. Больше Чехова вот это, русское, полюбил он в Чехове.
Что же именно? Какие это черты? — Отсутствие или непризнание перегородок, твердых преград между людьми. Простота и сердечность — а если бессердечность, то столь же откровенная — отношений между ними. Прямота и безыскусственность чувств, задушевность разговоров. Недоверие и отвращение ко всему эффектному и показному, ко всякой позе и фразе. Несуровость насчет «слабостей» — чужих, а не только своих — и вообще готовность простить более прочная, чем готовность осудить. Это черты чеховских людей, но я думаю, все со мной согласятся, что это и черты очень широкого круга русских людей до Чехова, как и после Чехова, сохранившиеся до сих пор, как у русских за рубежом, как и у многих без сомнения, в нынешней России. Мундиры у нас — всех родов мундиры — расстегивались легко, и не любили у нас «в мундире» ничего, кроме картошки. О людях судили «по человечеству» больше, чем «по закону» или по каким бы то ни было готовым правилам — даже и в Петербурге, который по своей — не такой уж строгой — строгости, по весьма относительной чопорности своей казался не совсем Россией остальной России. Все это, в прибавку к безбрежности страны, создавало то чувство свободы – не правовой, но бытовой, — которое ощущали и западные люди, поселявшиеся у нас не на слишком короткий срок.
Однажды, лет тридцать назад, пожилой француз заговорил со мной в парижском кафе, увидев, что я читаю русскую газету. Только потому заговорил, что захотелось ему лишний раз высказать русскому свою любовь к России. Поехал он туда по каким-то делам, году в девятьсот восьмом, и прожил там два года. Выучился по-русски понимать, но не говорить: «Ведь у вас, в больших городах, и французский знают многие». Больше туда не ездил. Испытывал тоску. «Времена теперь не те. Один мой приятель, промышленник, прожил там четыре года, обзавелся небольшим предприятием. В двадцатых годах с немалым трудом получил визу, поехал… Нет, нет, по стране вашей соскучатся, на предприятие давно махнул рукой. Его выслали. Через год он имущество передал родне; тайно перешел границу. Так и пропал. Не было больше о нем вестей».
— Что же именно так пришлось по вкусу, ему и вам, у нас?
Объяснить это было нелегко. Он все же попытался. Позже я слышал похожее от немцев, итальянцев, англичан. Это сводилось ко все тем же «чеховским» чертам. Простота и свобода в отношениях между людьми. Участливость Теплота. Сказал бы он непременно и одно русское слово, если б его знал, — неверное, зыбкое слово, которое нынче с опаской приходится произносить: задушевность.
Вот и я, о чеховском говоря, — глянь! — не подумал, и выскользнуло оно у меня из-под пера. А ведь, Боже ты мой, как оно испошлилось, опустилось! Был ведь у нас в те самые годы, когда французы мои, буржуи мои, влюбились в Россию, журнал «Задушевное слово», расточавший задушевность свою «дорогим нашим деткам», как младшего, так равно и старшего возраста. Сам я в этом журнале о Мурзилке и друзьях его читал; в память этого журнала, должно быть, именно слова , разговоры русские задушевными и назвал. А нынче включи радио — и тотчас Москва заговорит таким приторным, таким «задушевным», ласковым этаким говорком — о чем угодно: об огурцах, как и о комсомольцах или космонавтах. Только все-таки в прежней нашей литературе, когда говорилось «простое задушевное слово», как — во время прощания — в тургеневском «Накануне» (где сказано, впрочем, что неуместно было бы при этой разлуке «всякое значительное, или умное, или просто задушевное слово»), когда велись у Николая Ростова с Наташей и Соней «задушевные разговоры в любимом углу», это еще не было чем-то ничего не значащим, лживым или напускным; золотом было, а не сусальной позолотой; и Левин в «Анне Карениной» не зря любовался Анной — «и красотой ее, и умом, и образованностью, и вместе простотой и задушевностью». У Пушкина слово «задушевный» только раз встречается, в раннем стихотворении, где значит то же самое, что «закадычный», а «задушевность» — тоже только раз, в письме об Анне Петровне Керн, написанном в ее присутствии и больше для нее, чем для приятеля (Плетнева), которому оно было послано. Говорится в письме о том, как «небесно» она пела «Венецианскую ночь» Козлова, «вдохновенного слепца». «Жаль, что он не увидит ее, — пишет Пушкин, — но пусть вообразит себе красоту и задушевность — но крайней мере, дай Бог ему ее слышать». Здесь «задушевность» относится, вероятно, к голосу, к манере петь, быть может, и к манере говорить, и присущей несколько другой (более чувственный) смысл, нежели у Тургенева и Толстого. Это их слово, больше, чем пушкинское; но только слово… Тому, что значит или значило это слово, нет лучшего примера, чем у Пушкина. Не знаю я ни на каком языке стихов столь задушевных, как эти:
Выпьем, добрая подружка Бедной юности моей, Выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица Тихо за морем жила; Спой мне песню, как девица За водой поутру шла.Но по-русски есть и другие. Пушкинская эта музыка чувства у нас не заглохла. Есть, например, и у Блока два стихотворения, несравненно более скорбные, беспросветно скорбные, но такие же — иначе не скажешь — задушевные: «На улице — дождик и слякоть…», «Похоронят, зароют глубоко…», и конец еще одного:
Окак я был богат когда-то, Да все — не стоит пятака: Вражда, любовь, молва и злато, А пуще — смертная тоска.Вот, пожалуй, эта задушевность, не размениваемая на мелкую монету, иным из нерусских, выучившихся по-русски, что-то в нашем, во всегдашнем нашем, и приоткрывает, от чего нелегко им бывает оторваться. А нам? Нелегкой нам.
* * *
Конечно, не сквозь одни стихи приоткрывает; да и приоткрывает не она одна. Спросим себя, однако, с чем она, задушевность эта, несовместима, и сразу возвратит нас вопрос этот к Чехову, к Дю Босу, к собеседнику моему в парижском кафе и его другу, потому что подлинная, не опошленная «задушевность» — с чем же она несовместима, если не с накрахмаленностью, фразой, позой, с высокомерием, фарисейством, с отсутствием теплоты, искренности, простоты? Простота; прежде всего простота. Недаром у Тургенева, у Толстого, в цитатах, мною приведенных, где задушевность — там и простота. Искони расценивалась она у нас положительней, чем где-либо, а если отрицательно, в отношении простачков и простофиль, то со снисхождением, близким к умилению. Так мыслил и чувствовал у нас народ, «простой» народ; но простота и простонародность не то же самое, и не приклеены они одна к другой; даже в «опрощении» Толстого, барской, народнической затее, следует отличать осуждение барства и надежду найти простоту в крестьянстве от жажды простоты, самой по себе, где бы она ни была. С какой волшебной простотой говорит Пушкин о своей Татьяне: «Все тихо, просто было в ней»; и он же, в шутливом тоне, пишет жене: «Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос». Тут надо учесть, что простота манер и тона почти что была принадлежностью аристократического этикета и что Пушкин сквозь нее искал другой, менее внешней, в Татьяне воплощенной простоты; чем, однако, не устраняется тот факт, что и Наталья Николаевна, и Татьяна Дмитриевна владели крепостными и принадлежали обе к высшему сословию.
Дело не в сословиях, дело в том общерусском оттенке чувства, в силу которого подлинная, не условная только, простота связывается с теплотой, сердечностью («задушевностью») и в конечном счете с добром и правдой. «Он был простой и добрый барин», — сказано об отце Татьяны, а Маша в «Капитанской дочке» говорит Гриневу: «Пойдем, кинемся в ноги твоим родителям; они люди простые, не жестокосердные гордецы». Когда же Пушкину захотелось похвалить своего друга, бывшую фрейлину императрицы, Россет-Смирнову, он написал от ее имени такой эпиграф к ее будущим «Запискам»:
В тревоге пестрой и бесплодной Большого света и двора Я сохранила взгляд холодный, Простое сердце, ум свободный И правды пламень благородный И как дитя была добра; Смеялась над толпою вздорной, Судила здраво и светло И шутки злости самой черной Писала прямо набело.Наряду со свободой ума, откуда и трезвость взгляда, и ясность суждений, и злые шутки, без которых показались бы, пожалуй, пряником на елке простое сердце и детская доброта (но пушкинская задушевность никогда сусальной не становится), главное здесь— простота, правда, добро. И как чудесно это совпадает со словами Толстого б «Войне и мире», со словами, которые навсегда должны были бы запомнить все мы, русские: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».
Величие без великолепия. «Аркадий, не говори красиво!» Или, уже не у Тургенева, а Достоевский в «Бесах» (несправедливо) о самом Тургеневе: «обточенно, жеманно» Несправедливо, но не так уж несправедливо в устах человека, чье умозрение — глубже которого ничего у нас нет я не было — довольствуется почти сплошь самым «комнатным» среднеинтеллигентским языком. Гоголь сорвался на верхней ноте и уже не мог вернуться к говорку. Толстой трудился над тем, чтобы фразу свою сделать неуклюжей. Да и многие из лучших у нас — побалуются, да и решат: довольно, теперь: «без медных инструментов». Да их и взять? «Эти бедные селенья, эта скудная природа…» «Спой мне песню, как синица тихо за морем жила…». «Все тихо просто было в ней». Где нет этой тихой простоты, разве там бывает добро и правда? Знаю, знаю: и больших искушений не избежать на этом пути, и подделать все это легко; но думаю все же, что было много с этим связанного в прежней России, что не совсем исчезло оно и в нынешней, и что именно в этом надо искать ответа на вопрос, отчего нерусские — да и русские — любят русское.
* * *
Тут, однако, сразу же возникают два новых вопроса: откуда все это у нас и почему западные люди так же способны прельститься — и даже обольститься — всем этим, как мы сами. Отвечу я на оба вопроса одним, общим ответом, который, чего доброго, иных даже и разочарует незамысловатостью своей и краткостью: все это из Евангелия. Оттого другие христианством воспитанные народы могут вполне и почувствовать все это, и полюбить, даже и пребывая в слепоте насчет корней и причин, даже и не вспоминая о Евангелии или христианстве.
Родители Гринева, мы видели, — «люди простые, не жестокосердные гордецы». Незадолго до того, в черновом наброске на тему о критике и полемике, Пушкин писал: «Если ты будешь молчать с человеком, который с тобой заговаривает, то это с твоей стороны обида и гордость, недостойная доброго христианина». Выражение «добрый христианин» — готовое и чужое (галлицизм); вполне принимать его всерьез нельзя; но и помимо него осуждение гордости, как и «жестокосердных гордецов» — евангельское осуждение. Как и «Оставь нас, гордый человек», хоть и вложено в совсем, может быть, не христианские уста Старого Цыгана. Только Достоевский, в пушкинской речи, полностью перевел его своим «Смирись, гордый человек» на евангельский язык. Но если не Пушкин времени «Цыган», то Пушкин последних лет вряд ли бы стал против такого перевода возражать: гордость не осуждается ни вольнодумством, ни язычеством, и побеждает ее смирение. Он это знал. О духе смирения, о ниспослании ему этого духа молился сам, в те годы, молитвою Ефрема Сирина.
Со смирением этим, гордецам неведомым, и кротостью, неотделимой от него, глубоко связано все то «простое», «сердечное», «задушевное», что мы в наследии окружении нашем любили и что любили в них не мы одни. Связано издалека, в истоках, но все же так, что и сейчас легко эту связь восстановить. Смирение вместе с кротостью образует ту христианскую добродетель, лучше сказать, святыню, — которую на Западе обозначает позднелатинское слово humilitas, среди язычников некогда бывшее презренным, как и все, обозначавшееся им. Древняя Русь святыне этой предана была проникновенно, и еще в XVII веке светский автор «Повести о Юлиании Лазаревской» святость ее в этом всего охотней восхваляет, повествуя, как она «аки истовая мать» о вдовах и сиротах пеклась и все, все службы и труды «сама собою творяше, а неразумныя рабы и рабыни смирением и кротостью наказуя и исправляше и на ся вину возлагаше». Тут нет ничего непонятного и западным христианам, которые только, вместо наших двух слов, применили бы здесь свое одно, отсутствующее в нашем языке.
Так что прав, но не совсем прав был Тютчев:
Не поймет и не заметит Гордый взор иноплеменный, Что, сквозит и тайно светит В наготе твоей смиренной.Иноплеменный взор не всегда бывает и бывал так уж горд, как ему казалось. Замечал он порой и то, что в этой наготе — или всего лишь ненарядности, простоте – светит и сквозит. Иначе и не было бы никогда того, чтобы любили русское нерусские.
Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь Небесный Исходил, благословляя.Известен Западу и этот образ униженного, рабский вид принявшего Христа. Получил он даже в западном искусстве воплощение (всего глубже у Рембрандта), православному искусству неведомое — не только не достигнутое им, но которого оно никогда и не искало. Верно только, что в целом в западном христианстве, как, однако, и в восточном, вне России, не господствует образ этот над другими, и ни в какое время не проникнуто было им благочестие всего народа, как у нас, где и все, что стряслось с нашей Церковью, после пытки, учиненной ей Петром, ничего в этой евангельской, «евангелической» даже стороне народной (прежде всего) религиозности не изменило. Это — то есть воплощенность этой религии в самой жизни, в самой земле, в этих «бедных селеньях» и даже «скудной природе» — Тютчев увидел как никто; хотя Достоевский и понял это еще полней. Быть может, это открылось им так ясно именно оттого, что они оба, особенно Тютчев, столько лет прожили за границей.
Сама наша Церковь, на своих синодальных, да и вообще иерархических верхах, не кажется мне, чтобы очень ясно это видела. Икону Омовения ног особым почитанием не почитала. Царский образ Небесного Царя заслонял от нее удрученность Несущего крест, наготу Распятого, и боюсь, что почти безучастно глядела она на то, как религиозные в основе своей представления и чувства отходили от Церкви и как утрачивалось постепенно сознание их религиозности. Есть поразительное стихотворение Анненского, именно — решусь сказать — на эту тему:
В небе ли меркнет звезда, Пытка ль земная все длится; Я не молюсь никогда, Я не умею молиться Время погасит звезду, Пытку ж и так одолеем… Если я в церковь иду, Там становлюсь с фарисеем. С ним упадаю я нем, С ним и воспряну, ликуя… Только во мне-то зачем Мытарь мятется, тоскуя?Мучительные стихи и, конечно, рожденные подлинною мукой. Всего мучительней — «С ним и воспряну, ликуя». Ведь это значит: воспряну, возликую с фарисеем и в качестве фарисея, даже когда в церкви поют «Христос воскрес!» Так, в конце жизни, чувствовал, несомненно, и Толстой. Обряд, песнопения, свечи, даже таинства — это все для фарисеев и проникнуто фарисейством. Мытарю в Церкви места нет. «Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях» или «председания в Синоде и приветствия высокопоставленных особ». В первом варианте говорит эти слова Христос у Евангелиста Луки (11, 43); во втором мог бы их сказать Толстой. Но в беседе с собой разве не вопрошал он никогда, вместе с Анненским: «Только во мне-то зачем Мытарь мятется, тоскуя?», — и ведь осуждение фарисейства, ощущение близости своей к мытарю — откуда же они, если не из того евангельского русского христианства?
Даже разучившись молиться, Толстой, и Анненский, и столькие другие с ними все еще видят правду в том «удрученном ношей крестной» образе Христа и христианском чувстве жизни, что «сквозит и тайно светит» во всем у нас, к чему влекутся порой, что любят в нашем и другие. «Все тонет в фарисействе», — еще вчера скорбел Пастернак (в первом из стихотворений доктора Живаго). Еще во многих душах нынешней России, прогнавшей тот высокий и благостный образ со своих полей, «мытарь мятется, тоскуя». Он тоскует о том, чтобы вернулось забывшее свое имя христианство к имени этому и ко Христу, чтобы поняли, наконец, откуда даровано было нам все то, что было и осталось дорого нам, и не нам одним: теплота, сердечность, простота, отвращение к пустым фразам и позам, чувство «единого на потребу»; поняли, на чем все это держится, на чем только и может держаться…
* * *
Выпьем, добрая подружка Бедной юности моей, Выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей.А что ж Арина Родионовна? Или нечего было ей сказать?
После казни декабристов, когда над питомцем ее еще висела грозовая туча, писал этот питомец Вяземскому в Москву из Михайловского, куда он только что вернулся: «Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни, хамов и моей няни — ей Богу приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и пр. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости , молитву, вероятно сочиненную при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом».
Так что осерчал поэт? Нет, это он только так, чтоб чувствительности не корчить. Нянюшку свою он в обиду не даст. Насчет «умиления сердца», пусть и не владыки, а своего, известно ему кое-что, и «укрощение духа свирепости» тоже вполне ему понятно. Да и пусть «попы дерут молебен». Он знает: так нужно. Без этого сердцу никак не будет веселей.
КАТАЛОГ ЭРМИТАЖА
Когда вспоминаются мне давно знакомые, полюбившиеся смолоду картины великих, а порой и не столь уж великих мастеров, я снимаю с полки каталог Эрмитажа. Тот самый, двухтомный, в 1958 году вышедший, который заменил все прежние. Хороший каталог, полный, где перечислены все картины музея, включая и те, что нынче не выставлены и хранятся в его запасах. Много в нем иллюстраций (хоть и среднего качества), так что я часто там нахожу воспроизведенным, а если нет, то описанным вкратце то, что мне вспомнилось. Очень часто нахожу или верней, всегда, потому что того, чего найти нельзя, искать было бы, разумеется, нелепо.
Чего же там нельзя найти? Здесь, на Западе, это всякому ясно: картин, проданных при Сталине. Столь же ясно это хранителям Эрмитажа, и прежде всего директору его картинной галереи, редактировавшему каталог. Но в самом каталоге не только отсутствуют эти картины — отсутствует и всякое упоминание об их исчезновении. Составителям каталога об этой продаже, в которой, конечно, не они повинны, приказано было молчать. Приказ остается в силе и по сей день, хотя дело это — давнее. Картины — и какие картины! — были проданы между 1929-м и 1936-м или 1937-м годом. Они давно висят в различных иностранных музеях. Но в Советском Союзе об этом никогда не было сказано ни слова. Посетители Эрмитажа, да и все для кого имена Рембрандта, Рубенса, Тициана, Рафаэля и другие в этом роде что-нибудь значат, или просто люди, любящие свою страну и желающие сохранения се богатств, в известность об этом никогда поставлены не были. Культ личности был в свое время осужден, и сама личность, которой этот культ воздавался, опорочена, но лишь наполовину: о мерзких деяниях ее распространяться воспрещено. Не подлежит огласке и этот сталинский подвиг, то ли потому что продолжают его — втихомолку — одобрять, то ли потому, что в силу круговой поруки считают разделенной ответственность за это злодеяние. В предисловии к каталогу говорится о «вероломном нападении фашистских захватчиков на Советский Союз» и об отправке картин и прочего в глубокий тыл, осуществленной благодаря «исключительному вниманию Советскою правительства к сохранению сокровищ Эрмитажа». О том, однако, в чем выразилось это «исключительное внимание» за несколько лет до того, о «вероломном нападении» Сталина на эрмитажные сокровища ни в предисловии, ни вообще в каталоге ровно ничего не сказано.
В 1964 году справляли двухсотлетие Эрмитажа, и два года спустя вышла по этому случаю книга «Эрмитаж за двести лет», коллективный труд хранителей музея, в котором излагается история и описывается состав различных его отделов, начиная со старейшего и главного — «Отделения живописи и скульптуры». О продажах и тут — ни слова. Говорится, конечно, о приобретениях — при Екатерине, Александре I и т. д., — но обходятся самым тщательным молчанием т.е. поступившие в музей картины (и скульптуры), которых там больше нет. Выходит, что их в музее никогда и не было. Несчастные составители книги вынуждены в этом пункте лгать, и любой осведомленный ее читатель (например, заглянувший в любой старый каталог) не может их не счесть лжецами. Как это ни грустно, но лжец по принуждению остается ведь все-таки лжецом. А уж те, кто помнит эти картины, кто видел их в музее…
Читаю, например, что нидерландский XV век «представлен шестью картинами, из которых наиболее выдающимся считается редкий диптих флемальского мастера “Троица" и "Мадонна с младенцем“». Как же мне при этом не подумать: вам приходится это писать, хотя эти картины, быть может, лишь старинные копии и к лучшим вещам их автора, во всяком случае, не принадлежат. Прежде не пришлось бы, когда «Благовещение» Яна ван Эйка находилось не в Вашингтонской Национальной Галлерее, а у нас, и когда рядом с ним висели у нас две створки складня «Распятие» и «Страшный суд» того же ван Эйка или, быть может, старшего его брата, принадлежащие нынче главному музею Нью-Йорка. Приобретены они были в Испании нашим послом Татищевым в 1845 году и завещаны им Эрмитажу, а «Благовещение» поступило туда при Николае I из знаменитого собрания голландского короля Вильгельма II, проданного с аукциона в 1850 года. Лишившись этих картин, весь этот отдел музея (включая и нидерландский XVI век) лишился лучшего, что в нем было. Покинули его, к тому же, и самые замечательные портретные работы этой школы. Портреты сэра Томаса Грэшема и леди Анны Грэшем кисти Антониса Мора нынче висят в амстердамском Рейксмузеуме; они поступили в Эрмитаж при Екатерине, в составе полностью приобретенного ею знаменитого собрания Роберта Уолпола. Осталось в этом отделе интересного и хорошего довольно много; совсем первоклассных картин в нем больше нет.
Читаю дальше, о фламандской живописи XVII века: «Исключительно богата коллекция картин Рубенса» или «Двадцать пять картин, преимущественно портреты, ван Дейка». Но где же все-таки несравненный рубенсовский портрет Елены Фоурмент во весь рост? Где лучший наш ван Дейк — портрет Филиппа Уортона? Другой, менее замечательный, портрет лорда Уортона в Эрмитаже остался, но этот, вместе с Еленой Фоурмент, отплыл оттуда, можно сказать, на первом же корабле. Еще в тридцатом году покойный друг мой Жарновский получил от бывшей своей сослуживицы по Эрмитажу без труда расшифрованную им открытку, где было сказано, что неожиданно для всех хорошо ему известная Елена Ф., в сопровождении англичанина Филиппа, отправилась за границу, куда, по-видимому, уедет и Титус Р., и Мария Альба, а быть может и другие их друзья. Действительно, последовали вскоре и другие отъезды: продана была и "Мадонна Альба" Рафаэля, и тот удивительный портрет, где высвечивает из глубокой ночи болезненное лицо Титуса, сына Рембрандта, — ну и пошло, поехало. Открытку я помню хорошо; первые две картины наверняка в ней были упомянуты, относительно двух других я менее уверен; но все равно: были, во всяком случае, проданы и они (Рембрандт — парижскому виноторговцу Этьенну Николя, он теперь в Лувре; Рафаэль — Эндрью Меллону, американскому богачу, бывшему министру финансов; картина теперь в Вашингтонской галерее).
Продолжаю чтение. «Давно завоевала мировую известность коллекция картин Рембрандта, насчитывающая 25 произведений. Невинная, как будто, фраза, но как фальшиво и — прошу прощения — как глупо она звучит для всякого, кому известно, что холстов Рембрандта в Эрмитаже было не двадцать пять, а сорок! Ну а вы, составители, скажет такой читатель, разве вы этого не знаете? Как же это вы так бойко пишете о «двух первоклассных мужских портретах Франса Хальса», когда их было у нас до покупки двух тем же Меллоном четыре, а не два? Куда же годится исторический обзор, в котором об этом не упомянуто? Но вернемся к Рембрандту. Четыре его картины не были проданы, а были переданы Пушкинскому музею в Москве; но другие, не хватающие, куда же они делись? Вы молчите, но ведь вы прекрасно это знаете. Титуса купил у Сталина мсье Николя. Другой портрет, его же (в шлеме и со щитом, называвшийся у нас "Паллада-Афина") и портрет старика, сидящего в кресле, с тростью в руках, выторговал у него же нефтяник Гюльбенкиан (в октябре 1930 года; обе картины находятся теперь в Лиссабоне). «Отречение Негра» — одну из значительнейших поздних картин мастера – приобрел три года спустя Амстердамский музей вместе с еще одним портретом Титуса в монашеском одеянии, с капюшоном, того же 1660 года, что и «Отречение».
Чудесный этот портрет, с таким нежным светом на улыбающемся лице, сперва был «национализирован», поступил в Эрмитаж из Строгановского собрания, а затем верховный национализатор за хорошие деньги предоставил национализировать его Голландии. Около того же времени нью-йоркский антиквар Нёдлер, в той же национальной лавочке для Меллона купил «Иосифа и жену Пентефрия», «Портрет молодой женщины с цветком»; а затем и спокон веков прославленный «Портрет польского вельможи» (прежде называвшийся Яном Собесским) сбыт был туда же лавочником с рук, как и «Девушка с метлою», как — в придачу к этим эрмитажным — и еще одна строгановская картина (пейзаж); купил и ее мсье Николя, подарил и ее Лувру. В результате столь бойкой торговли наше единственное в мире по богатству собрание Рембрандта (сорока его картин не было и нет ни в каком другом музее) первенство свое утратило, и если превыше всех слов чудесное «Возвращение блудного сына» и сохранило, то лишь по недомыслию покупателей или потому, что не развязали они вовремя кошелька: всем было известно, что кремлевский старьевщик охотно распрощался бы с ним за четыре миллиона долларов. Вообще на Западе все, кому ведать надлежит, знали, что через крупных торговцев картинами, выбрав по каталогу, можно было купить любое из эрмитажных сокровищ. Широкой огласки делам этим не давали, действовали не спеша, умножать числа покупателей не стремились, а продавцу было объяснено, что распродавать Эрмитаж с молотка или вообще оптом невыгодно: это вызвало бы на антикварном рынке немедленное и безудержное падение цен. Именно «железному» этому закону спроса и предложения наш музей и обязан тем, что насчитывает все еще 1313 голландских картин, из которых выставлены 426, и 576 фламандских, из которых выставлены 171. Цифры эти, как и другие, не без намерения щедро приводятся в книге об Эрмитаже за двести лет. Но ведь тридцать пять сохраненных Воуверманов ни на каких весах не перевесят и одного проданного Рембрандта; да и портрета Елены Фоурмент не заменит ни одни из многочисленных оставшихся у нас Рубенсов, хоть и сохранили мы каким-то чудом среди них изумительные эскизы декоративных сооружений, воздвигнутых в Антверпене по случаю въезда инфанта-кардинала, нового правителя Нидерландов. Количество во всем этом деле ровно ничего не значит сравнительно с качеством. Покупатели нашего национального имущества хорошо это знали, да и услужливый их поставщик, видимо, смекнул, что есть расчет продавать лишь самое лучшее и дорогое…
* * *
Вот я двухсотлетие Эрмитажа и справил, отложил в сторону книгу, плохо ознакомившись с историей других его отделов (ограбленный был ведь все же, да и остался, главным); перелистываю вновь те толстые два тома — печальный каталог, печальный оттого, что в нем нет картин, которые были в старых каталогах; да и не только печальный, а еще и жалкий, презрения достойный оттого, что об отсутствии их должен молчать, и молчит.
Раскрываю первый том: итальянская, испанская, французская живопись. Рафаэль. Его ранняя «Мадонна Конестабиле», что и говорить, мила; и «Мадонна с безбородым Иосифом» — тоже вещь хорошая. Но ведь «Мадонна Альба» была куда значительнее, а с ней вместе, заботами Меллона, и прелестный маленький «Святой Георгий» переселился в Вашингтон, как и — все его же стараниями — одна из лучших вне Италии картин Боттичелли «Поклонение волхвов», а также триптих Перуджино, так называемый голицынский (по его прежнему владельцу), одно из наиболее живых и совершенных произведений этого мастера и одно из последних эрмитажных приобретений Меллона: он его купил в 1936 году. Но еще до этого приобрел он (а затем передал той же галерее) самого необыкновенного нашего Тициана, «Венеру перед зеркалом» — вещь редкостной сохранности и волшебного мастерства. Больше сорока лет прошло с тех пор, как я ее видел в последний раз; а помню отчетливо теплоту, расплавленность письма, просвечивающий повсюду грубый холст и с неизъяснимой легкостью положенные на него красочные мазки, из которых родятся, Бог знает почему, и бархат, и мех, и плоть, и пестрое крылышко держащего зеркало амура. Была у нас среди итальянских и еще одна исключительного волшебства картина — «Пир Клеопатры» Тьеполо. За нее боялись. Живопись ее казалась хрупкой. В конце первой войны, при отправке картин в Москву, большое полотно это свернули. Когда разворачивали после возвращения, Александр Николаевич Бенуа заплакал от радости: «Пир Клеопатры» был невредим. Но в Кремле не дремали: нынче он составляет главное украшение Мельбурнской картинной галереи.
Лучший наш Веласкес, погрудный портрет папы Иннокентия X — эскиз для большого портрета в римском палаццо Дориа-Памфили (или собственноручное повторение центральной его части) — также был приобретен Меллоном и подарен Вашингтонской галерее. Лучшие наши картины старых французских мастеров тоже переплыли океан, хоть и не все на его счет, и попали: «Мальчик с карточным домиком» Шардена сюда, «Меццетен» Ватто в Нью-Йорк, а «Триумф Амфитриты» Пуссена в Филадельфию. Два пейзажа Гюбера Робера (у нас их много, но не все столь хороши) приобрел Гюльбенкиан, и он же — восхитительную мраморную «Диану» Гудона. Сам скульптор продал ее Екатерине; морским путем прибыла она в 1784 году в Петербург; морским же путем в 1930 году была — за ненадобностью, должно быть, — отправлена обратно. «Обойдемся и без нее. Обойдемся и вообще без всего этого барахла, тем более, раз ослы-буржуи готовы платить за него фунты и доллары». Нечто подобное, нужно думать, попыхивая трубкой, бормотал себе под нос ломовой извозчик, в те годы правивший Россией и стегавший ее, свою клячу, по глазам. Могли он мыслить иначе? Денежки заграничные всегда могли, ему пригодиться для его заграничных темных дел. Ну, а там Тьеполо, Ватто — забавных этаких слов ему и выговаривать никогда не приходилось. Да и не такие числятся за ним дела, в крови он по горло — не за холст, не за олифу счет ему предъявлять. С него и взятки гладки.
Но печаль-то вся в том, что насчет казней и лагерей у наследников и бывших сообщников его все же вырвался вопль, а об этом — не мокром, а всего лишь гнусном деле хранят они прехладнокровное молчание, никому, вместе с тем, и пикнуть о нем не разрешая. Вот и выходит — понимаете ли вы это, властители и судии? — что сама Россия всех этих Тицианов, и Рембрандтов, и Рафаэлей выбросила за окно — на что, мол, они, обойдусь и без них; что сама Россия, включая ее художников, писателей, историков, музейных работников, всю интеллигенцию ее, о позорном этом деле молчит просто потому, что не считает его позорным и вовсе не испытывает потребности высказать сожаление о нем и кого бы то ни было в нем винить. Я — русский, и знаю, что это не так. Но перед иностранцами – эх вы, хозяева страны, — стыдно мне: за Россию стыдно.
* * *
Так-то порой и расстроишься совсем, перелистывая эрмитажный каталог. Начнешь с воспоминаний, добрых и светлых, а подумаешь о том, как обезглавили музей, сливки сняли с его картинной галереи, и почувствуешь горечь, злобу, но всего острей именно стыд при мысли о том, что молчат и молчат об этом тридцать лет, восхваляя, как ни в чем ни бывало, заботу властей, «исключительное внимание Советского правительства к сохранению сокровищ Эрмитажа».
Подымаюсь мысленно вновь меж блестящих желто-мраморных стен по лестнице, именуемой нынче «халтуринской» (хотя покушался Халтурин, да и то неудачно, спровадив на тот свет ни в чем не повинных людей, не тут, а рядом, на царя, а не на картины; назвали бы ее «сталинской»); поднимаюсь по лестнице этой, как бывало, как в последний раз утром, в день отъезда – 1924 год июль… Поднимаюсь медленней, чем прежде, по лестнице довольно крутой, и предвкушаю… Нет, ничего я не предвкушаю: думаю невольно не о том, что увижу, а о том, чего не увижу. Вкрадчивый чей-то голос утешать меня пытается:
– Нечего грустить. Вот сейчас с площадки налево загнешь и в колонном зале, на Миллионную выходящем (то есть, тьфу, Хал… но все равно), твоего Пуссена и найдешь: «Пейзаж с Полифемом». Прислонись к колонне и гляди, гляди, как глядел, словно во сне, когда было тебе всего четырнадцать годков, да и позже сколько раз… А если не там он, экая беда? В Эрмитаже он, ты ведь знаешь: «Амфитриту» продали, а не его. И парную к нему картину, «Геркулеса и Какуса», не продали, а в Москву отправили.
Это зачем же? Послали бы другое что-нибудь. Кто же таких двойников разлучает? Я и тот пейзаж почти так же, как этот, любил, да и «Амфитриту»… Не хватает мне ее…
Ишь ты — не хватает! Поезжай в Америку. Существует «Амфитрита» — будь доволен и тем. А двойников они чуть ли не всех поделили. Так, мол, справедливей. Половина тут, половина в Москве. Не в Эрмитаже это придумали, и не музейные, конечно, люди. Другие, надмузейные. Они эрмитажных спросили: у вас французишки этого допотопного сколько осталось холстов? Те подсчитали; все, что, могли, присчитали; говорят: семнадцать. Что ж, мало вам этого, что ли? Согласись, ведь немало. Да и хороших осталось четыре или пять. На этот манер и обо всем прочем суди. Ведь и под вожжой Джугашвили, кроме ван Эйков, ни одной картины не продали, которая была бы единственной ее автора в музее. О всех прочих знаменитостях ежели спросят, есть они у вас в Эрмитаже? — ответ будет всегда: были, значит, и есть. Из бесчисленных посетителей огромное большинство ни о каких исчезновениях и не подозревает. «Мадонна Альба» одно время заменена была копией; покрасовались тут и в других залах извещения: «Картина в реставрации»; но теперь развеска новая, и все это давно забыто. Забудь и ты. Зачем тебе портить удовольствие — свое, да, быть может, и чужое? О своем ты только подумай: разве ты тициановских Севастьяна и Магдалину не любил, а лишь одну «Венеру перед зеркалом»? Разве нежнейшее «Поклонение Богородицы и ангелов Младенцу» Филиппино меньше тебя умиляло, чем боттичеллиево «Поклонение волхвов»? Или «Юдифь» (быть может, и впрямь Джорджоне) меньше интриговала и привлекала, чем тот — превосходный, правда, — Перуджино, который ведь к особым твоим любимцам никогда не принадлежал? Вот и входи — пусть хоть мысленно — в итальянские залы, восхищайся, как прежде, скорбным, вечерне-серебристым, словно похолодевшим «Плачем над снятым с креста Спасителем» Веронезе, еще недостаточно оцененным (оттого его, вероятно, и не продали), да и многим другим… Караваджо не забудь. На большого Прокаччини (Джулио Чезаре) погляди, перед которым восьмидесятилетний Липгардт, видимо, забыв, кто ты, на изысканнейшем французском языке времен Второй Империи тебя спросил: «Как вы находите лицо Мадонны? Я им очень горжусь. Это, в сущности, теперь моя работа». Поблагодари в испанском зале Сурбарана за «Святого Лаврентия», которым, еще в отрочестве твоем, он тебя пронзил и покорил; поклонись «Поклонению пастырей» Маино, этого итальяно-испанского почти-Ленэна: Луи Ленэна (имя его не произносится «Майно», как воображают в Эрмитаже); разыщи Мурильо с большим ландшафтом, удивись ему опять. А потом будут тебе и Рубенсы, Иордансы и мало ли еще что, и на цыпочках войдешь ты в рембрандтовский зал…
— Перестань, перестань, — отвечаю я, усевшись на тяжелый диван спиной к огромному Каналетто («Прием Французского посла в Венеции»), — я отлично знаю, что много знакомого, мною любимого здесь осталось; знаю, что и прибавилось многое — путем реквизиции у частных, владельцев, с ликвидацией оных или без нее (этого на картинах не прочтешь); но чем же это может поправить то непоправимое, что было сделано? Ни одной картины, равной по качеству и значению проданным, Эрмитаж не получил ни после продаж, ни в годы, предшествовавши продажам. Лишился он всего тридцати пяти или сорока картин — из них нынче двадцать одна в Вашингтонской Национальной галерее, — но эти сорок картин составляют две трети лучшего, что в нем было. Если последнюю треть убрать, останется огромная галерея, но… Да не стоит об этом и говорить.
– Ты меня перебил, но я ведь собирался не только о твоем собственном удовольствии сказать, которое ты зря себе портишь, но и о чужом. Мысленно ты, ясное дело, в роскошном одиночестве по залам гуляешь да по диванам восседаешь; а ведь тут каждый день — полным-полно, протолкнуться нельзя. Видел, небось, в «Эрмитаже за двести лет» картинку «Культпоход рабочих Ижорского завода»? Чуть не приступом собираются взять Зимний дворец и музей. Только снимок этот был сделан почти двадцать лет назад. Теперь и походов не надо, сами идут. Много молодежи. Недохвата картин заметить нельзя. Знаменитые имена, как и прежде, все налицо. Эти люди довольны…
– Они довольны, но ведь они все-таки обмануты. Если бы у хозяев страны была совесть, соответственное министерство разрешило бы или порекомендовало дирекции Эрмитажа где-нибудь неподалеку от главного входа в картинную галерею разместить на щитах фотографии всего того, что было сплавлено за границу, а в предисловиях к ее каталогам прилежно об этих продажах упоминать, и кроме того, выпустить отдельную книгу или брошюру, где вся история их была бы полностью изложена. Но ничего подобного не делается. Делается обратное: даже иностранным авторам, издающим за границей книги об Эрмитаже, внушается (очевидно, под страхом неполучения иллюстрационных материалов) о продажах не упоминать. Накануне пятидесятой октябрьской годовщины вышла очередная книга такого рода, весьма роскошно изданная. Ее угодливый составитель о продажах не заикнулся, за то превознес Эрмитаж до небес: один лишь Лувр можете ним сравниться (что было ложью и прежде, но стало сугубой ложью после продаж), а также соловьем расщелкался насчет того, что будто бы до революции музей был мало кому доступен. Очевидно, я сызмалу принадлежал к совершенно особому «счастливому меньшинству», а то и приходился родственником, сам того не зная, покойному государю. К счастью, не обо всем одинаково удобно лгать за границей и лгать у нас. Небылицами о западных порядках удобнее потчевать тех, кто не бывал на Западе; сеять клюкву насчет прежней России можно и в России, но не столь беспрепятственно, как среди тех, кто не имеет о ней ни малейшего понятия. Составители книги о двухсотлетии музея все-таки пишут: «Накануне первой мировой войны Эрмитаж посещали до 180 000 человек в год». Нынче посетителей этих, как и в западных музеях, во много раз больше — так много, что они, как и на Западе, мешают друг другу. Увидеть по-настоящему то, что видишь, становится трудно. Не в этом, однако, дело: здесь ведь и одним глазом не увидишь того, чего тут больше нет.
— Ты все о своем. Да им-то, сотням тысяч, миллионам — какое до этого дело? Огромный, великолепный музей! Они здесь учатся, пополняют образование или — как это говорится? — повышают культурный уровень. Не все ли равно — если думать о них, — увидят ли они еще одного Тициана, еще одного Веласкеса и вообще те картины, которые они прежде могли бы здесь увидеть? О чем ты хлопочешь? О чем горюешь? Хлопочи, чтобы воскресли отцы этих людей, погибшие здесь во время войны, замученные в лагерях при Сталине. А если ложь тебе так уж противна, горюй о том, что вся «власть советов» только и держится ложью; что всю пятидесятилетнюю историю свою она изображает лживо; что не лжет она только в тех случаях, когда не видит надобности лгать, или когда знает твердо, что решительно никто не поверит ее лжи. Да ведь и вся ложь насчет этих картин заключается просто в молчании, в утаивании истины. Уж если бы они от этой лжи отказались, в таком безгрешном — для них — грехе покаялись, как бы высмеял их тот мертвец, что заменяет им совесть, их божок, главный их божок…
— Знаю. Но живые — те, что здесь толпятся целый день, или хотя бы лучшие из них, — разве не заслуживают они чтобы им сказали правду? И разве они все, даже и лучшие эти, только для наглядного обучения сюда и ходят? Для обучения чему? Довод этот мне кого-то напомнил. В живых его нет. Да я его и не знал. Федор Иванович Шмит. Странно, никогда его не видел, и все же лично к нему – не просто к писаниям его — отношу то чувство, которое всплыло во мне, когда я о них вспомнил. Горестное чувство: смесь отвращения с жалостью и с остатками уважения.
* * *
Дооктябрьский Федор Иванович был доцентом Харьковского университета и очень неплохим византинистом, первым издателем знаменитых мозаик константинопольской церкви Хора (Кахрие Джами). В середине двадцатых годов вышел (на немецком языке, в Берлине) другой его весьма ценный труд, еще до войны приготовленный к печати: издание столь же знаменитых и более древних мозаик церкви в Никее, тем временем погибших (церковь разрушили турки во время греко-турецкой войны). Но тем временем разрушению подвергся и сам Федор Иванович: Октябрь (это не единственный случай) свернул ему на сторону и сознание, и совесть. Византийские свои штудии он забросил, а историю искусства стая перекраивать на марксистский лад — тем грубейшим способом, который несколько лет спустя более мозговитыми марксистами (даже и Советского Союза) был объявлен «вульгарным социологизмом» и тем самым был ошельмован (нужно надеяться — навсегда). Карьеру сделать он, однако, успел: был назначен директором Всесоюзного Института истории искусства. Тогда же (в 1925 году) вышла излагающая его или вскормленные им в себе воззрения книга «Искусство», а в 1932 году, то есть уже после того, как началась продажа эрмитажных картин, появилась на французском языке, в журнале «Музей», издававшемся Комитетом интеллектуального сотрудничества при Лиге Наций, его статья, частью резюмирующая те же теории, частью же ведущая их дальше, в сторону оправдания (хоть и всего лишь подразумеваемого) тех практических мер, о вторых там прямо не говорится, но которые как раз тогда были в отношении Эрмитажа приняты. Рассуждал Федор Иванович как нельзя более просто. Все привычные толки о безотносительной ценности искусства объявлял он совершенно устарелыми. Художник – представитель своего класса. Произведения его выражают потребности, цели и чувства этого класса, чем их форма, как и их содержание, строго предопределены. Искусство было во все времена агитационным, рассчитанным на классовую пропаганду. Нечего поэтому восхищаться мастерами, превозносимыми до небес в капиталистическом мире, и наполнять их изделиями музеи пролетарской страны. Все старое искусство — «старым надо почитать все, что сделано до 1917 года: оно доисторично» — может иметь «для нас» не больше, чем документальный, социологический интерес. Джотто надлежит ценить как представителя феодальной эпохи. Рафаэль, хотя «писал Мадонн, выражает в своем искусстве первую волну капитализма — в этом и все его значение. Отчего искусство Тинторетто столь трагично, столь мрачно? Буржуазные историки этого не знают, а мы знаем: в середине XVI века Венеция потеряла монополию на ввоз соли в Европу — как тут не помрачнеть? Все эти важные исторические свидетельства не следует уничтожать, как и воспевающие сытое мещанство картины Рубенса, Хальса или французских мастеров прошлого века. Но музеи, обладающие ими, должны заботиться прежде всего о надлежащем их истолковании. Письменно и устно необходимо посетителю о феодализме, капитализме и всех вообще социальных предпосылках того, что он видит перед собой, дабы он извлек из памятников старого искусства все содержащиеся в них уроки. Советские музеи этом деле давно перегнали отсталый буржуазный мир…
Статью свою впавший в детство от подобострастия, хоть совсем еще и не старый Федя Шмит кончал восторженной похвалой советской музейной политике. Отдавал ли он себе отчет в том, что бок обок с Тинторегто (чьи холсты чаще бывают потемневшими, чем мрачными) Веронезе писал радостные свои холсты — бог весть, но ничего не знать об утечке картин из эрмитажной галереи он не мог. И, конечно, его статья даже и этого рода «музейную политику» полностью оправдывает. Если Рубенс и Рафаэль ценятся лишь как поставщики классовых метрических документов, то кому же, кроме капиталиста нужны оригиналы их картин? Да и приличных размеров фотография с картины Тинторетто даст ровно столько же материала, как она сама, для недомыслия по части соляной монополии. Копии, фотографии следует даже и предпочесть оригиналам: они менее способны привлечь внимание зрителя еще и чем-нибудь другим, кроме своих классовых качеств. А если так, то, распродавая Рафаэлей и Рембрандтов, мудрая власть проявляет не только хозяйственную, но и более высокую мудрость. Следовало бы распродавателю, переслюнив бумажки, еще и наградить Федю орденом Красного Знамени.
* * *
Прошло много лет. Отмалчиваются. Продолжают молчать. Зато любят распространяться о «просветительной», или «научно-просветительной» работе музея. Но, по мнению нынешних хозяев, по их партийному мнению, чему же должны «массы» обучаться — тому, чему любая картинка в курсе политграмоты с тем же успехом могла бы их обучить? Благоглупости о соляной монополии и другие в том же роде сданы в архив, но отнюдь не сам принцип партийной идеологической муштровки и не «классизм» как одна из основ этой идеологии. Без «классизма» и представить ее себе нельзя, как идеологии гитлеровской без расизма. Но и независимо от этого, покуда вы, нынешние, ясно, во всеуслышанье не осудили Сталина за его «музейную политику», как же нам не опасаться, что вы еще и сами к ней вернетесь? Покуда вы от Сталина, перечислив все гнусные дела его, не отреклись, как же нам — то есть как России — верить, что вы не вернетесь к Сталину?
Бог с ним, с каталогом, и с книгой о двухсотлетии музея. Нет, лучше их с полки не снимать, лучше не вспоминать. Вот я теперь от печальных мыслей этих и оторваться больше не могу: все воображаю себя на том диване, спиной к «Приему французского посла». На левой от меня стене, сразу после двери — великолепный Строцци, «Исцеление Товита» (какой он был колорист в лучших своих вещах!), а направо, посреди залы, «новое приобретение» (даровое, у Мусина-Пушкина взяли): «Гибель Адониса», мраморная группа, риторически «роскошная» (но превосходная все же), Маццуолы. Сейчас встану — хочу поближе посмотреть «Юную Деву Марию посреди подруг», нарядную, но по-домашнему, большую картину Гвидо Рени редкостных светлых тонов, столь занимавшую меня — в детстве? Да, почти что в детстве. Но тут — чьи-то шаги в соседнем зале, кто-то идет сюда, в «Большой просвет». Начальство здешнее? Да ведь это университетский мой товарищ! Поседел, постарел, как я, но узнаю. И здесь, в этих залах, позже мы с ним встречались» Он уже служил тут. Поступи сюда и я, дослужился бы, пожалуй, до его чинов. А в тридцатом году, когда Елена Фоурмент «уехала заграницу»… Брр! И этот обет молчания. Чего он только не натерпелся — и тогда, и за все это время… Владимир Францевич, милый! Но что же я ему скажу? Обнял бы его, а потом? «Друг мой, не хотел бы я быть на вашем месте. Как это вы…»
Слава Богу, что это – мечта, пустая, пустая мечта.
ИСКУССТВО ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
* * *
К концу прошлого века в русском искусстве наметятся очень значительный перелом, полностью определившийся в первые годы нового столетия. Произошла не просто очередная смена поколений и не просто возникло новое направление в живописи или другом искусстве, а совершился переворот гораздо более глубокий и более широкого охвата, в результате которого оказалась обновленной вся художественная, литературная, как и вся вообще духовная жизнь страны. Не искусство только — изменилось и отношение к искусству: возросли требования, предъявляемые ему, резко повысилось уделявшееся ему внимание. То, что нравилось, перестало нравиться. То, чем довольствовались еще недавно, стало казаться убогим и провинциальным.
Рёскин уверял на склоне лет, что за всю жизнь не повстречал верующего христианина, который всерьез интересовался бы искусством. Так и шестидесятники, «интеллигенты» — в особом, русском, политически окрашенном смысле этого слова, — пеклись исключительно о том, что почитали за благо, в искусстве же видели всего лишь подсобное средство высказывать мысли, которые, не будь цензуры, отлично можно было бы высказать самым пешеходным (как говорят англичане), самым газетным языком. Этим верования их отличались от религиозных, но преданы они им были религиозно, отчего и сохранив власть над умами дольше, чем на одно десятилетие. В девяностых годах, однако, власть эта уже ослабевала. Образованные люди, даже и не становясь консервативнее, чем прежде стали ускользать из-под прежней идеологической опеки; подчиняться ей беспрекословно продолжали почти одни лишь читатели просветительных брошюр, «полуинтеллигенты», кличку эту как раз и получившие от интеллигенции обновленной, уже не состоявшей сплошь из людей, скроенных по шестидесятнической выкройке. Политическая тенденциозность перестала быть мерилом художественной оценки, а то и стала оцениваться отрицательно. Уже в 1883 году Врубель по поводу выставки верных шестидесятым годам передвижников жалел о том, что «художник не вел любовно бесед с натурой, весь занятый мыслью поглубже запечатлеть свою тенденцию в зрителе». С него, Врубеля (1856—1910), Левитана (1860— 1900), Серова (1865—1911) освобождение живописи и началось. О скульптуре можно сказать, что начал освобождать ее Трубецкой (1866—1938), а чтобы судить о быстроте, с которой теперь зашагала история, достаточно вспомнить, что сверстник его, Кандинский (1866— 1944), был старше Борисова-Мусатова (1870—1905), Бенуа (1870-1960), Сомова (1869-1939), Бакста (1868— 1924), Дягилева (1872—1929) и всего на год моложе Серова.
Москвич Кандинский славу себе создал в Мюнхене, куда отбыл еще в 1897 году, том самом, когда родившийся и выросший в Италии князь Павел — или Паоло — Трубецкой приехал по вызову государя в Москву, где и стал учить лепке не с гипсов, а с живой модели; в 1906 году он вернулся за границу и до конца своих дней жил в Париже и в Италии. Врубель, Левитан и Серов за границей бывали и живую, несалонную западную живопись знали лучше, чем кто-либо в России до них (хоть и очень характерно, что в молодости Врубель увлекался знаменитым Фортуни, не разглядев его ничтожества). Борисов-Мусатов числился учеником Кормона, но восхищался в Париже больше Пювис де Шаванном и Гюставом Моро. Бенуа, Сомов и Дягилев основали в Петербурге журнал «Мир искусства» (1898-1904), служивший проводником западных воззрений и течений, как и его наследники — московский журнал «Золотое руно» (1906—1909) и петербургский «Аполлон» (1909—1917). Идеям Бенуа, Дягилева (который ни живописцем, ни писателем не был, а был организатором, реформатором вкуса, что в те годы было столь же важно) и мастерству таких художников, как тот же Бенуа, Коровин, Головин, Добужинский и немного позже Сапунов обязана своим обновлением декорационно-постановочная сторона русского театра, сперва проветренная западным ветром, а потом и сама послужившая образцом для Запада. В тех же журналах, в тех же художественных кругах взращивалась с таким же усердием и книжная графика, поначалу точно так же следуя западным примерам (главным образом английским и немецким). В 1904 году обложка и заставки литературного журнала «Весы» исполнены были по заказанным в Париже рисункам Одилона Редона, но это было уже последним отголоском ученичества, и в 1914 году, на преждевременно закрывшейся из-за войны Лейпцигской выставке книги и книжной графики, своеобразие русского вклада в этого рода художество получило всеобщее признание, и русский павильон (организованный редактором «Аполлона» С. К. Маковским) имел исключительный успех.
Таким образом, новый режим русского искусства обусловлен был с самого начала сближением его с подлинной художественной жизнью Запада, которая в течение полувека оставалась попросту России неизвестна, была заслонена торжествовавшим повсюду официальным псевдоискусством и безвкусием. Этот новый режим противополагался старому не столько даже силой выдвинувшихся при нем больших талантов и блеском их произведений, сколько самим создавшим его изменением вкусов, оценок и теми новыми горизонтами, которые он открывал не одной живописи и скульптуре, но всякому вообще и особенно так называемому прикладному художеству. Недаром все это движение соприкасалось в своих истоках с немецким «Югендштилем» и с родственными ему обновительными движениями в Англии, Франции, Бельгии, Голландии и скандинавских странах. Оттого-то новому поколению и стала казаться провинциальной не одна только недавняя живопись (Шишкина, например, или Верещагина, а то и Поленова или Васнецова), не одна только скульптура (Антокольского или Бернштама), но и вся старорежимная домашняя утварь, домостроительство в лжерусском «петушковом» стиле, пестро-коленкоровые переплеты книг с барельефно вытесненными портретами их авторов, как и всяческие претенциозно-роскошные «произведения искусства» вроде того, что описано в озаглавленном этими словами рассказе Чехова. Пересмотр коснулся и всего художественного прошлого. Картины Эрмитажа ожили, вследствие чего померкли, в другом музее, неподалеку, и «Последний день Помпеи» Брюллова, и «Фрина» Семирадского, и репинские «Запорожцы, пишущие ответ турецкому султану». Заново была открыта прелесть старого Петербурга, красота древних икон, величие древнерусской церковной архитектуры. Тому, кто нынче захотел бы наглядно ощутить различие между совсем еще в те времена недавними воззрениями и вкусами и теми, что им так быстро шли на смену достаточно будет перелистать очень распространенную в начале века «Историю искусства» П. П. Гнедича в трех томах, а затем заглянуть в тот же «Аполлон» или в «Историю живописи» Бенуа, или в незаконченную, как и она, первую, выходившую до 1914 года под редакцией Игоря Грабаря «Историю русского искусства». Контраст, который предстанет его глазам, красноречивее всяких рассуждений. Это — контраст культурных уровней, а не отцов и детей в одной и той же культурной среде. Невозможно себе представить сколько-нибудь образованного человека, где бы то ни было, в сегодняшнем или вчерашнем мире, который — прочитав ли или только взглянув на эти книги – предпочел бы Гнедича Бенуа или Грабарю. Но это резкое повышение уровня, это быстрое приближение к западноевропейским понятиям, вкусам и оценку не могло не быть поначалу достоянием довольно узкого круга людей и на всю ширь страны распространялось, исходя из двух столиц, не в таком уж скором темпе. Кроме того, «Югендштиль», как и бельгийский, французский, английский «стиль модерн», около 1905 года повсюду оказался модой, вышедшей из моды (на пятьдесят лет, после чего он вновь стал модой, но уже ретроспективной). Никакого подлинного стиля, прочно укорененного в архитектуре, из него не получилось. Архитектура двинулась было в сторону неоклассицизма (в России — неоампира), но ее быстро осилил инженерно, технический функционализм, оторвавший ее от живописи и скульптуры, которые стали устремляться — сквозь кубизм или минуя его — к беспредметности (отказу от изображения). «Мир искусства», в связи с этим, стал терять свое влияние — сперва в Москве, где оно всегда было слабей, потом и в Петербурге. Его мастеров упрекали в том, что их произведения предполагают слишком большое знание о прошлом (об этом уже говорилось в первом номере «Золотого руна»); ставили им в вину декоративность, подмену живописи расцвеченной графикой, «литературность» выбираемых ими тем. Жалобы эти — отчасти справедливые — участились, и перемены, предвещавшиеся ими с полной ясностью, определились к 1910-му году, когда состоялась первая выставка группы «Бубновый валет», а Кандинский в Мюнхене написал свою первую абстрактную картину. Перемены эти не могли не проистечь из все более тесного сближения с западным искусством. Оно привело к ориентировке на Париж и на все «последние слова», сказанные в Париже, тем более, что услышать их можно было и у себя дома, благодаря собирательскому пылу, проявленному московскими купцами Щукиным и Морозовым, а также выставкам французской живописи 1908 и 1909 года Москве и 1912 года в Петербурге. Но сыграл тут грубоватый натиск людей неотесанных, которых «последнее слово» освобождало от традиций и авторитетов, позволяя им выдвинуться при наличии хотя бы небольшого дарования, а то и просто заменяющей его в таких случаях отваги.
При всем том искусство в России обогащалось, а не хирело; о недавней скудости своей больше и не помнило. Так встретило оно 1914, потом 1917 год.
Первые пять лет
Одним из главных последствий разгона Учредительного Собрания и захвата власти Лениным был исход из России очень большой части русской интеллигенции (в самом широком, на этот раз, смысле этого слова). Много писателей ее покинуло, но еще больше художников; им, как и музыкантам, легче было принять это решение: трудам их переводчики не нужны. Позже иные из оставшихся уехали, иные из уехавших — вернулись; но на первых порах среди оставшихся (и не готовившихся уезжать) главным образом числились те, кто либо все новшества отвергал и Запада чуждался, либо числился, напротив, среди самых крайних новаторов и бунтарей. Первым пришлось запастись терпением, хоть и ненадолго; вторых ожидал пышный, но кратковременный триумф. Первые выбрали правильно; вторые ошиблись. Их обманула метафора. Они вообразили, что революция и «революция в искусстве» — то же самое. Революция их за это наказала.
Вначале, само собой разумеется, не могла она их не приголубить — с таким энтузиазмом бросились они к ней в объятия. Но уже и вначале заметны были у новых хозяев страны, революцию эту сделавших и се в себе воплощавших, некоторые колебания насчет того, чего надлежало искусства ждать и какого нужно было желать искусства. Управлять соответственным комиссариатом посажен был, правда, Луначарский Анатолий Васильевич, отчасти даже и литератор, долго живший за границей и считавшийся в своей партии светочем культуры. О расплодившихся к тому времени «измах» он кое-что слышал, знаком был со склонным к кубизму Натаном Альтманом, знал, что в Германии хорошо знали Кандинского, ведать же искусством в Наркомпросе поручил своему еще лучше во всем осведомленному (он учился живописи за границей) приятелю Давиду Штеренбергу, возглавившему в начале 1918 года ИЗО — Отдел Изобразительных Искусств. С точки зрения самых последних «измов» название Отдела могло показаться контрреволюционным, так как от изображения эти «измы» как раз и отрекались; но если Штеренберг и его старшой отсталыми прослыть отнюдь не желали, то отталкивать кого-нибудь тоже не входило в их намерения, тем более, что на первых порах не так уж было и ясно, кто к их знаменам примкнет, а кто не примкнет. При Отделе образованы были две Коллегии: под председательством Альтмана в Петербурге и (немного позже) под председательством «конструктивиста» Татлина в Москве. В первую, однако, вошли также и верный заветам «Мира искусства» Чехонин, и талантливый, но чуждавшийся крайностей скульптор Матвеев, и весьма эклектический, хоть и одаренный, архитектор Щусев (которому предстояло строить мавзолей Ленина), а кроме того — Маяковский, друг его Осип Брик и критик из «Аполлона» Николай Лунин, быстро и двусторонне полевевший в направлениях, так сказать, Ленина и Татлина одновременно. Так и в московской Коллегии рядом с Кандинским (он с начала войны жил в Москве) и супрематистом Малевичем заседали Машков и Павел Кузнецов, скульптор Коненков, архитектор Жолтовский, люди с именем, но не столь уж безоглядно «передовые». Тем не менее сами действия и решения ИЗО были революционны, и притом, опять-таки, двусторонне революционны, как по линии «Октября», так и супрематизма (или конструктивизма).
О двух этих линиях будет еще речь, как и о действиях ИЗО, но сперва надлежит отметить, что уже тогда, в 1918 году, в первые же месяцы того года не все шло именно так, как мечталось тем, кто поставил ставку зараз и на Татлина (или Малевича), и на Ленина. В то самое время, когда Луначарский и Штеренберг стали ведать делами искусства, занялся ими – совсем уже сверху – он сам. По его, Ленина, инициативе и по горячо одобренному им плану стали в Петербурге, в Москве, в городах, а порой и в деревнях, воздвигать памятники очень разнообразным Героям Мировой Революции: Марксу, но и Гейне, которого Маркс так люто ненавидел (памятник Гейне был водружен почему-то перед петербургским университетом); Белинскому, но и Бакунину (анархистам он не пришелся по вкусу, и в Москве они его уничтожили в день открытия); Чернышевскому, но и Мусоргскому, Курбе, и даже (очевидно не сам Ленин составлял список) Сезанну. Монументы эти сооружались наскоро из малопригодных, непрочных материалов; но не только поэтому являли они жалкий вид, а еще и потому, что за немногими исключениями выполнены были в самой позавчерашней, «похож-как-две-кап-ли-воды» манере, так что казались слепками голов или целых фигур с натуры, но огромных голов и высоченных фигур. Мальчишки кидали в них снежки, прохожие ухмылялись… Век их был недолог. Указ, вместе с выполнением его, был всего лишь эпизодом, но заключавшим в себе довольно язвительное предзнаменование.
В ИЗО тем временем сложа руки не сидели. Первым делом учреждено было при петербургской Коллегии музейное бюро, которому правительство ассигновало два миллиона рублей на покупку произведений искусства и на устройство музеев по всей стране. Их и было за три года открыто 36 и запланировано еще 26, после чего и Коллегия и бюро приказали долго жить. Директором бюро назначен был Александр Родченко, последователь сперва Малевича, потом Татлина в живописи, коммунист по верованию, но не по партийному билету, в котором ему было отказано с отвечающей действительности, но все же загадочной мотивировкой: «недостаток образования» (что, вероятно, означало незнание политграмоты). Картины покупались широко и, конечно, «левых» (по характеру их искусства) художников отнюдь при этом не забывали, чем, однако, и вызвали негодование своей же «Правды», писавшей (24 ноября 1918 года), что покупать следовало картины не у футуристов, «чье будущее весьма спорно», а у таких художников, как Бенуа, Головин и вообще у дореволюционных мастеров с прочно установившейся репутацией. Луначарский на это отвечал, что полотна приобретаются у живописцев всех школ, «но в первую очередь у тех, которые при господстве буржуазного вкуса находились вне закона и потому не представлены в наших галереях». («Искусство коммуны», № 1,7 декабря 1918; обе цитаты приведены по книге Камиллы Грей “The Great Experiment", London, 1962. С 220). О том, как бы вновь не оказаться «вне закона», да еще совсем по-другому, по новому, тогда еще беспокоиться никому в голову не приходило.
Вторым решительным шагом ИЗО было в Петербурге закрытие летом того же года Академии художеств и замена ее осенью СВОМАСом (Свободными Мастерскими), а в Москве, тогда же, учреждение ВХУТЕМАСа (Высших Технико-Художественных Мастерских), куда влилось прежнее Училище живописи, ваяния и зодчества вместе со Строгановской школой прикладного искусства. Преподавание, там и тут, было организовано на выборных началах, но выбирали, разумеется, тех, кто был налицо — и кто не отказывался от избрания. Главные преподавательские места получили в Петербурге (не считая Штеренберга) Альтман, Пуни, Петров-Водкин; в Москве — Малевич и Татлин (которых затем перевели в Петербург), Кандинский, Певзнер, Розанова, Удальцова, Кузнецов, Фальк и Фаворский. Последние три, Петров-Водкин, да и Альтман крайне «левыми» в своем искусстве не были; левизна их почиталась достаточной, но только для вторых ролей. Покуда метафора революционности и левизны считалась не метафорой, а правдой, первенствовать могли лишь те, левее которых не было. Именовались ли они (еще с прежних времен) супрематистами или конструктивистами, было менее важно, хотя порой и возникал между ними семейный спор о том, кто кого левей; по нынешней партийной терминологии все это были «абстракционисты». Свою левизну, в обоих смыслах ; они принимали одинаково всерьез. По их убеждению, они делали революцию в искусстве и тем самым участвовали в революции, призванной все переделать, все перестроить, в том числе — их силами и по их замыслу — также и все то, что звалось до тех пор искусством.
Старшим среди них был Кандинский: ему исполнилось пятьдесят четыре года. Малевичу было сорок лет. Татлину — тридцать три года. Певзнеру — тридцать два. Другие были моложе, всех моложе Пуни — двадцать четыре года. Певзнер и его брат Габо (тоже преподававший, хоть и без «кафедры», во ВХУТЕМАСе) прибыли из Норвегии в предыдущем году, их в России совсем не знали, да и Кандинский тут был менее известен, чем в Германии. Зато Малевич и Татлин выставляли с 1909 года и от изображения к неизображению стали переходить еще до войны, почти одновременно с Кандинским. Свой ставший позже (и не в России) знаменитым черный квадрат на белом фоне Малевич выставил в 1915-м, но написал раньше, по-видимому, еще в 1913 году. Теперь, в 1918-м, начертал он белый квадрат на белом фоне; то была «супрематистская композиция: белое на белом», и Родченко, прежде подражавший Малевичу, а теперь соперничавший с ним, тотчас ответил ему другой «композицией» — «черное на черном». Названия эти не следует понимать буквально: черное тут было не везде одинаковой густоты, и белый квадрат выделялся более чистой белизной на белом фоне. Но все же картиной такого рода художник не может не прощаться с живописью, и Малевич это вполне ясно осознал. На следующий год устроил он в Москве выставку «От импрессионизма к супрематизму», показал на ней 153 своих холста и объявил, что живопись этими именно холстами и кончается (недаром французское слово supreme означает сразу и «высший», и «последний»). Татлин (как за ним Родченко и ряд других, Лисицкий например) тоже от живописи отходил, но по иному пути: он заменял картину брусьями и другими «матерьялами», как это у него называлось, прибитыми к доске, или же стоящим на постаменте, со всех сторон обозреваемым «предметом». Это и называлось конструктивизмом или, одно время, объективизмом, изготовлением «объектов»; но так как «объект» или «предмет» может вполне быть чем-то применимым на практике, то почему бы к изготовлению таких практически полезных предметов и не перейти? Тем более, что в изделиях такого рода, печах, например, стала ощущаться острая нужда. Татлин и стал работать над проектом печки, которая при наименьшей затрате топлива давала бы наибольшее тепло. За этим последовала модель чайника, потом металлического стула… Но еще до стула наметились у него разногласия с теми, кто стал говорить: «Хорошо, но где же тут искусство?» Разногласия бывали и раньше. Бывали и кулачные бои — как еще в 1915 году, когда Малевич подрался с Татлиным из-за господства на выставке, в которой они участвовали оба. Стычки вызывались и распределением картин по музеям: Родченко собрался было посылать одну из скульптур Габо в Царевококшайск, то есть в отдаленнейшее захолустье, к большой обиде Габо, которому Кандинский об этом сообщил. Против самого Кандинского в Московском ИНХУКе (Институте художественной культуры), высшем органе идейного руководства искусством, учрежденном в мае 1920 года, через несколько месяцев уже сплотились все его сотрудники и при голосовании провалили его программу; Кандинский перебрался в Петербург, где при его участии СВОМАС превратился в Академию художественных наук; программу ее он разработал, но уже готовясь к окончательному отъезду. Малевич еще в 1919 году нагрянул чинно в Витебск, родной город Марка Шагала, в начале войны вернувшегося в Россию и теперь управлявшего Витебским художественным училищем, откуда Малевич его и выгнал, сел на его место и переименовал училище в УНОВИС (Училище Нового Искусства). Шагал был объявлен при этом художником отсталым и для революции непригодным; ему пришлось спасаться в Габиме (еврейском театре в Москве), где он и проработал еще два года, после чего уехал и он: обратно на Запад. К тому времени отъезды и вообще участились, а среди решительнейших революционеров стали уезжать приехавшие недавно. Раньше других они почувствовали, что окажутся скоро не удел, да и было им куда уезжать. К концу 1922 года Кандинский, Певзнер, Габо, а вслед за ними и Пуни оказались за границей. Другие остались, но все пошло так, как если бы уехали и они. Наступили другие времена. Революция в искусстве кончилась.
Если подводить ей итоги, то можно, хоть и покажется это странным, сказать, что не определяют их ни произведения этих художников, ни их теории. Сколько-нибудь членораздельны были только теории Кандинского, намеченные в Мюнхене, разработанные в ИНХУКе, но пригодившиеся ему для преподавания лишь в Баухаузе. В писаниях Малевича были разве что проблески мысли. В писаниях Родченко и проблесков не было. Что же касается произведений, то дарование живописцев проявили за эти годы (как проявляли его и раньше) в абстрактных своих полотнах Александра Экстер (перешедшая вскоре на театральную работу с режиссером Таировым), Надежда Удальцова и Любовь Попова (особенно вторая, обе они учились в Париже у Ле Фоконнье и Метценже); проявлял его, весьма ярко, в этих ранних своих работах Пуни. Татлин же и Малевич (у которого азарта было больше, чем таланта) перестали его проявлять. Вместе с теми, это к ним примкнул и о чьем даре судить достаточных оснований нет, они занялись другим: не живописью (или скульптурой), а экспериментами, как в то время и Кандинский, и Певзнер, и Габо. Эксперименты Малевича и Татлина ничего не дали ни живописи, ни скульптуре, да и ничего не хотели им давать, оттого что устремлены были к ликвидации той и другой. Но это не умаляет, а напротив, подчеркивает их значение в истории современного искусства, или в истории того, что происходит с искусством в наше время.
На Западе этих экспериментов не учли, да и очень немногие здесь вообще о них знали. Здесь и позже пытались, и сейчас еще пытаются заменить предметную живопись беспредметной, тогда как там за несколько лет сами «беспредметники» пришли к выводу, что беспредметная живопись отменяет живопись. Здесь в качестве новшества изготовляют с недавних пор трехмерные объекты; там это начали делать еще до первой войны, а в сентябре 1921 года Родченко, Степанова (его жена). Попова, Экстер и Александр Веснин устроили в Москве совместную выставку, называвшуюся «2x2 = 5», но тут же сообщили во всеуслышание о конце живописи – да и «объектов» как искусства ради искусства — и «предложили свои услуги народу» в качестве производственных работников. В ноябре того же года на собрании ИНХУКа собравшиеся объявили свою деятельность как «только живописцев» бесцельной, и к тому же времени Татлин, изготовив свою знаменитую модель Башни III Интернационала (произведения архитектуры, хоть и утопической), окончательно перешел (пусть и работая по временам для театра) от искусства к тому, чего иначе не назовешь, как техникой. Лично ему всего больше было по душе любительское изобретательство: он тридцать лет проработал над конструкцией аппарата, окрещенного им «Летатлин», но который в воздух так и не поднялся. Остальной «авангард» спасения от нахлобучек или чего похуже, да и пропитания стал искать в личных формах industrial design. Родченко и Степанов занялись типографским делом — ему ведь и художество не чуждо; Лисицкий – тем же и эфемерной архитектурой: специализировался на постройке советских павильонов для международных выставок. Один Малевич так и остался не у дел. От своих принципов — осуждения живописи, «напоминающей о живом» и несвободной от «остова вещей» — публично не отказался, но частным образом, в конце жизни, писал, говорят, портреты членов своей семьи. Умер он (Татлин его пережил на 18 лет) в 1935 году и похоронен был в гробу, который заранее расписал «супрематистскими» узорами.
Дальнейшие десятилетия
Насчет спасения и впрямь приходилось хлопотать: наступали времена крутые. Не только для революции в искусстве, но и для искусства вообще (да и для революции, в понимании первых ее энтузиастов). Над Свободными Мастерскими и всем прочим, в том же роде, скопилась гроза; недаром и ВХУТЕМАС сделался вскоре ВХУТЕИНом, то есть Институтом с кем-то властью облеченным во главе, а СВОМАС — Академией, чем он и был от Екатерины II до Луначарского со Штеренбергом. Попал впросак даже Пролеткульт, старейшее партийное высокого полета учреждение, годами существовавшее еще до захвата партией власти. Там считали, что пролетариат призван создать совершенно новую антибуржуазную культуру, а значит, и распрощаться решительным образом с мещанскими вкусами и с мещанским пониманием искусства. Но когда в «Правде» 27 сентября 1922 года один из руководителей этого учреждения В. Плетнев заявил: «Изобразительное искусство нового мира будет производственным искусством или его не будет вовсе», то получил головомойку не от кого другого, как от Ленина, который рассуждения его назвал «фальсификацией исторического материализма». А когда, около того же времени, открылась выставка Нового Общества Живописцев (НОЖ), молодых беспредметников, наскоро забивших отбой и задумавших вернуться к нарочитому дикарству (парижские fauves плюс русский лубок) «Бубнового валета», Ларионова, Гончаровой (так и не вернувшихся из Парижа после войны) и тогдашнего Малевича, то их строго призвали к порядку; этот «культ примитива» тотчас и раз навсегда был осужден, Павел Филонов (1883— 1943), единственный русский квазисюрреалист, художник весьма своеобразный и даровитый, воспользовался было (немного позже) этом запретом как беспредметного, так и добеспредметного (упрощающего предмет) искусства, и открыл в Ленинграде в 1925 году студию «аналитической живописи», имевшую немалый успех. Но три года спустя все частные художественные группировки и училища были запрещены; живопись же Филонова и по сей день предписывается считать «уродливой».
Однако эпизод с «аналитической живописью» был уже чем-то запоздалым и, так сказать, посмертным. К пятой годовщине «Октября» положение, во всем существенном определилось с полной ясностью. Всем «измам» надлежало исчезнуть и уступить место одному, еще не названному, но уже отчетливо рисовавшемуся на горизонте и на прежние не похожему: те обозначали «направления» внутри искусства, ему же предстояло служить кличкой управления искусством. О качестве этого управляемого искусства — столь самодержавно им еще никогда в России не управляли — можно было судить по качеству тех бетонно-фотографических монументов — Володарскому, Байрону, Константину Менье, Спартаку, — которых правда, сохранилось к тому времени немного, но которые так ясно отражали художественный вкус (да и вкус вообще) их инициатора и его будущих наследников. Впрочем, инициатор высказался и сам — критически, если не доктринально. Эти его слова (в беседе с Кларой Цеткин) имеют силу закона и по сей день. Они цитируются, как сказанные ex cathedra, в XI томе официальной «Истории русского искусства», вышедшем в 1957 году. Говорит Ленин:
«Мы чересчур большие ниспровергатели в живописи. Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно старое. Почему нам нужно отворачиваться от истинно-прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно старо? Бессмыслица, сплошная бессмыслица! Здесь многолицемерия и, конечно, бессознательного почтенияк художественной моде, господствующей на Западе. Мы хорошие революционеры, но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что мы стоимна высоте современной культуры… Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих измов высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости».
Об осведомленности слова эти не свидетельствуют; экспрессионизмом, например, никто в России не увлекался. Но здравого смысла у Ленина было достаточно, как и умения покорять им людей, не слишком озабоченных проверкой его доводов. Не вникая в суть дела, с его суждением легко согласиться. Отворачиваться от «истинно-прекрасного» и в самом деле грех, если не смешивать его с «красивым», и беречь его следует немножко бережней, чем берег его он, но все-таки зная, какое беречь стоит и какое не стоит. Гоняться за модой смешно, еще смешней, однако, насаждать задним числом вкусы и взгляды шестидесятых годов, чем его партия с ним во главе и занялась, производя попутно замену искусства «монументальной» или другой пропагандой. А так как Восток никаких мод не изобретал, да и сейчас еще не изобретает, то подчеркивать западность привлекающей русских художников моды было бы излишне, если бы не крылось за этим намерение снизить западный престиж. О «низкопоклонстве перед Западом» тут еще не говорится, но смысл этой формулы уже сквозит в иронических словах о «высоте современной культуры» и о желании доказать, что «мы» стоим на этой высоте. Престиж Запада и престиж культуры снижаются, таким образом, одновременно, как бы в неведении того, что сама культура не может не пасть вслед за падением ее престижа. Быть может, Ленин этого и не знал. Быть может, и того не знал, что словечко, как будто и скромное «я их не понимаю», станет вскоре и останется надолго разрешением, призывом и даже приказом не только «их», но и многое другое «не понимать».
Во всяком случае, близились годы очень большого низкопоклонства, но уж никак не перед западной культурой и не перед культурой вообще. Как бы в предвидении этого, алчный Запад успел-таки проглотить изрядное количество русских художников. Скульпторы Архипенко, Липшиц, Цадкин давно были за границей. Из живописцев с именем и талантом уехало большинство. Например: Бенуа, Сомов, Добужинский, Чехонин, Рерих, Бакст, Коровин, Яковлев, Григорьев (вернувшийся позже), Анненков, Милиоти, Судейкин, Стеллецкий, Серебрякова, Бушен; из самых молодых — Бенн, Терешкович, Ланской и ряд других, создавших себе имя в Париже, подобно Ивану Пуни, превратившемуся во французского (неабстрактного) живописца Жана Пуньи. Оставшимся жилось нелегко. Им пришлось приспосабливаться ко все более точно формулируемым требованиям и все яснее определявшимся новым — или очень старым, но незадолго до этого пересаженным из первых рядов на галерку, — вкусам. Один из талантливейших, Кузьма Петров-Водкин (1878—1939) — расквитался было за свое старое «Купание красного коня» павшим на поле брани «Красным командиром», но батального холста этого оказалось недостаточно, и менять надлежало не тему только, но и манеру. В голодную зиму 1920 года создал он свое лучшее – Рисунки к Евангелию от Иоанна, переправил их в Париж, где они два раза выставлялись; потом их увезли в Америку; не знаю, что с ними случилось; но с художником случилось грустное, как с поэтом, которого заставили бы пересказать свои стихи прозой, да еще и «не о том» писать стихи. Пережил его художник намного его старше, достигший славы еще в начале века, — Нестеров (1862— 1942). Прославили Нестерова нежные (и немножко приторные) монастырские (по настроению или темам) пейзажи; но уж это, разумеется, пришлось оставить, и сделался он заправским портретистом, старательно угождавшим заказчикам; но с грустью, должно быть, глядел он в Русском музее на портрет дочери, написанный им когда-то, свободно написанный, как ему хотелось, без мысли о том, как бы не слишком отступить от фотографии. Утихомирились скульпторы Матвеев, Коненков, Голубкина. Образумился и озорной «Бубновый валет»: Машков, Кончаловский, Лентулов стали паиньками. Живи они в Париже, они бы теперь выставляли не в «Салоне независимых» или «Осеннем салоне», а в сверхблагоразумном «Салоне французских художников». Павел Кузнецов постарался реже вспоминать о выставке «Голубой розы» и о плоскостной живописи своего учителя Мусатова: теперь полагалось писать объемно, а голубых роз, как известно, в природе нет. Сарьян уберег кое-что от матиссовской своей палитры, перебравшись спешно на родину, в Армению. Роберт Фальк (1886—1958), кривить душой не склонный, вырвался чуть ли не последним в Париж, пробыл там десять лет, вернулся, приобрел друзей своему искусству, но был Хрущевым до и после смерти осужден. «Не понимаю. Не испытываю радости». Нет, не это он сказал; он выражался куда крепче.
Конечно, талант, как его ни приспособляй, все-таки порой и скажется. Дейнека, ученик Фаворского, тогда еще молодой, весьма ярко проявил дарование подражающей Ходлеру и Эггер-Линцу «Защитой Петрограда» (1928). Проявлял его нередко и позже; но сколько ему пришлось написать вымученного, подсказанного, навязанного! Фаворский, превосходный гравер, воспитал для графики немало способных учеников, однако в общем книжная иллюстрация тяжело пострадала от мелочности, буквальности, боязливости, от узко понимаемой иллюстративности, а целостное оформление книги за сорок лет не дало ничего; что хоть издали могло бы сравниться с лучшими книгами предшествовавших двух десятилетий. Но всем этим главное еще не сказано. Чего от талантливых людей трудно было добиться, того от других добивались без труда. Об этих других не сразу вспомнили, но когда надумали к ним обратиться, они оказались тут как тут и быстро наплодили себе подобных. Были это люди не первой молодости, а то и совсем пожилые. В искусстве держались старины, уважали передвижников, у них же и выставляли. Об одном из них в «Истории русского искусства» (Т. XI, С. 199) сказано: «Среди поборников реализма, стоявших у истоков советской живописи, особую роль сыграл Н. Касаткин». Тут же даны и два произведения этого поборника, одно 1925, другое 1926 года: пресмазливенькая, совсем с папиросной коробки «Рабфаковка», и «Пионерка», серьезная такая, с книжками, но тем не менее красотка, хоть и скорей кондитерской, чем табачной разновидности. Передвижнику Касаткину шел тогда седьмой десяток, он был старше Ленина (которого уже не было в живых); но ведь «красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно старое». Завет Ильича был выполнен. Именно такое «истинно прекрасное» и «стояло у истоков» советского искусства.
Не сплошь, конечно, столь же парфюмерное, но столь же шаблонное, состряпанное по тем же обветшалым шестидесятническим рецептам. Касаткин (ученик Перова) был передвижник второго поколения, как и его сверстники Малютин и Архипов. Все трое, вместе с живописцами того же пошиба, но помоложе, и которые тоже стояли у истоков (Сергеем Герасимовым, Бродским, Грековым, Авиловым), искони были «поборниками» того реализма, который теперь побеждал без всякой борьбы, как стояло ему победить и в Германии при Гитлере и (менее отчетливо) в Италии при Муссолини. Это был не реализм
Курбе или Лейбля, или Сурикова, Серова, или даже Репина в лучших его вещах; это был тот реализм, который и Западу с середины прошлого века был очень хорошо знаком, но образцы которого давно уже из здешних музеев изъяты (хранятся в запасе, ждут, может быть, «Октября» или «похода на Рим»). Правда, советский реализм называется социалистическим, но квалификация эта относится не к искусству, а к пропаганде, производимой посредством искусства (никто ведь не может отличить социалистический мазок от социал-предательского, и социалистически изваянную ногу от империалистически изваянной ноги). Название было утверждено постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года. «Социалистический реализм» — сказано там — «требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма». «Кажется, ясно?» — как любила говорить личность, которой в то время воздавался культ. «Правдивость и конкретность» — это реализм, а «переделка и воспитание» — это его социалистичность. Ею определена задача реализма, но не его характер или качество.
На самом деле, однако, и качество, и характер вытекают из этой задачи, только в официальных документах ничего об этом не сказано. С прадедовских или прапрадедовских времен так повелось, что хорошая живопись (реалистическая или нет) нравится немногим, а плохая — многим. Пропаганда же обращена ко многим, а до немногих ей дела нет. Переделывать и воспитывать (по мнению партой) нужно всех, а не каких-то отдельных чувствительных к искусству людей, которые класса не образуют и встречаются как среди рабочих, так и среди аристократов и купцов. Хорошенькая пионерка нравится всем, трактористы в поле при хорошей погоде тоже, и лишь немногие морщатся, глядя на пионерку и трактористов, когда ее написал Касаткин, а их – Герасимов или Пластов. Картина Владимира Серова (1950)— не Валентина, о нет! – изображающая крестьян, пришедших беседовать с Лениным о своих нуждах,— верх убожества, совершенный Кнаус, Вотье или Владимир Маковский, но она, конечно, нравится «всем» и обратно-пропагандное действие производит на очень немногих. Как наивен был Пролеткульт! Пролетарские или, скажем, рабоче-крестьянские вкусы, это ведь и есть те же самые мещанские, совершенно сходные со средними вкусами телеграфистов, зубных врачей и, может быть, премьер-министров, если бы искренние вкусы премьер-министров были нам доподлинно известны. Ленин не зря скрутил Пролеткульт в бараний рог. Причем никакого лицемерия ни ему, ни Сталину, ни Гитлеру, ни Хрущеву в этих делах проявлять не приходилось. Их вкусы ничем не отличались от тех, которым они повелевали угождать.
Сегодня и завтра
Сорок пять лет сидит Россия на прописанной ей «партией и правительством» диете. Каковы последствия этого? Те самые, которых можно было ожидать: оскудение, провинциализация, разрыв как со своим собственным недавним прошлым, так и со всей современностью других, некоммунистических, а то и коммунистических стран. Оскудение, не количественное, конечно, а качественное, сказалось немедленно. Вызвано оно было в равной мере отъездом за границу наиболее одаренных художников и запретом, наложенным на всех оставшихся писать и ваять по-своему каждый раз, как это «по-своему» не совпадало с тем, что представлялось написанным или изваянным «по-нашему» людям, в искусстве ничего не понимавшим. А так как не одни художники, но и простые смертные, кое-что понимавшие в нем, либо уехали, либо погибли, либо принуждены были молчать и кривить душой, то весьма быстро обнаружилось и общее понижение вкуса, о котором легко судить хотя бы по внешнему облику книг, улучшившемуся лишь в последнее время, да и по всему прикладному художеству с конца двадцатых годов. За дальнейшие десятилетия бытовая безвкусица (в обстановке квартир, одежде, выборе украшений) достигла таких размеров, что стала колоть глаза кое-кому из ее виновников. На XXII съезде Хрущев призывал «уделить серьезное внимание эстетическому воспитанию, формированию художественных вкусов у всех советских людей, объявить решительную борьбу безвкусице, в чем бы она ни проявлялась — в формалистических увлечениях или в мещанских представлениях о красивом в искусстве, в жизни, в быту». Призыв этот и показателен, и забавен. Показателен для степени бедствия, раз уже вокруг Хрущева стали его замечать; забавен заколдованным кругом, в котором вертится высказанная в нем мысль. «Формализм» тут, конечно, не при чем: безвкусен не «Ослиный хвост», а фарфоровый ослик с ленточкой на шее. Если же мещанство торжествует, то ведь это потому, что им проникнута партийная верхушка, неспособная от него освободиться по недостатку образования, приобрести которое мешает этим людям застрявшая у них в мозгу идеологическая труха. А если мещанство торжествует в искусстве , то ведь как раз оттого, что малейшее отступление от мещанской красивости и мещанского «ах! до чего похоже!» приводит к обвинениям в «формализме», «абстракционизме» и «низкопоклонстве перед Западом». Раз ты, скульптор, не принадлежишь к потомству Мухиной и Шадра, значит, не будет тебе ходу. Раз ты, живописец, не внук Касаткина, не племянник Иогансона, не двоюродный брат Шаталина и не поклонник Владимира Серова, значит не будет ходу и тебе. Другими словами: чем банальней, чем провинциальней твои работы, тем легче ты сделаешь карьеру — совсем как в буржуазных монархиях и республиках прошлого века, покуда не было поколеблено законодательствовавшее в их
искусстве официально-салонное мещанство. Провинциальна была русская живопись тех, прежних, шестидесятых годов не по сравнению с Бонна или Мейссонье, а по сравнению с Мане или Сезанном. Прошло сто лет и нынешние хозяева России все еще пытаются держать ее под замком, не выпускать ее из того шестидесятнического провинциализма, к которому они ее вернули, после того как ей удалось вырваться из него. Они русских художников разлучают не с теми западными, которые и сейчас, как прежде, пишут в любых столицах провинциальные портреты и пейзажи, генералов при всех орденах и каких-нибудь нынешних «Запорожцев» или «Бурлаков», а со всеми другими, с живыми, с теми, кто, быть может, и заблуждался, да не стоял сорок лет в стороне, на запасном пути. Сутин не стал бы Сутиным, если бы в юности не уехал из России; Шагал перестал бы быть Шагалом, если бы вовремя не выбрался из нее. Эти два больших художника с мировым именем, как и многие другие, преуспевшие на Западе (например, среди «беспредметников» в недавнее время — Поляков и Димитриенко), от своей страны не отрекались; это ее хозяева хотят, чтобы она отреклась от всего, что они называют «абстракционизмом». Ярлык этот наклеивают они отнюдь не на одну только беспредметную живопись (и такую же скульптуру). Абстракционизмом — твердят услужающие им комментаторы — грешит уже добрых сто лет все европейское искусство; из его больших мастеров последний безупречный реалист — Курбе. Когда читаешь недавние полемические книги Стойкова и Кеменова, думаешь, однако, что такая конструкция внушена их авторам оценками, принятыми в некоммунистическом мире. «Реалистической», прошедшей мимо импрессионизма, как и всех дальнейших новшеств, живописи, было сколько угодно и после Курбе; есть она повсюду и сейчас. Вот только качество… Но ведь ярлыки «абстракционизма» и «социалистического реализма» ровно ничего о качестве не говорят. Да и зачем хозяевам качество, когда они не разбираются в качестве? Зачем им новый Курбе? Они совершенно будут удовлетворены новым Верещагиным или Касаткиным.
Коммунистическим партиям Запада (например, итальянской и французской) советско-партийные взгляды на то, каким должно быть искусство, представляются слишком узкими. Французский партийный идеолог Гароди, не бог знает какой широколобый, все же их в 1963 году весьма жестоко раскритиковал. В Югославии, в Польше тоже не считают нужным приструнивать своих «абстракционистов» и вообще отягощать партийную доктрину еще и эстетической догматикой. Зато в послесталинском СССР наклеиватели ярлыков работают едва ли не усердней, чем при Сталине. Это, быть может, не такой плохой признак. При Сталине расправа была коротка, и не «доктора искусствоведческих наук» ею занимались. Теперь (1964) один такой доктор (А. А. Федоров-Давыдов в предисловии к переведенной с болгарского книге А. Стойкова) пишет:
«Абстракционизм (или абстрактное искусство) — отрицательное, глубоко реакционное течение современного буржуазного искусства. Абстракционизм антигуманистичен, враждебен всему подлинно-человеческому Он является врагом реализма, врагом социалистического и всякого вообще передового, прогрессивного искусства».
Одним словом, «абстракционизм» — это в данной области тот же «ревизионизм»; можно, однако, за этого престарелого защитника устоев опасаться, как бы его завтра не обвинили, при помощи столь же гибкого понятия, в «догматизме». Тем более, что у него же, перелистнув страницу, читаем:
«Абстракционизм сильно повлиял на искусство Польши и отчасти сказывается в искусстве Чехословакии. Даже в советском искусстве он сказался как увлечение части молодежи формалистическим западным искусством. Нашлись люди, которые стали ему подражать или его оправдывать…»
Лучше бы он сказал: нашлись люди, которым сидеть на установленном партией голодном пайке надоело и которых тем жалким ярлыком становится труднее напугать,
Все сильнее обозначается в России за последние году различие между поддерживаемой властью фикцией и реальным положением вещей, о котором, разумеется, живя за границей, точное представление составить себе трудно. Интерес к тому, что делается за пределами Советского Союза, во всяком случае, растет, как растет и осведомленность по этой части, которой помогают полемические книги — их раньше не было, они раскупаются быстро, – и уж, наверное, не из интереса к самой полемике. Живописцы и скульпторы, которым власть говорит: «Не понимаю, не испытываю никакой радости», — показывают свои произведения у себя на дому или в мастерской приятеля и доставляют друзьям своего искусства, порою многочисленным, истинную радость. Некоторые пишут вполне беспредметные картины, думая, должно быть, что риска в этом не больше, чем в любом отступлении от шаблона, которое точно так же заклеймят все тем же клеймом: «абстракционизм». Другие не считают для себя обязательной беспредметность, зная, что давным-давно была она испробована в России и что многие ищут выхода из нее на Западе (как нашел этот выход, например, Пуни, конечно оставшись «абстракционистом», или «формалистом», по нелепой, точно в сыскном отделении придуманной терминологии). Из этих живописцев Краснопевцев и Рабин известны мне лишь по воспроизведениям, убедившим меня, однако — как и рисунки скульптора Неизвестного, — и, я думаю, всякого способным убедить, что это художники, а не социалистические реалисты. Зато выставку Анатолия Зверева в Париже в начале 1965 года (акварели и гуаши, 1956—1964) я видел собственными глазами, мог сравнить более ранние портретные и другие наброски, еще неуверенные, еще не чуждые шаблону, с освободившимися полностью от него более поздними и зрелыми листами. В книге для посетителей я тогда написал: «Как хорошо, что недавние работы — самые лучшие! Как вырос художник за восемь лет! Нет, слава Богу, русская живопись еще не умерла». Рад повторить это и теперь. Русская живопись не умерла, как и русская литература. Несмотря на то, что советская власть все от нее зависящее делает, чтобы и ту и другую умертвить, превратив их обе в подсобное ее целям средство.
«Советская власть» — это, конечно, не власть «советов», никакой властью не облеченных, а власть небольшого количества людей, опирающихся на государственный и еще больше на партийный аппарат господства над всеми прочими. В работе обоих этих аппаратов проявляются за последние годы некоторые задержки и перебои. Власть время от времени уступает предъявляемым ей негласно или с очень слабой оглаской требованиям; в тех случаях уступает, когда требования эти разделяются людьми, близко стоящими к ней, или хотя бы к верхушкам тех аппаратов, с помощью которых она осуществляется. В области искусства, как и литературы, таким требованиям отвечают и самим существованием своим о них свидетельствуют все произведения, которые не подчиняются правилу «фотографируй, но лишь выгодное для власти и не без ретуши, лестной для нее», и поэтому попадают с трудом или вовсе не попадают на выставки и в печать. Правило это условно именуется социалистическим реализмом; произведений, им пренебрегающих, становится больше с каждым годом; но это не значит, что произведения эти должны оказаться или на деле оказываются в чем-то сходными между собой. Требование, молчаливо предъявляемое всеми ими сообща, а порой и высказываемое более или менее открыто, не предрешает выбора; оно требует свободы выбирать; но власти удовлетворить его нелегко, так как она знает, что выбрано будет что угодно, но не то, что ей угодно, не то, что она насаждала с таким усердием столько лет. Однако если нелегко уступить, то и не уступать становится ей все труднее. Будущее русского искусства в значительной мере зависит от того, как долго еще захочет или сможет она упрямствовать. Ведь Россия в искусстве, как и в литературе, лишена не только свободы выбора, но и свободы обсуждать этот выбор, и даже свободы осведомляться насчет того, что надлежало бы обсуждать, из чего надлежало бы выбирать. Мешают знакомству ее художников, как и писателей, с Западом; мешают их полному ознакомлению даже с ее собственным недавним прошлым. Если долго еще сумеют мешать, добьются одного: когда рухнет стена, будет у нас то же, что везде, а русского искусства не будет. Этого люди, выросшие в досоветской России, как я, не могут хотеть; они верят, что будет другое. Русское искусство не исчезло. Есть надежда, что оно найдет свой путь, и даже найдет его не только для себя. Кому же надеяться на это, как не нам, тем, кто видел, как горячо оно его некогда искало?
МОСКВА У ВЕРСАЛЬСКИХ ВОРОТ
Вскоре после ее открытия побывал и я на советской выставке в Париже. Думал, что будет толпа народу и придется долго ждать у кассы, но ждать не пришлось: посетителей на выставке было совсем немного. Правда, я пришел в два часа; парижане еще не отобедали. После трех посетителей стало больше, но переполнения все же не было. Нечего и говорить, что вход на выставку открыт для всех; входная плата невысока, и билеты продаются в неограниченном количестве. Утверждают, что гораздо больше народу приходит вечером, особенно в ресторан, который бывает битком набит желающими ознакомиться с «настоящей» русской кухней. В Париже и без того много русских ресторанов — дешевых и дорогих, на любой карман, — но иные французы, любители хорошо поесть, думают, вероятно, что кухня там менее «настоящая». Выставочный ресторан — дорогой, но все же, по газетным сведениям, был он в первый вечер так переполнен, что не меньше часу приходилось ждать, к чему французы вовсе не привыкли, прежде чем получить всего лишь закуску с выпивкой, и дело осложнялось еще и тем, что весь персонал ресторана, кроме поваров, — нерусский и объясняться ему с поварами насчет заказов было затруднительно.
Но оставим ресторан. Я там не был. Я только обошел выставку, на что потребовалось часа полтора. Не такая уж она огромная: вся разместилась в весьма обширном, правда, выставочном павильоне у Версальских ворот, разместилась без тесноты и не выплеснулась за его пределы. Снаружи есть только прилавки, на которых разложено кое-что, что продается. Не Бог знает что: книжки и брошюры на французском языке, какие-то довольно симпатичного вида вазочки эстонской работы, немножко шоколаду, немножко леденцов, консервов — всем этим тут не удивишь — да еще портреты космонавтов и миниатюрные модели спутника. Внутри выставочного павильона модель совсем другая, отнюдь не миниатюрная, а портреты Гагарина и Титова совсем уж колоссальных размеров. Модель большого ледокола тоже весьма внушительна, а машин выставлено множество, самых разнообразных, и для людей понимающих они, нужно думать, — самое интересное на выставке.
Я в машинах ничего не понимаю, а потому их и не разглядывал; все равно — не в коня корм. Но ведь на всех выставках такого рода всегда есть две стороны. Одна — практическая, промышленная, статистическая, техническая; тут я профан. И другая — более декоративная, внешняя, если хотите, показная, т.е. показывающая, какой у людей вкус, в какие формы и краски облекают, наряжают они свою жизнь; тут профанов нет, об этом судить может всякий. Я посмотрел, сужу и я. Ну что ж, приходится сказать, что впечатление у меня осталось грустное.
Выставка должна ведь отражать нынешнюю русскую жизнь. И тут не берусь уж я судить, скучна ли сама эта жизнь или отражена она так, что кажется скучной. Я говорю лишь о выставке, но все-таки странно, что все на ней выглядит таким обыкновенным, серым, заурядным. Не скажу, чтобы достижения — научные, технические, учитываемые статистикой, — обыкновенны: среди них есть и вовсе не обыкновенные. Все это знают, но я не об этом говорю. Мне только показалось, что жизнь, отражаемая выставкой, бескрасочна, буднична, однообразна, что вся она протекает по тоскливому какому-то регламенту и как бы катится по рельсам без того, чтобы кто-нибудь мог сойти с поезда и прогуляться этак в сторонку, куда вздумается. Через двадцать лет, говорят, поезд докатится до коммунизма, но ведь не остановится и тогда! Еще больше будет заводов, машин, ну и домов, стульев, столов. Все будут одеты, обуты, накормлены и даже откормлены. На выставке это предвидено, это почти что нам показано. А только, пожалуй, судя по ней, будет жизнь тогда еще однообразней, еще скучней, чем нынче.
Может быть, и не будет. Может быть, и сейчас не скучно в России. Я только говорю о впечатлении, которое произвела на меня и, боюсь, на многих выставка. «Гвоздь», как говорится, на ней есть, даже двойной, в виде двух космонавтов, но изюминки, как сказал бы Толстой, нет. Ни малейшей нет изюминки. Оттого что не чувствуется нигде никакой свободной творческой игры. На самом-то деле, я уверен, она есть. Но на выставке показана не она, а показано то, как лишают творчество и этой вот игры, и свободы. Ты, мол, давай то, что нам нужно, а не то, чего хочется тебе. Гулять не велено. Вот тебе рельсы. Катись со всеми по ним. Ежели ты музыкант, то пиши музыку, да только в такт поезду, непременно в такт. Ежели писатель, сочиняй о рельсах да о нем роман или стихи. Ежели художник — пиши локомотив, пиши вагоны.
Нет, не верю. Не хочу верить. Все это должно быть не так. А только, уходя с выставки после первого посещения ее, все-таки бормотал я себе под нос два изречения великих наших писателей: «Скучно жить на свете, господа!» и «Боже, как грустна наша Россия».
* * *
Мало мне этого было. Решил пойти опять посмотреть на этот раз главным образом книги и картины. Не то чтобы я предполагал увидеть нечто, мне неведомое. В Париже есть пять или шесть книжных магазинов, где продаются книги, изданные в Советском Союзе, есть и немало библиотек, где можно с ними ознакомиться. Что же касается картин, то я видел Лондонскую, а потом Парижскую выставку советского искусства (вместе с прежним, русским), а на последних трех международных выставках
Венеции неизменно заглядывал и в советский павильон. Но мне хотелось узнать, что же именно покажут на этот раз в Париже, а также представить себе — насколько это возможно, — как отнесутся французские посетители выставки к тому, что будет им показано. Именно представить, а не увидеть. Не задавался я целью прочесть их впечатления на их лицах: французы, особенно парижане, люди учтивые и не очень экспансивные. Но я так с ними сжился, столько лет живя среди них, что вообразить себя французом мне не так уж трудно, а значит и сообразить, какое у француза должно создаться впечатление от выставленных теперь советских книг и картин.
Начнем с книг. Раз я — француз, обыкновенный средний француз, а не какой-нибудь профессионально или хоть любительски осведомленный насчет всего русского, то я по-русски не понимаю. Книгу я беру в руки, перелистываю, разглядываю иллюстрации, если они есть; но прочесть ни слова не могу. Так что судить я в состоянии только о ее внешности. И вот эта внешность немножко меня удивляет. Французские книги, в отличие от английских или немецких, большей частью поступают в продажу непереплетенными, а тут все книги в издательских коленкоровых переплетах. Само по себе это было бы отлично, но отчего же переплеты эти сплошь такие некрасивые и недобротные? Коленкор какой-то клеенчатый, чуть ли не липкий или кажущийся липким. Нигде на Западе в такой коленкор книг не переплетают. Да и типографский их облик почти всегда какой-то казенный, скучный; если же с фантазией, то с аляповатой, безвкусной фантазией. А иллюстрации, даже в книгах по искусству, если цветные, то скверные, совершенно ложно передающие краски оригинала, а если не цветные, то какие-то бледные, точно выцветшие. Фотографии были, пожалуй, и неплохие, но воспроизведены они плохо, да и бумага взята для этого такая, что хорошего воспроизведения получиться на ней не может. Отчего же это? Разве в Советском Союзе не любят книгу? Или может быть, любят, да издательства, которые все принадлежат при различных конторщиках тому же хозяину, с любовью этой считаться не желают? Получай, мол, что дают, а то и этого тебе не будет…[14]
Француз, да и любой другой западный человек, не может по этому поводу не ощущать некоторого, мягко выражаясь, удивления. Но, конечно, внешность книги не так уж важна по сравнению с ее текстом, о котором он судить не может. Картина — другое дело. Тут, так сказать, внешность и внутренность — одно. Вся мысль, все чувство в этой именно внешности и выражены. И чтобы судить о картинах, знать по-русски, разумеется, не нужно. Вот и глядят французы на эти картины, и я гляжу вместе с ними, их глазами гляжу, раз уж я вообразил себя французом, и чувствую: хочется мне пожать плечами, да тут же и замечаю, некоторые из них и в самом деле не выдерживают, плечами пожимают (сам-то я все-таки удержался: боюсь соотечественников обидеть). Пожимает француз плечами, и что же он при этом думает? В точности сказать трудно, да и думает один не совсем то же, что другой, но приблизительно думают они следующее (я говорю о тех, кто в живописи разбирается, а о положении ее в Советском Союзе ничего не знает):
«Как же это так, что же это они нам такое показывают? Неужели ничего другого у них нет? Ведь так писали лет 70—80 тому назад! В таком роде работали наши художники, но не те, чьи холсты висят нынче в наших музеях, а те, которых в те далекие годы пусть и хвалили, но теперь давно уже забыли, а имена их если и помнят, то прямо-таки стыдятся называть; холсты их когда-то висели у нас в Люксембургском музее, но музей этот давно закрыт, а из всех других музеев, даже провинциальных, их картины убраны. Кроме того, теперь существует цветная фотография, так зачем же подражать ей в живописи? Есть, правда, тут, на выставке, две-три вещи получше, Сарьяна, например, или Машкова, но ведь один – древний старик, а другой тоже был бы древним стариком, если бы давно не помер».
Тут я, впрочем, сбился, француз о Сарьяне и Машкове вряд ли слыхал, хотя оба выставляли в Париже, Сарьян – я был на этой выставке — в 1928 году (там были вещи его лучше нынешних). Но вот когда француз глядит на «Мать партизан» Сергея Герасимова, картину 1943 года, то уж, наверное, думает: какой волнующий сюжет! Только беда что именно сюжет один и волнует. Где же живопись? Если поставить живую картину на эту тему и потом снять, получилось бы не хуже. Как тут не пожать плечами. Как не подумать: зачем же они прячут от нас настоящую свою живопись?
* * *
И во второй этот раз ушел я с выставки грустный. Но когда вернулся домой и принялся читать брошюру, принесенную оттуда, грусть моя сменилась досадой или чем– то худшим, чем досада. «Искусство — народу». Так озаглавлена иллюстрированная эта брошюра на французском языке, раздававшаяся даром на выставке. Вот она передо мной. Но хранить ее я не стану. Раздражает она меня внутренней своей неправдой.
Текст в брошюре занимает гораздо меньше места, чем иллюстрации. Если иллюстрации просмотреть, не читая текста, никакой досады не почувствуешь, разве что легкое недоумение: что вы всем этим, собственно, хотите сказать? На обложке воспроизведена фотография, изображающая наполненный публикой большой зрительный зал. Далее идет фотография артистов на эстраде, аплодирующих публике в ответ на ее аплодисменты. Далее видим портрет Шостаковича, концерт в ленинградской Филармонии, сцены из различных опер, драм и балетов, кинематограф «Прогресс» и людей перед ним на улице, сцены из кинофильмов, портреты Бондарчука и Татьяны Самойловой, несколько музейных и выставочных залов со зрителями, портреты Давида Ойстраха и Святослава Рихтера, Ирину Бугримову и ее льва Нерона, узбекских танцовщиц и армянских танцовщиков, наконец студию, где обучают живописи заводских рабочих, и концерт на заводе: играет оркестр, рабочие стоят кругом и слушают. На этом брошюра кончается, и тут только начинаешь понимать ее заглавие. «Искусство — народу», ну да: оркестр приехал на завод, рабочих обучают живописи. Но значение всех остальных иллюстраций остается все же неясным. Заглянем в текст.
Текст начинается с цитаты из Ленина: «Искусство принадлежит народу». После чего поясняется, что искусство принадлежит народу именно в Советском Союзе. В России не принадлежало и на Западе тоже не принадлежит. Эта последняя мысль прямо, впрочем, не высказывается, очевидно, из вежливости, она лишь внушается читателю. В Советском Союзе, утверждает брошюра, уничтожено «разделение искусства на две категории — для избранных и для толпы». «Раньше оно предназначалось всего для нескольких тысяч людей, теперь оно на службе у миллионов». Далее текст по поводу разных видов искусства варьирует на разные лады все ту же мысль. Как же отзовется на нее западный читатель, и прежде всего французский, для которого брошюра предназначена?
Должно быть, сочувственно. Кто же, собственно, желает, чтобы искусство было достоянием очень немногих, а от других было бы ограждено какой-то китайской стеной? Но связи этой мысли с иллюстрациями читатель все же не поймет. Важно ведь не то, чтобы уроки живописи давались на заводах, чтобы концерты происходили на заводах, но, с другой стороны, ничего такого уж сногсшибательного в этом нет. Важно лишь, чтобы рабочие, любящие музыку, имели возможность в свободное время ее слушать, а любящие живопись — заниматься живописью. Эту возможность, скажет француз, они имеют и у нас. Что же касается концертов вообще, больших залов, наполненных публикой, оперных, драматических и всяких других спектаклей, композиторов, исполнителей, актеров и т.д., то не могут же устроители выставки думать, что все это только у них в стране и есть? А у нас, скажет француз, разве нет всего этого? И почему у нас это меньше принадлежит народу, чем у них? Почему наш какой-нибудь композитор меньше принадлежит народу, чем Шостакович, и наш укротитель зверей — меньше, чем Ирина Бугримова? Что ж, у нас в цирк один президент республики ходит, что ли?
Так скажет француз, рассмеется, да и только. Но я вместе с ним не рассмеюсь. Я знаю, что именно эта — не только ложная, но и лживая — теория искусства, изложенная в брошюре, приносит огромный вред нашему искусству, а значит, и народу, для которого оно предназначено. Вред ее в том, что она принижает искусство, а лживость в том, что она это старается затушевать. Если бы всем лучшим писателям нашего прошлого разрешено было с самого начала писать только «для народа», т. е. так, чтобы всякий мог написанное понять и оценить, то не было бы у нас нашей литературы: народ наш был бы ее лишен. И то же самое верно о художниках, о музыкантах. Если бы велено было композиторам писать только такую музыку, которая доступна людям немузыкальным или музыкальным в меру гармошки, но не в меру Бетховена, то никаких Бетховенов или Мусоргских не было бы ни у немцев, ни у нас. Искусство существует для людей восприимчивых к искусству. Восприимчивость можно в известных пределах повысить, и с классовыми различиями она не имеет ничего общего. Но следует миллионы учить понимать Пушкина, а не Пушкина определять на службу к миллионам. Да и служба эта окажется плохая, им не на пользу, именно потому, что Пушкина уже не будет, что Пушкин перестанет быть Пушкиным.
* * *
Брошюру я выбросил: лжет. Не прямо, а косвенно: умолчанием, извращением понятий. Делает вид, что искусство у нас свободно, а у нас и совесть, без которой настоящего искусства нет, сидит в тюрьме. Вспомнил я при этом столик на выставке, в книжном отделе. Лежала на нем большого формата в коричневом переплете Библия, Новый Завет рядом с ней и еще некое солидного вида сочинение о положении Церкви в Советском Союзе — превосходном, процветающем положении ее… Решил больше на выставку не ходить. Но перед самым ее закрытием заглянул туда все-таки еще раз.
Не то чтобы там чего-то не доглядел, а просто так, захотелось мне с ней проститься. Ведь она как-никак клочок чего-то своего, тут, «на чужбине», которая, хоть и не чужая для меня, а все ж и не что-то до конца родное. Правда, родился я и вырос не в СССР; родина моя — Россия; выставка же — сугубо советская. Будь она русской, была бы совсем другой. Но тем не менее, в советской упаковке, под советским ярлыком, Россия не исчезла совсем, есть там все-таки у них Россия. И не только в образе блинов, водки, икры, балалайки, трепака, но и в образе ином, несравненно более драгоценном. Встречал я иностранцев, для которых Россия вся из такой немудреной экзотики и состоит. Что касается меня, то я вполне могу ее себе представить без саней, запряженных тройкой, а вот без рублевской «Троицы», без восьмой главы «Онегина», без «Войны и мира» не могу и без того не могу, из чего все ее великие творения — ее, а не чьи другие, — вышли, на чем они возросли. Определения дать этому нельзя, никакой формулы тут подыскать невозможно, но почувствовать это нетрудно, даже и многие нерусские очень хорошо это чувствуют.
И на выставке чувствуют? Не знаю. Боюсь, что нет. Надо о чувстве этом помнить, испытав его раньше, надо Россию знать, чтобы ее узнать, чтоб следы ее уловить на выставке. Следы эти — слабые, бледные… Почти одна советская упаковка и видна, упаковка, к тому же невыигрышная, неказистая, напоминающая и в самом деле шпагат да оберточную бумагу. Упаковка — серая, а потому и Россия сквозь нее кажется бесцветной, серой. Как грустно! И все-таки пошел я вновь на выставку, должно быть, для того, чтобы погрустить там в последний раз.
Как и в другие разы, борща я там не заказывал, водки не выпил, да и ничего истинно русского себе на память тоже не купил. Надо сказать, что и выбор такого рода предметов был на выставке невелик. Кустарная промышленность у нас, как видно, угасает. Не пленили меня ни деревянные бабы или медведи, все какие-то наскоро и по шаблону изготовленные, куда скучнее прежних; ни платочки с видом Кремля, жиденькие-прежиденькие; ни даже лакированные шкатулки с изображением на выбор; удалой тройки или пухленького Ильича с нежно-розовыми щечками. Шкатулки, впрочем, пришлись бы мне и не по карману: продавали их по весьма дорогой цене. Вот глиняные вазочки, упоминавшиеся мной уже, были в самом деле хоть и скромны, да недурны, но о них честно было сказано, что они эстонской выделки. Пожалел я даже, на них глядя, что сам я не эстонец. Тут же продавалась пропагандная литература на французском языке, но что же в ней русского? Да и странно было бы такую книжку купить на память. Наконец, у самого входа — потому что вся эта торговля происходила, как я вначале и сказал, не внутри выставочного павильона, а снаружи, — у самого входа продавались, кроме миниатюрных моделей спутника, также и открытки с портретами Гагарина и Титова. Но и тут я не соблазнился. Титов и Гагарин — молодцы, что и говорить, и притом, конечно, русские, но цветные снимки, воспроизведенные на открытках, были так плохи, открытки так жалки, что не захотелось мне покупать и их. Что же касается моделей, то назначение их в том, чтобы напоминать о некоем чуде техники, но ведь техника по самому своему существу нечто вненациональное. Есть такие сказки, которые только русский мог сочинить, такие песни, которых никто, кроме него, сложить не мог. Но такой машины нет и не может быть, которую только русский или только англичанин, только японец способен был бы выдумать или построить.
Так что я ничего не купил. Вошел. Обошел напоследок еще раз всю выставку. Заметил впервые, что среди прочих «достижений» показаны также и часы, обыкновенные часики-браслеты: ишь ты, чем вздумали удивить! Ведь и так каждому ясно, что нельзя же на все двести миллионов часы выписывать из Швейцарии. А в отделе тканей (ох, каких бедных) и одежды увидел, тоже впервые, как полдюжины девушек и тот самый, называемый здесь мсье Владимир, ярко-блондинистый молодой человек, показывали парижанам свои скромные, прочно сшитые, должно быть, но не очень ладно скроенные московские туалеты. Кто-то почему-то распорядился, чтобы они бегали при этом мелкой рысью по эстраде; это парижан слегка смешило. Но какие милые русские лица! Побегали, побегали, раскланялись и ушли. Потом я долго смотрел на фотографии русских городов и на кое-какие из картин, висевших неподалеку. Картины были плохи, как и почти всё на выставке, что не зависит от одной техники, что не безлично, как она. Но сквозь эти плохие картины, как и сквозь те фотографии, а больше всего сквозь те милые молодые лица мне все-таки виделось что-то — не прошлое, нет, не прошлое, а всегдашнее. То самое, чего нельзя определить. То русское, что припрятано, но не совсем погребено в советском.
Нет, я все-таки не жалею, что пошел попрощаться с Москвой у Версальских ворот.
В ГОДОВЩИНУ «ОКТЯБРЯ»
Приснилось мне: подхожу к ограде — высокой, крепкой той, что прежде звалась «железный занавес» (не так она нынче плотна); слушаю, гляжу. По ту сторону что-то началось.
Играет военный оркестр, грохочут броненосцы, сухопутные, по мостовой, гремит и железно скрежещет небо над ними. Но вот я этого уже и не слышу, не слышу речей, площади не вижу; вижу одних людей. Шествуют, празднуют, золотую свадьбу справляют России (она с тех пор – третья Россия) с молодцеватым — плечи ватой подбиты — на толстых подошвах «Октябрем». Лица у него нет сплошной плакат, а среди празднующих некоторые в масках. У других лица открытые, простые…
Только лица я теперь и вижу — разные, конечно, но «в основном» (как «Октябрь» говорит) двух сортов. Одни — большинство их сверху, над помостом что ли? — твердокаменны и самовлюбленны, нескрываемо самовлюбленны; оттого открытыми можно назвать и их. Дородные, по старой памяти сказал бы я, кучерские: есть и женские при них, вернее «дамские», но и бабьи в то же время; женские же и девичьи скорей не среди этих, а среди других. Милы мне эти другие, такие знакомые, прежние, усталые порой немного, когда с улыбкой глядят на то, что вместо лица у «Октября»; но если молодые, то и совсем бодрые, праздничные, безо всякой грусти. Радость, однако, или улыбка на всех этих лицах не совсем та же, что на тех, щекастых. Те и радуются, точно на себя глядя, и улыбка их значит: знай наших и сам не плошай, а не то… Эти же радуются вестям надзвездным или просто так, празднику, если помоложе; если же постарше — тому, что с недавних пор, как-никак, легче стало жить, что война — в прошлом, гражданская тоже, голод и беспризорники тоже, что Сталин… ну, одним словом, что нет Сталина, и что все эти пятьдесят лет прошли безвозвратно, как (дай Ты, Господи!) и он, и что впереди, с Божией помощью (жаль, что свечку поставить нельзя той мумии в мавзолее), будет лучше, или хоть так же, да не хуже.
Ясней это, конечно, на крестьянских лицах написано; городские молчаливей. Есть задумчивые и среди молодых; эти всех милей. Немилых, впрочем (да разве так уж и те были гадки? туповаты, да и только), больше и не вижу. Иду вдоль ограды. Калитку ищу. Вот она; сейчас позвоню… Только рука моя почему-то не поднимается к звонку
Пытаюсь поднять. Не могу. Еще раз. Еще… Проснулся.
* * *
В чем дело? Отчего не позвонил? Разве мне их празднование не понятно? Разве чужие они мне? Если бы чужими были, я бы калитку не искал, да и сна бы этого не было. Не нравится мне, конечно, что они с таким грохотом военным годовщину эту, как и все прочие, справляют: недруги, якобы, живьем готовы их съесть. И конечно, «Октябрь» добра не принес — не «Октябрь», поскольку оно есть, его принес — им и моей стране. Но ведь и я знаю не хуже их, что сделанного отменить нельзя. Нельзя третью Россию (после петровской и допетровской) считать все той же второй, но и нельзя не считать ее Россией, хоть это имя у нее и отнято. Может быть, вернут ей его; может быть, октябрьская чешуя когда-нибудь с нее, пусть и не бесследно, сползет; может быть, только тогда внуки или правнуки наши настоящее ее Лицо и увидят; но, во всяком случае, пока что на русской земле другой России, кроме октябрьской или советской, нет; а если так, то подобает и мне принять ее бытие и сочувствовать тем, кто продление бытия этого празднует. Сам я, правда, к зарубежной России принадлежу, которая «Октября» или последствий его не приняла, и осталась верна — чему? Нет, не одной лишь второй России, а России. Она вторую Россию, хоть и в оскудении, жизненно продлила, а не законсервировала ее в каком-то заграничном холодильнике, и о третьей при этом не забывала: скорбела о ней, ради нее пеклась о том, чтобы преемственность, прерванная «Октябрем», не совсем оборвалась, чтобы росли и обновлялись старые связи наши с Западом, и чтобы Россия, третья Россия могла вернуться в Европу и к себе, когда наконец дышать ей будет вольней, и когда от зарубежной не останется ничего, кроме неверного, искаженного враждой одних и безразличием других воспоминания.
Но если я так думаю и чувствую, отчего же рука моя и во сне подняться к звонку не захотела? Отчего не сделал я попытки присоединиться к соотечественникам моим, которые, в огромном большинстве, празднуя годовщину, ничему другому и не радовались, как именно отечеству, своему и моему? Разве не радуюсь и я, что Россия, какая ни на есть, все-таки есть? Или я, быть может, непримиримый сторонник «частной собственности на средства производства»? Какая чушь! Да ведь я, к тому же, не сразу после «Октября» и уехал, а прожил в России без «помещиков и капиталистов» еще почти семь лет. Так почему же уехал? Отчего не вернусь? Ответить могу очень просто. Уехал, потому что понял: отныне (с осени 24-го года) пришлось бы мне в университете преподавать, да и книги или статьи писать не в согласии с собой, не по совести, а по чужой указке. Домой же не прошусь, потому что повертеться у себя в Петербурге и через месяц вернуться в Париж было бы и больно и смешно, а переселяться совсем в Россию (если бы меня туда пустили) значило бы отказаться от свободного писания и говорения, к которым я привязан. Что же до кладбища, то хорошее, русское, где иные русские лежат, которым я в подметки не гожусь, есть и тут. Могу все это сказать, и будет все это правда, но коренного, самого острого отталкивания моего слова эти не выразят. Отсутствие свободы? Да, это главное. Это — все. Но чувства моего этим утверждением я еще не выразил. Как же мне его выразить? Часто и прежде я искал ему выражения, и всегда, довольно безрассудно, возвращалась мне при этом на ум одна стихотворная строчка, державинская: «Противен мерзкий изувер!» Но тут необходимо объясниться. Решат пожалуй, что я те милые лица, за оградой, изуверскими считаю. Ничуть. Ничуть.
* * *
«Противен мерзкий изувер!» О каком же изувере я думаю? Или вовсе нет рассудка в этом безрассудстве? Не о каком-нибудь определенном лице, живом или мертвом. Ленин был одержим безоглядной похотью разрушения и проведения в жизнь, любой ценой, не им придуманной, но им упрощенной и приспособленной к его целям идеологии; в нем жил изувер, но в сожительстве с очень гибким и реалистическим политиком, да и само его изуверство было подпольным или площадным, но всегда пиджачным, не затянутым в мундир. Сталин был изувер в мундире, и премерзкий, но точно так же не сплошной: с примесью разбойника; поигрывал пистолетом; злодействовал ради власти и ради злодейства, поверх всякой идеологии. Изуверами в чистом виде были скорее Дзержинский, Покровский, Жданов, Молотов с его электронными мозгами; но их нет, и когда я повторяю про себя державинский стих, я вовсе о них не Думаю. Не думаю — но уже по другим причинам – и о самом «Октябре», или о сути, о духе «Октября». «Октябрь» и революцией не был: он был мятежом и переворотом на службе желаемой Лениным революции; (Блок не написал бы «Двенадцати», если бы вовремя понял что ветер восстания — одно, а вращение революционных жерновов — совсем другое). Но вот революция эта в целом, ее жестяная, механическая идеологичность – свойственная ленинскому ее замыслу, но не тактике и даже не стратегии Ленина, — вот этот ее мертвый и мертвящий дух, с неодинаковой полнотой воплощавшийся в ее вождях, — он еще не исчерпан и сейчас, хотя революция исчерпана, и это о нем я думаю, когда с отвращением бормочу: «Противен мерзкий изувер!»
Изуверскому этому духу и носителям его Россия обязана казнью, изгнанием и заочным очернением лучших ее людей, истреблением значительной и едва ли не самой живой и способной части своего крестьянства, издевательством над его совестью и верой, опошлением его быта, оплеванием Церкви и разрушением церквей, низведением всех наших искусств и наук, кроме управляющих техникой, точных, а прежде всего всей словесности нашей и ее языка на чрезвычайно низкий (слегка повысившийся лишь за последние годы) уровень, как и подсобным всему этому, глубоко всему этому созвучным вдалбливанием во все головы, с детских лет, лжи и чепухи, способным искалечить любые мозги и оставляющим свой мусорный след даже в самых светлых умах и душах. Именно изуверство, тупой фанатизм идеологов тому виной, а вовсе не — как склонны многие думать даже и на Западе — необходимость индустриализации, «построения социализма» или борьба с темнотой, косностью, неграмотностью и мало ли еще с чем. Любой не вполне утопический социализм можно было построить, любую индустриализацию провести без массовых убийств и лагерей, без осквернения сердец ненавистью, без набивания мозгов жеваной бумагой, и нет ничего темней, ничего безграмотней, чем тот идеологический экстракт или сироп, которым питают каждого чуть ли не с пеленок у нас в стране, как и повсюду, где царствует олицетворенный (например, в Китае) или растворившийся – нет, не в коллективе, даже не в «коллективном руководстве», а в самом коллективизме изувер.
* * *
Противен, мерзок… Тошноту испытываю при одном виде красного катехизиса Мао, Краткого курса истории партии, Основ марксизма-ленинизма. Конечно, во всех утих компендиумах изуверства найдутся истины (тавтологии, большей частью, или трюизмы [15], с которыми нельзя будет и мне не согласиться, но ведь авторы этих книг не ищут моего согласия: они хотят, чтобы я проглотит их жвачку не жуя, чтобы она просочилась целиком в мой мозг, заменила бы мне его. Нет, не войду я в калитку, не потянется рука моя к звонку. Однако тех, кто там, за решеткой, я к изуверам не причисляю; изуверами не считаю даже и тех, кто за решеткой держит всех остальных Тюремщиков этих не могу не осуждать, особенно когда вижу, с какой придирчивой неохотой и нудной канителью они людей за решетку выпускают даже на короткий срок. Понимаю, однако, что такие их повадки, как и многое другое в их словах и делах, вызвано не прямым, не их собственным изуверством, а инерцией изуверства, пятьдесят лет подряд насаждавшегося в стране. Думаю, что теперь чистокровных изуверов там не много, может быть, нет их там и вовсе. Идеология обернулась фразеологией; почти ничего другого от нее и не осталось; а если полностью ее отбросить представляется столь трудным и сейчас, то ведь это отчасти потому, что не только воспрещено проверять ее или опровергать, но никому этого делать и не хочется, до того набила всем оскомину принудительная ее зубрежка. Вызубренное повторяется миллионы раз и, незаметно для повторяющих, теряет смысл или его меняет. Оскомину лечат, выбирая предметы, где мысль не столь быстро рискует попасть в капкан готовых формул, прекращающих ее работу. Больше и лжецы не лгут: они повторяют ложь, что отнюдь не то же самое. Попугай не ошибается говоря «дважды два пять», и не лжет, провозглашая себя ангелом, а других — чертями. Бранить его за это бессмысленно, изувером назвать его нельзя. Изуверство не в нем и не в ком. Оно лишь в предписании слушать государственный громкоговоритель, не перечить ему ни в чем, повторять его слова…
Однако я и тех твердолицых на помосте не склонен в изуверстве обвинять. Они всего лишь боятся, что утратят власть, если откажутся от все на свете объясняющей, а необъясненное отрицающей идеологии, если отменят неразрывно с ней связанное идолопоклонство. Нельзя, даже их одних имея в виду, сказать, что нынешняя Россия идолопоклонническая страна, твердо верящая во внушаемые ей полвека кряду под видом истин идеологические враки. Не идолопоклонство составляет главную черту, отличающую ее от прежней России или от Запада, а принудительное идолопоклонство; это опять-таки большая разница. И не дьявольская (как захотелось мне, было, пушкинским словечком ее назвать), а весьма утешительная. Хоть и скверно идолопоклонство по принуждению, но куда скверней и куда грустней было бы нам, если, подойдя к ограде, мы увидели бы, что по ту сторону
И дети малые, и старцы в сединах — Все ниц пред идолом безмолвно пали в прахпо собственной воле, не под кнутом, чего, конечно, не было там, за решеткой, даже и при Сталине.
Пусть идолопоклонство и не исчерпывается (нынче всего менее) поклонением живому или мертвому лицу, но принудительный его характер у нас в стране, пожалуй, именно тут сказывается всего ярче. Когда, например, издатели Лермонтова (Москва, 1953. Т. 1. С. 397) почтительнейше извещают, что стих «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно» «использовал в своих выступлениях Владимир Ильич Ленин», не могу же я считать, что они это делают не из-под палки (тем более, что стих этот давно перешел в пословицу); как и не могу предположить, что разнообразные авторы предисловий к собраниям стихотворений Тютчева каждый раз по собственной инициативе упоминают о том же Владимире Ильиче, Тютчева (будто бы) читавшем и ценившем. Столь неуклюжее каждение кремлевскому чудотворцу, при жизни вовсе не кичившемуся литераторством или знаниями, кроме разве что марксистских, объясняется, конечно, грубым ритуалом государственного культа, обязательного для всех, а не беспокойством о том, что иные без такой высокой рекомендации вовсе и познакомиться с Лермонтовым или Тютчевым не пожелают. В этом и многом другом, как и в прижизненном культе, воздававшемся кремлевской личности, ныне выселенной из мавзолея, идолопоклонство, разумеется, налицо, но ведь вынужденное. Кто же, если вычтет случаи превышающего узаконенную меру подобострастия, станет в этом сомневаться?
Как уже сказано, есть и другого рода идолы. Еще в шекспировские времена четыре их семьи — племенные, личные, «рынка», «театра» — очень язвительно описаны были Бэконом. Кто Бога отвергнет, говорит старец в «Подростке», «тот идолу поклонится — деревянному или златому, аль мысленному. Идолопоклонники это все, а не безбожники». Он прав. О живых или мертвых лицах в качестве идолов он еще ничего не знал, но «мысленные» были ему, как и Достоевскому, хорошо известны. Некоторые из им обоим известных, соединившись с другими, образовали ту самую тоталитарную идеологию, которая в результате «Октября» и стала «мысленным» идолом нынешней России. Это идол многоликий, составной; поклоняться велят ему во всех частностях, как и в целом, причем целое это носит обманчивое имя марксизма-ленинзма. Никакого отдельного ленинизма нет. Ленин лишь извлек из толстого Маркса тощий «изм», но дал ему — как раз этой скудостью обусловленное — безграничное применение, вследствие чего он и стал объектом идолопоклонства, заменяющим религию и философию, а вдобавок искривляющим и все науки, кроме не поддающихся искривлению математических или экспериментальных (хотя различные лысенки пытались и их, в разное время, искривить). О принудительности этого, как и другого, идолослужения можно точно так же судить по мелочам. Оно заставляет наклеивать ярлыки — с надписью «яд», с изображенными черепом и костями — на все, с ними несогласное. Платон, Кант, Владимир Соловьев помечены, как и многие другие, наклейкой «философ-идеалист», все равно что евреи — желтой звездой при Гитлере. Мережковский — «мракобес и мистик» (так его аттестуют в комментариях к недавнему изданию биографических материалов о Достоевском). Но ведь, конечно, лишь угрозой можно принудить людей наклеивать такие ярлыки: кому же охота расписываться в собственной глупости? Слово «мистик», примененное в качестве позорного клейма, обличает невежество клеймящего, а мракобесие идеологическое, всякий знает, гораздо тупей и черней религиозного, в котором Мережковского даже злейший (но честный) враг никак не мог бы обвинить. Нет, нет, ни на каких реках вавилонских, ни в каком «прекрасном далеке» не дай мне Бог забыть разницу между идолопоклонством и принуждением к идолопоклонству.
* * *
Думаю о них, о внучатых племянниках моих за решеткой. Даже если увижу их поклоны, не поверю, что по доброй своей воле поклоняются они идолам. Вспоминаю походя брошенное замечание Хомякова: преступление христианства, по римским понятиям, заключалось не в том, что оно отрицало божество Юпитера или Минервы, «а в том, что отрицало верховную божественность государства, поставлявшего богов». О если бы нынче шла речь всего лишь о Минерве да Юпитере! Другие, безмозглые и совсем по-иному свирепые боги требуют себе фимиама и жертв. Но соотечественники мои за решеткою знают, что есть одна сила на свете, которая верховную божественность государства сломила и ее не признает никогда. Одна. Нет другой. Этому сами гонители их научили. И теперь это стало ясней, чем было полвека назад.
ПОРА РОССИИ СНОВА СТАТЬ РОССИЕЙ
Полустолетия вполне достаточно. Побаловались; хватит. Пора нам всем, пора всем, живущим в России, вернуться в Россию.
Первое и самое важное условие как будто для этого налицо. Образовался новый, совершенно нового состава строящий, мыслящий, ведущий общественный слой – новое служилое сословие, наделенное энергией, умениями, знанием дела, преданностью интересам страны и еще не порвавшее связи с той крестьянской и рабочей средой, из которой оно вышло. Это не люди, делавшие революцию, а люди, сделанные ею. Им, и особенно новому, молодому поколению их, принадлежит будущее. От них зависит, будет ли оно достойно прошлого, оправдает ли революцию, всю кровь, пролитую ею, исполнит ли обещания, свидетелями которых были мы — не братья, не отцы, а скорее деды этих людей, — когда их еще не было на свете, в начале нашего столетия. Мы можем им сказать одно, то самое, что лучшие из них и сами все больше чувствуют и знают: путь к будущему ведет через воссоединение с прошлым, через восстановление нарушенной революцией преемственности. Плечистый недоросль СССР должен вновь овладеть отнятым у него прошлым; тогда он станет вновь Россией — той, что вросла в Европу тысячелетней своей историей.
Дореволюционная Россия была частью Европы, хотела быть и была европейской страной. В начальные ее времена никакое средостение не отделяло ее от тогдашнего западного мира. Только разгром Константинополя крестоносцами и последовавшее вскоре татарское нашествие привели к боязни «латинства» и к тому отчуждению от остальной Европы, которое наложило на Московское царство такую тяжелую печать. Но и в течение этих четырех с лишним веков отчуждение было менее полным, чем обычно думают, а главное, после того, как оно кончилось, очень скоро стало ясно, что, преодолев его, Россия обрела подлинный свой путь, который именно отчуждение ей и преграждало. Реформа, или вернее — революция, положившая ему конец, была свирепа, была разрушительно груба, но направлена была верно, и Герцен был прав, говоря, что Петр бросил вызов России и что она ответила ему Пушкиным. До Пушкина ещё она ответила образованием литературного языка, нового стихосложения и усвоением всех тех западных начал, что легли в основу новой литературы, новой музыки, нового искусства, новой науки и мысли — всего цветения духовной жизни в петербургский период ее истории. Мы, старики, в этой петербургской России родились. Мы — очевидцы ее конца, но и ее последнего расцвета.
Названо было это время «серебряным веком», хоть и продолжался он, как и пушкинский «золотой» — от «Цыган» до «Сумерек» в поэзии, — всего лет двадцать, но вычеркнуть эти двадцать лет из нашей истории нельзя. Ими завершены и увенчаны ее лучшие два столетия; не «серебряные» они, слишком это для них скромно: эти двадцать лет искупили и затмили те два тусклых десятилетия, что предшествовали им. Все тогда обновилось или начало обновляться, как хозяйственная, материальная жизнь, так и другая, та, для которой только и стоит жить. Обновилось политическое сознание общества и религиозное сознание Церкви, обновились университеты и университетская наука, обновилась философия, литература, музыка, театр, все виды искусства. И все это обновление происходило под знаком окончательного соединения с духовной жизнью Западной Европы, причем и теперь, как и в пушкинские времена, это отнюдь не вредило, а напротив, помогало укреплению национального чувства и познанию собственного прошлого. «Открытие» новейшей французской живописи посодействовало «открытию» древнерусской иконы, подобно тому как деятельное и живое изучение западной истории углубило понимание Московской и Киевской Руси. Паломничества на Запад, к его святыням к его старинным городам, учили понимать Новгород и Владимир; наши поэты и живописцы находили новые пути, сближаясь с западной живописью и поэзией. Те, чья юность пришлась на это время, помнят, что оно было временем подъема всех духовных сил, давшим России очень много и обещавшим дать еще гораздо больше в будущем.
Будущее это не состоялось. Но то, что его готовило, то, что цвело, все-таки не было одним ударом сведено на нет в октябре семнадцатого года. Таких внезапных прекращений духовная жизнь и вообще не знает, да и невежественная власть с твердолобой и скудоумной своей идеологией не сразу научилась эту ненавистную ей жизнь успешно вытравлять. До середины двадцатых годов не раз вспыхивала она пламенем достаточно ярким, а потом теплилась, правда, все слабей, еще лет около десяти. Искры вылетали из-под пепла и позже, вылетают и теперь — чаще даже, гораздо чаще, чем еще недавно, и все это, если всмотреться, искры того самого, когда-то горячего и яркого костра: стоит прорыться сквозь золу, и он будет гореть, будет согревать, как прежде. Не мешает, однако, и вспомнить, что не весь его жар и свет тут и погребен под золой, в родной земле. Немало увезено было уже давно в чужие края, и не все из этой доли погасло и остыло безвозвратно. Наш «серебряный» век, хоть и очень ущербленно, но все же продлился во многом из сделанного за рубежом, и для восстановления преемственности все это столь же необходимо учесть, как и все, чем удалось его продлить на его старом пепелище.
Восстановить преемственность, воссоединиться с прошлым можно, лишь начав с прошлого самого недавнего. Несмотря на все препятствия, на все окрики сверху, люди, что помоложе, превосходно это поняли у нас. Не со вчерашнего дня множатся признаки живейшего интереса в новом ведущем слое, и особенно среди университетской молодежи, к литературе, мысли, искусству именно этого сугубо запретного и черней всех других оклеветанного времени. Знать ей о нем не велят, прячут его за таким, например, чумазым заслоном, как десятый том «Истории русской литературы», изданный Академией Наук, должно быть, по поручению заседающего в Чухломе «Общества по изучению древностей Пошехонья». Стоит перелистать его, чтобы понять, какой огромный труд предстоит тем, кто пожелает восстановить связь как раз с самым нужным, с самым нашим недавним, но подлинным, а не препарированным по давно всем надоевшим, но все еще обязательным рецептам прошлым. Однако там, где истина всего сильней искажена, там и больше всего смысла работать над восстановлением истины. Нигде в нашем прошлом не найдется столько пищи для будущего, как в этих оболганных блюстителями казенного правоверия, несчастных во многом, но славных и памятных годах.
Возврат к прошлому невозможен. Но именно потому, что в новом поколении и мысль о таком возврате никому в голову не придет, преемственность может и должна быть восстановлена. Не с московской, разумеется, Русью, не с опричниной, не с боязнью нового и чужого, не с готовностью к вечному повторению пройденного — всего этого у нас и так хоть отбавляй, — а с Россией петербургской сквозь то время, когда была оборвана необходимая и естественная с нею связь. И тут тоже, конечно, не с тем, о чем и без того нам во все эти послеоктябрьские годы столь наглядно и настойчиво напоминали: не с Аракчеевым, не с крепостным правом, не с дубиной Петра или шпицрутенами Николая Первого, не с бахвальством, выдаваемым за патриотизм, не с шестидесятническим варварством в области мысли и в области искусства, а со всем лучшим, что в ней было и из чего столь многое теперь забыто, опорочено, оклеветано. Да и вся в целом ее история, и только она одна, может и должна нас научить самому трудному самому нужному: тому, как ее продолжить. А продолжить ее надо, после того как полвека не продолжали ее, а ей изменяли, предавая ее, зачеркивая ее смысл.
Петербургская Россия воссоединила Московию с Западом, завершила единство Европы, утвердилась в ней, приобщилась к ее духовному богатству и приумножила его от собственной полноты. Нынешняя, если хочет ей наследовать, должна заново прорубить окно — не в Европу даже на первых порах, а в свое близкое, родное, но наполовину неведомое ей, украденное у нее прошлое. Соединяясь с ним, как того ищет пореволюционное молодое поколение, она соединится и со всем другим, что от нее прячут или представляют ей в фальшивом свете: с европейским прошлым, столь же своим, столь же нужным ей, как и свое, и со всем настоящим, без дискриминации, но и разумно, а не наобум, для построения единого для всех европейцев будущего.
Чтобы это случилось, нужно вымести сор из избы, убрать гнездящуюся по углам путаницу и мертвечину, нужно совесть раскрепостить, нужно выбросить за окно отрепья давно исчерпавшей себя, давно уже беспредметной идеологии. Срок для этого настал. Люди для этого есть. Пора нашей стране очнуться, прозреть, пора зажить на ветру, а не взаперти, новой, зрячей, полноценной жизнью.
Путь для вас, внуки, открыт. Пора России снова стать Россией.
УМИРАНИЕ ИСКУССТВА Размышление о судьбе художественного творчества
Глава первая НАД ВЫМЫСЛОМ СЛЕЗАМИ ОБОЛЬЮСЬ…
Скажите на милость, каким это образом человек, который в былое время печалился по всякому поводу, не находит в себе пи малейшей скорби теперь, когда валится целый мир.
Чаадаев о Жуковском в письме Пушкину, сентябрь 1831
Нельзя размышлять о настоящем, отказавшись гадать о будущем. Настоящее состоит из будущих, заложенных в него прошлым; эти будущие различимы для пристального взгляда; наблюдателю остается выделить то из них, что соответствует не каким-нибудь второстепенным течениям настоящего, а основному руслу, где протекает главный его поток. Осуществится ли именно это будущее, он не знает. Завтра, быть может, широкое русло засыплет песок и боковой рукав потечет полноводною рекою, но и в этом случае познание того, что казалось будущим сегодня, не потеряет смысла и цены. Критик не пророк: он гадает о будущем лишь для того, чтобы разобраться в настоящем; он видит знамения, но выбирает среди них не он.
В современной литературе, в современном искусстве происходят огромные перемены, частью очевидные для всех, частью скрытые и тем более глубокие. Перемены эти не отменяют национальных особенностей, но распространяются на всю Европу, включая, разумеется, и Россию, и более или менее равномерно сказываются на всех искусствах, хотя одни улавливаются легче в искусстве слона другие — в живописи или музыке. Место встречи и пересечения всех этих перемен и есть будущее, уже угадываемое в настоящем. Оно может не осуществиться, но его нельзя считать несуществующим; с ним можно бороться, но устранить его без борьбы нельзя. Если перемены, подготовляющие его, наметились весьма давно — иногда больше ста лет назад, — то это не только не умаляет их значения, но как раз подчеркивает их глубину и силу. Ничего нет удивительного в том, что угроза культурного разложения, пугавшая многих уже в начале XIX или в конце XVIII века, не сразу, а лишь постепенно разрослась до нынешних своих размеров, проникла всюду, отравила самые родники искусства, и прежде всего — источники поэтического вымысла.
1
Вымысел — самая неоспоримая, наглядная и едва ли не самая древняя форма литературного творчества. Там, где он (по обычным понятиям) отсутствует — в лирической поэзии, в философской или критической прозе, — творчество остается усматривать в мелодии мысли и в гармоническом обуздании стихии языка. Упиваться гармонией, сочувственно следить за вымыслом — два равноценных пути к причастию радостям искусства, упоминаемые бок о бок в пушкинской «Элегии». Понятие вымысла можно расширить, можно распространить его на все творчество вообще; но, оставляя за ним привычное его значение, легко увидеть, что минувший век, да еще и наше время знали его главным образом в облике романа, рассказа (объединяемых у англичан термином fiction) и театральной пьесы, причем роман по преимуществу воплощал его в себе, будучи важнейшим наследником исчезнувших великих носителей его: эпоса и трагедии. Ни в чем поэтому и не сказывается так резко перелом, совершившийся во всех европейских литературах в XX веке, и особенно со времени войны, как в том, что роман уже не играет в них столь первенствующей, как прежде, роли, что еще сильнее потеряли в удельном весе драма и рассказ, а главное, что на ущербе оказалась сама питающая их сила творческого воображения, «возвышающего обмана», вымысла.
Об ущербе свидетельствует уже тот факт, что в целом ряде современных литератур «беллетристы» и драматурги отступают на второй план, уступив первый писателям иного склада: идеологам, критикам, философам. Так обстоит дело в Испании, где царствуют Унамуно и Ортега; в Италии, где влияние Кроче и борьба с этим влиянием сыграли большую роль, чем все споры вокруг д'Аннунцио или Пиранделло; наконец, в Германии, где уже во второй половине минувшего века Ницше перерос всех современных ему романистов и драматургов и где, после литературного подъема 1890-х и 1900-х годов, снова оказались на одном из первых мест такие авторы, как Шелер или Клагес, как Гундольф, как Вельфлин и как многие другие мастера стиля и языка среди философов, историков, писателей по вопросам искусства и литературы. Еще показательней, однако, чем эти расслоения в писательской среде, нужно признать вызванные соперничеством колебания в первенстве литературных жанров. Место, еще недавно столь твердо занимаемое романом, теперь оспаривается у него книгами историческими, биографическими, мемуарами, описаниями путешествий, многочисленными разновидностями журналистического очерка, того, что во Франции называют большим репортажем. Краткий исторический «опыт» или биографический рассказ стремится заменить новеллу; жизнеописание, изукрашенное уборами, совлеченными с романа, силится перещеголять роман; наконец, и театр оказывается засыпан готовым материалом: биографические пьесы особенно популярны в Англии и Америке, где их выкраивают по шаблону десятками из таких же наскоро скроенных жизнеописаний.
Но этого мало. Биография, даже не состязающаяся с театром и романом, даже самая строгая и точная, будучи воссозданием личности и осмыслением исторических фактов, не может обойтись без участия творческого воображения; ее заменяют поэтому расположенной в хронологическом порядке документальною мозаикой, так называемым «монтажом». Меткое обозначение это заимствовано из кинематографической практики и придумано в советской России, где так усердно насаждают «производственную литературу» и свободе хотя бы и самого реалистического романа предпочитают штампованную механичность заказного «очерка». Монтажи, однако, довольно усердно изготовляются с некоторых пор и в Германии, и во Франции. Они бывают разных сортов, касаются разных областей жизни и культуры. В журналах, даже серьезных, но боящихся «отстать от века», различным «подлинным документам» отводится более почетное место, нежели роману, рассказу и стихам. Информация заменяет критику. Литература вообще, больше того: вообще печать — книга и журнал (вслед за газетой) — все чаще предлагает читателю в Америке, в Европе, во всем мире одни лишь кирпичи не построенного здания, сырой материал, сырую действительность, пусть ничем особо не искаженную, но автоматически воспринятую, мертвую, не оживающую в нас, не рождающую никакого образа именно потому, что воображение не произвело над ней своей животворящей и организующей работы.
Конечно, веками складывавшиеся литературные формы, вместилища вымысла, им осмысленные, созданные ради него, не могли исчезнуть бесследно за какие-нибудь десять, двадцать лет или хотя бы за одно столетие. Они были бы не в очень большой опасности даже и сейчас если бы те самые силы, что угрожают их вытеснить давлением извне, не разлагали их изнутри, не разрушали их жизненной основы. Разве вторжение документальности — психологической, бытовой, какой угодно — и схематичность самих задач, которые ставят себе современные драматурги, не лишает их произведения подлинного драматического бытия? Разве короткий рассказ не становится на наших глазах то готовой формулой неожиданной завязки и эффектного конца, то бесформенным ««случаем из жизни»? А роман, европейский роман, разве не находится он сейчас в состоянии острого перерождения не только внешних своих оболочек, но и самых тканей, из которых он состоит, и соков, которые его питают? Пример этот особенно показателен. Ведь именно теперь, отдаляясь все больше от Бальзака, Флобера, Толстого, Диккенса, Гарди, мы начинаем понимать, чем был для нас в роман и чего мы лишимся, когда его у нас не будет. Судьба его всего отчетливей ставит вопрос о судьбе всякого вообще вымысла.
Существовали издавна бесчисленные разновидности романа. Есть роман приключений и роман психологический; есть роман, излагающий историю одного героя, и роман без героев, рисующий общество, социальную среду, толпу; есть роман-исповедь и роман-история, роман–трагедия и роман-поэма. Однако эти различия не проникают в глубину. Лучше, чем когда-либо, мы понимаем теперь, что существо романа не в том или ином способе строить или развертывать его, что существо это вообще не может быть выражено на языке формального анализа, образа и что роман, не будучи «подражанием» жизни, есть, прежде всего, заново сотворенное живое бытие, не разложимое ни на какие рассудочные формулы и механически выделенные составные части. Таким и был великий европейский роман минувшего века и таким перестает быть современный роман. Яснее всего это можно заключить из произведений тех авторов, что сильнее других повлияли на него: Пруста и Джойса (к которым можно прибавить еще Андрея Белого для России, Свево для Италии). Пруст, в традиции романа воспитанный и с этой традицией порвавший, великий писатель, обреченный видеть и воплощать во всем доступном ему мире единственную реальность собственного «я», вместо романа написал нескончаемые, лишь отчасти вымышленные мемуары, жизнь и личность растворил в неисчерпаемом потоке единого воспоминания. Джемс Джойс в насильственной и мучительной своей книге «разъял, как труп» живую целостность романа, противопоставил естественному течению его необыкновенно искусственную двойную композицию, в огромной книге изобразил обычный день обычного человека, но зато символически связал каждую главу «Улисса» с одной из песен «Одиссеи» и с одним из органов человеческого тела путем целой системы хитро установленных соответствий и условностей.
Очень разным оружием и стремясь к противоположным целям, они вместе нанесли роману тяжкий и решительный удар: Пруст — отрицанием его формы, Джойс – навязыванием ему насильственной формулы. После них писать романы нельзя так, как их писали прежде. Конечно, старая техника не забылась, ею пользуются бесчисленные авторы на всех концах света, но в том-то и дело, что она стала ко всему применимой, заранее готовой техникой. Большинство современных романистов весьма умело применяют ее к обработке каких угодно поставляемых им действительностью материалов. Из реквизита классического романа заимствуют они приемы, так сказать, утилитарные: те, что создают занимательность, поддерживают внимание, служат правдоподобию и «жизненности», будучи не в силах родить подлинную жизнь. По испытанным рецептам машинным способом пекутся в англосаксонских странах толстые книжки с непоколебимой семейственностью и счастливым концом, а во Франции — книжки потоньше, с прелюбодеянием и драматической развязкой. Люди, «владеющие пером», вместо вымысла прибегают к рассудочным построениям вроде тех, какие применяются в шахматной игре, и еще недавно живое волшебство романа превращается у них в безжизненный расчет. Оживить этот расчет, эту придуманную выкладку не удается и настоящим большим талантам: механизм романа слишком рассудочно ясен и для них. Разница лишь в том, что таланты эти лучше умеют использовать те составные части, на которые распался роман, умеют из омертвелого костяка завещанной им литературной формы и собственного живого опыта создать новое, хотя бы и не совсем органическое единство и им свои книги оправдать.
Первенствуют, однако, и у них именно ум и опыт, умение строить и наблюдать, а все это — еще не вымысел. Э. М. Форстер с необыкновенным искусством воспользовался формой романа, чтобы написать замечательную книгу о современной Индии. Настроения английского образованного общества после войны нигде лучше не изображены, как в «Контрапункте» Ольдуса Гексли, но работа воображения здесь еще гораздо больше отступает на второй план перед мастерством анализа, использующего для своих целей повествовательную технику. О советской России многое можно узнать из любого романа, независимо от его качества, и почти все советские книги, даже лучшие, — прежде всего, если не только, документы. «Волшебная гора» Томаса Манна, «Человек без качеств» Роберта Музиля — целые энциклопедии, посвященные распаду германской мысли, германской жизни в преддверии войны и революции. К социологическим трактатам приближаются и французские эпопеи Роже Мартен дю Гара и Жюля Ромэна. «Фальшивомонетчики» Андрэ Жида — авторская исповедь плюс размышления о том, как пишется роман. Книги Мориака — куски живой ткани, вырванной из души самоуглублением одинокой совести. Вымысел во всех этих случаях и в бесчисленных других играет чисто служебную роль; единство его нарушено, и тем самым повреждено единство современного романа. Во Франции, в Англии, в Италии он превращается чаще всего в схематическую постройку, лишенную живого содержания. В Германии, в Америке, в советской России, наоборот, он перегружен беспорядочно наваленным разношерстным материалом: ему грозит бесформенное разбухание, водянка от неумеренного потребления непереработанного, недоусвоенного сырья.
Давление материала, механизация формы вступают иногда в невиданный еще союз. В Германии и Америке изобретены новые способы повествования. Если Драйзер и Льюис, отчасти Вассерман, только непомерно отяжеляли старую натуралистическую формулу, с романом соединяя репортажную запись и судебный протокол, то у коммунистически настроенного Дос Пассоса (как у Деблина в «Берлин — Александер-платц») появляются новые приемы: монтаж вклинивается в роман, роман становится монтажом. В «42-й параллели», в «1919» повествование разрублено на куски, истории отдельных героев книги не связаны одна с другой, каждому куску предпослана страница или две, составленные из газетных вырезок, затем отрывок, изображающий клочок действительности, схваченный как бы объективом фотографического аппарата, а иногда еще и краткая биография какого-нибудь большей частью реально существующего лица. Получается нечто весьма пестрое, но вместе с тем и серое, как сама действительность — но вовсе не как живая жизнь. Характерно, что и «Сомнамбулы» Германа Броха, трагическая трилогия нашего времени, бесконечно превышающая художественный уровень Дос Пассоса и по значительности превосходящая, быть может, все, что появилось в форме романа не только в Германии, но и в Европе за последние десять лет, применяет в третьем томе, где действие происходит в 1918 году, аналогичный прием разрубленного повествования. Первый том отнесен к 1888 году и построен в форме традиционного романа; второй — к 1903-му, и форма его гораздо неустойчивей и беспокойней; но в последнем томе автор почувствовал необходимость окончательно порвать с традицией — иначе не передал бы он того общего распада, который с такой исключительной силой им изображен. Здесь не только роман, здесь как бы самое воображение романиста разорвано в клочки, разбито на отдельные проблески, озарения, вспыхивания молний. Человеческие судьбы раздроблены войной, человеческие души потеряны в опустошенном мире, и такой же надтреснутой, разъятой, как они, стала художественная форма, призванная их выразить.
Брох свою книгу оправдал, но так же парадоксально, в порядке такого же единичного чуда, как Пруст свою: соответствием до последней возможности напряженной формы такому же предельно давящему на эту форму идейному (а не психологическому, как у Пруста) содержанию. Пруст весь в осознании самого себя, Брох — в осознании своего времени; один так же центростремителен, как другой, в известном смысле центробежен; однако оба подрывают внутренний закон искусства и достигают противоположных, но одинаково опасных его границ. Вымысел у обоих на ущербе, у обоих заменен познанием. Гений Пруста, великие творческие силы, отпущенные Броху, позволили тому и другому одержать решающую — для них — победу; но вторично, в тех же условиях, уже победить нельзя. Можно быть великим художником — Монтенем, Паскалем, Томасом Броуном, — не прибегая к вымыслу в обычном смысле слова; и все же, когда силы вымысла в мире иссякают, сквозь поэзию начинает проступать рассохшийся костяк литературы, и писатель восстает против собственного призвания. В вымысле сливалось чужое и свое, изобретение и наитие; стоит волшебству его ослабнуть, и уже писателю противостоит человек, личности — стесняющее, ограничивающее ее искусство. Над вымыслом можно было обливаться счастливыми слезами, но горькие слезы прольет художник над его меркнущей, уходящей тенью и над своим бессилием облечь ее снова в живую плоть.
2
Воображаемый мир был естественным обиталищем художника, вместилищем его духа, телом его души. Как бы ни были многообразны в искусстве открывающиеся миры, никогда не порывалась связь между ними и тем, что мы называем правдой. Вымысел с полной свободой для самого себя незаметно переходил от познания к творчеству и от творчества к познанию: слияние этих начал как раз и составляет сущность вымысла и вместе с тем сердцевину всякого искусства. Лишь оскудение вымысла, лишь закат воображаемых миров привели к расколу между познанием и творчеством, а отсюда и между творческой личностью, творческим делом художника и его эмпирическим, житейским, «реальным» бытием.
«Прежде всякой литературы меня интересует одно: я сам». И еще: «Литература интересует нас (т. е. писателей) лишь в связи в нашей собственной личностью, лишь в той мере, в какой она может повлиять на нас». Так писал лет десять назад совсем еще молодой тогда французский литератор Марсель Арлан в статье, многими замеченной, где он старался поставить диагноз новой «болезни века», сам того не замечая, что болезнь эта всего ясней сказалась в только что приведенных его словах. А между тем стоит вслушаться в них да еще в ту глубокую тревогу, что явствует из всего, что их окружает, чтобы понять, насколько они предполагают разрушенным всякое здоровое отношение между писателем и тем, что он пишет, между человеком и его творчеством. Если разлад проник сюда, в эту глубь, в самый узел, связывающий жизнь с искусством, если он коснулся неотменимых условий литературного и всякого вообще творчества, то где же еще, как не в нем, остается искать «болезнь века»? Недаром формула скуки из юношеской книги Андрэ Жида «rien ne nous occupe plus hors nous memes» превращается на наших глазах в формулу отчаяния. Мы становимся лицом к лицу то с человеком без искусства, хотя и способным к нему, хотя и страстно по нем тоскующим, то с искусством без человека: голой игрой все более отвлеченных, все более ускользающих смысла форм.
Всего болезненней был почувствован и отчасти осознан трагический разлад поколением писателей, родившихся в девяностых годах прошлого века и в ранней молодости побывавших на войне. Среди них всего сильнее испытали его англичане и французы, вероятно, потому, что развоплощенность личности, зажатой в верстаке механической войны, им особенно трудно было совместить с органическим членением и наследственной сложностью двух самых древних, насыщенных и отягощенных преданием литератур Европы. В Англии такие авторы, как Ричард Олдингтон, Роберт Гревс и во многом приближающийся к ним американец Хемингуэй, пишут романы и стихи, и пишут совсем неплохо, но так, что где-нибудь непременно просквозит полная неубежденность в необходимости их писания. Их книги живы, поскольку в них живет память о пережитом и мучение живого человека; но их личный опыт, будучи единственным духовным содержанием этих книг, слишком узок и одновременно слишком общ, чтобы переработать весь наличный материал и дать ему исчерпывающую форму. Этот опыт «я», единственного среди миллиона ему подобных, — совсем не то, что опыт личности, свободно развивающейся, целостной и в то же время открытой миру. Он годен для проповеди человеколюбия, но не для той совсем иначе рождающейся любви к человеку, без которой нет подлинного творчества. По мере того как отходит в даль страшный опыт, многие годы их питавший, писатели эти все более чувствуют себя потерянными в литературе, являющей им лишь свое внешнее, бумажное бытие. Гревса забавляют ни к чему не обязывающие и ничего не значащие, хотя и с необыкновенным искусством проведенные литературные эксперименты. Хемингуэй посвятил несколько лет жизни изучению боя быков — подлинной реальности по сравнению с призрачной (для него) литературой. Олдингтон пишет роман за романом, но живут в них кусками, как в «Смерти героя», только сгустки крови. Свидетельства о себе.
Такие же свидетельства составляют существо всех писаний Анри де Монтерлана и Дриё ла Рошеля, самых показательных людей того же поколения во Франции. Одна из книг Дриё начинается словами: «Как бы далеко я ни ходил в прошлое моего сознания, я нахожу в себе потребность быть человеком». Желание как будто вполне законное, однако именно эта потребность быть человеком и мешает ему, как и Монтерлану, сделаться до конца писателем. Правда, Дриё утверждает, что и «человеком» ему стать не удалось, «ни воином, ни святым, ни поэтом, ни любовником», и что поэтому осталось ему одно — писать романы, т. е. предаться вымыслу и от себя уйти в литературу. Но в том-то и дело, что трудность для него вовсе не в том, чтобы себя найти, а в том, чтобы себя потерять и тем самым выразить себя в искусстве. Человеком он остался в той мере, в какой им был всегда; этого человека — и его одного — мы как раз и находим во всех его романах, которым больше всего не хватает вымысла. Точно так же и Монтерлан при еще гораздо более сильном художественном даре неизменно прикован к себе, заворожен собой, не в силах отдаться собственному творчеству, которое раскрывает перед ним не мир, а лишь каталог жестов, поз и ролей, доступных ему в мире, и, перелистав страницы, ввергает его вновь в безвыходную скуку, обратно, к самому себе. Книги таких писателей, как эти два, интересны ровно постольку, поскольку интересны — не как творящие, а скорей как страдающие личности — их авторы. Существенно в них не тот мир, что они строят, не то, куда они ведут, а то, откуда они исходят. И, конечно, всегда были книги, важные только как свидетельства, как «документы», как нечто только «человеческое», но, кажется, прежде не существовало книг, которым именно эта человечность мешала бы стать искусством. Удивительно не то, что романы Монтерлана и ла Рошеля художественно недосозданы, недостаточно значительны как романы; удивительно, что они выходят такими именно потому, что интересны и значительны их авторы. Человеку не всегда дано воплотиться до конца в художника, но не все благополучно в мире, где он не вполне художник именно потоку, что он слишком человек.
Можно ли винить отдельных писателей или целое поколение их в том, что они не справились с этим парализующим творчество противоборством духовных сил? Конечно нет; да и не в их личной неспособности тут дело, разлад переживается не худшими, а лучшими среди них; его корни проникают в большую глубину; суд над ним означал бы суд над всей современной культурой. Не ограничен он и поколением, о котором до сих пор шла речь: в более старшем его не избежал ни Лоуренс, несмотря на его религию солнца и плоти, ни Мориак, несмотря на его католичество. Оба эти автора исповедью и проповедью разрывают волшебство вымысла и замкнутость романа. К англичанам и французам можно было бы присоединить многих немцев, итальянцев, многих русских, — если не из тех, что остались в России, где каждого давит заказ и материал поглощает одновременно форму и содержание, то из тех, что пишут или пытаются писать в эмиграции, где души обнажены почти как на войне и борьба за сохранение (хотя бы и духовное) голого «я» мешает ему стать личностью и раскрыться в творчестве. Вся литература сейчас полна отвращением к литературе: к готовым ее формам, приспособление к которым оплачивается слишком дорого, а дается чересчур легко, к литераторской спеси и журнальному вранью, к фиоритурам и орнаментам, к позорной гладкости, подравнивающей и причесывающей мысль, к словесной истине, к поддельной красоте, к напыщенной и напускной морали. Пусть увлекаются, путают, так яростно обличают голого короля, что отрекаются и от сказки, в которой о нем рассказано, пусть принимают вымысел за ложь и творчество за припрятывание жизни, все-таки, — положа руку на сердце, — разве отвращение это не оправдано?
Оно оправдано, потому что и в самом деле существует то, что не может его не вызывать: литература для литераторов, литература, оторвавшаяся от человека. Она существует, как давным-давно установленная, до мелочей разработанная система жанров, стилей, манер, приемов, чего угодно: только выбирай. Система допускает участие в ней все новых и новых лиц, но участие это делает заметным лишь при условии усовершенствовать какую-нибудь ее часть, включить еще неизвестный механизм в сцепление привычных механизмов. От писателя требуется придумать даже не frisson nouveau (как довольно бесцеремонно Гюго выразился о Бодлере), а лишь новый «эффект», как о том говорил еще Гоголь: «Всякий, от первого до последнего, топорщится произвесть эффект, начиная от поэта до кондитера, так что эти эффекты, право, уже надоедают, и, может быть, XIX век, по странной причуде своей, наконец, обратится ко всему безэффектному». XIX век надежды этой, как мы знаем, не оправдал, а двадцатый и самую безэффектность сделал эффектом. Арсеналом всех приемов и, значит, всех эффектов обладает писатель во всеоружии мастерства. Но беда в том, что само это мастерство и загоняет писателя в тупик, он не знает, куда применить его, что с ним делать. До поры до времени можно обойтись, при помощи все растущих тонкостей и усложнений, побеждать литературу усугублением самой литературности; так и поступают в наше время такие, например, глубоко одаренные люди, как Вирджиния Вулф и Жироду. Но в таких случаях писателю все больше начинает изменять чувство жизни, пока оно не исчезнет совсем, уступив место некоей рассудочной иллюзии. Как человек, он, может быть, и вполне нормально участвует в жизни, но как художник выпадает из нее. Он все может и ничего не должен; не имея внутреннего закона, он стремится к внешнему принуждению. В поэзии Малларме и Валери дали разительные примеры потребности в заказе, и даже предсмертные вопли Андрея Белого, требовавшего от «партии», чтобы она его вела (т. е., собственно, научила бы его творить), объясняются не одним лишь заискиванием и нуждой в подачке.
Знатоков своего дела, мастеров литературной техники (особенно среди французов и англичан) — сколько угодно; но, читая их, вспоминаешь слова Достоевского об одном из героев «Подростка» (Крафте): «Что-то было такое в его лице, чего бы я не захотел в своем, что-то такое слишком уже спокойное в нравственном смысле, что-то вроде какой-то тайной, себе неведомой гордости». Гордость, впрочем, не такая уж и тайная, зато спокойствие и в самом деле чрезмерно. Так и чувствуется, что писатель никогда не подумает и даже не испытает ничего, что он не сумел бы вполне исчерпывающе и без затруднения изобразить на бумаге. Везде умение ограничиться и выбрать, обходясь без всякой борьбы; нет слабости, но нет и малейшего избытка. Везде нескрываемое любование собой, своим чувством меры, обузданным воображением, знанием законов и границ, отсутствием колебаний, за исключением разве колебаний грамматических. Как будто ничего в мире не должно вызвать у писателя любви, кроме того, что может беспрепятственно войти в его искусство, что заранее предназначено выставить в наилучшем свете его талант. Не искусство расширено до мира, а мир сужен до искусства, приготовлен, препарирован, нужным образом окрашен; он уже не душа, не природа, а некий полуфабрикат, для того, чтобы сделать из него искусство, не нужно подлинного творчества. Но, конечно, на таком пути не обрести и полного искусства. Вместо него — в стихах или в прозе — только умелые, гладкие, стройные, но все же развоплощенные и потому бессильные слова.
Что такое марево литературы, оторвавшейся от жизни, что такое литературная жизнь, это все знают, это знал Блок («Друзьям» и «Поэты»), это знает Клодель, у которого есть стих «l'homme de lettres, l'assassin et la fille de bordel», это можно узнать, если заглянуть в сплетнические записи Гонкуров, в многотомную пустыню дневников Жюля Ренара, в посмертно изданные записки Арнольда Беннета, где даже нет и литературы, а есть карьера и гонорар, всего же проще — в литературное кафе, где литераторы говорят о литературе. Живому человеку все это трудно перенесу Читатель потому и обращается к биографиям и прочим «документам», что жизнь и человека он находит только них. Движимый тем же отвращением и той же потребностью, «документы» начинает предлагать ему и сам писатель. Вместо романа или драмы пишет он воспоминания, исповедь, психоаналитические признания вроде тех, какие требуются от пациентов Фрейда. В худшем случае излагает нормальную или клиническую биографию своих знакомых; в лучшем (все-таки в лучшем) рассказывает о себе выворачивается наизнанку, по возможности полнее, чем кому-либо удалось вывернуться до него. Иные авторы пишут нарочито наперекор литературе: в беспорядке, уличным языком, не сводя никаких концов с концами; в Германии их расплодилось множество за последние годы, французов, менее привычных, тем же способом напугал или восхитил Селин. Все эти писатели, отрекающиеся от писательства и видящие в бесстыдстве патент на благородство, забывают, что правда, та правда, с которой имеет дело искусство, вообще не высказываема иначе как в преломлении, в иносказании, в вымысле. Они только и хотят уничтожить условности, сорвать литературные покровы, хотя бы для того, чтобы обнаружить под ними одно лишь голое, жалкое ничто.
Потребность эта понятна; но разоблачение ведет к развоплощению. Безблагодатная исповедь никого не излечила и не излечит. Разоблаченное нутро — такая же ложь, как и гремучие слова. Бесформенность и формализм, документы и пустая техника — явления соотносительные и равнозначные, симптомы того же самого распада. Распад можно лишь ускорить, если усилить ударение на одной из распавшихся сторон. Предмет «человеческого документа», только человек, есть умаление подлинного человека. Там, где «уже не голос, только стон», недалеко и крик животного, а то и скрип плохо смазанной машины. Искусство без человека — не вполне искусство, но и человек, в существе своем отторгнутый от искусства, — не весь, не полный человек. Дело тут совсем не в обязательном для всякой эпохи и для всякого искусства требовании единства формы и содержания и не в возможном в любые времена нарушении этого требования, всем известного, банального, но тем самым отнюдь еще не отмененного; дело в разрыве, ведущем начало с эпохи романтизма, но с полной силой ощущаемом лишь сейчас, между искусством вообще, т. е. всякой возможной художественной формой, и человеческим содержанием, человеческой душой самого художника. Важны не отдельные удачи или неудачи, зависящие от степени личной одаренности; важно, что даже самым одаренным людям становится все труднее воплотить себя в искусстве и, значит, самую свою личность целостно построить и понять. Художник познавал себя и выражал свой внутренний мир в вольной стихии вымысла, но в этом творческом акте он одновременно отдавал себя, ибо внутренний мир его принадлежал не только ему и его вымысел не был чистым произволом. Утратив вымысел, он забыл о самоотдаче, потерял способность себя терять. Он замкнулся в себя, заперся в свою нору, в свой склеп, оградил кольями свой мир от чужого мира. Он уже отпугнул и искусство, потому что и от искусства хочет только самого себя. Он так одинок, что в самом этом одиночестве только и сливается его судьба с общею судьбою человека.
Magna civitas, magna solitudo… Пророческие слова Бэкона, предвкусившего в Лондоне королевы Елизаветы многолюдную пустыню будущих огромных городов, приложимы не только к городской, но и к государственной, да и ко всей вообще цивилизованной жизни современного нам мира: где нет уединения, там одиночество всего страшней. Именно потому, что личность в этом мире как никогда придавлена нечленораздельной массой, что ежеминутно ее грозит затоптать многоногая толпа, именно потому она отвергнута, потеряна, забыта, хоть и не знает о том, хоть и шагу нельзя ей ступить, не наступая на мозоль соседа, хоть от непрестанного трения и стираются постепенно те самые черты, что делают ее личностью. Растеряв семью, общину, бытовое содружество, сам себя отлучив от церкви, современный человек ищет опору то в неистовом превознесении своей особенности, то в отказе от нее на благо «коллектива». В ослепляющей муке этих поисков он забыл, что растение не станет свободней, если его вырвать из земли, лишить солнца и поместить под стеклянным колпаком, а когда опомнился, решил исправить дело тем, что на подмогу одинокому растению стал совать под тот же колпак возможно большее число таких же бессолнечных растений. По отношению к индивидуализму девятнадцатого века универсальная каторга коллективизма — не выход, а возмездие. Соборного единства заменить нельзя сложением единиц, общеполезным рекрутским набором, советской барщиной, где вместо помещика — не партия даже и не класс, а отвлеченный рецепт, индустриализация, прогресс или «борьба с природой» Нужно не общее дело, а общая душа, только ею будет оправдано и дело; а пока ее нет, чем дальше, тем больше человек — монада с заколоченным окном, атом, сопряженный с миллионом атомов.
Об одиночестве своем не знают, разве лишь догадываются смутно, личности, превращаемые в особей. Для кирпичей пятилетки, для производственных автоматов, какими постепенно становимся все мы, жизнь на земле подобна путешествию в подземном поезде, где всем тесно и гадко, где все сближены злобою друг к другу и в полном равенстве вдыхают смрад, одинаковый для всех, где братоубийственно глядит пассажир, боящийся, как бы ему не сели на пальто, в глаза пассажиру, готовому его спихнуть, чтобы занять освободившееся место. Зло неосознанное не перестает быть злом; но там, где личность еще не задавлена вконец, где в ней еще теплится творческая искра, она не может не видеть зла, не может не страдать от одиночества. Творческая душа одинока была всегда, во все времена, во всякой обстановке, но совсем не в том смысле» который одиночество это стало приобретать лет полтораста назад и который все более укреплялся за ним по мере приближения к нашему веку. Творческий человек старых времен — Эсхил и Данте, Фидий и Рублев — был одинок в своем деле, в своей судьбе, в силу особого своего призвания, но в истоках своего творчества он не был отделен от того, чем все вокруг него жили и дышали. Случалось и прежде, что гений оставался неясен для современников, предпочитавших умеренный талант; но он оставался неясен, потому что всех перерастал, а не потому что и вырасти не мог на той почве, где взрастали остальные Шекспира не отличали от Гейвуда или Флетчера, но, должно быть, не так уж отличал себя от них и сам Шекспир; Микеланджело и Рембрандта к концу их жизни перестали понимать, но лишь как издревле не понимали пророков и мудрецов, а не как упирается в непонятное араб, выслушивающий речь китайца, или школьник, раскрывший наугад «Критику способности суждения». Непонимание, кроме того, далеко не всегда означает внутреннюю чуждость и само по себе отнюдь не приводит еще к тому глубокому и больному одиночеству, каким со времени романтизма все чаще бывает поражена творческая личность и творческие ее дела. Во всей судьбе современного искусства, в произволе воображения или внезапной робости его, в обилии выдумок и причуд, как и в пристрастии к сырому документу, в упадке вымысла, в утрате стиля сказалось одиночество художника.
Всего нагляднее сказалось оно в искусстве слова не потому, чтобы и все его следствия определились тут всего сильней, а потому, что писателю дано не только выразить себя в своем творчестве, но еще и рассказать о себе, непосредственно, «своими словами». Писатель и рассказывал, без устали, весь минувший и нынешний век, и все рассказы его сводятся в конце концов к исповеди неизбывного одиночества. Как он единствен, как непохож на других, как он горд и как мучается своим несходством — исповедь непрестанно переплескивается в самое его творчество; он, как блоковский арлекин, прорывает головой бумажное окно; его личная жизнь, земная его душа вместо того чтобы воплотиться до конца в его созданиях, проглядывает сквозь все их отдушины и щели, так что «Береника» или «Король Лир» кажутся не имеющими автора, упавшими с Луны рядом с самым «объективным произведением любого современного романиста. Недаром поэзия почти отождествилась для нас с лирикой (понимаемой как личное признание), а роман соединил себе и тем самым упразднил наследие эпоса и драмы. Появление книжной драматургии, которую сцена, по крайней мере современная сцена, способна лишь искалечить или огрубить; падение театра, принужденного отказаться от поэзии, от искусства и, собственно, от драмы, чтобы сохранить свое театральное бытие, — это лишь два взаимозависимых признака глубокого раскола между всем окружающим миром и стремящейся вырваться из него творческою личностью. Театр неосуществим там, где зритель и драматург живут в мирах, не сообщающихся друге другом. Древний эпос и старый роман предполагают, что повествователь в ту же самую жизненную стихию погружен, что его слушатель или его читатель. Но современный драматург, повествователь и поэт не только в обход своего творчества, но и в творчестве самом не перестает твердить: «Это я, а не вы; это мой мир, а не ваш; это я впервые увидал то, что до меня никто не сумел увидеть». Между строк это можно прочесть не только у такого великого поэта, как Бодлер, сумевшего пожертвовать собой ради воплощения открывшегося ему мира, но и у последнего литератора из подполья, готового, не жертвуя ничем, утопить человечество в своей чернильнице.
Разобщенность миров, противопоставленность творящего лица нетворческой и безличной массе обнаружила не сразу все свои плоды: речь идет о полуторавековом развитии, не вполне завершенном еще и в наше время. Европейский роман девятнадцатого века, от Стендаля до Гарди, от Манцони до Толстого, хотя и не был так окончательно отсечен от своего творца, как елизаветинская драма или французская трагедия, но все же показывал нам человека и его дела как бы независимо от предварительно воспринявшего их авторского глаза. Герои романа двигались в некоем до конца пересозданном и отделенном от автора мире, именно поэтому казавшемся нашим общим миром, миром, одинаковым для всех людей. Роман не считался с относительностью восприятий, с множественностью познаваемых миров; его «реализм» был наивным реализмом. Едва заметно подготовлялся и почти нежданно вскипел тот самый, уже помянутый нами переворот, для Франции и европейской литературы вообще яснее всего связанный с именем Пруста, в Англии закрепленный Джойсом, в Италии обязанный многим Свево и Пиранделло, в России — Андрею Белому. После переворота романист все еще хочет изображать мир, но он делает это, непрестанно подчеркивая, что мир воспринимает именно он, или его герой, или несколько его героев попеременно. Все больше уподобляется он человеку, подошедшему к окну не для того, чтобы открыть его и посмотреть наружу, а для того, чтобы рассматривать самое стекло с его мелкими изъянами, особым оттенком и небезукоризненной прозрачностью. От такого сосредоточения на условиях восприятия легко перейти к особому подчеркиванию средств изображения, да и всяких вообще технических приемов. В живописи этот переход выразился в замене импрессионизма кубизмом; в литературе ему отвечает разделение среди только что перечисленных писателей и некоторых примыкающих к ним. Свево, робкий предшественник Пруста, знает не мир вообще, а только мир своих личных «представлений»; Белый совсем по-иному, но тоже всякий внешний предмет растворяет в своей мечте. В противоположность им Джойс вообще не знает одного , даже только своего, мира, одной , даже только своей, мечты: у него столько же миров и столько же литературных манер, сколько действующих лиц в «Улиссе»; и точно так же Пиранделло каждую свою пьесу с утомительным постоянством строит на противоборстве не жизненных и моральных, а познавательных особенностей своих героев, вследствие чего они и становятся лишь чучелами идей, интеллектуально-механическими куклами. Всех их, однако, и самое это различие перерастает Пруст, прикованный к себе, из трепетаний собственного «я» извлекающий все, чем до краев полна его гениальная, пленительная, чудовищная книга, где нет ни одного предмета, ни одного лица, которые существовали бы независимо от автора, ни одной страницы, в которой мир был бы наш общий или Божий, а не его собственный; где творческая личность и всесильна и немощна одновременно, а духовная отъединенность, оставленность ее так исконна, так бесповоротна, что самое затворничество Пруста, его ночная жизнь, его болезнь кажутся лишь символом этого одиночества.
Прустовский солипсизм в искусстве неповторим. Никто не напишет вторых «Поисков потерянного времени». То, чем великий писатель жил, — и ради чего он отдал жизнь, — то, что раз навсегда он выразил в своем творчестве, то у всех других может лишь мешать и творчеству, и жизни. Недаром его глубокой человеческой подлинности уже не найти у Джойса или в пьесах Пиранделло. Одиночество загоняет художника в формалистическую игру, предаваясь которой, он может до поры до времени тешить себя гимнастической гибкостью своего уменья. Все остальное, все, что не он, — лишь общее место, дешевая, захватанная красота. Не воспевать же ему, в самом деле, весну и любовь, не хвалить же хорошую погоду (да и дурная потеряла значительную долю своего очарования). Еще до Пруста предельный эстетический эгоизм получил законченную форму у недавно умершего английского писателя, о котором Честертон так удачно пошутил, говоря, что Джордж Мур никогда не скажет: «Мильтон — большой поэт», а всегда лишь; «Мильтон, как поэт, всегда производил на меня большое впечатление»; никогда не изобразит картины, которую естественно озаглавить «Лунный свет», а всегда лишь такую, которой хочется дать название: «Развалины мистера Мура при лунном свете». Совершенно такое же по существу мироощущение Пруст сумел претворить в искусство, пережив его как трагедию, как напасть, как неизбежную свою судьбу, тогда как у Мура, самодовольно услаждающегося им, оно разрывает художественную ткань, придает его писаниям какую-то особую призрачность и неуплотненность и даже мешает ему, несмотря на все языковое мастерство, сколько-нибудь выпукло передать ощущение собственной своей личности. Эхо общее правило: чем больше мы в себя всматриваемся, тем более расплывчатым становится наш образ. Личность выражается не в самосозерцании, а в творчестве, т. е. в действиях, направленных из «я» наружу, а не внутрь самого «я»; к таким действиям относится и построение самой личности. Сосредоточивание на обнаженном «я» не только не строит личности, но ее разрушает. Даже у Пруста самое бледное действующее лицо — он сам, Марсель, жизнечувствительная плазма, не обладающая даже и той степенью личного бытия, какая присуща воспринимаемым ею (и только в этом восприятии данным) чужим индивидуальностям. Глубочайшая истина религии и этики, заключающаяся в словах о том, что лишь потеряв свою душу, можно ее спасти, есть необходимое условие всякого творчества и самый непререкаемый закон искусства.
Этот закон, — Гёте его знал, в собственной жизни его открыл: в неустанном построении самого себя, как последнюю тайну и высочайшее откровение, обрел это евангельское слово: «stirb und werde». Именно потому и назвал он книгу, где рассказывает о становлении и росте своей личности, а не просто о переменных состояниях своего «я», мудрым именем «Dichtung und Wahrheit»: поэзия и правда, вымысел и действительность. Сочетание этих слов означает не только соединение, в лице автора, историка, излагающего и поясняющего факты, с поэтом, придающим не одному ему доступную сверхфактическую целостность; оно говорит еще и о том, что всякая правда о человеке — полуправда, если она не включает в себя ту высшую правду, что мы называем вымыслом. Стареющий французский писатель недавно сказал: «Правдиво рассказать можно лишь о том, чего не было»; слегка изменив его, можно придать этому скептическому изречению более точный смысл: правдиво рассказать можно лишь о том, что не просто «было». Вымысел совсем не есть выдумка, басня, произвольное измышление; немецкое слово Dichtung гораздо лучше отвечает его существу, чем наше или чем английское и французское обозначение его, которое пришлось бы передать словом «фикция». Его нельзя назвать ни былью, ни небылицей, ибо в нем таинственно познается не преходящее бывание, а образ подлинного бытия. Поэтический вымысел есть мифотворение, без которого не может обойтись искусство и которого нельзя заменить дискурсивно-логическим познанием… «Nous ne concevons plus une litterature romanesque detournee de sa fin propre qui est la connaissance de l'homme». Пусть так, но в этих словах Франсуа Мориака остается неясным, о каком познании идет речь, остается несказанным, что лишь мифотворящий вымысел сливает познание и творчество в одно, умеет проникнуть в тайну личности и передать целостный образ человека. Именно в силу этой сверхрассудочной своей природы вымысел так необходим искусству и угасание его так быстро приводит к разрыву между личностью художника и жизненным ее делом, к неисцелимому одиночеству творческой души. Искусство не есть дело расчленяющего знания, но целостного прозрения и неделимой веры. Ущерб вымысла означает ослабление этой веры и разрушение одной из вечных основ художественного творчества.
Глава вторая МЕХАНИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ
—Mithin, sagte ich ein ivenig zerstrent, mussten xuir wieder von dem Bautn der Erkewitniss essen, um in den Stand der Unschuld zuriickzufallen?
—Allerdings, antivortele er; das ist das letzte Capitel von der Geschichte der Welt.
Kleist. Ueber das Marionettentheater
Искусство есть слово, движение, живой огонь, перелетная искра от человека к человеку. Творение художника, как и продолженная, сгущенная в нем природа, «не слепок, не бездушный лик», а неразрывный клубок духовных и душевных сил, могучий аккумулятор жизненной энергии. Не в камне, не в краске и холсте, не в сочетании звуков или слов последний его смысл, но в том человечнейшем и вместе с тем превышающем человека, что тайно и как бы само собой воплотилось в доступную восприятию, органически предуказанную форму. Без воплощения нет искусства, но без воплощаемого нет и воплощения. Живой человек присутствует во всяком искусстве в лице самого художника, а в искусствах, призванных к изображению мира, он составляет еще и неотъемлемую сердцевину этого изображения. В лирической поэзии дан поэт, как в симфонии музыкант и в здании строитель; в эпосе, драме и романе — как в скульптуре и живописи — даны живые люди; работа вымысла сама его приводит к созданию живых людей. Если в этом усматривать «реализм», то реалистическим придется назвать всякое искусство, так как оно всегда отнесено к реальности, а не к абстракции или выдумке. Исторически, однако, обозначение это как раз укрепилось за таким искусством, которое рискует привесу к «слепку», к «бездушному лику», т. е. к чему-то враждебному всякому художественному творчеству, как бы оно себя ни называло, с какой бы теорией ни считало себя связанным. Во всяком случае, истинная реальность в искусстве хотя и может означать нечто выше или глубже жизни, но прежде всего есть жизнь. Художник создает живое, он верит в бытие сотворенного им мира и в жизнь людей, населяющих тот мир.
«Моя Марина славная баба», — писал Пушкин Вяземскому по поводу «Бориса Годунова»; есть основание думать, что и о своей Татьяне он отзывался с не меньшим одобрением. О Бальзаке существуют свидетельства, выясняющие, что лиц «Человеческой комедии» он склонен был принимать за живых людей: оплакивал их гибели, радовался их удачам, советовал знакомым позвать к тяжело больному лишь в его собственном творении живущего врача, до того забывался, что однажды, пособолезновав другу, только что потерявшему сестру, неожиданно воскликнул: «Вернемся к действительности!» — и заговорил о своих героях. Сведения такого рода можно собрать о многих других авторах минувшего века, и если это не так легко сделать в отношении писателей других веков, то лишь потому, что гораздо меньше интереса было в те времена к авторскому лицу и к психологической основе его творчества. Живые люди, созданные романистом или драматургом, именно потому и живы, что не вполне от него зависят, не до конца ему подчинены, значит, и ему самому естественно представлять их себе как людей, от него отдельных, которых можно осуждать и ненавидеть, жалеть и любить; так что в этом не должно быть большого различия между Сервантесом и Толстым, Шекспиром и Бальзаком. Что же касается героев «Илиады» или «Песни о Роланде», то воображению странствующего певца, прославлявшего их подвиги, они уже окончательно преподносились реально данными в историческом или мифическом опыте, подлинно живыми существами. Пусть образы их кажутся нам , воспитанным на совсем другом ощущении личности, упрощенными, собирательными, скупыми на индивидуальные оттенки: именно таким представлялся древнему поэту человеческий образ вообще.
Действующее лицо эпоса, драмы или романа не есть простое измышление, изобретение, хитроумная игрушка, изготовленная рукой хорошо обученного мастера. Но столь же неверно было бы утверждать, что литературный герой заимствуется извне, берется напрокат у жизни, — и опять-таки это утверждение (при всех различиях в частностях) одинаково неприменимо к героям Троянской войны и к Болконским или Карамазовым. Франсуа Мориак недаром одновременно заявил в последней своей книге о романе, что герой романиста тем живее, чем он менее ему подчинен, и что лишь самые второстепенные действующие лица могут быть взяты без изменений из действительности. Важнейшее, однако, этим еще не сказано: дело в том, что и самым тщательным, самым равномерным распределением этих элементов — тех, что от автора, и тех, что от жизни, — живого человека создать нельзя. Мориак говорит, что жизнь дает романисту лишь отправную точку, исходя из которой он может взять любое направление, хотя бы и противоположное тому, какое предуказано в жизни; но и этого еще не достаточно. Творчество совсем не состоит в произвольном сцеплении вырванных из жизни клеток или атомов, а сотворение живого человека таким способом и тем более невозможно. Из фактов и здравого смысла жизни не создать — разве лишь сколок, отражение, подобие. Истинный художник ищет не правдоподобия, а правды, подражает не жизни, а силам, рождающим жизнь. Он не списыватель природы; он, как тот же Мориак сказал недавно, — обезьяна самого Творца. И те силы, что в нем, через него, в сотрудничестве со всем его существом творят, это те самые силы, что искони участвуют в творении.
Основные традиции эпоса и драмы в минувшем веке унаследовал роман, и главным требованием, предъявляемым ему, сделалось требование жизненности, т. е. именно создания живых людей, что совсем еще не обязывает принимать идеологию «реализма» или «натурализма» Идеология эта нередко становилась вредной для романа побуждая романиста, ищущего живую правду, довольствоваться похожей на жизнь обстановкой и житейски правдоподобными людьми. Но девятнадцатый век был все же веком великого романа. Герои Стендаля и Бальзака Флобера и Диккенса, Готтфрида Келлера, Гарди и Толстого — целостные создания, живые лица, отделившиеся от автора, хотя и созданные из его плоти и крови, не приклеенные к страницам, на которых он поместил их имена. Жюльен Сорель ни на кого не похож, но он есть — не менее Байрона или Бонапарта. Люди Достоевского неправдоподобны, но они живее живых людей. Характеры у него (как это и вообще свойственно русскому роману) построены не путем списывания с тех случайных сочетаний, которым нас учит жизнь и которыми питаются фотографирующие романисты, но и не путем логических выводов из одной или нескольких основных черт, они построены иррационально — как бы самой жизнью, рождены в глубине подсознания или сверхсознания. Почему Смердяков брезглив? Ответить на это путем логического рассуждения нельзя; но если бы Смердяков не был брезглив, он не до конца был бы Смердяковым.
«Само собой разумеется, что характер героя делается из многих отдельных черточек, взятых от различных людей его социальной группы, его ряда. Необходимо очень хорошо присмотреться к сотне-другой попов, лавочников, рабочих для того, чтобы приблизительно верно написать портрет одного рабочего, попа, лавочника». Так ли уж это само собой разумеется», как думает Горький (см. сборник как мы пишем»), и не характерно ли, что аптекарский рецепт или кулинарное предписание это принадлежит именно ему? Отчасти он, конечно, прав: без наблюдения или даже нарочитого выискивания характерных черт изобразить что бы то ни было довольно трудно, но зато и не все творчество сводится к изображению, да и само изображение никогда не приводит к целому путем склеивания вырезок, сколачивания осколков. Изображению предшествует воображение, а вообразить можно и без того, чтобы «присмотреться»: Шиллер никогда не видел моря, но умел о нем писать; Макбет или Дон Жуан совсем не сделаны из «отдельных черточек». Правда, Горький говорит не о личности, а о типе, да еще «классовом», но ведь русская литература до него как раз тем и были сильна, что изображала прежде всего живых людей, даже пытаясь изобразить «попа», «рабочего» и «лавочника». Вопреки утверждению плохих учебников, русские писатели всегда чуждались той проекции человека в плоскость общества, того приведения к общему знаменателю особей, лишь отчасти схожих между собой, без которого невозможно построение никакого «типа». Даже образы общечеловечески-условные, воплощения вездесущей страсти вроде мольеровского Гарпагона или гоголевского Плюшкина в русской литературе редки, хотя при создании их отнюдь не обязательно применять механически-собирательные приемы. Тем более ей чужд тип в более точном смысле, как некое среднее единство, извлеченное из конкретного множества путем рассудочной операции, подобной фотографированию на одной пластинке многочисленных членов одной семьи. В западном романе и драме давно уже начали появляться герои, напоминающие коллективный снимок, полученный этим (гальтоновским) способом. В русской литературе, наоборот, до самого последнего времени действовали подлинные лица , не менее иррационально-целостные, чем личности живых людей. Какой-нибудь Фердыщенко или Ракитин у Достоевского, любой солдат или помещик у Толстого – совсем как люди Шекспира или Сервантеса – живут своей, ни от кого не зависимой жизнью, а если относятся еще и к какой-нибудь «среде», то на изображение ее отдают одни, так сказать, излишки своей личной жизни, не поступясь ничем, что необходимо для ее цельности и полноты.
В «Анне Карениной» под видом художника Михайлова, заканчивающего рисунок, изображен романист, создающий одно из своих действующих лиц. Михайлов берет запачканную и закапанную стеарином бумагу, на которой он начал рисовать набросок для фигуры «человека, находящегося в припадке гнева», кладет ее перед собой на стол, всматривается и вдруг с радостью замечает, что пятно стеарина дает фигуре новую, нужную ему позу «Он рисовал эту новую позу, и вдруг ему вспомнилось с выдающимся подбородком энергичное лицо купца, у которого он брал сигары, и он это самое лицо, этот подбородок нарисовал человеку. Он засмеялся от радости, фигура вдруг из мертвой, выдуманной, стала живая и такая, которой нельзя уже было изменить. Фигура эта жила и была ясно и несомненно определена. Можно было поправить рисунок сообразно с требованиями этой фигуры, можно и должно было иначе расставить ноги, совсем переменить положение левой руки, откинуть волосы. Но, делая эти поправки, он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не вся была видна; каждая новая черта только больше выказывала всю фигуру, во всей ее энергической силе, такою, какою она явилась ему вдруг от произведенного стеарином пятна».
Картина, нарисованная Толстым, едва заметно искажена налетом «реалистической» эстетики (сюда относится обязательность готового куска действительности, без которого фигура якобы остается «выдуманной», «мертвой»); в целом она правдива и точна: Толстой глубоко понимал свое искусство, о чем свидетельствуют даже его беспомощные рассуждения об искусстве вообще. Отметил он в этих нескольких строках и случайное, т. е. иррациональное, зарождение живого образа — из стеаринового пятна; и такое же иррациональное вплетение в него элементов, заимствованных «из жизни»; и самое главное — то, что образ с самого начала дан целиком, так что это целое в нем предшествует частям и остается только «откидывать» то, что его скрывает, по способу Микеланджело, точно так же понимавшего свое искусство, точно так же в одно мгновение угадавшего будущего «Давида» в огромной, казалось, безнадежно испорченной глыбе мрамора. Именно так создаются не «типы», не собирательные гомункулы, а воплощенные, живые лица. Художник Михайлов «глотает впечатления», как говорится страницей дальше, прячет их про запас, но впечатления эти — не кубики, из которых само собой, при участии одного лишь рассудка и расчета, строится игрушечное здание. Все различие между Толстым и романистами, работающими по рецепту Горького, в том и заключается, что он видит нечто такое, чего они не умеют увидать, сколько ни «присматриваются», ни наблюдают, ни копят материалов. Михайлову даже неприятно, когда говорят о «технике», ибо вся его техника в том состоит, чтобы, «снимая покровы, не повредить самого произведения», тогда как у тех самое искусство исчерпывается техникой, прилагаемой к извлеченным из действительности частицам, которые она в лучшем случае способна прикрепить друг к другу, но совершенно не в силах переплавить в одно и оживить.
В замене лица, рождаемого чувством целого, «типом», составляемым из частей, немалую роль сыграло подражание науке. Современному романисту вроде американцев Льюиса или Драйзера нужен, в сущности, вовсе не роман, не самодовлеющее бытие его героев, а лишь возможно более яркая иллюстрация его мыслей об Америке, о разных породах американцев и о типичных для той или иной породы жизни, характере, судьбе. Он поступает не как художник, созидающий людей, а как ученый, отбирающий для определения данной среды или эпохи особенно характерных для нее человеческих особей. И даже когда он не отбирает, когда он строит, он делает это, как историк, изучающий французского горожанина XII века или английского рабочего эпохи промышленной революции, для каковой цели и в самом деле необходимо присмотреться к «сотне-другой» таких рабочих или горожан. Построения такого рода могут быть весьма интересны и полезны, но роман, в котором они преобладают, превращается все же в социологический трактат, как это уже случилось с романами Золя и как это снова становится чуть ли не правилом в американской, советской и отчасти немецкой литературе. Насадителям и любителям такой литературы неизменно кажется, что она особенно близка к жизни, на самом же деле верно как раз обратное. Как раз неизбежная для науки отвлеченность самого метода делает натуралистический или «производственный» роман гораздо более отдаленным от жизни, чем самая «условная» и «неправдоподобная» елизаветинская трагедия. Это Отелло и Яго — живые люди, а не синтетический лавочник (в том же смысле, в каком говорят о синтетическом каучуке) социологов и статистиков, в которого так по-дикарски уверовал Горький. Наука разлагает и слагает, умерщвляет, дабы уразуметь. Искусство рождает жизнь — непроницаемую, как и всякая жизнь, в самой глубине, для анализирующего научного познания.
2
Всякое творчество основано на вере в истинность, в бытие творимого; без этой веры нет искусства. Для того, чтобы создать живое действующее лицо, нужно верить в целостность человеческой личности — именно верить, так как не во всяком опыте она дана и нельзя доказать ее доводами рассудка. Восприниматься целостность эта может по-разному; но так или иначе она должна быть воспринята, пережита, а переживается она всегда как нечто самоочевидное, бесспорное. Как только самоочевидность эта ослабевает, романисту или драматургу остается изображать человека, основываясь на отдельных «характерных чертах», заимствованных непосредственно из жизни (отчего они не становятся еще способными давать жизнь) или выведенных логически из каких-нибудь общих предпосылок. Романист XIX века, Бальзак или Толстой, видел человека во всей полноте его бытия — и своей веры в это бытие, — таким, каким его должен видеть сам Творец; современный романист видит его, как человек, средний опыт которого не позволяет обнять во всей полноте бытие другого человека. Отсюда некоторый отлив жизни в людях, создаваемых им, чего нельзя отрицать и для гениальной книги Пруста, где человек показан не таким, как он есть, а лишь таким, как он является рассказчику. Отсюда же и то хитроумное склеивание распавшихся атомов, которым автор «Улисса» стремится заменить иррациональное единство и иррациональную сложность человеческого образа. У большинства современных романистов, хотя бы во всем остальном и несхожих между собой, люди изображаются, пожалуй, и верно и точно, но так именно, как мы чаще всего воспринимаем людей в жизни: односторонне, с той стороны, какой они повернуты к нам, без попытки изобразить их сразу со всех сторон. Способ этот позволяет многое выразить и многое понять, но правдоподобием подменяет правду и никогда не приведет к созданию целостного живого человека, никогда не позволит до конца отделить личность автора от личности его героя, т. е. совершить ту чудодейственную операцию, без которой немыслимы ни театр Шекспира, ни «Война и мир», ни вообще та драма и тот роман, какими славится европейская литература. Не прибегая к этой операции, можно написать отличную книгу, собрать множество интересных наблюдений, быть моралистом, психологом, стилистом, но нельзя повторить гордых слов, сказанных о себе Бальзаком, нельзя «faire concurrence a l'etat civil».
У Федьки Каторжного в «Бесах» «глаза были большие, непременно черные, с сильным блеском и с желтым отливом, как у цыган». Это «непременно» как бы вырвалось против воли у Достоевского и, быть может, попало нечаянно в текст романа из записной книжки или черновика. Слово это свидетельствует о том, что автор не «сочинял» своего героя, но видел его перед собой, не придумывал цвета его глаз, но переживал этот черный цвет как необходимый, непременный. И точно так же, если княжна Марья краснеет пятнами, если у жены князя Андрея короткая верхняя губа, то это не ярлыки, наклеенные на них для легкости распознавания, а черты прирожденные в подлинном смысле слова, с которыми искони являлись эти образы Толстому и без которых он сам представить их себе не мог. Будь эти черты просто-напросто подсмотрены у живых людей и люди эти внесены в роман «прямо из жизни», необходимость оказалась бы подмененной более или менее правдоподобной случайностью, и точно так же у произвольно конструированного героя, которым автор распоряжается до конца, потому и отсутствует подлинная жизнь, что нет в нем ни одной черты неотъемлемой и непременной — для автора, как и для читателя, — подобной цыганским глазам Федьки, блеснувшим Достоевскому из неведомых творческих потемок раньше, чем сверкнут они на Ставрогина в ночном ненастье, на пути в заречную слободу.
Теория всего ясней усматривает то, чего начинает не хватать на практике. Создание живых людей перестает на наших глазах быть для писателя возможным или даже интересным. Изменяется самое существо литературного героя: он теряет самостоятельность, из трехмерного становится двухмерным, из вполне конкретного — полуотвлеченным, схематизируются приемы его изображения, и он сам грозит превратиться в схему. Действующее лицо современной драмы или романа бывает либо выужено из действительности, либо механически построено из пружин и рычагов, либо, наконец, сооружено (как уже упомянутые «типы») путем комбинации обоих методов; и в том, и в другом, и в третьем случае вместо жизни получается иллюзия жизненности, вместо человека — заводная кукла. С точки зрения русской литературы, где так долго торжествовал самодовлеющий, живой, переросший книгу человек, это омертвение его кажется особенно непонятным и зловещим, однако и здесь оно сказалось с полной ясностью. Лев Толстой из глины лепил людей; Ал. Н. Толстой с большим умением и в любом количестве лепит на заказ человекоподобные глиняные фигурки. Герои Леонова (в «Воре», например) больше всего напоминают тени, отброшенные на ходу героями «Подростка» или «Идиота». Советский обыватель из рассказов Зощенко должен еще напиться горячей крови, как вызванные Одиссеем мертвецы, чтобы стать похожим хотя бы на своего предка из рассказов Чехова. Точно такое же различие легко было бы установить между героями западных современных романистов и людьми Гарди и Флобера, или Филдинга, или Сервантеса. Не забудем при этом: лучшие современные писатели вовсе не те, что силятся продолжать иссякшую традицию и населяют бледные свои книги призраками и двойниками литературных героев прошлого; это те, что стремятся нарисовать образ человека таким, каким они его видят — и другим не могут увидать, — мерцающим, неверным, в бесконечном сиротстве, в одиночестве, ищущим опоры и не находящим ее ни в мире, ни в себе. Нет личности, но есть жадные поиски себя — и других — в лабиринте Потерянного Времени. Нет жизни, но есть вспышки сознания, трепетания чувства, зарегистрированные тончайшим сейсмографом души в «Волнах» Вирджинии Вулф. Нет человека, но есть его осколки, страстно стремящиеся срастись в «Защите Лужина», в «Подвиге», в прозаических писаниях Пастернака, у многих русских и иностранных авторов младшего (так называемого) поколения. Повсюду нет-нет да и мелькнет озябшая, бедная, предсмертная душа «animula, vagula, blandula» императора Адриана, или недоносок Баратынского, обреченный витать меж землей и облаками или бесовский двойник Ивана Карамазова, продрогший в космическом сквозняке и мечтающий воплотиться в семипудовую купчиху.
Однако возможности тут не безграничны. В этом все дело: художественное творчество не может быть длительно совмещено с утратой веры в единство человека, с ущербом восприятия цельной личности. О том, как нужны искусству это восприятие, эта вера, о том, как опустошается душа, всерьез отказавшаяся от них, — об этом всего ясней говорит творчество Пиранделло, писателя прославленного, быть может, и невпопад, но заслуживающего все же самого пристального внимания. Его сицилийские рассказы, не доставившие ему в свое время даже простой известности, должно быть, переживут славу его пьес, но все же именно в пьесах выразил он с предельной наготой свою тему, единственную свою тему, ту, что составляет весь творческий импульс его и одновременно парализует – как раз там, где он приближается к вершинам, — его творчество. Тему эту подчеркивает уже общее заглавие, под которым он печатает свои театральные произведения: «Голые маски». Сочетание слов как будто противоречиво, на самом деле метко и точно: даже нагота относится лишь к маске, ибо под маской — если там нет другой, более тайной маски, — открывается голое ничто. Всякая личность есть маска (таков, как известно, первоначальный смысл слова persona), неподвижная личина, напяленная насильно или добровольно, и горе человеку, вознамерившемуся ее с себя сорвать. Сумасшедший, возомнивший себя Генрихом IV, выздоравливает, но предпочитает притворяться сумасшедшим и впредь, дабы не утерять маски, вне которой ему нет спасения. В одной из недавних пьес героиня–актриса влюбляется и принимает решение зажить собственной жизнью; напрасно: другой роли, кроме тех, что она играет на сцене, ей не суждено играть. В самой последней знаменитый поэт хотел бы все начать сначала, отказаться от себя, т. е. от условного обличья, навязанного ему славой, но сделать этого не в состоянии и окаменевает, превращается в памятник самому себе. Но всего характернее остаются и самую тайную мысль выражают уже давние «Шесть действующих лиц в поисках автора», где подлинными лицами оказываются не живые, а сочиненные, где литературным героям приписывается как бы высшая ступень бытия сравнительно с бесформенными, безличными, мерцающими в полумраке силуэтами живых людей. Тут, в самом этом замысле, а не в наивных тирадах, питаемых чем-то вроде кантианства, перетолкованного на более вещественный, предметный, более доступный итальянскому пластическому мышлению лад, заключается подлинная глубина не столько идей, сколько самого существа Пиранделло как художника: он утверждает свое творчество и отрицает тварность человека; вместо космоса видит он хаос, которому он один, художник, диктует строй и закон, дает форму, а существам, бессмысленно копошащимся в нем, — личность, т. е. маску. Да погибнет человек, да здравствует Dramatis Persona!
Этим, конечно, еще ничего творчески не свершено, и театральный демиург оказывается на деле грубоватым виртуозом, но по крайней мере многое договорено. Можно найти у Пиранделло (как, например, и у Пруста) справедливую борьбу против социально обусловленного статического понятия личности, едва ли не господствующего в латинских странах, при котором остается gepragte Form, но нельзя сказать, что она lebend sich entwichelt, однако отрицает он не ту или иную форму понимания личности, а самую личность. «Действующее лицо» уже не отвечает у него никакой реальности. И даже заглядывая в глубь самого себя, он не видит там ничего, кроме не живущего, а только мыслящего «я», претендующего на абсолютную власть над всяким «явлением» насквозь проанализированного им мира. Получается то, о чем было уже сказано с такою силой в «Петербурге» Андрея Белого: «Сознание отделялось от личности, личность же представлялась сенатору, как черепная коробка и как пустой опорожненный футляр». Нечеловечески отвлеченная, никаким конкретным содержанием не наполненная гордыня сквозит в современной литературе у всех наиболее последовательных ее вождей, у Валери, например, которому мы обязаны формулой: «l'etroite et bizarre morsure de l'orgueil absolu qui ne veit dependre que de soi», или у Жида с его культом «disponibilite», готовности измениться (и изменить), с его нежеланием свершиться, стать собою — отдав себя, — нежеланием, предсказанным Достоевским в «Записках из подполья», где герой заявляет, что «умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак». В последнем основании своем болезнь искусства, неумение создать живое — не только болезнь, но и грех: отказ от творчества, т. е. от Творца в себе, отказ от слияния с творческой основой мира.
3
Не только литература, искусство, но и весь облик любой эпохи зависит прежде всего от тех представлений о человеке, что ей присущи и отличают ее от других эпох. В литературе, в искусстве представления эти выражаются резче, а во многих случаях и раньше, чем в других областях жизни и культуры, но нет никакой причины, по которой они должны были бы выражаться только здесь. Если современный роман или драма показывают нам автоматических действующих лиц, не оказывающих никакого сопротивления авторскому щелчку, посылающему их направо или налево; если сквозь поредевшую ткань вымысла приходится нередко наблюдать полную неуверенность автора относительно целости и сохранности собственной его личности, то явления вполне сходные находим мы повсюду вокруг себя, не в одних только драмах и романах: о них говорит и судебная хроника, и ежедневный опыт общения с людьми, и господствующие течения в научном изучении человека — особенно то из них, что прославилось под именем психоанализа. Взаимоотношения психоанализа и современной литературы тем и интересны, что изобличают это их внутреннее между собой родство; дело тут совсем нельзя свести к простому влиянию психоанализа на литературу. Влияния, разумеется, не могло не быть, но поскольку оно всего лишь несло литературе новый материал, с которым та вольна была обойтись, руководствуясь собственным внутренним законом, оно не имело и не имеет особого значения. Гораздо важней спросить, что же, по существу, поняла литература в психоанализе. И можно ответить заранее: нечто похожее на то, что психоанализ нашел в литературе.
Теории Фрейда, гениального психолога и психиатра, но посредственного философа, приобрели во всем свете еще более широкую славу, чем в свое время френология Галля или физиогномика Лафатера. Многим писателям в разных странах показалось, что теории эти чуть ли не впервые открывают им доступ в новый мир, в огромную область «подсознания». На самом деле этого, конечно, не случилось; искусство всегда имело доступ в этот мир или, верней, всегда именно из этого мира исходило; случилось скорей обратное: бессознательное психоанализом было не открыто, а, так сказать, закрыто, т. е. прибрано к рукам, подчинено рассудку и сознанию, — не на деле, конечно, но, по крайней мере, в теории и в тенденции. Фрейд — последний великий ученый, всецело воспитанный в научном мировоззрении XIX века, и пафос его мысли, источник его вдохновения всегда заключался в том, чтобы принцип детерминизма распространить на «подсознание» и далее причинностью, исходящей из этого подсознания, объяснить всю остальную человеческую жизнь. По сравнению с этим основным замыслом психоанализа уже не так важно, какой именно рычаг пускает в ход причинно-следственную машину, похоть ли власти, как у Адлера, или власть похоти, как у самого Фрейда и у оставшихся ему верными учеников; важно не содержание понятия libido не панэротизм, сам по себе чуждый Фрейду, а лишь безошибочно-механическое действие безличной первопричины. Цель психоанализа одна: механизация бессознательного.
Характерно, что те литературные направления, которые не поняли, что именно «открыл» психоанализ, и предались культу бессознательного, опираясь на Фрейдово учение о нем (главное из них — французский «сверхреализм»), на собственном опыте в своих писаниях осуществили то, чего добивается в более общем виде любезная им теория. Бессознательное становится механическим, как только его пытаются использовать в сыром виде, искусственно уклоняясь от той очеловечивающей, персонализирующей работы, какую совершает над ним нормальное сознание, и особенно сознание художника. Для «сверхреалистов» творчество — не акт: единственное усилие, ожидаемое от художника, от поэта, — воздержание от всякого усилия, от всего, что он хотел бы по всей воле, от своего имени внести в свои стихи. Стихотворение (которое поэтому предпочтительно писать прозой) должно быть лишь возможно более точной записью чего-то, что и так само собой протекает, происходит в подсознании. Если мы с должным вниманием запишем сон или, еще лучше, отметая всякую мысль, ту смену образов, тот поток слов, что никогда не иссякает в нас, мы совершим все, требующееся от поэта. В этом и заключается метод «автоматического письма», родственный, как это признал главный теоретик сверхреализма Андрэ Бретон, непроизвольной исповеди пациентов Фрейда. Поэзия — в нас; надо позаботиться лишь о беспрепятственном ее выделении Когда сверхреалист берется за кисть или за перо, он только дает исход нормальной функции подсознания и естественному отправлению организма. Одним словом, как о ком-то сказал Баррес: «Il fait des vers comme on fait de l'albumine».
Нет надобности здесь перечислять все недомыслия этого учения. Практически главное недомыслие в том, что сверхреалист предполагает свое подсознание и поток слов, возникающий на его пороге, первозданными, девственными, свободными от всякой литературы, тогда как у любого литератора они, наоборот, полны реминисценций и заимствований. Вместо творчества получается у него сопоставление готовых материалов, оригинальное лишь тем, что материалы эти никак не организованы, не упорядочены и, значит, попросту не усвоены. Принципиально еще важней другая ошибка: отрицание наличия во всяком искусстве целеустремленности, плана, замысла, изменяющихся или даже исчезающих, быть может, в процессе осуществления, но без которых осуществлять было бы нечего и оказался бы недоступным конечный результат. Одинаково неверно считать художественное творчество пассивной записью внушений, идущих из подсознания, из интуиции (как у Кроче), из «вдохновения» (как во многих романтических теориях), и рассматривать его как произвольную игру автономного, самосозерцающего рассудка. Оба заблуждения внутренне однозначны, оба в наше время почти одинаково распространены и оба находят себе опору в мировоззрении психоанализа, для которого только и есть что темные воды подсознания и на них поплавки наделенных рассудком «я», а для представления о творческом акте как о сотрудничестве личности с доличными или надличными силами уже не остается никакого места.
В самом деле, что же видит психоанализ в литературе? Только то, что не составляет творческого ее ядра, которого как раз и невозможно рассмотреть, пользуясь методами психоанализа. Из «Эдипа царя» Фрейд вычитал свое учение о «комплексе Эдипа», но, независимо от оценки этого учения, можно смело сказать, что если бы Эдип о нем знал, он не был бы трагическим героем, и Софокл не мог бы написать своей трагедии. Исходя из теории комплексов, можно сочинить разве нечто вроде новой Орестейи американского драматурга О'Ниля, где всем действующим лицам надлежало бы поехать полечиться в Вену, но где трагедии нет, потому что нет личности, нет греха, нет очищающего ужаса и высокого страдания. Художественное произведение, согласно психоанализу, существует для того, чтобы в скрытой форме дать выход тайным желаниям автора, отождествляющего себя со своим героем; исследователю остается героя и автора разоблачить, показать истинную пружину, пускающую в ход обоих и в конечном счете общую для всех. Но в том-то и дело, что на составные части такого рода разлагается без остатка лишь мнимое художественное произведение. Один немецкий критик весьма остроумно указал, что из психоанализа при умелом употреблении можно было бы сделать отличное средство для распознавания плохой литературы. Та литература именно и плоха, где автор всего лишь осуществляет в вымысле то, что в жизни ему не дано осуществить, и тем же самым позволяет заняться своему читателю; так построены бульварные романы, пользующиеся успехом фильмы; настоящая литература строится не так. В ней действительность качественно изменена, передвинута в другое измерение, а не просто украшена, подслащена и перепродана читателю за умеренную плату. Объяснить то, что происходит в настоящей литературе, психоанализ не может; из понятий, которыми он располагает, разве лишь «сублимация» пригодилась бы для этого, но и сублимация означает у Фрейда лишь обманчивое повышение ранга, украшающее переименование — похоть называется любовью, но от этого не перестает быть похотью, — т. е. попросту камуфляж, тогда как здесь требуется понятие вроде преображения, пресуществления — похоть, ставшая любовью, уже не похоть, — а такого понятия у психоанализа нет и не может быть.
Фрейд сказал ясно: «У нас нет другого способа побороть наши инстинкты, кроме нашего рассудка»; какое же место остается тут для такой противорассудочной вещи, как преображение? Однако без преображения искусства нет, него не создать одними инстинктами или рассудком. Поимки инстинкта и рассудочное «просвещение» — только это видел и Толстой, когда писал «Власть тьмы», но художественный его гений подсказал ему все же под конем, неразумное, хоть и не инстинктивное покаяние Никиты. Искусство живет в мире совести скорее, чем сознания; этот мир для психоанализа закрыт. Психоанализ только и знает, что охотиться за инстинктами, нащупывать во тьме подсознания все тот же универсальный механизм. Основное занятие его — «срывание всех и всяческих масок», но это не дело искусства, и Ленин напрасно приписывал его Толстому, хотя и понятно, почему нравилось оно Ленину. Художник не обязан всякую маску уважать, но он не может все, кроме рассудка и инстинкта, объявить маской. В одной из недавних своих работ Фрейд не только приписал Достоевскому желание отцеубийства, осуществленное через посредство Смердякова и Ивана Карамазова, но и земной поклон старца Зосимы Федору Павловичу объяснил как бессознательный обман, как злобу, прикинувшуюся смирением. Из этих двух «разоблачений» первое, во всяком случае, не объясняет ничего в замыслах Достоевского как художника, второе обличает полное непонимание поступка и всего образа старца Зосимы. Психоанализ бессилен против «Братьев Карамазовых». Горе искусству, расправа с которым оказалась бы для него легка.
Нельзя отрицать: современная литература приблизилась к требованиям психоанализа. Давно уже она дышит тем самым гибельным для искусства воздухом, в котором он только и может процветать. Вольный вымысел заменяется все чаще более или менее искусно камуфлированной действительностью. Отказ от преображения мира делает искусство проницаемым для рассудка и пригодным для психоаналитического разъятия. Но главное сходство сказывается в понимании человека не как цельной личности, а как случайного агрегата тех или иных ниоткуда не выросших, ни к какому стержню не прикрепленных свойств. Для психоанализа нет личности, потому что нет выбора и свободы воли, потому что ядро человеческой особи — безличная сила, действующая во всем человеческом роде и даже во всяком живом существе, потому, наконец, что безличен и единственный антагонист этой силы, человеческий рассудок. Такому пониманию человека отвечает в литературе рассудочно построенное действующее лицо — проекция автора, или арифметическое среднее его наблюдений, или склеенная по готовому шаблону деревянная кукла с бумажною душой. Завод в порядке, остается повернуть ключ, и вот уже движется подчиненный строжайшему детерминизму, — в мире, где, как у Фрейда, есть только «я», да еще «оно», — легко разбираемый, всякому понятный механический герой, сочиненный механизированным автором по образу и подобию его собственного механического инстинкта и рассудка.
Величайший поэтический гений нашего времени Поль Клодель недаром признался однажды (в письме к Ривьеру), что автомат всегда внушал ему «нечто вроде истерического ужаса», и он же в одном из недавних своих писаний с улыбкой, но не без серьезного умысла сказал: «Хоть и скверно походить на корову, но походить на машину еще гораздо отвратительней». В самом деле, нет ничего более враждебного жизни и искусству, чем машина или, вернее, не готовый механизм, а самый принцип механичности, машинности. С точки зрения художника, даже и озверение человека менее страшно, чем его превращение в автомат, в бездушного самодвижущегося истукана. Из дочеловеческого создан человек, но послечеловеческое безвыходно и бесплодно. В пророческом размышлении своем о театре марионеток, где речь идет не столько об этих невинных (и отнюдь не автоматических) театральных куклах, сколько о математическом мышлении, создавшем идею и возможность автомата на основе механической причинности, Клейст называет весь этот ход человеческой мысли вторичным вкушением от древа познания добра и зла, причем ударение ставит совершенно справедливо не на добре и зле, а именно на познании, и он старается утешить себя догадкой о том, что таким образом замкнется круг и станет возможным возвращение к утраченной некогда невинности. Быть может, он и прав. Но второе грехопадение это может и такую катастрофу означать, от которой без искупительной жертвы не оправиться искусству. Или оно будет спасено, и тогда над механическим героем восторжествует снова цельный, живой, душою, а не комплексами движимый, свободный человек, или в самом деле приоткрывается на наших глазах последняя глава если не истории мира, то истории искусства.
Глава третья ЧИСТАЯ ПОЭЗИЯ
Essence pleine en soy d'in finitelaterue Qui seule en soy se plait, et seule se contente.
Maurice Sceve
1
Русские образованные люди, приближающиеся сейчас к сорока или к пятидесяти годам, не могут не помнить, как жили они стихами, как пытались писать или жадно читали стихи, как сама проза тяготела к стихам и литературой правила поэзия. Такие же воспоминания есть и у людей западных, но несколько постарше: последняя поэтическая волна разлилась здесь лет на десять, на пятнадцать раньше, чем в России, и уже ослабевала в предвоенные годы, когда она только еще своей наибольшей силы достигала у нас. Французский символизм означал такое же господство стихов над прозой, какое осуществилось в Англии в эпоху «Желтых книг», под влиянием Суинберна и Пэтера, приспособленных к общему пользованию Уайлдом; в загипнотизированной д'Аннунцио Италии; в Германии, поскольку она прислушивалась к голосам Георге, Рильке и Гофмансталя; а затем и у нас, во времена, когда две строчки Блока значили больше, чем все, что вслед за ними заполняло журнальные тома. Величайшие поэты современной Европы родились в конце шестидесятых, в начале семидесятых годов (в России немного позже); молодым поколениям некого противопоставить Клоделю, Китсу, Георге и их сверстникам. Оскудение совершалось медленно – в восьмидесятых годах родилось больше выдающихся поэтов, чем в девяностых, – но оно совершилось, и было бы неверно объяснить его простой случайностью.
Появление или непоявление великих людей в той или иной области культуры само по себе отнюдь не так случайно, как может показаться на первый взгляд: нельзя себе представить Пушкина, поменявшегося местом, скажем, с Симеоном Полоцким. Но современное состояние стихотворного искусства совсем и не определяется одним лишь недохватом гениев; еще характерней для него медленный склероз, поражающий средние поэтические таланты. От безвестных мастеров греческой антологии до провозвестников dolce stil nuovo, от елизаветинских сонетистов до стихотворцев пушкинской поры poetae minores существовали всегда и были причастны подлинному творчеству. Их искусство было (по словам одного из них, Каролины Павловой) святым ремеслом, и право их на существование если не стало оспариваться извне, то внутренне поколебалось как раз в то время, когда была впервые поколеблена святость этого ремесла, его стилистическая оправданность и целостность, т. е. в эпоху романтизма. «Малыми поэтами» эта эпоха была не бедней других, но она постепенно расслоила их по-новому: одни так и остались ремесленниками, лишившись стиля, освящавшего их труд, превращаясь в изготовителей «прикладного» искусства (хотя его решительно не к чему прикладывать), Другие лицемерно или в слепоте надевали маску и котурны великого поэта, хотя и величайший гений в былые времена не выступал на сцене в качестве трагического актера перед зрительным залом современников и истории. Второстепенные стихотворцы XIX века гораздо хуже переносят испытание временем, чем малые поэты других веков. В России соответствующая перемена произошла значительно позже, чем в остальной Европе, но и тут, «как посмотришь с холодным вниманием вокруг», видишь ясно: единственный смысл большинства русских, как и французских или английских, стихов недавнего времени заключался в том, что их совокупность образовывала органическую среду, питательный бульон, необходимый творчеству нескольких больших поэтов. Нужно думать что и будущие поколения, как мы сейчас, сумеют извлечь больше радости из чтения Туманского или Растопчиной нежели Волошина и Городецкого. Пускай нам грустно что миновал недавний поэтический расцвет: еще грустней убедиться, что в нем самом многое было суетно и ложно.
Не раз за последние сто лет память о лучших временах внушала попытки вернуться к ясно очерченной поэтике, к такой одновременно строгой и гибкой системе стихотворного мастерства, принятие которой позволило бы каждому, хотя бы и скромному таланту найти свое место, исполнить свое призвание, подобно тому как это было дано стольким современникам Ронсара или Малерба, Мильтона или Пушкина. К поэтической реставрации такого рода тяготели по-своему и «Парнас», и «романская школа» Мореаса, и школа Георге, и у нас сперва Брюсов, потом Гумилев с задуманным им «Цехом поэтов». Ни одна из этих попыток, однако, к сколько-нибудь широким и прочным результатам не привела по той же причине, по какой нельзя искусственно восстановить однажды распавшееся стилистическое единство; попытки этого рода в поэзии, как в архитектуре и во всяком другом искусстве, приводят не к стилю, а к стилизации. Тяга к дисциплине или, что то же, тяга к ремеслу (только романтизм и начал противопоставлять стихотворное ремесло поэтическому искусству) вполне понятна, тем не менее и вполне оправдана — как понятно и оправдано отрицание всякой дисциплины и всякого ремесла при убеждении, что они внутренне призрачны и произвольны. Однако, сколько бы мы не понимали и не оправдывали обе эти противоположные тенденции, поэзия получается все реже из той, как и из другой. До сих пор все поэты в любой стране — очень ясно это можно наблюдать даже на скромных поэтических группировках русской эмиграции — делятся на тех, кто ставят выше всего исповедь и человечность (как будто поэзия когда-либо обходилась без души или одна душа уже делала поэзию), и на тех, что прежде всего хотят мастерства и совершенства формы (как будто совершенная форма не есть та, которую до последнего изгиба наполняет содержание). Не романтики, а лишь изможденные их тени все еще ведут бой с тенями классиков; тем временем, и уже давно, что-то разрыхляется или отвердевает в старинном устройстве стихотворного искусства, поэтическое внимание ослабевает, клетки стиха не наполняются живой протоплазмой творчества, громоздятся излишества, зияют незаполнимые пустоты, метрический скелет обрастает диким мясом безразличных ритмов и случайных слов. Поэзия предпочитает прозу. Наступают сумерки стиха.
Начинаются они с исчерпывания или омертвения всевозможных строфических форм, которые можно сравнить с «ордерами» классической архитектуры и композиционными формами европейской музыки. Омертвение это наблюдалось уже давно в различных странах, раньше всего, по-видимому, в Италии, где за весь XIX век не было написано ничего живого в терцинах или октавах, в форме канцоны или сонета несмотря на то, или как раз потому, что любой итальянец, окончивший среднюю школу, умеет написать и при случае пишет сонет, а один известный санскритолог не так давно перевел «Махабгхарату» безукоризненными (как выражаются критики) октавами. Опередила Италия другие страны, разумеется, потому, что раньше и полнее других использовала особенно отвечающие ее поэтическому языку сочетания стихов, но и в Англии сейчас никто не пытается вторично — после Китса – возродить спенсерову строфу, во Франции умирает так долго державшийся здесь, гальванизированный Малларме сонет, и точно так же Валери (как вслед за ним испанец Гильен) лишь на минуту оживил большую строфу XVII века. В русской литературе, как и в немецкой, сколько-нибудь сложные строфические формы особенной роли не играли никогда; Пушкин с мудрой осторожностью подошел к терцинам, октавам, сонету и создал собственную строфу, слишком сросшуюся с «Онегиным», чтобы стать воспроизводимой и нейтральной. Как многое другое, все формы строфы, известные европейской и даже азиатской литературе, были заимствованы, использованы и исчерпаны у нас после сравнительно немногих и скромных предварительных попыток за какие-нибудь десять или пятнадцать лет перед войной, когда в необыкновенном изобилии появились вдруг венки сонетов, сестины, рондели и рондо. Кузмин специализировался на газелях, Сологуб — на триолетах, пока Брюсов не опубликовал, наконец, универсальных и устрашающих своих «Опытов», после чего во всей русской поэзии, хоть шаром покати, не сыщешь ни одного не только хромого или хвостатого, но и самого обыкновенного сонета.
Нет спору, поэзия обходилась и без твердых строфических форм, однако острое недоверие к ним вряд ли может почитаться признаком поэтического здоровья. Еще хуже, когда оно переходит, как это за последнее время наблюдается везде, от строфических форм к метрическим, когда приедаются традиционные в данной литературе стихотворные размеры, а затем и традиционное стихосложение вообще, вся метрика, т. е. установленная закономерность ритма, которую приходится сравнить уже не с дорическим или коринфским ордером и не с сонатой или фугой, а со всей веками складывающейся «грамматикой» архитектуры или музыки. В каждой литературе существуют «большие», главные, основные для не стихотворные размеры; их исчерпанность, стертость ощущается всего ясней. Французский александриец, как не обновляли его «Гюго с товарищами, друзья натуры», как после них не старались изощрить его узоры, утончить его музыку (да и как раз в результате всех этих усилий), стал стихом академическим, музейным, одновременно всем доступным и недоступным никому. Точно так же и наш четырехстопный ямб (а в несколько меньшей мере и ямб вообще) стал легок, дешев, теперь и вправду «им пишет всякой», и понадобилось страшное напряжение, все более затрудненное переосмысливание богатых, но уже использованных его ритмов, чтобы Блок, Белый, Ходасевич могли из него извлечь «Возмездие», «Первое свидание», «Соррентинские фотографии».
Можно, разумеется, от основных размеров обратиться к другим,— например, у французов к нечетным, у нас к трёхдольным, — но приедаются они еще скорее, и возможности их от природы ограничены. Можно придумать новые размеры или комбинации размеров в пределах данного стихосложения, но и тут возможности не безграничны и выдумки хватит не навсегда. Можно пытаться, наконец, поскольку это позволяет язык, отойти от самого стихосложения, к которому, казалось, он обязывал до той поры, и обратиться к тому, что французы назвали свободным стихом или, при гораздо большей врожденной свободе, вытекающей из строения русского (как и немецкого) языка, к подражанию античным размерам, к нашему «паузнику», т. е. тоническому стиху, считающему только ударения, а не слоги; или еще к силлабическому, кантемировскому стиху; надобно удивляться, что у нас никто не бросил еще на игорный стол этот последний козырь стихотворца.
Если последовательное обновление стиха не удалось, приходится творчески коверкать, выразительно ломать его готовые, многократно использованные формы. Это делали во Франции Лафарг и Верлен, а в России всех глубже, всех острее — Анненский. Если больше нельзя ни вывихнуть, ни переделать стих, остается переплавить его в прозу. Недаром «стихотворение в прозе» — создание девятнадцатого века, как и то особое, по существу поэтическое, введение прозаизмов в стих, на котором основана, например, поэзия Броунинга. Многие виды свободного стиха остаются более жестко, чем обычно, ритмизированной прозой (таковы ораторские восклицания Уитмэна), и самая могущественная попытка, та, что совершена Клоделем, — вырвать у прозы новый, живой и животворный стих, — окончилась только личной победой и не допускает подражания.
На собственно поэтическую прозу никаких особых надежд возлагать нельзя; удачи Бодлера, Рембо, очень немногих других — исключения и чудеса, а провал Тургенева вполне закономерен. Самая возможность стихотворения в прозе возникает лишь при таком состоянии литературного языка, какое для России, например, еще не наступило и которое особенно опасно для поэзии. И все-таки огромный успех Тагора накануне войны объясняется только тем, что он стал известен в прозаическом английском переводе; стихотворец Тагор такого успеха никогда бы не имел. Стихи утомляют, стихи надоели, стихами никого не удивишь, стихов никому не нужно, «on a touche au vers». Малларме был прав, когда этими испуганными словами начинал больше сорока лет тому назад свою оксфордскую лекцию. С тех пор как стих стал осознан как орудие, которым лишь «пользуется» поэт, явилось искушение и возможность обойтись без этого орудия. Уже сто лет назад Шелли видел, что «каждый великий поэт должен неизбежно обновлять стихосложение своих предшественников». Именно это знание поэта о стихе, это противопоставление ему себя принесло огромный вред и стиху, и самому поэту. Это не значит, конечно, что от этого знания можно отречься, объявить его несуществующим. Утрата стиха есть утрата стиля, и как раз утраченный стиль мы начинаем отвлеченно понимать и «применять». Вся судорожная работа над стихом, предсказанная фразой Шелли, была как бы бегством от его судьбы, бегством, которое лишь ускорило распад, переутончило стиховую ткань, отделило ее от жизни, от живого языка, от человека. Должно быть, верно сказал ирландский поэт Синг, что стих должен опуститься, огрубеть, для того чтобы снова сделаться человечным: «before verse can be human again, it must learn to be brutal». Но это уже не дело одного стиха. В этих словах затронута судьба поэзии уже независимо от того, пользуется ли она прозой или стихами, связана ли с какими-либо средствами, завещанными ей преданием, или, худо ли, хорошо ли, умеет обойтись без них.
«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». — «Это чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами, кто же на свете в рифму говорит?» Так размечтавшемуся Жуковскому, во всеоружии здравого смысла, отвечает Смердяков. Нельзя отказать Смердякову в одном преимуществе: упоминая о рифме и стихе, он тем самым связывает поэзию с воплощением ее в слове, тогда как в прекрасном по замыслу своему определении Жуковского поэзия испаряется в мечту и грозит превратиться в поэтическую мечтательность. Романтики, особенно того направления, к которому примыкал Жуковский, слишком легко подменяли поэзию порывом к ней и предпочитали «туманный идеал» осуществленному искусству. Против этой подмены, приведшей в конце концов к насаждению ложной поэтичности, к тому, что Флобер называл «pouaisie», возражать законно. Остается, однако, бесконечно более важное разделение времен и, быть может, раздвоение человечества: там, где Жуковский видит Бога, Смердяков усматривает вздор.
Смердяковы приуготовлены были «веком просвещения» (недаром и в Феодоре Павловиче есть нечто галантно-вольтерианское), напророчены Баратынским:
Исчезнули при свете просвещенья Поэзии ребяческие сны,предуказаны такими неизбежными в «век прогресса» размышлениями, как те, что находим, например, сто лет назад У англичанина Пикока: «Поэт в наше время — полуварвар в цивилизованном обществе. Он живет в прошлом… В какой бы мере ни уделяли внимание поэзии, это всегда заставляет пренебрегать какой-нибудь отраслью полезных знаний, и прискорбно видеть, как умы, способные на лучшее, растрачивают свои силы в этой пустой и бесцельной забаве. Поэзия была той духовной трещоткой, что пробуждала разум в младенческие времена общественного развития; но для зрелого ума принимать всерьез эти детские игрушки столь же бессмысленно, как тереть десны костяным кольцом или хныкать, если приходится засыпать без погремушки». Совершенно такие же воззрения, как известно, были распространены в Европе и господствовали в России во второй половине минувшего столетия. Они иногда высказываются и теперь (или проводятся в жизнь молчаливо, как у большевиков, дабы не испугать европейских снобов и эстетов), прикрываясь по-прежнему уважением к науке, приверженностью к «передовым» идеям и непоколебимой верой в таблицу умножения. Достоевский, придав им самую простую, но и самую точную форму и приписав их Смердякову, раз навсегда обнажил истинный их корень и указал наиболее отвечающее им человеческое лицо.
Остается факт: поэзию с рассудочным просвещением, с таблицей умножения совместить трудно, вернее, вовсе совмещать нельзя; поэту среди смердяковых жить бесконечно тягостно. Восстание романтизма до конца не удалось и удаться не могло, хотя и не одержана еще над ним окончательная победа. История XIX века есть трагедия поэта и трагедия поэзии. Нет века, может быть, который видел бы больше великих поэтов, но и нет века, когда им жилось бы тяжелей. Дело тут даже не столько в жизненных невзгодах, выпадавших на их долю, сколько в тех неслыханных трудностях, какие им приходилось преодолевать на пути к своим творениям. Их преследовали, над ними издевались, вольно или невольно причиняли им жестокое зло: но для поэта нет муки страшней, чем та, что мешает ему быть целостно и до конца поэтом. В рассудочно разъятом мире, распавшемся, как на атомы, на миллионы чуждых друг другу, связанных лишь «интересами» или «идеями» живых существ, в мире, пронизанном, казалось, до самых его скреп безнадежно плоской или безнадежно отвлеченной мыслью, в развоплощенном мире «математики и естественных наук», в мире «явлений», в мире статистических выкладок и газетной чепухи как возможно было бы поэту не испытать той страшной, ранее не известной муки? Те, кто ее не испытал, или принадлежат к немногим исключениям, объясняемым особыми условиями времени и места, или поплатились за это огнем и глубиной своих творений, пусть многочисленных и внешне блестящих, но в конечном счете безразличных и духовно не оправданных. За последние его лет и больше поэты делятся на таких, которые в каждом творческом акте расстаются как бы с частью собственной души, заменяют творчество чем-то вроде рождения, и таких, что умеют обходиться без муки и крови, но чьи стихи последнего просветления не знают и влекут на себе тяжесть мертвых слов: Бодлеру противостоит Гюго, Китсу — Теннисон; примеров сколько угодно в любой литературе. Срединное место между этими двумя группами занимает третья, самая немногочисленная, но зато образующая, в отличие от них, особое литературное направление. К ней принадлежат поэты, пытающиеся образовать новую традицию, последовательно отстоять права поэзии, построить крепость, где бы защититься от вражеского нашествия, — не сознавая того, что камни для ее постройки они заимствуют у вездесущего врага.
Попытки этого рода определились всего ясней во Франции благодаря особым условиям ее литературной преемственности и литературного языка, но зачатки имеются повсюду, и французский опыт глубоко показателен для того положения, в какое попала поэзия в XIX веке и в каком она пребывает до сих пор. Первым валом и рвом возводимой крепости была теория «искусства для искусства» и поэтика парнасцев. Теория двусмысленна и близорука, поэтика крайне узка, это давно уже признано, но не в этом дело; дело в том, что они обе отвечают весьма существенной потребности, проявившейся одновременно в разных европейских странах: потребности аристократического выделения, обособления поэзии (и художественной прозы) от остальной литературы, а в более широком смысле и вообще изъятия искусства из его жизненного окружения. Потребность эта может осуществляться весьма различно: культу замкнутой формы у Леконта де Лиля (а в прозе у Флобера), эстетике золотых дел мастера, столь характерной для Готье, противостоит ломка всех стихотворных форм и самой поэтической речи у Лафарга или проскальзывание сквозь них, растворение их в мелодии у Вердена; однако и парнасцы, и их исторические противники стремятся построить нерушимую стену вокруг поэзии, объявив: «Et tout le reste est litterature». Парнасцы поступали, однако, последовательнее, так как неподвижность и замкнутость легче объявить общеобязательным принципом, чем движение и свободу Они только не совершили всех выводов из собственных посылок, остановились на полдороге, сделали недоступность чересчур доступной, а совершенство объявили увенчанием трудолюбия и выучки. Поэзия в их руках, как позже в школе Мореаса или во множестве сходных школ в Германии, России, Англии, Италии, сделалась лишь квинтэссенцией литературы; один Малларме попытался гораздо более сложными приемами, доступными лишь его огромному поэтическому дару, выцедить из доставшегося ему по наследству парнасского стиха квинтэссенцию самой поэзии.
Малларме исходит из поэтики Парнаса, но она быстро начинает казаться ему слишком грубой и вещественной: он сказал однажды о стихах Эредиа, что драгоценности, насыпанные в них, мешают перелистывать его книгу. Стихи парнасцев перегружены и вместе с тем недостаточно насыщены; нужно их облегчить и одновременно сделать так, чтобы в них не оставалось ни одного пустого места; нужно очистить поэзию от все еще налипающей на нее литературной и житейской шелухи; надо поэтам «rependre a la musique leur bien», т. е. приблизить свое искусство к самому «чистому» из искусств — к непрограммной, беспредметной музыке. При этом Малларме понимает это приближение не как звукоподражание (в отличие от наивных опытов итальянских и отчасти русских футуристов) и не как мелодичность, музыкальность (в духе, например, Верлена), а гораздо глубже: как приближение к внутренней структуре музыки. Поэзия в чистом виде осуществится лишь в том случае, если окажется возможным построить стихотворение, лишенное от начала до конца будничного, дискурсивного, логического смысла, обращенное к восприятиям только поэтическим. Такое стихотворение не должно быть набором лишенных значения слов (как думали Хлебников и другие), потому что слово без значения — уже не слово; но не может ли оно передвинуть повсюду эти значения, перевести всю смысловую наличность стихотворения — как это частично происходит всегда — в иную, чисто поэтическую плоскость, со своей собственной, особой грамматикой и логикой? То, что получилось бы тогда, было бы не просто звуковой гармонией, не самодовлеющей «оркестровкой», но умопостигаемой музыкой словесных смыслов, где звуковая сторона только потому играла бы неотъемлемую роль, что была бы сама до конца и по-новому осмыслена. Вопрос о возможности этой музыки смыслов и звуков, этой «чистой поэзии» и ставится прежде всего искусством Малларме; если бы вопрос не был поставлен, не были бы написаны лучшие его стихи, и все же именно эти поиски синтетического золота завели его в безвыходный тупик, именно им он обязан конечным своим бесплодием.
Можно свести к простейшей формуле то, что с «чистой поэзией» произошло у Малларме: вместо музыки получилась у него мозаика. Андрэ Жид, вспоминая о нем, говорит, что и в самой музыке искал он литературу; вероятно, это так и было, во всяком случае, он не ощутил в ней самого главного: ее струящегося временного бытия, ее сплошного, непрерывного потока. Характерно, впрочем, что музыка, наиболее родственная по духу Малларме — музыка Дебюсси и его школы — сама с небывалой смелостью разрывала эту временную ткань, заменяя ее сопоставлением отдельных, пленительно звучащих музыкальных сгустков, т. е. как раз и превращала музыку в мозаику. Музыка Дебюсси — прерывистая последовательность музыкальных метафор; поэзия Малларме — такая же система метафор поэтических. Метафоры эти не реализуются у него в вещественные образы, как у парнасцев; они служат как бы внутренними скрепами стиха, и все-таки стихотворение Малларме, даже когда оно целиком состоит из одной фразы, не кажется вылитым, как у других поэтов, из сплошной светящейся массы, а распадается на ряд параллельных молний, искусно, но все же искусственно связанных одна с другой. Аббат Бремон, автор знаменитой, но не слишком убедительной книги все о той же чистой поэзии, ищет ее, неуловимую, как раз в этих молниях, в совершенстве (или просто в пленительном звучании) отдельного стиха, тогда как искать ее, как и тайну всякого искусства, можно лишь в целостности художественного произведения, всегда предшествующей его частям и предвкушаемой в совершенстве каждой части, а не возникающей в результате хотя бы и самого умелого их сложения.
Ошибка Малларме, проникшая в самый замысел его творчества, как раз и заключается в стремлении воспроизвести рассудочным путем, как бы сложить из осколков разноцветного стекла это рассудку недоступное предустановленное единство. Великий дар его, которому мы обязаны многими из прекраснейших стихов, когда-либо прозвучавших на французском языке, был сломлен овладевшим его душой демоном интеллектуального самовластия. Судьбу эту унаследовал прямой ученик и единственный продолжатель его дела, Поль Валери, поэт едва ли не столь же одаренный и, если возможно, еще глубже осознавший собственное творчество. В отличие от Малларме, Валери понимает, что поэзия в чистом виде невозможна; он и стремится не осуществить ее, а лишь приблизиться к ней в своих стихах; однако другой поэзии он все-таки не хочет, по крайней мере, как своей и для себя, потому что она будет все же не совсем его поэзией. Ему интересно было узнать, как пишутся стихи, но писать их ему более не интересно. Он знает разницу между тем, что он называет «vers donnes» и «vers calcules»: первые как бы даны свыше в неразрывной своей цельности, вторые приходится вычислять, сочинять на подмогу первым. Он также знает, должно быть, что эти «сочиненные» стихи стремятся приблизиться к чудесному единству стихов «данных»; но как раз проникнув в это правило игры, написав (через много лет после юношеских опытов и уже немолодым) короткую поэму и тоненькую книжку своих «Charmes», он из игры выходит, он отказывается от подарков, независимых от его воли, он почти как Иван Карамазов почтительнейше возвращает свой билет. «J'aurais donne bien des chefs-d'oeuvre que je crouais irreflechis pour unepage visiblement qouvernee». В какой-то мере управляет своим творением каждый творец, но Валери хочет им управлять вполне, до конца и при помощи одного рассудка. Как только он понял, что безнаказанно этого хотеть нельзя, он предпочел замкнуться в горделивом бесплодии, отказаться от творчества, только бы не допустить хотя бы сквозь него самого, при посредстве всей его личности совершаемого чуда.
Чистой поэзии нет. Самые поиски ее обернулись мятежом против поэзии. Нет никакой возможности получить химически чистую эссенцию искусства. Самое требование такой чистоты противоречит природе художественного творчества, хотя и вытекает из потребности в том, что мы называем стилем, в здоровом и целостном искусстве, в самоочевидности его воплощения. Забывают прежде всего, что искусство имеет дело не с самим собой, а с миром, что творчество обращено к своему предмету, а не к самому себе. Гете сказал Сульпицию Буассере: «Там, где искусству вполне безразличен его предмет, там, где оно становится абсолютным, а предмет остается лишь его носителем, там и есть вершина искусства». Слова эти мудры, но не нужно забывать, что без «носителя» все же не обойтись и что если предмет может быть безразличен для созерцателя искусства, он никогда не безразличен для его создателя. Для Микеланджело не безразличен «Страшный Суд», и творец Фауста не безучастен к своему герою. Любой предмет преображается искусством и в этом смысле становится безразличен, растворившись в целом художественного произведения; но он бы не преобразился, если был бы безразличен с самого начала, если бы на нем не остановилось творческое внимание. Рассудочное сопротивление творчеству, бессознательное у Малларме и вполне осознанное у Поля Валери, возникает у них в тот самый миг, когда они направляют внимание не на предмет и не на результат, а на самый состав творческого акта. Так любовь убывает с той минуты, когда мы начинаем любить одну любовь.
3
Дарование, отпущенное человеку, сказывается не в верности и безопасности избранного им пути, но в том, что этот путь, какой бы гибелью ему и другим он ни грозил, отвечает реальности, а не иллюзии, связывает его судьбу, в хорошем и в дурном, с судьбой его народа, его культуры, с исполнением истории. То, чего достигли в поэзии Малларме и Валери, было достигнуто наперекор их собственным усилиям, — отсюда привкус невозможности, отчасти как раз и привлекающий к их искусству. Однако и усилия их, хотя и неверно направленные, были не случайны: дело их связано не только со всеми попытками выделить и защитить поэтическое творчество, которых было так много в минувшем веке, оно связано в самой своей глубине еще с вопросом о литературном языке, т. е. с настоящим вопросом жизни и смерти для современной литературы вообще и особенно для поэзии.
С поэзии начинается история всех литератур, лишь много позже в эту историю вступает проза, и сама проза надолго сохраняет следы поэтического мышления и поэтического строя речи. Конечно, прозу от поэзии совсем не отделяет какая-нибудь резко намеченная грань; дело лишь в постепенном усилении рассудочных, дискурсивных элементов языка за счет элементов выразительных, конкретных, поэтических, т. е. творческих. Развитие, разумеется, не протекает с предустановленной плавностью по заранее известной схеме: оно может замедляться и ускоряться, восстания поэзии могут временно направить его вспять; в общем, однако, путь слова ясен: из живого ознаменования, внутренно связанного с предметом, оно становится отвлеченным знаком, сохраняющим с ним лишь внешнюю, условную связь, чем-то вроде схематического значка наподобие тех, что применяются алгеброй или телеграфным кодом. С точки зрения практического удобства и научной точности (по крайней мере, в области тяготеющих к математике и физике наук) рассудочное перерождение речи только выгодно, но оно убийственно для поэзии и вообще для выразительного, наглядного, вполне человеческого слова. Неудивительно поэтому, что начиная с XVIII века, когда перерождение это особенно ускорилось, подкрепленное искусственной рационализацией, от которой чуть не иссохла вконец поэзия той эпохи, повелась против этого распада усиленная борьба. Она продолжается и сейчас, в условиях, все более тяжких для поэзии. Литературному языку было бы естественно в этой борьбе опереться на живую речь, но стоит сравнить язык городских рабочих с языком крестьян, чтобы убедиться, что и устный язык подвергся рассудочному распаду. С другой стороны, при все большем обособлении от устной речи литературный язык грозит превратиться в язык искусственный, книжный, и таким образом иссохнуть и отвердеть. В Англии, во Франции литературный язык уже и сейчас весьма далеко отошел от разговорного и ему столь же угрожает бесплодное замыкание в себе, как и наплыв механизированной, стандартной устной речи.
Для литературного творчества такое состояние языка гораздо опаснее, чем враждебное окружение, о котором говорилось выше. Без годного языкового материала нет поэзии, и всякие перемены в составе этого материала немедленно отражаются на ее судьбе. Итальянский критик Кьярини классически развил мысль о том, что великий поэт встречает наиболее благоприятные условия доя своего дара, если он принадлежит времени, когда литературный язык его страны находится еще во младенчестве. Характерно, что на этой мысли настаивал именно итальянец: итальянскую литературу, в самом деле, почти начинает величайший поэт Италии; мог бы, однако, высказать ее и грек, а если исправить ее в том смысле, что речь может идти не только о возникновении литературного языка, но и решающем переломе в его развитии, то ее можно применить к любой литературе, все равно, говорим ли мы о Шекспире, о поэтах французской Плеяды, о Гёте или о Пушкине. Последний пример объясняет, кстати сказать, и то, почему для России (по крайней мере, досоветской) вопрос о литературном языке ставился не так остро и почему движения, вполне сходного со школой «чистой поэзии», у нас не возникало. У Данте, у Шекспира, в ранней лирике Гёте, у Пушкина поэтическое творчество всегда в какой-то мере — творчество языков; язык еще девственен, все его нераскрытые возможности предчувствуются в нем (точно так же и в прозе: у Монтеня, у Лютера, у переводчиков английской Библии 1611 года); каждое слово поэта как бы впервые называет обозначаемый им предмет; каждый ритм, каждый образ, каждый оборот кажутся употребленными впервые. Позже, когда многие возможности использованы, ритмы стали привычны, слова стерты, приходится частично обновлять знакомый материал, довольствоваться отдельной находкой, удачным подбором в области давно известного, создавать более или менее искусственный язык, все равно — путем ли обращения к прошлому или путем произвольных нововведений. Чаттертон недаром пытался писать на языке Чосера, Ките и Френсис Томпсон недаром возвращались к языку Шекспира или поэтов середины XVII века, Бодлер недаром смешивал язык Расина с языком журналистов своего времени, Георге недаром создавал свой собственный, резко обособленный язык, недаром и у нас архаизировал Тютчев, возвращался к Пушкину Ходасевич, вслушивались в неиспользованные еще разговорные интонации Анненский и Блок Поэтический стиль Малларме и Валери есть дашь одна из наиболее решительных и последовательных попыток вернуть поэтическому языку утраченную им первоначальную полновесность и насыщенность.
Попытки такого рода естественным образом приводят к некоторой затемненности, затрудненности поэтического языка. Отсюда бесконечные жалобы, раздававшиеся за последние полтораста лет, на неудобопонятность, неудобочитаемость поэтов. Жалобы эти в значительной мере вызваны рассудочным мракобесием, для которого есть только один здравомыслящий, практический, подобный арифметике язык, и всякое отступление от него рассматривается как ошибка против четырех правил; но они все же оправданы в том смысле, что в прежние эпохи европейской культуры поэтический язык не так отмежевывался от обычного языка, как это приходится ему делать в наше время. Различие здесь отрицать нельзя, но оно вполне вытекает из процессов отвердения, как бы склероза, угрожающих каждому языку на известной стадии его развития. Нередко нападают на чрезмерную метафоричность французских поэтов, не понимая того, что они принуждены прибегать к метафоре как к средству обновления языковой ткани. Дело тут, впрочем, не в метафоре вообще, а лишь в метафоре новой и не стертой. Такие выражения, как «солнце село» или «мертвая петля», утеряли, так сказать, свою метафоричность, стали технически удобными значками, отвечающими своему твердо ограниченному смыслу. Другое дело, когда Тютчев говорит «день потухающий дымился» или Рембо видит «задумчивого утопленника», опускающегося на морское дно. Не то чтобы обновленные поэтом сочинения слов непременно пре. вращались в зрительные образы, но они живут и означают нечто гораздо более существенное и глубокое, чем то что определимо словом-ярлыком, взятым в одном из его зарегистрированных в словаре значений. Метафоры и другие тропы в поэзии — отнюдь не украшения (такими они стали лишь для риторов, александрийских, впервые давших им названия, и других); они — свидетельства о метафоричности предстоящего поэту мира, о конечном единстве всего сущего. Критиковать в современной поэзии, особенно у Малларме и Валери, можно лишь рассудочное применение метафор. Можно сказать, что метафоры в современной поэзии применяются без веры в знаменуемое ими бытие, только как если бы они отвечали скрытой его истине. При таком употреблении они и превращаются лишь в средства и приемы, т. е. сами подвергаются тому рассудочному перерождению, в борьбе с которым полагался их главный смысл.
С вопросом о судьбе метафоры мы переходим из области распада или иссушения общего литературного языка в область аналогичных процессов, происходящих в личном преломлении языковой стихии, т. е. в литературном стиле отдельных авторов. Здесь наблюдения могут касаться одновременно поэзии и прозы. Тут и там все растущая использованность, нейтрализация и стандартизация языковых средств побуждает к выработке все более редкостной, заостренной и искусственной литературной речи. Бюффон в своем «Опыте о стиле» мог еще рассматривать индивидуальную манеру литературного письма как то, чем она в принципе и должна быть, как естественное выражение человека, неповторимый иероглиф личности. Ему, как натуралисту, было ясно прежде всего, что манера говорить не хуже характеризует человека, чем самое содержание его речей, а часто и лучше, так как легче солгать по существу дела, чем подделать чужой почерк и воспроизвести особенности чужого языка. В этом, собственно, нет еще ничего непременно относящегося к искусству: для графолога интересен почерк любого человека, Бюффона интересуют любые проявления всех разновидностей homo sapiens: все дело в том, что в искусстве и литературе XVIII века индивидуальные отличия все еще довольно явственно выступали на некоем общем фоне, о котором сам Бюффон совсем не думал, ибо это был общий стиль, общий язык его времени. Личный стиль в литературе и в искусстве вполне выражает человека вовсе не когда он выдуман из ничего, а напротив, когда он родится в глубине надличного стилистического потока. Когда поток чересчур разветвляется, мелеет, а то и совсем уходит в пески, когда недостающее общее приходится заменять личным, тогда как раз самый «оригинальный» стиль становится часто всего лишь искусною маской личности (таков стиль Вирджинии Вулф, стиль Жироду, стиль Пастернака, Сирина). Если же потребность выразиться, высказаться все же берет верх, она стремится разорвать словесную ткань, косноязычно исковеркать слово, она с небывалой силой ощущает его обыденность, негибкость, мертвенность, она хотела бы вовсе обойтись без слов. «Мысль изреченная есть ложь», «О, если б без слов сказаться душой было можно» — в этом всегда была правда, но наш век сюда вложил новую правду, более страшную, чем прежняя.
Всякий элемент стиля может выродиться в эффект, в прием — этому и отвечает в теории литературы формализм, т.е. поэтика приема. Выбор слов, сочетание их, ритм — все может превратиться в рассудочную формулу. Больше того: сама непринужденность, искренность может стать манерой; манерой могут стать даже нечленораздельный вопль и предсмертный стон. От истерии к схематизму (а может быть, и от схематизма к истерии) только один шаг, как видно на примере ритмической прозы Андрея Белого. Чувство «невсамделишности», онтологической ирреальности поэзии мучило Блока, и оно же, вероятно, оторвало от поэзии Рембо. Чувство это питается прежде всего тем, что всякая манера, всякий стиль кажутся одинаково возможными. Андрэ Жид выразил свое восхищение однажды перед неисчерпаемыми возможностями, какие представляются писателю при виде белого листа на его столе; но из этих возможностей какую же выбрать? И Малларме тот же самый нетронутый белый лист казался лишь символом бесплодия. В искусстве, а не только в морали есть свое трагическое «все позволено», когда благословенное слияние необходимости и свободы распадается на принуждение и мертвый произвол. Вместо единого и обязывающего дара художник получает в удел неограниченные способности; он делает с ними, что хочет, — но хочет ли он вообще чего-нибудь? Стоит ли игра свеч? Нужно ли еще писать стихи? Рембо, Валери в разное время, на разных полюсах поэзии уже ответили: не нужно. Так ответил, в сущности, и Блок, так отвечают и те, кто просто «бросили писать» по причинам на первый только взгляд житейским и случайным. Те же, кто так не отвечают, все же чем дальше, тем больше переходят от творчества к упражнению в творчестве и от искусства к показыванию искусства. В «Улиссе» Джойса все время меняется стиль и язык, так как автор «владеет» всеми стилями и всеми языками, причем каждый ему равно близок или равно далек. Точно так же Т. С. Элиот, самый влиятельный из современных английских поэтов (американец по рождению), в своей поэме «Опустошенная земля» постоянно переходит от одного размера, интонационного движения, стиля к другому, возможно более несходному с первым, и в этих контрастах, еще усиленных цитатами и применением иностранных языков, находит основной формирующий принцип всего произведения. Но и Элиота (человека глубоко одаренного, кстати сказать, и остро переживающего трагедию собственного творчества), и самого себя, и писавших на заумном языке русских, итальянцев и американцев превзошел Джойс в своей последней, только что законченной книге, где язык от первого до последнего слова переломан, вывихнут, вывернут наизнанку, где каждая фраза — ребус и каждое слово — каламбур, где двусмысленно все вплоть до правописания и где тем не менее до смысла можно докопаться (при помощи справочных изданий и словарей десяти европейских языков), хотя дело не в нем, а как раз в предполагаемом удовольствии до него докапываться.
В этом огромном даровании, быть может, гениальном, работающем впустую, строящем бессмысленно дерзновенный вавилонский небоскреб, всего яснее, быть может, обнаруживаются судьбы современного искусства и, в частности, катастрофа чистой поэзии. Прозаические опыты Джойса как бы цинически разоблачают, выводят на чистую воду возвышенные порывы Малларме, Валери и их учеников. Малларме верил в поэзию, верил в нее и Валери, хотя предпочел бы не верить и потому отказался под конец от поэтического священнодействия. Из веры в поэзию рождается идеал ее совершенства, ее чистоты, то, что было уже религией Леконта де Лиля, Флобера и множества других европейских поэтов и писателей. Мистическое заострение этой веры составляет ядро поэзии Малларме. Для него и в самом деле некая субстанция искусства, чистая поэзия, была самодовлеющим бесконечным бытием, бессмертной сущностью, формула которой дана в стихах лионского поэта, взятых эпиграфом к этой главе. Но тут и открывается последний смысл великого заблуждения, о котором мы все время говорили. Два стиха эти вовсе не относятся к искусству, к поэзии, хотя бы к самой возвышенной и «чистой» из всех возможных на земле; они в «Микрокосме» Мориса Сева определяют самого Создателя. В основе «чистой поэзии» лежит идолопоклонство, и разоблачено оно было ею же порожденным окончательным безбожием. Поэты ее уже отвернулись от чуда и не совершали таинства, но им казалось, что они занимаются алхимией, магией, таинственным и, быть может, священным колдовством. Наследники их показали, что тут может идти речь не об алхимии, а просто о химии. Поэзию, литературу требуется просто очистить, как очищают спирт, выварить из ее живой ткани сильно действующий экстракт, заменить пищу питательной пилюлей. Джойс и другие могли бы, вспомнив знаменитую реплику из «Отцов и детей», сказать, что литература для них не храм, а мастерская. В мастерской, при помощи всех тех инструментов, какими работало искусство, изготовляются сложнейшие механизмы, при виде которых рассыпается в прах мечта о чистой поэзии. Капище разрушено. На его месте не будет ничего, и развалины порастут травою, если религия, веками оторванная от искусства, не введет его снова в свой подлинный, нерушимый храм; если искусство, блуждающее в бездорожье, не вспомнит о родине, покинутой так давно, не обретет оправдания в религии.
4
Творческая личность в безмерном одиночестве своем все глубже замыкается в себя, все больше отрешается от творчества. Легко предлагать ей вернуться в мир, но это значит забывать о том, что в этом мире для нее нет места. Заставить автора головоломных стихов и таких же картин размалевывать рекламные плакаты и сочинять вирши во славу резиновых подошв не значит разрешить вопрос о судьбе живописи и поэзии. Те, кто хотят «приспособить» искусство к каким угодно политическим, моральным и даже религиозным целям, намереваются лишь окончательно его убить. Искусству дано жить и дышать лишь в определенном воздухе, но в этом воздухе оно дышит и живет свободно. Религиозное возрождение мира только и может спасти искусство, но представлять себе это спасение как результат добросовестно исполненных предписаний и программ — значит смешивать церковь с казармой и равно не понимать искусство и религию. Надо сделать так, чтобы одиночество перестало быть неизбежным для художника, но его нельзя тащить силою на площадь, даже на ту площадь, где начнут строить будущий собор. Искусство надо вызволить из безвоздушного пространства, извлечь из-под стеклянного колпака, но из этого не следует, что можно безнаказанно расплавить ту броню, в которую оно облеклось ради своей защиты. Художник в одиночестве своем — особенно пока он в нем не открыл всех его убийственных провалов — являл великий подвиг, великое дерзание. Нельзя себе и представить последних полутора веков без многочисленных исповедников, подвижников, страстотерпцев и юродивых искусства. Никакое отчаяние, никакие надежды не должны нам позволить их забыть. И хотя можно составить святцы всех искусств, достойнее всего быть хранимо в памяти веков одинокое мученичество поэта.
Поэт больше, чем всякий другой художник, творит не только свои творения, но и самого себя. Точнее сказать, в искусстве всегда требуется создать свою личность раньше, чем осуществить ее в творениях, но в искусстве слова самосоздание это более на виду, его легче непосредственно усмотреть, чем в других искусствах. До половины XVIII века личность поэта, сравнительно с его стихами, оставалась еще в тени, но уже в классической немецкой литературе господствует фигура Гёте, перерастающая все, что он создал за долгую свою жизнь, и раздается знаменательная фраза Шиллера: «Того писателя пусть перепрыгнет потомство, который не был более велик, чем его творения». Если понимать эту фразу как утверждение превосходства поэта не только над каждым отдельным его произведением, но и над совокупностью того, что он создал и мог создать, то в ней приходится усмотреть опасное человекопоклонство. Раз поэт больше и выше своей поэзии, то, значит, в поэзии нет ничего, о чем не знал бы поэт, чего не было бы в поэте; именно такая точка зрения восторжествовала в романтизме и господствует с тех пор в европейской поэзии и поэтике. Гёте еще созерцает себя, строит свою личность в своем творчестве; но уже Байрон смотрит на свою поэзию свысока и созерцает себя в зеркале иди в глазах своих друзей еще охотнее, чем в «Дон-Жуане» или «Чайльд Гарольде». Ясно, что отсюда и пошел тот культ поэта, которому прежде всего предается сам поэт. Лавровый венец отныне принадлежит не поэту как автору стихов, а человеку, превосходящему других людей и о своем превосходстве рассказавшему стихами. Поступки и мнения этого человека, возвышенность всего его облика и его идей важнее его стихов, важнее и самой поэзии. Молодой Красинский в переписке со своим английским другом Ривом осуждает величайших английских поэтов своего времени, Кольриджа и Китса, за то, что мысли их недостаточно небесны, хотя слова сами по себе и хороши. Отсюда недалеко до сверхромантической подмены стихов «идеалами» и творчества рассказами о нем; недалеко и от собирания анекдотов о поэте в ущерб знакомству с его поэзией.
В старину художественное произведение существовало само по себе и приносило славу имени его автора. Данте и Шекспиром никто не интересовался, как Байроном (или как Байрон интересовался самим собой). Стихотворение, драма, рассказ были только тем, чем они обязаны быть и сейчас, если желают быть искусством: самодовлеющим целым, отделенным от творца не менее, чем дитя отделено от матери. Только за последний век они получили в первую очередь смысл свидетельств о жизни и личности их автора, даже когда этот автор — наш современник, не говоря уже о тех случаях, когда он принадлежит к великим поэтам прошлого. Появление бесчисленных кропотливых изысканий, создание целых «наук» о Данте, Шекспире, Гёте, Пушкине было бы невозможно в прошедшие века. Уже самое стремление, когда издаешь поэта, не пропустить ни одного из самых случайных его созданий и расположить их все в порядке их возникновения характерно для нашего времени и отнюдь не разделялось другими временами. Оно как раз и свидетельствует о том, что интерес к поэту перевешивает любовь к стихам, и о том, что творческая личность в целом кажется священней и нужней, чем самые совершенные ее творения. До XIX века так не думал никто, и потому «полные собрания сочинений», включающие каждый черновик и соблюдающие порядок чисто хронологический, до XIX века были неизвестны. Да и с наступлением этого века они еще не сразу привились. Еще Гёте, при всей священности для понятия творческой личности в ее живом развитии, при всей «автобиографичности» его стихов и, главное, его отношения к стихам, все же, как известно, в редактированном им самим собрании своих сочинений расположил стихи в порядке систематическом, разбив их на многочисленные отделы (так большей частью они и печатаются до сих пор). Однако мы, сейчас, воспитанные романтизмом и XIX веком, уже не в силах удовлетвориться никаким искусственным распределением, никаким отбором. Мы ненасытны в отыскивании отрывков и черновиков; мы не можем не знать, что лишь хронологическая последовательность стихов открывает нам творческий путь поэта. Его поэзия — как и письма, черновики, как и воспоминания друзей — говорит нам о его внутреннем мире, мы забываем, что она может быть порывом в другой, потусторонний, сияющий, бессмертный мир. Жизнь художника становится нам нужней, она больше насыщает нас, чем его искусство.
Оправдание наше в том, что в этой жизни первенствует не житейское, а житийное. Поклонение художнику есть культ страдающего бога. В глубине души мы знаем: каковы бы ни были ошибки, преувеличения, соблазны, проливается не клюквенный сок, а кровь. Надо признать, что между Гёте и Байроном, кроме указанного различия, есть еще и то, что один из них умер в своей постели, а другой погиб смертью трагического героя, хотя сам и не сумел написать трагедию. В судьбах поэтов минувшего и нашего века есть много выдумки, неправды, нарочитого и театрального мучительства, есть вколачивание «эффектов» из любого страдания и из самой смерти; но смерть и страдание все же подлинны сами по себе, и величайшие поэты века мучились правдиво: мучением расплатились за свое величие. Безумие, самоубийство, падение, ранняя смерть, преждевременная исчерпанность и испепеленность подстерегали всех, кроме толстокожих, о которых не стоит говорить, и немногих, чудом перенесших в новый век довременное, забытое здоровье. Пулю Клейсту, опий Кольриджу, сорок лет слабоумия Гельдерлину, смерть Грушницкого Лермонтову, прогрессивный паралич Бодлеру, африканский ад — Рембо; продолжать не стоит; милосердия суд не проявил: каждый оказался присужден к высшей мере наказания. Этого мало: судьба их не в гибели, а в ожидании ее, в знании, что не погибнуть невозможно. И не только в конце она грозит: гибелью проникнута вся жизнь; нет без нее и творчества. У Бодлера, как у многих других, но едва ли не всего яснее, можно проследить непрестанную борьбу между желанием жить «как все» и обреченностью гибнуть для поэзии. Поэт не может «устроиться» в современной жизни; не только «теплого места», как прежде, но и сносного пристанища ему больше в ней найти нельзя. Блок это выразил короче и жестче всех в письме к матери от 29 октября 1907 года: «Чем хуже жить, тем лучше можно творить, а жизнь и профессия несовместимы». Тише, скромней, но почти с той же беспощадностью высказал через несколько лет ту же мысль Жак Ривьер, говоря о том, как его погибший на войне друг Ален Фурнье «становился самим собой и обретал все свои силы лишь в условиях, лишавших его всего того, без чего обойтись ему было все же невозможно».
Тут-то и открывается глубочайший смысл одиночества поэта, одиночества художника. Среди стяжателей он один приносит жертву; среди оседающих тяжело на землю он один тоскует по забытым небесам. Как можно упрекать его в обращенности к себе, а не к людям, в самопревознесении, в даже самовлюбленности, когда ему нужны такое усилие, такой подвиг, чтобы остаться самим собой? Как можно требовать от него классической «объективности», классического сосредоточения на предмете, на общем для всех мире, когда этого мира нет, когда принять за него лживый, обезображенный, усеченный его образ было бы величайшей изменой священному смыслу искусства и поэзии? Не искусство надо обвинять в измене человечеству, а человечество в измене искусству. Не искусство служит человеку, а человек через искусство, на путях искусства, служит божественному началу мироздания. Это свое назначение искусство исполняло всегда, но наступили времена, когда исполнять его стало бесконечно трудно. В мире померкнувшем, остывшем искусство не может оставаться навсегда единственным источником тепла и света; в тепле и свете оно нуждается само. Всеми своими корнями уходит оно в религию, но это совсем не значит, что оно может религию заменить; наоборот, оно гибнет само от длительного отсутствия религиозной одухотворенности, от долгого погружения в рассудочный, неверующий мир. Трагедия искусства, трагедия поэзии и поэта в XIX веке, в наше время, не может быть понята ни в плане эстетическом, ни в плане социальном; ее можно понять только в религиозном плане. Эстетический анализ покажет медленное иссушение, рассудочное разложение искусства; социальный — все растущую отчужденность художника среди людей; но только религиозное истолкование поможет нам усмотреть источник этой чуждости и этого распада. Художник в наше время — духовное лицо среди мирян; он исповедник, он мученик, но и в качестве мученика он узурпатор. Этого ему нельзя перенести.
Нет мира: сокрылся Бог, в потемках один поэт — с маленькой буквы творец — ответствен за каждое слово, за каждое движение. Вовсе не одно то, что он пишет, важно, еще важнее то, что он есть. Сожжение «Мертвых душ» столь же существенно, как и их создание, и в акте этого сожжения Гоголь все еще художник. Ведь мы знаем, жизнь поэта стала житием, и в житии Гоголя это страшное наложение рук на собственную душу не падение, а подвиг, но подвиг непосильный, подвиг поистине сожигающий. Тот ничего не понял в истории нашего века, кто этот подвиг готов во имя искусства осудить или во имя религии приветствовать. Спасти искусство, исцелить одиночество художника можно не всесветным повторением гоголевской жертвы и не отказом от жертв ради услужения пресыщенному человечеству, а только просветлением мира, религиозной instauratio magna, которая сделает ненужным одинокие мученические костры, остановит кровь, ныне истекающую из ран пронзенного человеческого творчества, избавит поэта от смертельного его подвига, от ею высокого, но безблагодатного священства.
Глава четвертая УМИРАНИЕ ИСКУССТВА
Ready with loathsome vomiting to spew His soul out of one hell into a new.
John Donne
1
Есть три ступени исторических катаклизмов (и, быть может, три разных слоя исторической жизни вообще); нельзя их ясней определить, чем исходя из их отношения к искусству. Одни — революции, войны, иноземные нашествия, переселения народов, события, о которых пространно повествуют летописи всех времен, — нередко выражаются в искусстве, т. е. поставляют ему тему и материал, но если отражаются на нем, то лишь в виде самого грубого, насильственного вмешательства в его судьбу: могут убить его, но переродить не могут. Другие глубже; современники их не замечают, и лишь с трудом догадываются о них историки; в искусстве вызывают они изменения стиля, колебания вкусов и манер, перерыв или столкновение традиций; ими определяется конкретный облик художественного творчества в каждую следующую за ними эпоху. Но лишь на последней ступени, в самой глубине, возможна историческая катастрофа, совпадающая с катастрофой самого искусства, трагедия, не только отраженная искусством или выраженная в нем, но и соприродная его собственной трагедии; только здесь возможен разлад, проникающий в самую сердцевину художественного творчества, разрушающий вечные его основы,— разлад смысла и форм, души и тела в искусстве, разлад личности и таланта в жизни, в судьбе художника.
Разрыв и раздвоение, стремление восстановить утраченное единство, все умножающиеся препятствия на пути к нему, непрочные победы, резкие падения, неустанная внутренняя борьба — такова истинная история всех искусств XIX века. История эта еще не написана, и было бы возможно написать ее только теперь, когда определились и до конца действовавшие в ней силы и обнажились недра, долгое время остававшиеся сокрытыми. Начинать эту историю нужно с эпохи романтизма, обозначившей для всей европейской культуры еще более резкий и глубокий перелом, чем тот, что связан (даже и для северных стран) с эпохой Возрождения. Понятие романтизма недаром, распространяется на все искусства и покрывает все национальные различия; верное определение его, рядом с которым все, предлагавшиеся до сих пор, окажутся односторонними и частичными, должно исходить из этой его всеобщности и сосредоточиваться не на отдельных особенностях романтического искусства, а на тех новых условиях, в которых это искусство творилось и которые как раз и знаменуют собой изменение самой основы художественного творчества. Романтизм не есть художественный стиль, который можно противополагать другому стилю, как барокко — классицизму или готическое искусство — романскому; он противоположен всякому стилю вообще. Так называемая борьба романтизма с классицизмом сводится к борьбе романтической поэтики и эстетики, романтических идей, с идеями и с эстетикой XVIII века; сам же романтический поэт столь же далек от Шекспира, как от Расина, и романтический художник одинаково не похож на Рафаэля и на Рубенса. Среди романтиков были люди, влюбленные в классическое искусство не меньше, а больше любых классиков, но столь же свободно влюблялись они в средневековое искусство, в елизаветинскую драматургию, в готику и в барокко, в Индию, Египет и Китай. Романтик потому и волен выбирать прошлом любой, лично ему пришедшийся по вкусу стиль, что он не знает своего неотъемлемого стиля, неотрывно сросшегося с его собственной душой. Романтизм есть одиночество, все равно бунтующее или примиренное; романтизм есть утрата стиля. Стиля нельзя ни выдумать, ни воспроизвести; его нельзя сделать, нельзя заказать, нельзя выбрать, как готовую систему форм, годную для перенесения в любую обстановку; подражание ему приводит только к стилизации. Стили росли и ветшали, надламывались, менялись, переходили один в другой; но в течение долгих веков за отдельным архитектором, поэтом, музыкантом всегда был стиль как форма души, как скрытая предпосылка всякого искусства, как надличная предопределенность всякого личного творчества. Стиль и есть предопределение, притом осуществляющееся не извне, а изнутри, сквозь свободную волю человека, и потому не нарушающее его свободы как художника, никогда не предстоящее ему в качестве принуждения, обязанности, закона. Стиль есть такое общее, которым частное и личное никогда не бывает умалено. Его не создает отдельный человек, но не создается он и в результате хотя бы очень большого числа направленных к общей цели усилий; он — лишь внешнее обнаружение внутренней согласованности душ, сверхразумного, духовного их единства; он — воплощенная в искусстве соборность творчества. Когда потухает соборность — гаснет стиль, и не разжечь его вновь никакою жаждой, никаким заклятием. Память о нем продолжает жить, но вернуть его нельзя; он дан или его нет; тем хуже для художника и эпох, которым он только задан.
Угасание стиля повлекло за собой неисчислимые последствия, каждое из которых можно описать в качестве одного из признаков романтического искусства, романической эпохи, а затем и XIX века вообще. Первым и важнейшим было настоящее осознание и оценка того, что ощущалось уже утраченным, т. е. именно стиля, органической культуры, иррациональной основы художественного творчества, религиозной и национальной укорененности искусства. Одновременно пришло возраставшее в течение всего XIX века чувство собственной наготы, покинутости, страшного одиночества творческой души. По мере того как последствия эти накоплялись, романтизм менялся, углублялся, но исчезнуть не мог, не может и сейчас, потому что не исчезли породившие его условия. Условия эти не могли быть отменены никаким антиромантизмом, и поэтому все направленные против романтизма движения сохраняют с ним внутреннюю связь, если только они не направлены вместе с тем и против самого искусства. Но, конечно, катаклизм был длительным, а не мгновенным; бесстилие наступило не сразу для всех искусств. Раньше всего и всего заметней проявилось оно в архитектуре и прикладных искусствах, от нее зависимых, всего позднее сказалось в музыке, хотя первые признаки обнаружились и здесь уже давно. Живопись большинства европейских стран уже целых сто лет не имеет целостного стиля, но во Франции стилистическая преемственность в этой области сохранилась до сих пор, распространяясь и на скульптуру, поскольку она подчинилась живописному влиянию. В поэзии и в искусстве слова вообще новые условия художественного творчества дали себя знать не позже, может быть, чем в архитектуре, но их влияние было трудней определить, потому что писателю, в силу самых свойств выражения в слове, гораздо легче лгать и обманывать себя и других, чем живописцу, музыканту или архитектору. Язык всех искусств служит или, по крайней мере, должен служить только прямой их цели, т. е. воплощению некоего духовного содержания, тогда как литературный язык может служить еще и простому высказыванию мыслей, чувств, намерений, желаний, иначе говоря, целям, ничего общего с искусством не имеющим. Угасание стиля затрудняет воплощение, обрекая на одиночество творческую душу, но нисколько не препятствует практической, разговорной функции языка. Писатель может ничего не воплощать, а просто высказав свой замысел, свою «идею» и затем принять или выдать словесную оболочку этого высказывания за то духовное тело, которого он не в силах был создать. Но архитектор не может на каменном своем языке сообщить идею здания, музыкант не может в сонатной форме рассказать о замысле сонаты. В наше время, впрочем, совершались попытки даже и этого рода, но в них тотчас сквозила противохудожественная их сущность и с особой силой сказался породивший их внутренний разлад.
Однако, независимо от этой особенности словесного творчества, стилистический ущерб отозвался и должен был отозваться на нем иначе, чем, например, на архитектуре. Архитектура, теряя стиль, тотчас лишается всякой вообще целостной формы; поэзия может существовать, довольствуясь каждый раз заново создаваемым, неповторимым единством, но ее медленно убивает та осознанность, то подтачивание ее сверхрассудочной основы, которого стиль не допускал и которое явилось главным результатом его падения. Архитектура как искусство перестала существовать во второй четверти минувшего столетия; но поэзия продолжала жить и вспыхивать время от времени ярким, самопожирающим огнем; по-прежнему сияла музыка, рождались статуи и картины, только роды становились все тяжелей и все решительней разъедали живую творческую ткань освобожденные бесстилием жгучие кислоты. Действие их, чем ближе к нашему времени, тем равномернее сказывалось во всех искусствах; разрушение общего стиля повсюду стало угрожать разъятием художественного единства каждого отдельного произведения. Стиль ведь имеет отношение не только к форме, он ровно столько же касается и содержания — не содержания в смысле сюжета, темы, идейного материала, духовного содержания, духовной сущности, которой на отвлеченном языке высказать нельзя; точнее сказать, стиль есть некоторая предустановленность их связи и в этом смысле гарантия художественной цельности. При его отсутствии мало-помалу форма превращается в формулу, а содержание — в мертвый материал, и превращение это не происходит где-то во внешнем мире, а проникает в самый замысел художественного произведения и оттуда — в замыслившую его творческую душу. Трагедия искусства — это прежде всего трагедия художника. Кто скажет, что дарования иссякли? Но те, кому они даны, — как легко им заблудиться, как трудно выбраться на верный путь! Чем дальше, тем со все большим отчаянием бросаются они из стороны в сторону, мечутся среди противоположностей, совмещать которые было их призванием, из невозможности рвутся в невозможность, из ада проваливаются в худший ад и все глубже утопают в кромешной мгле развоплощенного, разлагающего искусства.
Будучи утратой стиля, романтизм есть в то же время сознание его необходимости. Он — воля к искусству, постоянно парализуемая пониманием существа искусства. Вот почему он и есть подлинный «mal du siecle»; болезнь девятнадцатого века — высокая болезнь. Болели ею не малые, а великие души, не посредственности, а гении. Какой поэт, достойный этого имени, ею не был заражен в послегётевской, послепушкинской Европе? Какой художник не боролся с ней и не жертвовал частью своей личности, чтобы восстановить нарушенное равновесие своего искусства? Баратынский и Тютчев, Лермонтов и Блок обязаны ей неугасимым огнем своего творчества. Все поэты XIX века — романтические поэты, наследники Гельдерлина и Клейста, Кольриджа и Китса, Леопарди и Бодлера. Всякая борьба с романтизмом велась только во имя одного его облика против другого: Флобер не меньший романтик, чем Шатобриан, и Толстой в своих взглядах на искусство лишь до последнего предела обострил (и упростил) романтический мятеж человека против художника. Романтиками в одинаковой мере были Энгр и Делакруа, Ганс фон Маре, Врубель и Сезанн, Вагнер и Верди, Мусоргский и Цезарь Франк. Романтизм жив и сейчас и не может умереть пока не умерло искусство и не исцелено одиночество творящей личности. Если бы он исчез без одновременного восстановления стилистических единств, без возврата художника на его духовную родину, это могло бы означать только гибель самого искусства. Отмахнуться от прошлого нельзя, и напрасно презирать болезнь, которой не находишь исцеления. Этот неуклюжий, тяжелодумный век, без молодости, без веры, без надежды, без целостного знания о жизни и душе, разорванный, полный упоминаний и предчувствий; век небывалого одиночества художника, когда рушились все преграды и все опоры стиля, погибла круговая порука вкуса и ремесла, единство художественных деятельностей стало воспоминанием и творческому человеку перестал быть слышен ответ других людей; этот век был веком великих музыкантов, живописцев и поэтов, видел парадоксальный, мучительный расцвет музыки, живописи, поэзии, отрешенных от всего другого, не знающих ни о чем, кроме себя. Многое было у него, только не было архитектуры, не было целого, оправдывающего все, и великое, и малое; и пока этого целого нет у нас, мы сами, хотим мы того или не хотим, продолжаем наше прошлое, наследуем ему, несем на себе его тяжесть, его рок, остаемся людьми XIX века.
2
Столетие назад была написана пророческая статья «об архитектуре нынешнего времени». Автор ее, молодой Гоголь, включил ее в сборник «Арабески», и там она покоилась целый век, мало замеченная современниками и основательно забытая потомством. А между тем в этот решительный час, впервые, может быть, в Европе, двадцатидвухлетний русский литератор предчувствует, если не сознает, все, чем отныне должна стать архитектура, и все, чем она уже не может стать. Он не оплакивает ее, но именно благодаря своему согласию с ее судьбой он эту судьбу так явственно провидит. Гибели ее он не ждет и еще менее желает, но самые надежды, которые он возлагает на нее, еще сильней заставляют нас ощущать неизбежность этой гибели.
Статья начинается с панегирика готическому стилю и его мнимому возрождению, от которого Гоголь желал бы только еще большей полноты; она переходит затем к критике архитектурных форм XVII—XVIII веков и классицизма Империи. Петербургская классическая архитектура александровского времени для Гоголя прежде всего однообразна, скучна, плоска: последний отблеск подлинного архитектурного стиля кажется ему надуманным и казенным. «Прочь этот схоластицизм, — воскликает он, — предписывающий строения ранжировать под одну мерку и строить по одному вкусу Город должен состоять из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удовольствие взорам. Пусть в нем совокупится более различных вкусов. Пусть в одной и той же улице возвышается и мрачное готическое, и обремененное роскошью украшений восточное, и колоссальное египетское, и проникнутое стройным размером греческое. Пусть в нем будут видны и легковыпуклый млечный купол, и религиозный бесконечный шпиц, и восточная митра, и плоская крыша итальянская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелиск».
Гоголь противопоставляет таким образом александровскому классицизму не предвидение какого-нибудь иного, нового стиля, а возможность совместить в воображаемом им идеальном городе все уже известные стили во всей их разнородности и пестроте. Он предполагает даже «иметь в городе одну такую улицу, которая бы вмещала в себе архитектурную летопись всего мира. Эта улица сделалась бы тогда в некотором отношении историей развития вкуса, и кто ленив перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобы узнать все». Правда, он спрашивает себя: «Неужели невозможно создание (хотя для оригинальности) совершенно особенной и новой архитектуры, мимо прежних условий?» Он даже указывает некоторые возможности, о которых впоследствии подумали в Европе. «Чугунные сквозные украшения, обвитые около круглой прекрасной башни», которые «полетят вместе с нею на небо», предвосхищают мечты 60-х годов и отчасти даже идеи инженера Эйфеля. Но «висящая архитектура», как называл ее Гоголь, не удалась, да и сам он в нее как будто не очень верил. Зато если мы что-нибудь видели на деле, так это стилистическое столпотворение, о котором он так пламенно мечтал. Пророчество Гоголя сбылось. «Всякая архитектура прекрасна, если соблюдены все ее условия» — эти слова его статьи могут служить эпиграфом для истории XIX века. Требование его, чтобы каждый архитектор «имел глубокое познание во всех родах зодчества», исполнилось с не меньшей полнотой. От готики Виолле ле Дюка до петушкового стиля Стасова, от неоренессанса бисмарковской эпохи до русского и скандинавского неоампира незадолго до войны, архитектура XIX века стала тем самым, что Гоголь воображал и что он так восторженно описывал. Когда он говорил об улице, по которой «стоит только пройти, чтобы узнать все», мы можем вспомнить генуэзское кладбище или английскую систему размножать лондонские памятники, воспроизводя их в точности в провинциальных городах, или полные архитектурных копий американские промышленные столицы, уже самыми своими именами обкрадывающие европейское художественное прошлое. Мы пережили это «постепенное изменение в разные виды» и «преображение архитектуры в колоссальную египетскую, потом в красавицу греческую, потом в сладострастную александрийскую и византийскую», потом в «аравийскую, готико-арабскую, готическую»… «чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключавшими бы в себе стихии нового вкуса». Мы знаем теперь эти «стихии», знаем и то, чем для европейской архитектуры стал XIX век. Он весь похож на парижскую «Альгамбру», описанную в «Education sentimentale», с ее мавританскими галереями, готическим двором, китайской крышей и венецианскими фонарями. XIX век был веком без стиля и как раз поэтому веком стилизации и безнадежных попыток придумать стиль. Но стилизацией и выдумкой архитектура жить не может; без стиля ее нет. Весь художественный быт XIX века опорочен ее падением.
Это не значит, что так называемое прикладное искусство совсем не создало за последние сто лет ничего сколько-нибудь ценного: традиции умирают не сразу, отдельные художественные инстинкты могут выжить и способны многое пережить. Но архитектура сама стала прикладным искусством, целого нет, и «новый вкус» ничем не огражден от все растущего дурного вкуса. Правда, и в этом дурном вкусе с некоторых пор мы научились находить немало прелести. Нас трогают невинные уродства; мы ценим, и собиратели усиленно скупают мебель в стиле Империи, перетолкованном позже на более мирный и на более скромный лад; комнатное убранство господина Прюдомма, отталкивавший раньше непроветренный уют вызывает теперь что-то похожее на зависть. Есть милая вычурность в стекле и развлекающая грубость вкуса в фарфоре сороковых годов. Есть нечто приятное в одутловатых и раззолоченных стилизациях более поздней эпохи. Есть даже единообразие во всем этом, но подлинного единства все же нет. Конечно, память наша невольно объединяет все, что относится к шестидесятым годам, или к «концу века», или к «выставке декоративных искусств», устроенной в Париже в 1925 году; но это автоматическое упорядочивание слишком пестрой действительности вовсе не дает нам права считать, как это делают многие, что вкусы и моды всякой отошедшей эпохи после известного срока освящаются историей и получают право называться стилем. То, что не было стилем (единственно возможным, я не осознанным, как одна из возможностей) при жизни, то и после смерти не станет им. Опера Гарнье или дрезденская галерея Земпера, несмотря на всю роскошь или удобство, останутся зданиями без архитектуры, подобно некоем постройкам поздней античности, даже когда станут памятником глубокой старины. С некоторыми, постепенно убывающими, ограничениями то же можно сказать обо всем художественном обиходе XIX века, начиная с тех лет, когда был забыт блистательный полустиль Империи. Отныне и тут, как в архитектуре, возможны тишь рассудочные агрегаты готовых, заученных или произвольно выдуманных форм.
Предмет обстановки или одежды, фарфоровая чашка дай шелковая ткань не обладают замкнутой в себе целостностью статуи и картины; они излучают ту жизнь, тот смысл, что переданы им всей художественной культурой их времени, они не могут стать искусством там, где нет внутренней диктатуры стиля и внешней дисциплины ремесла. Вне этих условий, однако, бесконечно затруднена и всякая вообще художественная деятельность; не только работа ювелира и столяра, но и творчество скульптора и живописца. В стилистически насыщенные эпохи художник и сам ощущает себя ремесленником; его ремесло, как и всякое другое, питается стилем, родится из него, возвращается к нему в каждом творческом акте. Изменения стиля во всех областях искусства управляются архитектурой, даже если они не вытекают из собственного ее развития. Все связано в такие эпохи, все совместно одухотворено, и отклонения не нарушают общего единства. Существуют не только готические соборы, но и готическая форма башмаков; самый дрянной оловянный подсвечник обличает свою принадлежность к XVII или следующему столетию. Именно стилем и был огражден художник от тех опасностей, с которыми так трудно стало ему бороться в XIX веке и в наше время. Лишь благодаря ему второстепенные голландские мастера, с их любовью к грубоватому анекдоту и к мелочной выписке подробностей, не стали похожи на какого-нибудь Кнауса или Мейссонье. Лишь благодаря ему итальянские живописцы, расписывая стены или свадебные лари, подчинялись требованиям большой или малой архитектуры, не умея себе и представить времени (наступившего в конце прошлого века), когда «декоративное» станет синонимом безвкусного и пустого и будет пугать всякого уважающего себя художника. Даже индивидуальная незначительность и слабость художественного произведения еще не уничтожала в былые времена его общего художественного смысла, его эстетической уместности. Старинная картина, будучи бессодержательна, буднична, скучна, все еще оправдана именно как декорация, никогда не оскорбляющая глаза. Но в наше время все то уже не искусство, что ищет только украшения и приятности, точно так же как ни один писатель не скажет (как сказал Сервантес в предисловии к сборнику своих рассказов), что он пишет ради того же, «ради чего сажают аллеи, проводят фонтаны и разбивают затейливо сады». За личной совестью и личным мастерством нет все оправдывающего, все несущего в себе стилистического потока. Как только индивидуальное творческое напряжение ослабевает, взамен искусства появляется банальность или произвол — вещи, одинаково ему враждебные. Художнику приходится каждый раз как бы все создавать заново; ему остается рассчитывать только на отдельно для него каждый раз совершаемое чудо.
Необходимые условия художественного творчества стали недосягаемой мечтой. Целое столетие архитекторы тщетно искали архитектуру. Они продолжают искать ее и теперь, но все решительней обращаясь от архитектуры стилизующей к архитектуре, начисто обходящейся без стиля, к так называемому рациональному или функциональному строительству, к «машине для жилья» Ле Корбюзье. Сходное развитие, хотя и в более медленном темпе, наблюдается в области прикладных искусств. Все больше распространяется отвращение к подделке, к фабричным луикаторзам и луисэзам. Требование добротности и удобства сменяет требование роскоши. При этом добротность смешивают с рыночной ценой материала (например, когда золото или серебро заменяют платиной); вещи драгоценные, переставая быть роскошными вещами, становятся лишь символом кошелька. От вещей хотят простоты, но не простоты художественной — свойственной классическому стилю, — а простоты, не ищущей искусства и только потому не противоречащей ему. Пожалуй, правда: только то, что еще не было искусством, может стать искусством в будущем; однако отказ от стилизации есть необходимое, но еще недостаточное условие для рождения целостного стиля. Целесообразность, вопреки мнению стольких наших современников, еще никогда не творила искусства и сама собой не слагалась в стиль. Оголенно-утилитарное здание и очищенные от украшений предметы обихода, как их все чаще предлагают нам, могут не оскорблять художественного чувства, но это еще не значит, что они его питают. Даже когда они ему льстят, — например, пропорциями и линиями современного автомобиля, — они от этого искусством не становятся. Существует красота машины: осязаемый результат интеллектуально совершенной математической выкладки; но красота еще не делает искусства — особенно такая красота. Удовлетворение, даваемое точностью расчета, может, входит в замысел архитектора (например, строителя готического собора), но не из нее одной этот замысел состоит. В искусстве есть не только разум, но и душа; целое в нем непостижимым образом предшествует частям; искусство есть живая целостность. Огромное строение и мельчайший узор получают свой смысл, свое оправдание, свое человеческое тепло из питающего их высшего духовного единства. Пока его нет, не будет ни архитектуры, ни прикладных искусств, ни сколько-нибудь Здоровых условий для жизни искусства вообще; и нельзя его заменить другим — техническим, рассудочным единством. В механической архитектуре, уже начавшей подчинять себе другие искусства, есть единообразие, которого не знал XIX век, но это единство стандарта, штампа (хотя бы в своем роде и совершенного) — не стиля. Стандарт Рационален; но только стиль одухотворен.
У Новалиса, в «Генрихе фон Офтердингене», есть трудно забываемая страница о домашней утвари старых времен и особом чувстве, которое она внушала людям. Средневековый быт, духовная его сущность открывались Новалису в недрах бережно хранимого Германией его времени провинциально-патриархального, семейно-замкнутого быта. В этом уходящем в незапамятную даль быту всякая, даже самая обыденная «вещь» была своему владельцу дорога не в силу рыночной цены или трезвой своей полезности, а благодаря обычаю, связанному с ней, месту ее в обиходе и преданиях семьи, индивидуальному облику, принадлежавшему ей искони или приданному ей временем. «Молчаливыми спутниками жизни» называет Новалис предметы скромной обстановки в жилище ландграфа, отца своего героя, и обозначение это незачем отводить на счет заранее готового романтического умиления. Слова эти правдивы не только по отношению к средневековому, но и ко всякому другому устойчивому, не рационализованному быту, северному больше, чем южному (не переставая быть верными и для юга). Весьма прочно держался такой быт в России, и многие черты его всем нам памятны. Лишь городская цивилизация искореняет постепенно живое отношение к вещам; конкретное чувство связи превращается в отвлеченно-юридическое знание о собственности; машинное и массовое производство стирает индивидуальность (привязаться же можно не к общему, а только к частному); принцип строгой целесообразности не оставляет места отклонениям, случайностям, всему тому, что кажется человеческим в вещах и за что человек только и может любовью, а не грубой похотью любить тленные, прислуживающие ему вещи.
Веками он согревал их собственным теплом, но, должно быть, есть в мире убыль этого тепла, раз они так заметно с некоторых пор похолодели. Нет спору: рационализированная мебель, посуда, механическое жилище последних лет удобнее, опрятней и даже отрадней для глаз, чем пухлые пуфы и пыльные плюши XIX века. Пусть брачное ложе уподобилось операционному столу и зубоврачебное кресло стало символом досуга и покоя; все равно, все, чего хотел от своей «обстановки» прежний человек, слилось для наших современников в образе комфорта . История этого слова отвечает ходу всемирной истории. Оно значило — утешение (Comforter в английской Библии — эпитет Св. Духа), стало значить — уют, а в нынешнем международном языке означает голое удобство. Только удобную, только целесообразную вещь можно пенить, но нельзя вдохнуть в нее жизнь, полюбить ее, очеловечить. Какой-нибудь громоздкий комод, о который мы в детстве стукались лбом, был нам мил, трогал нас своим уродством, мы с ним жили, мы сживались с ним. Но в современном доме из металла и стекла нужно не жить, а существовать и заниматься общеполезною работой… Прошлый век был безвкусен, и его художественный быт — не искусство, а подделка под искусство; однако и неудавшиеся попытки украшения придавали его изделиям душевное тепло. Новые вещи погружены в стерилизирующий раствор, где погибают зародыши болезни, но вместе с ними — и жизнь самих вещей. Различие тут переходит за пределы всякой эстетики — как и морали, — оно проникает вглубь, к источнику всяческой любви. Наше время запечатало источник и утверждает, что без любви возможно удобство и даже эстетическое созерцание; пусть так, но только из любви рождается искусство.
3
Гибель Рима проистекла не от силы варваров, а от ослабления духовных основ Империи и античной культуры. Гладиатор не заменил бы трагического актера, если бы не был утрачен смысл трагедии. Современный человек проклинает царство машин, но разве не он их создал и не он принес им в жертву лучшее свое достояние? Только в опустошенной душе и мог утвердиться мир бездушный, переполненный бездушными вещами. Только согласие, только пособничество человека может сделать пагубными для него создания его рук. Если современному искусству угрожают враждебные ему силы, то лишь потому, что в нем самом образовалась пустота и раскололась его живая целостность.
Искусство можно рассматривать как чистую форму; беда в том, что как чистую форму его нельзя создать. Без жажды поведать и сказаться, выразить или изобразить не бывает художественного творчества. Если под изображением разуметь одну лишь передачу внешнего мира, а передачу внутреннего назвать выражением, станет ясно, что кроме искусств изобразительных — живописи и скульптуры, драмы и эпоса — есть искусства, чуждые изображения, как архитектура, или такие, где (как в музыке и лирической поэзии) оно обречено на служебную и приниженную роль. К тому же и живопись, и скульптура бывают неизобразительными, чисто орнаментальными, тогда как выражение присутствует во всяком искусстве, хотя бы и в изобразительном, больше того: в самом изображении. Тем не менее живопись и скульптура, уже в силу присущих им технических средств, всегда тяготеют к передаче видимого мира, к изображению человеческого образа, человеческой жизни, природы, и поэтому для них, как для эпической и драматической литературы, человек и все, что относится к человеку, составляют не только духовное содержание (то, что немцы называют Gehalt), как для всех вообще искусств, но еще и «фабулу», «сюжет», т. е. содержание (Inhalt) в обычном смысле слова. Случается — особенно часто случалось в прошлом веке — живописи и скульптуре злоупотреблять этим своим родством с литературой и пользоваться ее средствами там, где они могли бы обойтись своими; но отрицание этого рода «литературщины» еще не означает, что выкачиванию человеческого содержания в искусстве можно предаваться безнаказанней, чем в литературе, или хотя бы что позволено не делать никакого различия между изображением кочана капусты и человеческого лица. Различия здесь можно требовать с не меньшим основанием, чем изменения замысла статуи в зависимости от того, исполняется ли она в бронзе, дереве или мраморе; предмет, по крайней мере, столь же важен, как материал, отрицание портретных, да и вообще предметных задач, превращение человеческого образа в мертвый объект живописных или скульптурных упражнений — такой же ущерб для самых этих искусств, как замена живого героя кукольным подставным лицом для драмы или для романа. В обоих случаях схематизация «фабулы», «сюжета» и предмета приводит к выветриванию духовного содержания.
Если из живописи и скульптуры окончательно изъять образ человека, а за ним и всякое вообще изображение, останется узор, арабеска, игра линейных и пространственных форм; характерно, что еще и в нее былые эпохи умели влагать богатое духовное содержание. Бодлер недаром сказал: «Le dessin arabesque est le plus spiritualiste des dessins»; но узор одухотворен, поскольку он выразителен, выразителен, а значит, человечен. Стремление стряхнуть и эту человечность приводит к так называемому «конструктивизму», т. е. к исканию такого сочетания форм, которое в отличие образа, от всех, самых, казалось бы, математических и отвлеченных построений, известных до сих пор из истории искусства, ничего человеческого не выражало бы и по самому своему замыслу не только предмета, но и духовного содержания было бы лишено. Если скажут, что узору незачем быть выразительным и достаточно быть красивым, нужно возразить, что в искусстве и сама красота есть выражение человеческой внутренней гармонии. Северный орнамент (древнегерманский и древнеславянский) выражает беспокойство и движение, южный (например, древнегреческий) — гармонию и покой; но и тот, и другой, и всякий оправданы в своем художественном бытии духовным содержанием, выраженным в них, а не приятностью для глаза или практической целесообразностью, которые сами по себе не имеют отношения к искусству. Главный признак искусства — целостность художественного произведения (орнамент чаще всего бывает частью, а не целым, и получает оправдание от целого), а целостности этой без единства духовного содержания, и уж конечно без его наличия, достигнуть вообще нельзя. Вот почему всякий ущерб этого содержания, в той ли двухстепенной форме (сначала «Inhalt», потом «Gehalt»), которая свойственна изобразительным искусствам, или в той непосредственной, какая присуща архитектуре и музыке, приводит кратчайшим путем к распаду, к разложению искусства. Ход истории одинаков повсюду, но едва ли не в судьбе живописи он сказался всего ясней. Импрессионизм был последним заострением ее изобразительной стихии; но изображал он уже не мир, не природу, а лишь наше представление о них; и не представление вообще, а один только зрительный образ; и даже не просто зрительный образ, а такой, что уловлен в одно-единственное неповторимое мгновение. Этому вовсе не так уж противоположно направление современной живописи, идущее от Ван Гога и Мунха и окрещенное именем экспрессионизма, хотя правильнее было бы его назвать импрессионизмом внутреннего мира, ибо оно точно так же ограничивается передачей эмоциональных раздражений нервной системы, как импрессионизм ограничивался раздражениями сетчатой оболочки, отвлекая, выцеживая их из живой полноты духовного и телесного человеческого опыта. Переход от этих двух внутренно родственных художественных систем к кубизму и другим видам формалистической, «беспредметной» живописи вполне последователен и заранее предначертан. Импрессионист и экспрессионист оба подвергали анализу внешний или внутренний мир и отвлекали от него отдельные качества для своей картины; кубист продолжает их дело, но он анализирует уже не мир, а картину, т. е. само живописное искусство, разлагает его на отдельные приемы и пользуется ими не для создания чего-нибудь, а лишь для их разъяснения кистью на полотне и для доказательства своего о них знания. Кубисту неинтересно писать картины; ему интересно лишь показать, как они пишутся. Такое отношение искусству возможно лишь в конце художественной эпохи, так как оно предполагает существующими те навыки, те формы, которые художник уже не обновляет, а лишь перетасовывает вновь и вновь, чтобы строить из них живописные свои ребусы. Связь такой живописи с миром – внешним или внутренним — с каждым годом становится слабей. В жизни образуются пустоты, не заполненные и уже не заполнимые искусством. Их заполняет фотография.
Искусство ни в какие времена не отвечало одной лишь эстетической потребности. Иконы писались для молящихся, от портретов ожидали сходства, изображения персиков или битых зайцев вешали над обеденным столом. Отдельным художникам это изредка приносило вред, но искусство в целом только в этих условиях и процветало. В частности, убеждение, свойственное живописцам старых времен, что они производят лишь «копии природы», было столь же практически полезно, сколь теоретически неосновательно. Голландские мастера считали себя не «артистами», а, так сказать, фотографами; это лишь два века спустя фотографы стали претендовать на звание «артистов». В старину гравюра была чаще всего «документом», воспроизводя действительность или произведение искусства, т. е. служила той же цели, какой ныне служит фотография. Различие между фотографией и гравюрой такого рода не столько в исходной или конечной точке, сколько в том пути, по которому они следуют: одна проходит целиком сквозь человеческую душу, другая — сквозь Руководимый человеком механизм. Еще недавно отличительным признаком фотографии считалась точность Даваемых ею «снимков», «копий» видимого мира. Одни художники обвиняли других в излишней близости к природе и предлагали такого рода стремления предоставить Фотографам. Но все это основано на недоразумении. Фотография не просто механически воспроизводит, но и механически искажает мир. Плохой живописец уподобляется фотографу не любовью к миру и желанием передать его возможно полней, — без этой любви, без этого желания вообще не существовало бы изобразительных искусств, — а лишь применением в своей работе заранее готовых, мертвенных, механических приемов, причем совершенно безразлично, направлены ли эти приемы на воспроизведение видимого мира или на какое угодно его изменение.
Нападать на фотографию, как это делают и сейчас многие артистически настроенные люди, за то, что она всего лишь «подражает действительности» и не помнит об искусстве или о «красоте», значит не понимать существа той опасности, какую она представляет для искусства. Светочувствительная пластинка дает двухмерное и бескрасочное, т. е. вполне условное, изображение видимого мира; объектив непомерно увеличивает размеры предметов, выдвинутых на передний план; существуют и другие чисто механические искажения видимости, проистекающие из устройства фотографического аппарата. Таковы факты; но, конечно, можно противопоставить им тенденцию, заложенную в фотографии и особенно в новейших ответвлениях ее, можно указать на идиотическое стремление современного кинематографа давать уже не копию, а прямо-таки дублет не только видимого, но и вообще чувственно воспринимаемого мира. Нужно помнить, однако, что искусству опасно не то, что его в корне отрицает, а то, что предлагает ему в замене более или менее успешный суррогат. Сахарина за сахар никто бы не принимал, если бы он не был сладок. Когда фотография и кинематограф потеряют всякую связь с искусством, они перестанут быть для него опасными. Беда не в том, что современный фотограф мнит себя художником, не будучи им: беда в том, что он и в самом деле располагает известными навыками и средствами искусства. К тем условностям (а без условностей искусства нет), которые ему предоставляет аппарат, прибавляются те, которых он достигает сам, снимая против света, ночью, сверху, снизу, свободно выбирая снимаемый предмет и произвольно обрабатывая снимок. Во всех этих действиях сказывается его выдумка, его вкус, его чувство «красоты». Все эти действия ведут к изготовлению поддельного искусства.
Уже полвека тому назад художники стали замечать эстетические возможности фотографии. Дега первый воспользовался для своих картин передачей движения, свойственной моментальному снимку, неожиданным вырезом, столь легко достигаемым на пластинке или пленке, и даже некоторыми, невольными для фотографа, колористическими эффектами. С тех пор произошло весьма опасное сближение фотографии с искусством. Если импрессионист изображал вместо целостного мира лишь образ его, запечатленный на сетчатой оболочке глаза, то от сетчатки к объективу не такой уж трудный оставался переход. Если Пикассо и кубисты вслед за ним отказались от всякого «почерка», от всех личных элементов живописного письма, превратили картину в сочетание ясно очерченных плоскостей, равномерно по-малярному окрашенных, то этим они расчистили путь картине, от начала до конца изготовленной механическим путем, к которой как раз и стремится современная фотография. Дело тут, повторяю, не в «списывании» предмета или в отказе от этого списывания; оно исключительно в механических приемах, которые при отсутствии предмета становится еще легче применять. Можно приготовить для фотографирования столь произвольное сочетание неживых вещей, что фотография покажется совершенно беспредметной. Современные фотографы научились достигать самых неожиданных эффектов путем так называемого монтажа или другими путями, дальнейшее развитие получившими в кинематографе. Область фантастического, ирреального для них столь же, а быть может, и более открыта, чем для живописцев. Но в том-то и заключается страшная угроза, что в фотографии уже нет живой природы и одухотворенного человека, а есть лишь механический сколок мира и такие же механические оборотни, лавры, признаки несуществующих вещей. Фотография вытесняет искусство там, где нужен документ, которого искусство больше не дает (например, в портрете); она побеждает его там, где искусство отказывается от себя, от своего духа, от своей человеческой — земной и небесной — сущности. Она побеждает, и на месте преображенного искусством целостного мира водворяется то придуманный, то подсмотренный получеловеком, полуавтоматом образ совершенного небытия.
4
Победа фотографии не может расцениваться с точки зрения искусства всего лишь как успех врага на одном, твердо ограниченном участке битвы. Она для живописи значит то же, что победа кинематографа для театра, торжество хорошо подобранных «человеческих документов» для романа, триумф литературного монтажа для биографии и критики. Дело не в участии тех или иных посредствующих механизмов, а в допускающей это участие механизации самого мышления. Механизация эта есть последняя ступень давно начавшегося рассудочного разложения, захватившего постепенно все наше знание о мире, все доступные нам способы восприятия вещей. Стилистический распад, обнаружившийся в конце XVII века, можно рассматривать как результат внедрения рассудка в самую сердцевину художественного творчества: разложению подверглась как бы самая связь между замыслом и воплощением, между личным выбором, личной свободой и надличной предопределенностью художественных форм. Стилизация тем и отличается от стиля, что применяет рассудочно выделенные из стилистического единства формы для восстановления этого единства таким же рассудочным путем. Точно так же исчезновение из искусства человеческой жизни, души, человеческого тепла означает замену логоса логикой, торжество расчетов и выкладок голого рассудка. Тут все связано, но симптомы всеобъемлющей болезни сказались не одновременно в разных областях. То, что в начале прошлого века отчетли во проявилось в архитектуре и прикладных искусствах, то что отдельные поэты тогда же или еще раньше прови дели в поэзии, то в живописи и в скульптуре (которая не требует отдельного рассмотрения, так как в XIX веке шла за живописью, а в наше время следует за архитектурой), особенно же в музыке не везде в Европе стало ясно еще и к началу нового столетия. Теперь этих колебаний, этих неровностей больше нет. Повсюду ощущается ущерб человечности, утрата стиля; повсюду, не в одной лишь «чистой» поэзии, происходит своеобразное истончение художественной ткани; все тоньше, тоньше — гляди прорвется. Кое-где уже как будто и прорвалась.
В живописи XIX века есть одна знаменательная особенность. С кем бы мы ни сравнивали ее великих мастеров из их учителей или из художников, родственных им в прошлом, мы увидим, что сходство будет каждый раз в другом, а различие может быть выражено одинаково. Делакруа подражает Рубенсу, но отходит от него в том же направлении, в каком Энгр, подражающий Рафаэлю, отходит от Рафаэля. Импрессионисты XIX века тем же самым не похожи на своих предшественников, импрессионистов XVII века, чем не похож декоратор Гоген на декораторов Возрождения или «Милосердный Самаритянин» Рембрандта на «Милосердного Самаритянина» Ван Гога. Можно сказать, что все в XIX веке написано острее, тоньше, умней , как бы кончиками пальцев — не всей рукою — и воспринимается тоже какой-то особо чувствительной поверхностью нервной системы, какими-то особо дифференцированными щупальцами души. Старая живопись обращалась ко всему нашему существу, всем в нас овладевала одновременно; новая — обращается к разобщенным переживаниям эстетических качеств, не свя занных с предметом картины, оторванных от целостного созерцания. Барбизонцы и тем более импрессионисты стремятся передать видимость; Лоррен или Рейсдаль передавали во всей его тайной сложности человеческое восприятие природы. Уже Делакруа и Энгр одинаково предлагают нам, взамен органической полноты Рубенса и Рафаэля, как бы воссоединение химическим путем разъединенных составных частей их творчества. Мане начинает с подражания самому интеллектуальному из старых мастеров, Веласкесу, и сразу же бесконечно опережает его в интеллектуализме. Рисунки Дега или Ван Гога, если угодно, еще духовней, но вместе с тем поверхностней и случайней, чем рисунки Рембрандта, потому что у одного духовность в остроте зрения, у другого — в пароксизме чувства; у Рембрандта она во всем. Для современных живописцев она лишь убыль плоти; для него — всесильность воплощения. Как все великие живописцы старой Европы, он, величайший из них, присутствует всем своим существом во всем самом разнородном, что он создал. Нет замысла для него без целостного осуществления; нет сознания без бытия. И только XIX век научился подменять бытие сознанием.
Развитие здесь начинается с Гойи, а быть может, и раньше; оно отнюдь не закончилось и сейчас. Его позволительно, может быть, сравнить с развитием современных европейских языков (английского больше, чем других) в сторону крайнего упрощения грамматических форм и близкого к «телеграфному» строения фразы, при котором выразительная или гармоническая система старого синтаксиса заменяется запасом коротких формул, четко пригнанных к соответственной им практической потребности. Отличие современной живописи от живописи XIX века в этом направлении почти так же велико, как отличие импрессионистического письма от письма Веласкеса или Хальса. Дерен или Сегонзак несравненно менее конкретны, чем Курбе; Матисс расчетливее, суше и острей любых предшественников своих в минувшем веке; мясистое мастерство Вламенко бесплотнее, т. е. отвлеченнее воздушного гения Kopo. У Пикассо и в его школе картина придумывается, как математическая задача, полагающаяся затем наглядному решению. В недавнем прошлом Сезанн яснее, чем кто-либо другой, понимал опасность механизации, заключенную уже в импрессионизме, и хотел от своего искусства той самой живой полноты, которой не хватало его веку и еще менее хватает нашему. Но Сезанн не был понят: от его здания позаимствовали одни леса, архитектора в нем приняли за инженера и, соединив произвольно отторгнутые у него технические приемы с такими же приемами, односторонне высмотренными у Сера, основали кубизм и все остальные формалистические системы последних десятилетий, захотели искусство превратить в эссенцию искусства и тем самым разрушили вконец исконную его целостность. Внешне противоположны этому течению, но внутренне соотносительны ему и одновременно с ним возникший экспрессионизм, и то искание документа, которому отвечает победа фотографии, но которое в Германии (и отчасти в Италии) породило все же школу так называемой «neue Sachlichkeit», нового объективизма. Когда распадается искусство, то не так уж важно, изберем ли мы для эстетических упражнений опустошенную его форму или сырое «содержание»; а в последнем случае безразлично, поспешим ли мы выставлять вместо картины наше собственное вывернутое нутро или будем выдавать за искусство разрезанную на куски действительность. Эстетические рефлексы так же, как любопытство к людям и вещам, еще и тогда продолжают жить, когда искусство жить не может.
Судьбы искусств — одна судьба. Вспоминаю скромную картину Курбе, годами не находившую покупателя у блестящего парижского торговца. Вспоминаю маленькие пьесы для рояля Шуберта или Брамса, которые многие из нас разыгрывали детьми. На картине изображен морской берег, песок, поросший травой откос и две приземистые детские фигурки на первом плане, как бы рожденные для того, чтобы глядеть на это море, обитать на этом берегу. Никакой литературы во всем этом; только повсюду разлитое человеческое трепетное тепло. Никакой литературы у Шуберта и Брамса, но любая каденция согрета изнутри живым дыханием: молчи и слушай. Так и чувствуешь здесь и там: не видимость сделана искусством и не чередование интервалов; в искусство преобразилась жизнь. Какими холодными кажутся рядом с этим измышления современной живописи и музыки, особенно музыки! Рассудочное разложение сказалось в ней позже, но, быть может, и резче, чем в других искусствах. Недаром мелодия, образ и символ музыкального бытия есть в то же время образ и символ непрерывности, неделимости, неразложимости. Гёте, чей музыкальный вкус был несколько узок, оставил горсть изречений о музыке, более глубоких и точных, чем все, что было сказано после него. К ним относятся гневные, записанные Эккерманом слова: «Композиция , что за подлое слово! Мы обязаны им французам, и нам следовало бы избавиться от него возможно скорей. Как можно говорить, что Моцарт скомпоновал своего «Дон-Жуана»! Композиция , — как будто это какое-нибудь пирожное или печенье, состряпанное из смеси яиц, муки и сахара». Слово удерживалось вопреки Гёте, но он был, разумеется, прав, возражая против применения к музыке слова, по этимологическому своему смыслу гораздо лучше подходящего для обозначения компота и искажающего самую суть того, что должен делать композитор, отнюдь не складывающий свою музыку из отдельных звуков или нотных знаков, а создающий ее как нерасторжимое, во времени протекающее единство, воспроизводящее собственную его духовную целостность. Сверхразумное единство мелодии, чудо мелоса есть образ совершенства не только музыки, но и всех искусств, и в этом смысле верны слова Шопенгауэра о том, что к состоянию музыки стремятся все искусства. Умаление чуда, аналитическое разъяснение его само по себе есть уже гибель творчества.
Вплоть до недавних лет музыкальное творчество подчинялось стилю, созданному работой нескольких веков и столь же не похожему на стиль древнегреческой или китайской музыки, как готический собор не похож на пэстумские храмы. Грамматика этого стиля преподается до сих пор в консерваториях Европы и Америки, но чем дальше, тем больше, — в качестве грамматики мертвого языка, который считают полезным изучать, но которым уже не пользуются в жизненном обиходе. Если же и пользуются, то как любой другой стилистической системой, изучаемой историей музыки, причем останавливаются по преимуществу на какой-нибудь давно прошедшей его ступени, конструируемой, разумеется, условно, так как живой стиль, подобно живому организму, не знает остановок в своем развитии. Современники наши возвращаются к Моцарту или Баху совершенно так же, как писатели поздней Империи возвращались к Вергилию и Цицерону: из пристрастия к чужому языку. Стилизация в музыке, разумеется, так же возможна и в наше время почти так же распространена, как в других искусствах. Как и там, свидетельствует это не о замене одного стиля другим, а об уничтожении стиля вообще, что и позволяет музыканту свою личную манеру составлять из обрывков любых, хотя бы самых экзотических, музыкальных стилей. И точно так же, как в поэзии, в живописи, в архитектуре, утрата стиля оборачивается в то же время ущербом человечности, распадом художественной ткани, наплывом неодухотворенных форм. Разлагается, истлевает не оболочка, а сердцевина музыки.
Гёте и здесь заглянул в самую глубь. «В музыке, — пишет он, — явлено всего полней достоинство искусства, ибо в ней нет материала, который приходилось бы вычитать. Она вся целиком — форма и содержание, она возвышает и облагораживает все, что выражает». Такова музыка в своей силе и славе, но уже XIX век стал протаскивать в нее всевозможный литературного происхождения материал, что, в свою очередь, вызвало реакцию, намеченную уже теорией Ганслика и приведшую к отрицанию и самого содержания, а не только материала, к формализму, нисколько не лучшему, по сути дела, чем вся «звукопись», все «программы», все увертюры «Робеспьер». Неумение отличить духовное содержание (Gehalt), не передаваемое словами, от материального содержимого (Inhalt или Stoff) характерно для музыкальных споров еще самого недавнего времени. Роль изобразительных, иллюстративных приемов в музыкальном искусстве, разумеется, очень скромна; Гёте это понял, он понял, что музыке не нужно никакого внешнего предмета, но он из этого отнюдь не заключил, что она не должна ничего выражать, ни к чему не относиться в духовном мире: то, что она выражает, и есть ее содержание. Содержание это в XIX веке становилось все более непосредственно-человеческим, душевно-телесным, земным, отрешенным от истинной духовности; но отказаться совсем от содержания — значит, собственно, отказаться и от формы: форм без содержания не бывает, бывают лишь формулы, либо совсем пустые, либо начиненные рассудочным, дискурсивным содержанием, как те, что применяются в правоведении или математике. Формалисты, сторонники химически чистой музыки, не заменяют одного содержания другим, а подменяют форму рассудочной формулой и вследствие этого разрушают рассудку недоступную музыкальную непрерывность: не композиторствуют, а и в самом деле варят компот, не творят, а лишь сцепляют в механический узор умерщвленные частицы чужого творчества.
Дробление временного потока музыки с полной очевидностью проявляется впервые у Дебюсси и его учеников. Вместо расплавленной текучей массы, членения которой не преграждают русла, где она течет, у них — твердо очерченные звучащие островки, в совокупности составляющие музыкальное произведение. Импрессионистическая мозаика Дебюсси выравнивается у Равеля в сторону классической традиции (между ними такое же взаимоотношение, как в поэзии между Малларме и Валери), но и для Равеля музыкальное произведение есть лишь сумма звучаний, целостность которой только и заключается в общей окраске, в «настроении» впечатлении». Вся эта школа была реакцией против музыки ложно-эмоциональной, риторически-напыщенной и, в свою очередь, вызвала реакцию, направленную против ее собственного культа ощущений (вместо чувств), против щекотания слуха тонкостями оркестровки и гармонии или, как у раннего Стравинского, пряностями ритма. Однако и это движение не положило конца музыкальному чревоугодию, обращенному, вослед негритянских образцов, даже не к слуху, а к несравненно более низменным восприятиям недавно открытого немецким физиологом Катцем «вибрационного чувства», доступного и глухим. Насильственное упрощение музыкальной ткани продиктовано либо выдуманным классицизмом и ученой стилизацией, либо (как у Вейля) еще более бездуховным обращением к исподним, массовым инстинктам слушателя, чем была старая угодливость по отношению к его индивидуальным гастрономическим причудам. Падение музыкального воспитания, а следственно и вкуса, связанное с механическими способами распространения и даже производства музыки, приведшими к невероятному размножению звучащей ерунды, все более превращают музыкальное искусство в обслуживающую рестораны, танцульки, кинематографы и мещанские квартиры увеселительную промышленность, изготовляющую уже не музыку, а мьюзик — каковым словом с недавнего времени в американском обиходном языке обозначают всякое вообще занятное времяпрепровождение. Истинной музыке, бессильной заткнуть рупор всесветного громкоговорителя, остается уйти в катакомбы, искупить суетливые грехи и в самоотверженном служении вечному своему естеству обрести голоса целомудрия, веры и молитвы.
5
Не было, кажется, идеи, более распространенной в минувшем веке, чем идея господства человека над природой посредством «завоеваний техники». Кое-кто остался ей верен и по сей день, несмотря на ее приведение к нелепости в советской России, где обнаружилось, что победа над природой есть также и победа над человеческой природой, ее вывих, увечье и, в пределе, ее духовная или физическая смерть. Если человек — властитель и глава природы, то это не значит, что ему пристало быть ее палачом; если он — хозяин самого себя, то это не значит, что ему позволено вести хищническое хозяйство. XIX век очень любил слова «организовывать», «организация», но в действиях, обозначаемых этими словами, отнюдь не принимал во внимание истинных свойств и потребностей живого организма (сущность этих действий изображается гораздо точней излюбленным в современной Италии глаголом sistemare). Организаторы государства, хозяйства, жизни вообще и неотрывного от нее человеческого творчества всего чаще насиловали эту жизнь, навязывали ей мертвящую систему, не справившись с ее законами, приводили ее в порядок, — и в порядок как раз неорганический. Природу можно уподобить саду, над которым человек властвует на правах садовника, но вместо того чтобы постригать деревья и поливать цветы, он деревья вырубил, цветы выполол, землю утрамбовал, залил ее бетоном и на образовавшейся таким образом твердокаменной площадке предается неестественной тренировке тела и души, дабы возможно скорей превратиться в законченного робота. В том саду цвело искусство; на бетоне оно не расцветет. Один из парадоксов искусства (области насквозь парадоксальной) заключается в том, что хотя оно и человеческое дело на земле, но не такое, над которым человек был бы до конца и нераздельно властен. Свои творения художник выращивает в себе, но он не может их изготовить без всякого ростка из материалов, покупаемых на рынке. Чтобы создать что-нибудь, надо себя отдать. Искусство – в человеке, но чтобы его найти, надо всего человека переплавить, перелить в искусство. В художественном произведении всегда открывается нечто такое, что в душе автора дремало, оставалось сокрытым и неведомым. В великих произведениях есть несметные богатства, о которых и не подозревали их творцы. Однако богатства эти имеются там только потому, что художник ничего не припрятал для себя, все отдал, всем своим существом послужил своему созданию. Творческий человек тем и отличается от обыкновенного трудового человека, что дает не в меру, а свыше сил; но если он не все свои силы отдаст, то не будет и никакого «свыше». Человек должен вложить в искусство свою душу и вместе с ней самому ему неведомую душу своей души, иначе не будет искусства, не осуществится творчество. Вопреки мнению практических людей, только то искусство и нужно человеку, которому он служит, а не то, которое прислуживает ему. Плохо, когда ему остается лишь ублажать себя порабощенным, униженным искусством. Плохо, когда в своей творческой работе он работает только на себя.
С тех пор как исчезло предопределяющее единство стиля и была забыта соборность художественного служения, освещавшая последний закоулок человеческого быта, искусство принялось угождать эстетическим и всяким другим (в том числе религиозным и моральным) потребностям или прихотям человека, пока не докатилось до голой целесообразности, до механического удовлетворения не живых и насущных, а рассудком установленных абстрактных его нужд. Здание, перестав рядиться в павлиньи перья вымерших искусов, превратилось в машину для жилья, — или в машину иного назначения. Музыка продержалась в силе и славе на целый век дольше, чем архитектура, но и ее вынуждают на наших глазах содействовать пищеварению человеческой особи или «трудовому энтузиазму» голодного человеческого стада. В изобразительном искусстве и литературе все более торжествуют две стихии, одинаково им враждебные либо эксперимент, либо документ. Художник то распоряжается своими приемами, как шахматными ходами, и подменяет искусство знанием о его возможностях, то потрафляет более или менее праздному нашему любопытству, обращенному уже не к искусству, как в первом случае, а к истории, к природе, к собственному его разоблаченному нутру, иначе говоря, предлагает нам легко усваиваемый материал из области половой психопатологии, политической экономии или какой-нибудь иной науки. Можно подумать на первый взгляд, что вся эта служба человеку (которую иные пустословы называют служением человечеству) приводит к особой человечности искусства, ставит в нем человека на первое место, как в Греции, где он был «мерой всех вещей». На самом деле происходит как раз обратное. Искусство, которым вполне владеет человек, которое не имеет от него тайн и не отражает ничего, кроме его вкуса и рассудка, такое искусство как раз и есть искусство без человека, искусство, не умеющее ни выразить его, ни даже изобразить. Изображал и выражал человеческую личность портрет Тициана или Рембрандта в несравненно большей степени, чем это способна сделать фотография или современный портрет, полученный путем эстетической вивисекции. По шекспировским подмосткам двигались живые люди; современную сцену населяют психологией напичканные тени или уныло-стилизованные бутафорские шуты. Искусство великих стилистических эпох полностью выражает человека именно потому, что в эти эпохи он не занят исключительно собою, не оглядывается ежеминутно на себя, обращен если не к Творцу, то к творению, в несказанном его единстве, не к себе, а к тому высшему, чем он жив и что в нем живет. Все только человеческое – ниже человека. В том искусстве нет и человека, где хочет быть только человек.
Художественное творчество исходило в былые времена из всего целиком духовно-душевно-телесного человеческого существа, укорененного в надчеловеческом и сверхприродном, и как раз стиль был гарантией этой одновременно личной и сверхличной цельности. Тот самый процесс культурного распада, что привел к падению стиля, обнаружился и в ущербе этого целостного участия человека в творениях его разума и его души. Все больше и больше в создании статуи и картины, музыкального или поэтического произведения, как и в их восприятии, вкушении, стали участвовать одни лишь эстетические в узком смысле слова, т. е. специализированные, чувственно-рассудочные, относительно поверхностные способности человека, которыми никогда не исчерпывалось искусство в прежние века и которые недостаточны сами по себе ни для творчества, ни даже для восприятия творчества. Искусство шло из души к душе; теперь оно обращается к чувственности или к рассудку. Импрессионизм (во всех областях искусства) был прежде всего сенсуализмом. То, что последовало за ним, или гораздо грубее «бьет по нервам», или приводит к мозговому развлечению, подобному решению крестословиц или шахматных задач. Неудивительно, что в таком искусстве отсутствует самый образ человека; или оно в лучшем случае пользуется, как всяким другим материалом, для своих упражнений, геометрических и иных. Уже для последовательного импрессиониста было, в сущности, все равно, отражается ли цветоносный луч в человеческих глазах или в уличной канаве, и еще менее интересуют современного художника материалы, нужные ему для его беспредметной схематической постройки, где живую природу заменила давно рассудком установленная, отвлеченная «действительность». То, что строит, комбинирует, сочиняет современный музыкант, живописец, стихотворец, искусство ли оно еще? Мы ответим: оно искусство, поскольку не совсем еще стало тем, чем оно становится.
Больше того: даже и став этим новым чем-то, оно сохранит некоторые черты искусства, останется способным потрафлять физиологически-вкусовым, абстрактно–эстетическим ощущениям. В этом, как и в других, еще более очевидных практических целесообразностях, и будет заключаться его служба человеку; оно сумеет услужить , даже и потеряв способность быть славословием, хвалой, высоким человеческим служением . Услужающее искусство без труда отбросит все лишнее, искусственное, расправится с неверным и безвкусным, со всем тем художественным — в кавычках или с отрицательным знаком, — чем был так переполнен минувший век; но от этого оно само положительного знака не приобретет, искусством в полном смысле слова, т. е. творчеством, не станет. Все будет разумно и бесплодно, гулко и светло. Кропите мертвецкую известкой и сулемой — но не в чаянии рождения или воскресения.
Без возмущения совести, без жажды восстания и переворота эта измена творчеству остаться не могла. Но подмена искусства утилитарно-рассудочным производством, сдобренным эстетикой, привела к чему-то, в принципе общепонятному и потому сплачивающему, пригодному для массы, и не так-то легко бороться с тем, чего пользу и удобство докажет любая газетная статья, что одобрит на основании присущего ему здравого смысла всякий лавочник. Эстетические потребности убить нельзя, но искусство убить можно. У человека нельзя отнять зачатков «хорошего вкуса» или вообще вкуса, но его можно отучить от творчества. Уже и сейчас всякий бунт, сознательный или нет, против суррогатов искусства, предназначенных для массы, загоняет художника в одиночество, тем более полное, чем пережитки целостного стиля, здоровой художественной традиции, ранее поддерживавшие его, становятся разрозненней и слабей. Вне этой традиции были одиночками и бунтарями уже все великие мастера прошлого столетия. Правда, германские экспрессионисты, французские сверхреалисты и многие другие группы в разных странах выступали и выступают сообща, но это не отменяет внутреннего одиночества каждого из участников таких сообществ. Даже если художнику удается найти отдельную, годную для него одного традицию, от одиночества его не избавит и она: произвольное ученичество у любого из старых мастеров всегда грозит превратиться в простое подражание, в подсматривание приемов. Подражание такого рода ничем изнутри не отличается от оригинальничанья, хвастовства несходством, стремления выдумать себя. Надо от всех отделиться и всех опередить — таково требование, предъявляемое художнику им самим и теми, кто еще соглашается проявить интерес к его искусству. Еще довольно мастеров, знающих, что искусство не есть благоразумное сочетание приятного с полезным, видящих в нем воплощение духовной сущности; но трагедия их в том, что духовную сущность эту они обречены усматривать только в собственном своем «я», и потому, не умея прорваться сквозь себя, не находят ей целостной плоти, т. е. формы. Сырой материал своего сознания или подсознания они высекают на камне, выворачивают на холст; они жаждут искусства и не умеют отказаться от себя ради его свершения. Художник всегда искал своего, того, что могло открыться ему одному, но он искал его не столько в себе, сколько по ту сторону себя, и потому искание своего не приводило к столь безусловному отвержению чужого. Лишь перелом, обозначившийся в искусстве полтораста лет тому назад, вырыл ров между своим и чужим, постепенно превратившийся в непереступаемую пропасть; и чем она становилась глубже, тем более неуловимым и колеблющимся делалось свое, тем больше сливалось чужое с безличным и всеобщим, с неискусством, одинаковым для всех, всякому приятным и полезным, безвыходно-очевидным и преднамеренно–назойливым.
Судьба искусства, судьба современного мира — одно. Там и тут бездуховная сплоченность всего утилитарного, массового, управляемого вычисляющим рассудком, противополагается распыленности личного начала, еще не изменившего духу, но в одиночестве, в заблуждении своем — в заблуждении не разума только, а всего существа — уже теряющего пути к целостному его воплощению. «Первое условие для создания здорового искусства, сказал Бодлер, — есть вера во всеединство, la foi en l'unite integrale. Она-то и распалась; ее-то и нужно собирать. Искусство и культуру может сейчас спасти лишь сила, способная служебное и массовое одухотворить, а разобщенным личностям дать новое, вмещающее их в себе, осмысляющее их творческие усилия единство. Такая сила, в каком бы облике она ни проявлялась, звалась до сих пор религией.
Глава пятая ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧУДЕСНОГО
И лишь порой сквозь это тленье
Вдруг умиленно слышу я
В нем заключенное биенье
Совсем иного бытия.
В. Ходасевич
1
В письме Китса братьям от 22 декабря 1817 года есть замечательные, много раз пояснявшиеся и все еще недостаточно оцененные слова о том, что так торжественно, с больших букв он назвал Отрицательной Способностью. Ею, говорит он, в высочайшей степени обладал Шекспир, но известная мера ее необходима всякому поэту. Тот, кто ею наделен, «способен пребывать в неопределенности, тайне, сомнении без того, чтобы нетерпеливо искать фактов и разумных оснований». Всякое ее ослабление — для поэзии — ущерб. «Кольридж, например, нет-нет да и упустит какой-нибудь прекрасный и правдивый образ, почерпнутый им в сокровищнице глубочайших тайн, как раз по неспособности своей удовлетвориться полуправдой». Китс прибавляет, что размышления эти, если их продолжить на целые тома, привели бы, вероятно, только к той истине, что «для великого поэта чувство красоты побеждает всякое другое соображение, или, верней, отметает соображения»; но тут он уже не прав: свою мысль он оценивает слишком скромно. Если ее можно было бы свести к одной лишь этой последней формуле, она значила бы не много; на самом же деле значение ее очень велико — и для понимания поэзии, да и всего искусства вообще, и для уразумения особого положения их во время Китса, в наше время и в течение всего отделяющего его от нас столетия.
Отрицательная Способность, умение пребывать в том, что здравому смыслу кажется неясностью и что «Просвещение» объявляет темнотой, в том, что представляется безрассудным и противологическим с точки зрения рассудка и логики, но, быть может, окажется превыше рассудка и по ту сторону логики, с точки зрения более общей и высокой, способность эта гораздо более исконна и насущна для поэта, для художника, чем все то, что можно назвать чувством красоты, чем все, что связано с Красотой как отвлеченною идеей, не способной вместить своей противоположности. Прежде всякого вкуса и умения выбирать, прежде предписанного Пушкиным «чувства соразмерности и сообразности» художник должен обладать даром созерцать мир и каждую его часть не в аналитической их расчлененности и разъятости, но в первозданной цельности нетронутого бытия, где сложность не мешает простоте и простота в себя включает сложность. Дар этот, конечно, и имеет в виду Китс, когда говорит о своей Negative Capability, и отрицателен он лишь в отношении отказа от той другой, расчленяющей, научно-технической способности и потребности, оттого «irritable reaching after fact and reason», что, переступая положенный ему предел, способно лишь умертвить искусство и поэзию. Эту разрушительную силу «трезвого рассудка» Китс почувствовал один из первых, вместе с нашим Баратынским, хотя ее пророчески постулировала уже историософия Вико; почувствовал, потому что в его время и вокруг него проявились наглядно заключенные в ней опасности, и по той же причине в отрицаниях пожелал определить — как умение от чего-то отвернуться, чего-то избежать — величайший дар, без которого нет и не может быть поэта.
На самом деле Отрицательная Способность вполне положительна и пользоваться ею отнюдь не значит «удовлетворяться полуправдой»; это значит познавать правду, непознаваемую без ее помощи. Нет сомнения, что она вполне совместима с весьма высоким уровнем отвлеченного логического мышления. Никто не вправе считать Данте или Гёте меньшими поэтами, чем Шекспир, на том основании, что они умеют ПОΣIN ЛОГОΣ, а не только MYθ (Plat-Phaed 61 b), да и в мышлении самого Шекспира, разумеется, не отсутствует вполне элемент дискурсивный и логический, хотя бы потому, что без этого элемента вообще не может обойтись никакой человеческий язык. Зато когда Сократ в той же главе «Федона» говорит о себе, что он мифами не мыслит и мифов не творит — AYTOΣ OYK MYθ ОЛОГIKOΣ, — он тем самым, отказываясь от конкретного миросозерцания и выражающего это созерцание конкретного языка, отказывается и от искусства, и потому вполне последовательно именно к нему обращена в другом диалоге простодушная, но все же и глубокая жалоба Гиппия: «Ты и твои друзья, с которыми ты привык разговаривать, вы вещей в целом не рассматриваете, но отхватываете и толчете и прекрасное, и все остальные вещи, раздробляя их в речах. Оттого-то от вас и ускользают такие прекрасные и по природе своей цельные тела существ» [16]. Когда бедного Гиппия окончательно победит Сократ, человечество разучится видеть «вещи в целом» и, значит, лишится искусства, да и перестанет в нем испытывать нужду. После Ницше всем должно быть ясно, что значила даже и частичная победа Сократа для судьбы греческой трагедии, греческого искусства, да и античной культуры вообще. Несомненно, с другой стороны, что развитие дискурсивного, расчленяющего мышления не только, как мы видели, в известных границах с искусством совместимо, но и в этих границах ему нужно, что многие виды художественного творчества вне этого развития немыслимы. И все же если под прогрессом разуметь медленно подготовляющееся торжество рассудка над всеми другими силами человеческого существа — а только в таком понимании захватанное это понятие обретает смысл, отвечает реальности исторического или даже биологического развития, — то нужно признать заранее неизбежным наступление момента, когда прогресс, хотят ли этого, сознают ли это его носители или нет, станет врагом искусства, как и врагом культуры вообще, которую он будет пытаться заменить научно-технической цивилизацией. На вопрос Баратынского:
Пусть молвит: песнопевца жар — Смешной недуг иль высший дар? —у всякого последовательного и искреннего сторонника прогресса ответ давно готов. И если то, что логически противостоит прогрессу, называть реакцией, то неизбежно должен наступить момент, когда всякий художник, не согласный изменить своему призванию, сам себя объявит или будет объявлен реакционером.
Положительно определить установленную Китсом Способность можно, сказав, что она состоит в умении видеть мир чудесным, в умении различать чудесное. Некогда умение это казалось вполне обычным и отчетливо не сознавалось даже теми, кто был им всего богаче одарен. Между воображением поэта и простого смертного различие было в могуществе, в остроте, но не в самом его внутреннем составе. Лишь когда пробил неизбежный час, и как раз потому, что он пробил, Китс мог быть до такой степени потрясен открытием своей особности, своего родства с Шекспиром, необщих свойств, присущих обоим им, а также опасностью, какую представляют требования нетерпеливого рассудка даже для такого огромного дара, каким был дар Кольриджа. Чудесного, которое он видел, в которое верил, уже никто не видел вокруг него. Чудесное это нельзя сказать чтобы непосредственно противополагалось тому, что зовется «законами природы», но оно не могло не идти вразрез с тем научно-техническим познанием, с тем рассудком и прогрессом, которые были направлены к уловлению этих законов и практическому их использованию. Чудесное просвечивало сквозь покров научного, физико-математического мира, подобно тому, как еще и сейчас солнце восходит и заходит над неподвижною землей, вопреки открытию Коперника. Творческое усилие поэта, художника — это понял Китс — должно было отныне прежде всего быть направленным на то, чтоб в этом чудесном мире жить, воздухом его дышать: в воздухе рассудка и прогресса поэзия могла только задохнуться. После Китса это если не поняли, то почувствовали все — все, кто не довольствовался здравым и полезным, все, кому случилось хотя бы тосковать по Отрицательной Способности. Все искусство XIX века проникнуто борьбой за возрождение чудесного, за отвоевание его у враждебных сил и в конечном счете за утверждение свободы человека вопреки наваждению исторического или биологического рока, грозящего отнять у него самое священное его право: творчество. Разве не нужно было вернуть Европе данное ей Достоевским имя «страны святых чудес»? Если бы не заблуждения, не слепота относительно общей цели, столь повредившие этой борьбе, можно было бы озаглавить историю ее, как современник крестовых походов озаглавил свою летопись: De Recupera tione Terrae Sanctae.
Заблуждения и слепота происходили от недостаточного понимания того, что мир, открывающийся искусству, мир, из которого оно только и черпает свою жизнь, есть в то же время мир религиозного опыта и религиозного прозрения. Что, собственно, было потеряно, этого не понимали, зато тем неизбежнее казался открытым для искусства только один широкий и ясный путь: назад. Большинство художников девятнадцатого века из тех, что пытались противиться рассудочному разложению собственного творчества, были реакционерами не только в смысле ясно или неясно выраженного отрицания прогресса, но и в смысле простейшего стремления вернуться вспять, оказаться на одной из более отдаленных ступеней пройденного уже развития. Сюда относятся все разнообразные, многочисленные и все умножающиеся за последнее время примитивизмы — от романтических подражаний народной поэзии до отплытия Гогена на Таити, от немецких назарейцев и английских прерафаэлитов до новейших поклонников пещерной живописи, негритянской скульптуры и первобытно-атональной музыки. Все эти явления, как бы пестры они ни были, имеют общую основу и не должны быть смешиваемы с простодушными забавами и приправами экзотики — например, китайщины XVIII века. Примитивизм отвечает гораздо более глубокой и трагической потребности; он знаменует бегство художника из своего времени в другое, открывающее ему доступ в мир, который иначе был бы для него закрыт. Правда, за беглецом гонится по пятам отвергнутое им время, спасение его рано или поздно всегда разоблачалось, как иллюзия, но все же прошлый и наш собственный век нельзя понять, не учтя глубокого значения, какое имели эти попытки бегства. В послевоенные годы они разрастаются с особой, судорожной быстротой, захватывают все новые области художественного творчества. И уже не только в порядке обращенного филогенезиса совершается искусственный возврат; поворачивают вспять и онтогенезис, пытаются вернуться не только к первобытному состоянию человечества, но и к ранним ступеням индивидуального человеческого бытия, как об этом свидетельствует интерес к искусству детей и к чертам детскости в любом искусстве. В основе это – тот же старый примитивизм, но тут проявляются всего чаще наиболее глубокие его стороны. Характерно, что современной литературе (в этом отношении она опередила остальные искусства) решительно претят все его сколько-нибудь экзотические, прикрашенные разновидности. Она уже не думает об освежении и подновлении: только о возврате. Писатель не ищет, как Стивенсон, полинезийских вдохновений, не охотится за чудом по горам, пустыням и морям. Он знает, что еще многое можно найти в недалекой деревне, в захолустном городке родной страны. Он знает, что на дне его собственной души еще дремлет потонувший мир и его забытая свобода. То чудесное, которого он искал в чужом и дальнем, — он его ищет в себе или вокруг себя. И он ищет его не для того, чтобы прибавить нечто к тому, что у него есть и так, а для того, чтобы вообще прорваться как-нибудь к искусству, для того, чтобы сохранить в себе художника.
2
Ни о чем так горько и светло не вспоминает безвозвратно взрослый человек, как о потерянном рае своего детства. Нет памяти более живой среди людей, чем та, что питает мечту о золотом веке, о младенчестве народов, о счастливой колыбели человечества. Все религии сулят возвращение к вечному истоку и началу истории уподобляют ее конец. Но вера колеблется, и память непостоянна: есть времена, когда все растворяется в настоящем, и другие, когда настоящее исчезает в неуловимом промежутке между прошлым и будущим. Наше собственное время прослыло «переходным», а это и значит, что настоящее представляется ему не преходящим только, но и призрачным. Мы гадаем о завтрашнем дне и как раз, Должно быть, потому с новой силой помним о вчерашнем. Чем отвлеченней становится наше знание и расчлененней наши чувства, тем упорнее мы тоскуем по первозданному единству созерцания и опыта. Чем рассудочней и формально заостренней искусство, окружающее нас, тем сильней тяготеем мы к простодушной цельности первобытного младенческого искусства. Чем реже мы находим в литературе воображение, жизнь и свободу, все то, что называют вымыслом, тем чаще нас тянет назад, к тем книгам, какими мы зачитывались в детстве; и не только к Гулливеру или Дон Кихоту, но и к самым скромным из их старых соседей по полке — в коленкоровом переплете с рваным корешком и давно почерневшим золотым тиснением.
Чистый вымысел еще не искусство, но вечно детское именно в нем и в нем же вечно необходимое искусству. Его стихия, его искони неизменное существо, быть может, никогда не проявлялось с такой обезоруживающей очевидностью, как в памятных многим из нас плоских и чарующих вымыслах Жюля Верна. Книги его — вне литературы и неподвластны законам мастерства. Если отвлечься от небольшого числа постоянно повторяющихся ребяческих приемов, ничего в этих книгах не найти, кроме совершенно свободного излучения фантазии. Вымыслу дана воля; он беспрепятственно рисует свой узор. Чем он пользуется для этого — не так важно. Люди условны: герой, ученый, чудак, злодей; от них требуется только, чтобы они казались знакомыми, усваивались легко, дабы ничем не мешать развитию воображаемого действия. Действует, в сущности, не герой, а подставляемая на его место личность автора, пока он пишет роман, личность читателя, когда он этот роман читает. Вот откуда то поглощающее, беспримесное удовольствие, какое доставляло нам в детстве чтение Жюля Верна, удовольствие углубленное, но и обузданное позже в восприятии художественного произведения. Воображение детей по своей природе ограниченно — скудостью материала; но оно не ставит себе никаких границ, не подчиняет себя никакому заранее усмотренному единству, никакой цели, никакой осознанной причинности. Точно так же устроено и воображение Жюля Верна, и как раз потому оно имело над нами такую власть.
Можно возразить, что воображение Жюля Верна, как и фабула его книг, обусловлено, направлено наукой. На самом деле, однако, наука у него ничего не предрешает, ничему не навязывает своей необходимости (как это происходит у Уэллса и отчасти у Эдгара По); она лишь новое «правило игры», делающее игру сложнее и забавней, но так же не подчиняющее ее предписаниям рассудка, как и искусу художественного творчества. Дети умеют упорядочивать свои фантазии и, однажды вообразив себя охотником на львов, представлять себя в Африке, а не в Гренландии; но организовать такое представление в замкнутое целое, живущее в себе и для себя, переродить его из мечты, освобождающей мечтателя, в мечту, связывающую его законами ею же воздвигаемого мира, — этого дети не умеют и этого не умел Жюль Верн. Книги его не искусство, но они и не подделывают искусства. Щедрость выдумки, свежесть воображения, чистота линии, по которой с ребяческой неудержимостью оно устремляется вперед, — волшебство их только в этом. Волшебство это обращается к детям и дает пищу самой насущной их потребности, но никакая литература не обойдется без него, и его-то как раз слишком мало и становится в литературе современной, такой отяжелевшей, несвободной, обремененной всяческой достоверностью и дословностью. Характерно, что именно здесь, на задворках ее, только и мог таким странным способом, посреди столь чуждого ему столетия, воскреснуть неожиданный, глубоко забытый и все же бессмертный мальчуган. Воскресив в себе воображение ребенка, Жюль Верн сохранил его до седых волос. Другие лишь изредка обретали его; в полуобмороке или во сне приобщались Утраченному блаженству. Так, в самой гуще все того же хлопотливого и громоздкого XIX века родилась «Алиса в стране чудес», зачатая летним днем жадным вниманием детей и сладостным усыплением рассудка. Математики любят писать стихи — вроде тех, что профессор Коробкин сочиняет в романе Андрея Белого; их тешит незатейливая игра слов, они придумывают каламбуры, прибаутки, слагают полубессмысленные рифмованные присказки. Мысль, утомленная очень точной, очень напряженной работой, стремится к отдыху и находит его не в полном бездействии — да оно и невозможно, — а в непроизвольной, или почти непроизвольной, без всякого усилия протекающей игре, не связанной никаким направлением, приданным ей заранее, никаким логическим законом. Отдых возвращает ученому детство, от которого в своих вычислениях он был так бесконечно отдален. Оксфордский математик и сам не знал, куда его завлек однажды освобожденный вымысел. Его опыт был глубже и полней, но отрывочней опыта Жюля Верна. Отдаваясь вымыслу, он делался поэтом, но при первом сопротивлении оказывался снова лишь трезвым чудаком, и Льюис Кэрролл превращался в педантического профессора Доджсона, ведшего счет всем своим письмам, которого смерть застигла за номером 98 721. Последовательней и осторожнее, чем он, был старый сказочник Андерсен, которого называют поэтом детей, но которого правильнее было бы назвать поэтом благодаря детям.
Любил ли Андерсен реальных, живых детей — вопрос спорный; писал ли он, думая в глубине души, что пишет именно для них, — это тоже, скорей, сомнительно. Можно утверждать, что не только сказку о тени, ставшей двойником, или о Гадком Утенке, этом символе поэта, но, быть может, и никакую другую из его сказок до конца дети не поймут. Зато несомненно, что Андерсен продолжал бы писать такие же посредственные книги, какие писал в молодости, если бы тридцати лет от роду не понял, что ему надо учиться у детей: учиться их языку, их восприятию сказки, учиться поэзии не сознаваемой, но творимой ими, и беспрепятственному преодолению действительности, вполне доступному только им. Он учится у них не для того, чтобы приспособить к их пониманию свою поэзию, свое искусство, а для того, чтобы вырвать у них тайну их собственной поэзии, единственно требуемой творческим его духом, но неосуществимой без их участия. Он вслушивается в их слова, не чересчур подчиненные рассудочной последовательности; он старается понять законы или, вернее, беззаконность их воображения; он восхищается столь естественной для них легкостью скачка их царства необходимости в другое, безграничное, беззаботное царство вымысла. В прелестной сказке «Уличный фонарь», где небесный свет, занесенный в фонарь звездой, не может проявиться вовне за отсутствием сальной свечи, он выразил муку творческого человека, не находящего пути к осуществлению своего творчества. Сам он этот путь нашел: фонарной свечкой для него послужили дети и детство.
Всю жизнь Андерсен промечтал над тем, как враждует жизнь с мечтою, как действительность и вымысел делят между собою мир. Ученик детей младенцем не стал; он стал поэтом. Тонкая трещинка никогда не закрылась для него между бессмертным миром поэзии и человеческим миром жизней и смертей. Об этой трещинке только и говорят все самые глубокие его сказки; все, чему он научился, все его искусство – только нежная и плотная ткань, скрывающая ее от собственного его зрения. То поэзия, даже искупив себя страданием, не может стать жизнью, как в «Русалке»; то, как в «Гадком Утенке», она сама не знает о себе; то превращается в корыстную выдумку о голом короле или в свою противоположность, самодовольную ложь двойника, выросшего из тени. Андерсен никогда не идилличен и очень редко предается беспечной радости повествования. Его сказки подернуты едва заметной дымкой печали, мудрости, иронии; во всех присутствует поэт, поэт, уже познавший себя, как Гадкий Утенок в конце сказки, но которому тем мучительней в этом мире – как его Русалочке – каждый шаг.
Это не младенческое простодушие Жюля Верна, не полуслучайное наитие Льюиса Кэрролла. Если не умом, то инстинктом Андерсен знал, чего хотел. Соприкосновение с вечно детским было решающим опытом его жизни, но, окунувшись в эту стихию, он в ней не утонул, и как раз потому его пример особенно поучителен. Путь его был одинок в литературе минувшего века; зато в наш век многие начинают идти по этому пути. Литература, да и сама жизнь никогда еще не были так далеки от всякой непосредственности и природности; но чем старше становится человек, тем чаще вспоминает он о своем детстве, и чем дальше уходит литература от своих истоков, тем больше растет потребность к этим истокам ее вернуть. Это не значит, что к ней нужно приставить няньку и что ее хотят запереть в детскую, это значит только, что ее склоняют хоть немного подышать тем воздухом, которым она — как и мы все — дышала в детстве. Вот почему все чаще повсюду в Европе в литературные герои избираются дети, или по крайней мере — как в романе Розамонды Леман, который потому ей так исключительно и удался, потому так быстро и прославился, — совсем юные, не сложившиеся, не отвердевшие существа с не предрешенною еще судьбою, способные выбирать, способные меняться, способные пересоздать самих себя. Только с ними, избегая житейского, можно все-таки творить живое, только с их помощью достижимо то редчайшее в современном романе, что называется всем известным, но плохо понимаемым словом приключение .
Приключение возможно лишь в тех же условиях, в каких возможен вымысел, т. е. лишь там, где есть непредвиденность, выбор и свобода. Детерминизм (все равно психологический, социальный или бытовой), давно уже проникнувший в самую глубь современной литературы, не допускает идеи приключения. Менее всего допускает ее так называемый «авантюрный» (т. е. чаще всего уголовный) роман, построенный, как ребус или как задача на приведение к логарифмическому виду. Но и знаменитое предписание Чехова насчет того, чтобы «все ружья стреляли», слишком стесняет свободу замысла и приключению грозит войной. У Шекспира и Сервантеса, у Гоголя и Толстого вовсе не все ружья стреляют; подлинное приключение, где бы оно ни возникало, во внешнем ли мире или в душевной глубине, никак не может логически вытекать ни из предшествующих событий, ни из характера действующего лица, с которым оно случается. Если оно и вызвано какой-то необходимостью, то, по крайней мере, при возникновении своем оно должно казаться нечаянным и свободным. В поисках этой свободы и обращаются писатели все чаще к миру детей и, значит, к памяти и опыту собственного детства. Не надо думать, что это приводит их к банальному умилению и благонамеренной слащавости. О детях написал свою лучшую, неожиданно глубокую книгу Кокто («Les Enfants terribles»); о детях почти исключительно пишет один из одареннейших английских писателей младшего поколения, Ричард Хыоз, и «The High Wind of Jamaica» — книга, полная отравы, книга отнюдь не для детей, но книга, автор которой — поэт, именно потому, что умеет смотреть на мир глазами детства. В детстве или, лучше сказать, в отрочестве могут быть безумие и горечь, это очень хорошо видят и Кокто и Хьюз, но оба как бы страшатся за своих героев предстоящей им трезвой и тусклой взрослости. То же самое можно сказать и о лучшем, что дала литература этого направления в новом веке, о «Le Grand Meaulnes» Алена Фурнье, книге, вышедшей незадолго до войны, написанной совсем молодым и уже в 1914 году убитым автором, удивительной книге, где кажутся пленительными даже недостатки, даже какая-то особая предрассветная бледность языка, где два деревенских школьника живут в самом обыденном и все же волшебном мире, игрой и мечтой определяют всю свою дальнейшую жизнь, исполняют взрослыми людьми свои ребяческие клятвы и всей судьбой, всей кровью отвечает за то, чему они поверили детьми.
Раз прочитав роман Фурнье, его хранишь в душе как память о том, чего не было и что все-таки было, о раннем утре, прожитом на нашей, все на той же, и уже не той, земле, не принаряженной для праздника, но преображенной незаметно и вдруг восставшей перед нами во всей своей забытой чистоте. Честертон сказал, что если хочешь вкусить хоть малую радость, надо узнать сперва неуверенность, боязнь, надо испытать «мальчишеское ожидание». От этих чувств современная литература нас почти что отучила. Большинство тех книг, что пишутся вокруг нас, подменяют живой опыт лабораторным экспериментом и человеческую свободу механическим предвидением. Их авторы — отличные гармонизаторы и контрапунктисты; они забывают одно: никакой математикой не расчленимую мелодию. А между тем ради нее, ради того, чтобы о ней вспомнить и ее вернуть, и вместе с ней — неразрывно с ней связанный утраченный волшебный мир, можно пожертвовать очень многим. Ради нее, ради чуда, осуществляемого ею, уже вернулся Фурнье и возвращаются многие вслед за ним к вымыслу, к свободе, к детству; или, вернее, через возвращение к детству стараются вернуть свободу вымысла. И, следуя их примеру, должно быть, многие еще откажутся от ненужных преимуществ и обременительных богатств, от всевозможных умений и совершенств, только бы услышать еще раз забытый и простой напев, только бы выйти снова на желанный путь и постучаться в дверь потерянного рая.
3
Подобно памяти о детстве человека, есть память о детстве человечества. Подобно общению с детьми, возможно общение с людьми, оставшимися верными земле, не оторвавшимися от завещанного веками жизненного уклада. Чем дальше уходит культура от органической современности человека и природы, от конкретной природной самого человеческого существа, чем скорей превращается она в научно-техническую цивилизацию, тем сильнее становится желание вернуться к раннему возрасту ее, воссоединить разъединенное, вернуть исконную цельность распавшемуся по частям, восстановить расторгнутый союз с небом и землею. Чем сознательней и целесообразней, а значит, внутренне бедней становится человеческое творчество, тем больше оно тоскует по старому простору, вещей драме и жизненной полноте. Перед угрозой механизации нередко творческий человек если одичания не хочет, то все же – опрощения.
Слово это весьма прочно связано для нас с народничеством конца минувшего столетия и особенно с проповедью Толстого. Можно, однако, придать ему более широкий смысл. Тягой к опрощению можно назвать все то стремление из города в деревню, от цивилизации к природе, от аналитической сложности современной жизни к первобытной нерасчленности и подлинной или мнимой простоте, которое то громче, то заглушенней проявляется в европейской культуре от Руссо и немецких романтиков до наших дней и в обновленной форме распространилось вновь за последние годы, до конца обнажив при этом истинный свой смысл. Опрощение в русском понимании его, как и все русское народничество, корнями своими уходит в эту общеевропейскую традицию, да и оставалось с нею связано до конца в самых представлениях, свойственных ему о народе, и о приближении к народу. Оно получило, однако, особую моральнополитическую окраску, которая на Западе во всякое время была слабее и которой оно вовсе лишено теперь. Характерно, что в России, стране крестьянской, помещичьей, в очень малой мере промышленной и городской, явление это носило характер нарочито принципиальный, тогда как на Западе чем Дальше, тем больше оно получало черты явления стихийного. В первом случае, к тому же, ударение ставилось на понятии «простого народа» (в противоположность образованным и зажиточным сословиям), тогда как во втором оно падало на понятие народа деревенского и вообще деревенской жизни в противоположность жизни городской. Правда, у Толстого, да и у народников иногда, эти две точки зрения не слишком различались: в толстовском опрощении были явные элементы «бегства из города», «возвращения к земле», менее осознанные, чем нравоучительная проповедь лаптей и рубахи, как раз по причине не принципиального, а стихийного их характера. Но с настоящей и сознательной силой такого рода противогородские и землепоклоннические стремления проявлялись у нас уже после революции, у Есенина, у Леонова (особенно в его «Воре»), пока их не придушила советская власть при переходе к решительной индустриализации деревни.
В современной Европе (и Америке) тяга к земле есть прежде всего порождение усталости от все менее отвечающего истинным человеческим потребностям городского быта. Тягу эту оправдывают промышленными затруднениями разных стран, необходимостью бороться с безработицей путем возвращения к сельскому хозяйству и многими другими специальными и практическими соображениями, но существует она независимо от них. Нередко исходя из ее наличности пытаются обосновать или укрепить целую идеологию в области политической и социальной, но всегда оказывается существенней, чем все эти теоретические «надстройки», сама волна, вынесшая их на своем гребне, которую они не в силах до конца осознать и выразить в себе. Всего ощутимее она — как всякое предвестие будущего — в литературе и в искусстве; да это и не удивительно, так как условия жизни, созданные городской цивилизацией, затруднительны прежде всего для литературного и художественного творчества, которое первое поэтому силится от них освободиться. Движение, совпадающее с самыми истоками романтизма и никогда не умиравшее за весь минувший век, углубляется на наших глазах, обнаруживает ранее затемненную свою сущность. Художник ищет в деревне не подвига, не исполнения мечты, даже не материала для своих творений, но другого, более необходимого еще, чего он так часто не находит в городе; он ищет самого себя.
В XIX веке деревенский роман, деревенская новелла оставались чаще всего созданиями городской литературы, ищущей праздничного отдыха и «новых впечатлений», были идиллией, или мелодрамой, или попытками прозаического эпоса, пока не сделались очередной добычей реалистических протоколов и инвентарей. Во французской, в английской литературе деревня описывалась чаще всего людьми внутренне ей чуждыми, искавшими в ней привлекательной или отталкивающей экзотики, – счастливого дикаря Руссо или троглодита позднейших натуралистов. Даже Гарди, всю жизнь проживший в деревне, в известном смысле не составляет исключения: она для него — опытное поле, где более свободно могут развиваться страсти его глубоко городских, глубоко искалеченных городом людей. Иначе обстояло дело в славянских, в скандинавских литературах, отчасти в немецкой, но и тут не произошло еще к тому времени окончательного раскола между жизнью деревенской и городской, или все же «крестьянская доля» интересовала литературу с точки зрения описательской скорее, чем писательской. Перелом для всей Европы совпал с ущербом натуралистической эстетики, а вызван был ускоренным развитием технической цивилизации и последствиями ее, особенно резко обнаруженными войною. Теперь уже не охота за материалом влечет писателя к деревенской жизни, а жажда человеческого содержания и живого смысла, которые иначе ускользают от него, иначе говоря, сама его творческая потребность, которую все меньше удовлетворяет механизированная городская жизнь. То, что он находит в деревенской или даже просто провинциальной обстановке — цельность характеров и страстей, ощущение иррациональных сил и связей, — он пытается противопоставить бесконечно разветвленному психологизму современной литературы, той крайней дифференцированности и осознанности душевной жизни, что грозит атомистически распылить всякую форму, в какой пытаются дать ей выражение. Ничего общего с «попюлизмом» и другими политического происхождения поветриями нельзя найти в этом бегстве к «отсталому», на самом же деле к забытому и вечному, к первобытной жизненной стихии.
Литературное опрощение, к которому все это приводит и которое наблюдается повсюду, где ему не мешают какие-либо внешние препятствия, отнюдь не есть тяга к элементарному, к азбучным истинам, к дважды два — четыре; это есть возврат к нерасчлененной сложности человеческой души и судьбы, которую писатель хочет передать в ее цельности, а не разложить на составные части, полагая, что именно аналитические действия приводят в конце концов к простоте отвлеченных единиц, с которыми искусству делать нечего. Точно так же, лишь на самый поверхностный взгляд можно тут усмотреть поворот к старому реализму или натурализму; все усилия направлены, наоборот, к восстановлению разорванной связи между поэзией и правдой, между жизнью, какой она есть, и жизнью, преображенною искусством, между реальным человеческим существом и его образом в художественном произведении. Писатель избирает жизнь, не до конца разъятую рассудком, потому что ее он еще в силах преобразить, пресуществить; ведь и для церковного таинства требуется хлеб и вино, а не продукты цивилизации: нитроглицерин или цианистый калий. Жажда жизни природной, единственно достойной человека, и созерцание ее подавленности в современном мире — вот основной источник творчества Кнута Гамсуна. Сходное чувство вдохновило исландского замечательного романиста Гуннарсона, а Сигрид Унсет привело к могучему воссозданию сурово-патриархального средневекового северного мира. Можно сказать, что и вообще в скандинавской литературе мотивы такого рода сейчас господствуют. Прекрасный финский писатель Ф. Э. Силланпэ, сам крестьянин, рисует деревенскую жизнь с беспощадной трезвостью, но и в самой темной, самой горькой судьбе, изображенной им, всегда мерцает тайный, рассудку непрозрачный смысл, все чаще забываемый городскими людьми и городской литературой. Не менее трезв, даже несколько груб и уж всякого полета совершенно чужд баварский, несколько напоминающий его, хотя и очень своеобразный романист (ныне эмигрант) Оскар Мария Граф, мало известный еще за пределами Германии, но и его люди в землистой плотности своей врастают в жизнь и в смерть совсем не как иные, развоплощенные, проанализированные дотла человеческие тени. И под другим небом провансальские пастухи и виноделы Жионо древним своим бытом и языческой душой привязаны к земле, живут землею, молятся земле, как будто нет на свете миллионами людей начиненных городов, кричащих вывесок, грохочущих машин и рыкающих рупоров радиотелеграфа.
«Мир, это земля — леса, поля; надо возделывать их из года в год и этим жить. Крестьянин первым был в мире и последним в нем останется». Изречение это (правду которого не надо понимать чересчур буквально) взято из романа «Тяжелая кровь», автор которого Карл Генрих Ваггерль в первой своей книге «Хлеб» сложил славословие крестьянскому труду как самому законному, самому священному делу человека. Характерно при этом, что Ваггерль, оторванный от своей бедной деревенской семьи сперва службой в городе, а потом войной, и ставший писателем главным образом благодаря чтению Гамсуна, в своих книгах одинаково далек от сентиментального умиления и от реалистического смакования бытовых деталей. Деревенскую жизнь видит он не извне, а изнутри, не в подробностях, а в целом; его увлекают не те или иные обнаружения или условия ее, а довременный смысл, сквозящий в ее от века установленном порядке, в чередовании ее трудов и дней. Целая плеяда современных немецких писателей, от старших Штера и Гризе до недавно прославившихся Вихерта и Блунка, объединена этим возвращением к земле, к крестьянскому, рыбачьему, охотничьему быту, к провинциальным, еще сохранившимся мирам с их местными особенностями, с их диалектизмами окрашенной речью, а вместе с тем и к манере повествования — более ровной и спокойной, слегка приподнятой, почти торжественной иногда, возвращающей роман к забытому ритму эпической поэмы. В Германии этому содействует, конечно, никогда не умиравшая и более могущественная, чем где-либо, традиция, к которой принадлежали в минувшем веке Готфрид Келлер и Теодор Шторм, Адальберт Штифтер и Иеремия Готтгельф. Одними лишь местными условиями, однако, всей мощи этого движения объяснить нельзя. Недаром еще раньше, чем здесь, оно проявилось, как мы видели, в скандинавских странах, где та же Унсет или еще Олаф Дуун обнаруживают такое же влечение к эпическому тону и темпу, к широкому разливу плавного повествования. Недаром отдельные, независимые одно от другого проявления его всплывают с переменною силой по всей Европе. И если в Германии ему усердно покровительствует нынешняя власть, то это приводит нередко к досадным преувеличениям и промахам, но не лишает его оправдания и жизненной основы, не меняет того факта, что первичным остается — здесь, как и повсюду, — именно оно, а не выводы, какие могут из него извлечь те или иные социальные учения и политические партии.
В полярном противоположении, проводимом обычно между немецкой и французской литературой, доля истины, может быть, и есть, но если так, то по общности какого-нибудь явления для той и другой можно судить о всеевропейском его характере. В этом смысле показательно уже и многолетнее пребывание Жамма в родном Ортезе, верность своей провинции таких писателей, как Анри Пурра или Поль Казен, внимание, уделяемое все чаще Гийомену, Ле Руа, т. е. авторам чисто «региональным». Несравненно показательней еще та тяга к провинциальным людям и провинциальному быту, какую проявляют, например, Жюльен Грин и Марсель Жуандо, т. е. как раз романисты, создающие особые, замкнутые в себе миры, населенные такими же упрямо своеобычными людьми, или, наконец, Франсуа Мориак, сам объяснившийся на этот счет в своей книжке о «Провинции»: где же им иначе искать те цельные души, глубокие чувства, упрямые страсти, без которых их искусство не может обойтись. Человека в нерасщепленном еще единстве его личности они ищут здесь, и мир, еще знающий законы и границы. Лучше сказать нельзя, чем недавно сказал Клодель: «В мире, где ни у чего нет ни да, ни нет, где отсутствует закон разума и закон морали, где все позволено, где не на что надеяться и нечего терять, где зло не несет наказания и добро награды, в таком мире нет драмы и нет борьбы, потому что нет ничего, ради чего стоило бы бороться». Из этого мира и должен бежать писатель, если он хочет построить драму или на драматическом конфликте построенный роман. Примеры такого бегства бесчисленны во французской, в итальянской, в испанской, в любой литературе. Оно уводит писателя в провинциальный городок, а оттуда еще дальше, еще ближе к земле, в поместье, в деревню, на уединенный хутор, на горное пастбище к пастуху или в лес к охотнику, к той жизни, какую любит изображать маноскский житель, уже помянутый нами Жионо. Здесь прислушивается он к забытым шумам, к первобытным заботам и страстям, здесь чает обрести себя и найти утраченную плоть своего искусства. Не только писатель стремится сюда, но и живописец, жаждущий вернуть мир в свою картину (чего многие хотят сейчас, особенно в Германии и в Италии), и музыкант (тут Венгрию следует особо помянуть), постоянно и прежде искавший обновления в деревенской песенной стихии, но никогда так не нуждавшийся в нем, как именно сейчас. И все они не только народное здесь находят, то самое, что на трезвом языке науки называется mentalite primitive у Леви Брюля или primitive Gemeinschaftskultur у Ганса Наумана, не только «возвращаются к земле», но и прорываются к тайной, все более недостающей им стихии, ощущение которой заставило называть их новый реализм магическим или мистическим, хотя точнее его было бы назвать реализмом мифа.
Возвращение к земле, как и возвращение к детству, есть искание чудесного, жажда мифического мира, познаваемого, как реальность, а не выдумываемого, как произвольная и пустая фикция. Об этом говорит любая из упомянутых нами попыток в области искусства и литературы, но это обнаруживается всего яснее в творчестве нескольких писателей, весьма различных, принадлежащих к разным литературам, но объединенных общим устремлением, составляющим стержень и смысл их искусства. Таков австриец с баварской границы Рихард Биллингер, таковы фламандец Тиммерманс, швейцарец Рамюз, англичанин Т. Ф. Поуис. Все они враги большого города: Поуис вот уже четверть века живет в маленькой дорсетской деревне, Рамюз, столько же примерно времени, — в окрестностях Лозанны, Тиммерманс — в тихом городке недалеко от Антверпена, только Биллингер оторвался от своего села, но душою остался ему верен. Все они также изобразители крестьян, хотя и не бытописатели крестьянства, все — реалисты в известном смысле, но не охотники за «документом», а ловцы человеческих душ, все имеют отношение к иррациональному, религиозному по существу, а не только внешнему, чувственному опыту. Тиммерманс близок к одной из наиболее знакомых, укрепленных традицией разновидностей его: францисканской, благословляющей и прославляющей все творение. Рамюз в каждой своей книге касается новых областей духовной жизни, но в давнем уже «Исцелении болезней» он дал им самим непревзойденный образец очевидности и простоты в изображении чудесного. Поуис, наконец, равный по таланту Рамюзу, но превосходящий его своеобразием духовного уклада, — сторонник дуалистической мистики предопределения, изобразитель неиссякаемой борьбы добра и зла, в чьей душе жгучее неверие сочетается с такой же жгучей верой, — создал ни с чем не сравнимые и незабываемые повествования о перевоплощениях диавола, о Смерти, заблудившейся среди живых, о всеблагом, но не всемогущем Боге в образе виноторговца, странствующего на грузовике в сопутствии архангела Михаила и разливающего жителям дорсетских поселков вино смерти и вино любви. Поуиса и Рамюза было бы достаточно, чтобы свидетельствовать о наличии в современной литературе той жажды мифотворения, той потребности в чудесном, которой их творчество только и живет; но существует еще и много других ее примеров, а глубочайшее и потому глубоко христианское увенчание ее давно уже дал Клодель в «L'Annonce faite a Marie». Деревенский, первобытный мир потому и притягателен, что проникнут ощущением чуда и глубокой связанности с ним человеческой судьбы. Природного, в конце концов, потому и ищут, что оно приводит к сверхприродному. Потерянный рай первобытности — как и детства — вовсе не розов, не идилличен; в нем есть и зло, и страх, и боль; он рай лишь по сравнению с адом практической и разумной бездуховности. Если все неудержимей к нему тянется, его взыскует современный человек, то не потому, что ждет от него забав и перемен, а потому, что видит просвечивающую в нем, в мире современном сокрытую, правду и свободу.
4
Среди многочисленных пыток, каким подвергается художник в современном мире, едва ли не самая тяжкая — пытка светом: мучимый ею подобен заключенному, у которого в камере всю ночь горит непереносимо яркая электрическая лампочка. Укрываясь от нее, он и призывает Отрицательную Способность, он и мечтает вернуться в мир, где этой пытки нет. Директор парижской обсерватории недавно заявил, что ненавидит поэзию, потому что она лжет, и ему, человеку науки, нельзя мириться с поэтическою ложью. Пусть научное и художественное творчества вовсе и не должны враждовать между собой, но мировоззрение художника и в самом деле трудно примирить с мировоззрением, основанным на требованиях одной науки. Таблица логарифмов столь восхитительно светла, что потрясенный звездочет в своей башне под круглым колпаком уже анафематствует мракобесов Гёте и Шекспира. Цифропоклонник этот вовсе не одинок, он только откровеннее и честнее других, точно так же считающих искусство плутовством и поэзию шарлатанской выдумкой. Новый Моисей спускается с Синая, и на его скрижалях начертаны четыре правила; правосудие его немилосердно дважды два и для художника — не три, не пять, но с этой истиной, отвергающей другие истины, ему делать нечего, и некуда от нее спастись. Не всегда спасает и возврат в прошлое человечества или человека. Остается призывание тьмы — той тьмы, где уже не горит над тюремной койкой лампочка в тысячу свечей, где вычислять нечего, где мерить нечем, где потухает дневной, проницаемый для рассудка мир и падает пленный дух в довременный обморок сна, безумия, пола, жизни, ночи.
Путь это — старый; заново и всегда глубже он намечен не меньше полутораста лет тому назад, когда и начинается по-настоящему «наше время». Немецкие романтики неотступно всматривались в ночное лицо мира; его противоположение дню стало главной темой поэзии Тютчева. Молодого Гёте Гердер научил познавать мир ощупью, темной угадкой чувства, и еще во второй части «Фауста» зоркий Линкей слагает свой гимн видимому миру глубокой ночью. Вся литература, все искусство XIX века пронизаны этим мотивом ухода в глубь, в область, недоступную сознанию и потому неподвластную расчленяющему и взвешивающему рассудку. Опыты такого рода могли быть удачны или нет в отношении индивидуальных творческих возможностей, но вопрос весь в том, повторимы ли они теперь, открыт ли еще этот трудный подземный путь или, как столько других, уже и он для художника заказан? Ведь и в этот ночной мир начинают проникать силы, враждебные искусству, ведь и в нем чем дальше, тем больше заставляют нас усматривать готовые, необходимостью установленные механизмы — неизменное действие одинаковых причин. Психоанализ есть наиболее широко задуманная и систематически проводимая попытка к механическим функциям свести все «подсознательное» и все связанное с ним: сновидения, любовь, неподчиненную рассудку душевную жизнь, мифотворение, художественное творчество. Но и без влияния психоанализа, а лишь параллельно развитию его стремление, хотя бы и невольное, к усмотрению в самом тайном маховых колес и передаточных ремней распространяется все больше в современном искусстве и литературе. Художник принимает снотворное, погружается во тьму, но и на самом дне своего сна он видит себя роботом и мир – машиной.
Воображение таких живописцев, как Чурлянис, Руо или Шагал, еще внушает им видения, неподсудные трибуналу «математики и естественных наук», как и психологии, черпающей из того же источника свои законы; но воображение новейших «сверхреалистов»— Кирико, Макса Эрнста, Сальвадора Дали — не поставляет им ничего, кроме материалов, так или иначе использованных уже воспитанным на психоанализе рассудком: оттого л их сны и оборачиваются кошмаром, что в какие бы темные углы они ни забрались, везде в ту же минуту зажигается опять ненавистная электрическая лампочка. О них, в противоположность формуле сенсуализма, можно сказать, что в их чувстве нет ничего, чего бы раньше не было в рассудке; в их рисунках и картинах, как в стихах поэтов, примыкающих к ним, — не первобытный хаос, способный родить жизнь и свет, а сумбур разрушенного города или разорванного снарядом тела. Даже у такого глубоко одаренного (с теорией сверхреализма не связанного) волшебника и сновидца, как Марсель Жуандо, чувствуется что-то нарочитое, насильственное и застывшее: окаменелая судорога, подавленный крик; рассудочный умысел превратил в соляные столпы его людей с вычурными именами, и везде в его книгах — все те же гальванизированные, неживые существа, священные изваяния и восковые куклы, как те манекены, что выставлены в окне на площади в городке Шаминадуре у старой торговки Прюданс Отшом. Но всего разительнее, пожалуй, перемены, о которых идет речь, сказались в творчестве и судьбе Лауренса. Пансексуализм Розанова (которого Лауренс не знал и которого, если бы знал, он, может быть, не понял) был погружением в утробную мглу чадородного, доброго, всепоглощающего, но и всесогревающего пола. Пансексуализм Лауренса, быть может, хотел бы быть тем же, или во всяком случае — благословением жизни, обожествлением начала, возвращающего человеку природную целостность, утраченную им; но этим он стать не сумел: трагическая неудача «Любовника леди Чаттерлей», последней и любимой книги Лауренса, переписанной им наново три раза, заключается в том, что славословие искони единой, нераздельно телесной и душевной человеческой любви само собой, помимо воли автора оказалось подмененным тут предписаниями на предмет нормального функционирования полового механизма.
Как это бывает часто, те же самые разрушительные силы, что только отразились на искусстве многих, будущему помехой, исказив его направление и смысл, те же самые силы все же выразились в искусстве одного: из трагедии творчества стали трагедией, выраженной в творчестве. В области распыления личности и разложения романа этот один — Марсель Пруст; в области механизации бессознательного — это Франц Кафка. Перед смертью (в 1924 году), как бы ощущая недовершенность своего дела, тупость своих усилий, он все писания свои, кроме немногих, изданных при жизни, завещал сжечь, но его душеприказчик Макс Брод последнюю волю своего друга исполнить не решился. Год за годом стали появляться странные, ни на что другое не похожие книги и в совокупности составили одно из самых изумительных свидетельств современного литературного сознания о самом себе. В Германии, в Европе свидетельство это еще не совсем оценено, да оценить его и трудно, так как книги Кафки никому не навязываются, никого не стремятся убедить; первое их качество — необыкновенно четкий, прозрачный, музыкальный, классически спокойный, мастерски отточенный язык, с помощью которого только и можно было передать все то, никогда еще не выраженное, безнадежно темное и, конечно, непередаваемое до конца, что заключено, как ночная тьма в хрустальный сосуд, в необыкновенные эти книги. Будь они написаны сколько-нибудь «романтическим», украшенным, риторически-взволнованным стилем, они потеряли бы свое значение, да их и просто нельзя было бы читать. Простота и ясность внешнего покрова только и делают допустимой, но зато и подчеркивают вдвойне их глубокую внутреннюю странность.
Странность эта проистекает не из какой-нибудь предвзятой манеры, не из суетного искания оригинальности, а из особого восприятия мира, свойственного Кафке, до конца сросшегося с самым его существом. Издатель одного из его трех неоконченных романов, которому Брод дал заглавие «Америка», так излагает его содержание: «Юный школьник Карл должен вследствие неприятности, стрясшейся с ним, покинуть родительский дом и Европу. Беспомощный, не имеющий на кого положиться, кроме самого себя, он узнает богатый и нищенский Нью-Йорк, бродягой пробивается в жизни, делается лифтбоем в большой гостинице, затем слугою сомнительных господ и, наконец, выбивается на прямую дорогу благодаря непоколебимой своей порядочности». Об этом резюме следует сказать, что оно одновременно и вполне точно, и совершенно ложно. Внешне все происходит именно так, как в нем указано, но внутреннее существо книги самым резким образом противоречит внешнему ее содержанию. Все отнюдь не фантастические события, о которых так спокойно и ясно рассказывает Кафка, на самом деле призрачны, обладают неполной реальностью сновидений; им всегда чего-то не хватает, чтобы походить на жизнь, каких-то простейших чувственных качеств: то кажется, что мы присутствуем на концерте, где пианист, как ни в чем не бывало, играет на немой клавиатуре, то мы слышим разговор, но губы собеседников неподвижны и вместо глаз у них провалы в тьму. Все люди, столь, казалось бы, обыкновенные, так просто обрисованные, но мы чувствуем, что они не отбрасывают теней, что они могут пройти сквозь стену или растаять в луче солнца. Чем дальше мы подвигаемся в чтении романа — это впечатление достигает почти невыносимой силы в последней главе «Америки», — тем больше убеждаемся, что перед нами развертывается прозрачная аллегория, которой вот-вот мы угадаем смысл. Этот смысл, он нам нужен, мы его ждем, ожидание нарастает с каждою страницей, книга становится похожей на кошмар за минуту перед пробуждением, — но пробуждения так и не будет до конца. Мы обречены на бессмыслицу, на безвыходность, непробудную путаницу жизни; и в мгновенном озарении вдруг мы понимаем: только это Кафка и хотел сказать.
Жизнь — кромешная тьма; и опять, еще решительнее, чем у кого-либо другого, не тьма рождения, пола, творческого хаоса, но тьма обреченности и смерти. Кафка ушел в бессознательное до границ безумия и увидел там одно: вечный приговор. Герой «Америки» приговорен к одиночеству и бездомности, герой «Замка» — к неумению высказаться, найтись, сказаться, герой «Процесса» — к безвыходному страху суда и наказания. С еще более потрясающей силой, чем в трех романах, это выражено в некоторых из отрывков, собранных под заглавием «На постройке Китайской стены», особенно в «Размышлениях собаки», где раскрыта тщета мысли и беспредметность знания, и в страшном рассказе «Постройка», ведущемся в первом лице от имени неведомого зверя, спасающегося в хитроумном лабиринте вырытой им норы от смертельной опасности, которая все равно его настигнет. Все книги, все замыслы Кафки сводятся к одному: показать одновременно бессмысленность и неизбежность тяготеющего над человеческим бытием закона. Человек, по страшному его слову, тщетно бьется лбом — о собственный лоб. Спасения нет. Ощущение приближающегося удушья, как у заживо погребенного, проснувшегося в гробу, никогда еще не было передано с такою силой, как в этих прохладно написанных, вежливых, аккуратных книгах. Самое искусство для того и существует, чтобы открыть западню существования. Оно не лжет; оно иносказаниями говорит о тайне мира, и это — тайна не свободы, а необходимости. «Наше искусство, — сказал Кафка, — ослепленность истиной: только свет на отшатнувшемся перекошенном лице — правда; больше ничто».
Художественный дар Кафки был таков, что он позволил ему воплотить в искусстве до конца его нечеловечески односторонний, узкий и глубокий опыт. Но из какого отчаяния родилось это искусство и какое грозное заключается в нем предостережение! Глубже, чем кто-либо, погрузился Кафка в ночной мир, и не творческую свободу он там нашел, а тот же самый механически-непреложный, математически расчисленный закон, от которого искусство нашего времени с таким упорством и с таким трудом давно уже ищет избавления. Отчего это случилось? Не от того ли, что механическая причинность такую власть получила не только над умом, но и над самим воображением художника; что ее одну он только и обречен отныне видеть, даже в бессознательном, даже в царстве сновидения и ночи? Кафка благодаря полубезумному своему гению только ясней других нам показал то, что тяготеет и над этими другими. Он подчинился одному своему, в известном направлении безошибочному, инстинкту; другие захотели действовать принципиально, исходя из идеи того, что для Кафки было непосредственно данным, глубоко пережитым, — и оттого получилось у них уже не искусство гибели, а гибель самого искусства. Сюда относятся многочисленные попытки заменить художественное творчество магией, то есть совокупностью приемов, имеющих целью систематически воздействовать на бессознательное и в том или ином заранее известном направлении изменять душевную жизнь читателя, слушателя или зрителя. Сторонники такой замены не всегда отдают себе отчет в том, что магия отличается от прикладной науки только своими методами, но совпадает с ней в основном устремлении своем, в своей цели, — тогда как у искусства цели в этом смысле вообще нет, — в своем желании непосредственно влиять на природу, и в данном случае на человека, — дабы исцелить его или погубить. Приближение, однако, к научному или полунаучному образу мыслей получается в таких случаях само собою, как видно на примере французских художников и писателей, объединившихся вокруг журнала «Минотавр». Чем сильнее в магическом действии проступает сознательное намерение произвести тот или иной эффект, тем оно убийственнее для искусства; скорее уж в известных границах совместимо с ним сопряженное с отчаянием и риском стихийное стремление вырваться из расчисленного и упорядоченного мира в случайность (в хаос, в разрыв всех связей и всех единств, дабы хоть этим способом, хоть на минуту ощутить чудесное. Однако и тут опасность для искусства остается велика: остается соблазн превратить в правило и самую случайность, сделать беззаконность и произвол отправной точкой для нового принуждения. Иррационализм, возведенный в абстрактный принцип, есть худшая форма рационалистического заблуждения, и в современном мире достаточно примеров самого кровожадного детерминизма, извлеченного из произвольных предпосылок, отнюдь не сверхразумных, но горделиво освобожденных от проверки разумом. Искусство задыхается в мире, подвластном научно-утилитарному, предопределенно-арифметическому мышлению, но никакого притока воздуха не получит оно от того, что эта арифметика будет применяться к иррациональным данным вместо рациональных. Символ современной цивилизации — не только машина, но и прикрепленный к этой машине дикарский или ребяческий фетиш. Если от слишком сильной электрической лампочки у художника начинают болеть глаза, это не значит, что ее нужно разбить или заменить коптящею свечой; это значит, что из тюремной камеры надо искать выход к солнечному свету.
5
Возрождение чудесного, возвращение искусства в мир, где ему было бы легко дышать, недостижимо полностью ни на одном из отдельных, казалось бы — ведущих к нему путей, недостижимо даже и через их слияние. Одним возвратом к детству человека или мира еще не вернуть искусству утраченной цельности и полноты, хотя бы потому, что возврат этот сам никогда не бывает целостным и совершенным. Одним раскрепощением случайностей, культом непредвиденного, магией риска и азарта, безоглядным погружением в ночную тьму не добиться прорыва в тот подлинно чудесный мир, где законы нашего мира не опрокинуты, а лишь оправданы и изнутри просветлены. Искусства у цивилизации нельзя отвоевать хотя бы и самым отважным набегом в забытую страну, где оно когда-то жило, где ему хорошо жилось. На путях, что в эту страну ведут, можно частично обрести и вымысел, и живых людей, и язык поэзии (вместо языка газеты), и мерцающий очерк мифа, и начатки мифического мышления. Все эти приобретения, однако, недостаточны, непрочны, в любую минуту могут оказаться призрачными, если они не укоренены в религиозном мировоззрении или, проще и точнее сказать, в религиозной вере. Ведь, в конце концов, именно тоску по ней и выражают попытки вернуться к детству, к земле, погрузиться в ночные сны, научиться Отрицательной Способности. Вера только и отделяет мифическое (в более глубоком смысле слова) от фиктивного; без нее художнику остается либо внутренне согласиться с рассудочным разложением своего искусства, либо предаваться более или менее явному самообману и так строить свое искусство, как если бы вера у него была. Очень характерно, что именно такое «als ob» прямо-таки рекомендует поэту, а значит, и всякому художнику один из самых выдающихся среди современных английских теоретиков литературы, Ричарде. Наукопоклонник этот к поэзии не глух и потому не может не понимать ее несовместимости с мировоззрением науки; он понимает, что поэту необходима вера, хоть какая-нибудь вера (belief), но ввиду своей неспособности допустить в будущем ничего, кроме все разрастающейся диктатуры научного рассудка, он предлагает ему некую беспредметную веру, веру «ни во что», но которая имела бы все психологические последствия настоящей веры, позволяя таким образом и рационалистическую невинность соблюсти, и приобрести капитал, необходимый для поэтического творчества. Убеждение Ричардса в возможности такой неверующей веры есть, конечно, лишь одна из разновидностей характерного для поклонников рассудка и прогресса убеждения в совместимости чего угодно с чем угодно: высокой нравственности с безбожием, человекоистребления с человеколюбием, робота с Рафаэлем, прогресса с культурой, гуманизма с техницизмом, либерально-правого государства с демократией и демагогией, На самом деле существует рационалистическое неверие и существует несовместимая с ним вера в Бога, или хотя бы в излучение божества, в сверхрассудочное божественное начало мироздания.
Вера, питающая искусство, вера, которой оно живет и без которой, рано или поздно, оно умрет, может, рассуждая отвлеченно, быть не христианской; но после девятнадцати веков христианства нельзя себе представить возвращения европейской культуры к какой-нибудь из низших религий, все ценности которых христианством впитаны и приумножены; можно себе представить только или христианское обновление культуры, или уничтожение ее рассудочной цивилизацией. Все попытки возродить искусство путем возрождения чудесного должны поэтому приводить к христианскому осмыслению этого чудесного, и мы увидим, что и на самом деле они к нему приводят, если вспомним, что искание мифа чем ближе подходило к цели, тем неудержимее к облекалось в образы и цвета христианского предания. Так было у Поуиса и Рамюза и еще у многих других, отнюдь не всегда исходивших из готового христианского мировоззрения писателей; но той же предустановленной связью объясняется и мощный подъем чисто религиозного творчества, какой наблюдается и в искусстве, и особенно в большинстве европейских литератур за последние тридцать лет, и которого никто не мог предвидеть еще в конце минувшего столетия. Три английских поэта — Пэтмор, Хопкинс, Френсис Томпсон — еще в XIX веке явились провозвестниками этого нового подъема, для которого одно уже имя Клоделя, величайшего поэта нашего времени и поэта не менее христианского, чем Данте или Кальдерон, — свидетельство достаточное и не требующее пояснений. К этому имени можно было бы присоединить имена многих других католических писателей во Франции, в Германии, в скандинавских странах, в Англии, Италии, Испании, и притом писателей, книги которых принадлежат к лучшему, что дала современная литература, с чем согласится всякий, кто читал хотя бы Мориака и Дю Боса, Честертона и Папини, Унамуно, Унсет и Гертруду фон Лефорт. Этому католическому движению родственно англиканское, к которому примкнул такой влиятельный критик и выдающийся поэт, как Т. С. Элиот, и православное, питаемое духовным наследием Хомякова, Достоевского и Владимира Соловьева, выразившееся главным образом в области мысли, но которому только революция помешала найти достойное выражение в художественном творчестве. Протестантизм в этом обновлении христианской культуры представлен, как и следует ожидать, слабее. Это объясняется исконным его мифоборчеством, в связи с которым особенно показателен тот факт, что наиболее выдающиеся протестантские писатели этого направления, те же Поуис и Рамюз, пытаются как раз на пути «возвращения к земле» вновь обрести утраченную мифическую основу своей религии. Вслед за искусством слова усиливаются религиозные побуждения и в музыке, и в архитектуре (о чем свидетельствуют, особенно в Германии, некоторые недавние католические храмы), и в изобразительном искусстве, где можно напомнить такие, все еще, правда, исключительные явления, как последний период живописи Руо, как иллюстрации к четвертому Евангелию Петрова-Водкина.
Самый прямой, да и единственный до конца верный путь возрождения чудесного, а значит, и возрождения искусства лежит через воссоединение художественного творчества с христианским мифом и христианской Церковью; но что на этом пути нет препятствий, этого, кроме благочестивых оптимистов, мало понимающих сложную жизнь и сложную судьбу искусства, никто не решится утверждать. Со стороны искусства наблюдается нередко только эстетическое, т. е. непозволительно-поверхностное даже в чисто художественном смысле, отношение к христианской религии, рассматриваемой лишь как всем доступная кладовая, полная заготовленных впрок красот, которыми художник может распорядиться, как изобретательный повар превосходного качества провизией. Со стороны Церкви столь же часто можно наблюдать недоверие к искусству, боязнь творчества, покровительство самым отвратительным изделиям стандартизированного дурного вкуса, нежелание видеть в стенах храма ничего, кроме хотя бы и мертвого, но привычного. Накануне возрождения французской католической литературы два полюса в отношениях между Церковью и искусством символизировались фигурами приспособлявшего религию к искусству Гюисманса и отвергавшего искусство ради религии Блуа; но у Гюисманса был свой подвиг и своя проблема, у Блуа был великий огонь и гнев, чаще же всего наталкиваешься просто на равнодушие Церкви и верующих к искусству, а искусства — к духовному содержанию религии. Недаром скептики и рационалисты, как Реми де Гурмон, сумели оценить красоту средневековых латинских гимнов, в которых большинство церковных людей видели благочестие, но не замечали творчества. Очень немногие среди католиков сумели понять, что современное религиозное искусство их церкви, — искусство, достойное великого своего прошлого, — это Клодель, а не нравоучительные романы и розовые стишки, Руо, а не то, что продается в лавках возле церкви Сен Сюльпис или приобретается ныне для украшения града Ватикана; и точно так же православным людям очень трудно бывает внушить, что подражание иконному ремеслу XIX века с русским религиозным искусством ничего общего не имеет и может только повредить чаемому его возрождению.
Затруднения, велики, но есть заключающая их в себе трудность еще более серьезная и глубокая. Рассудочное разложение, которому подвергается современное искусство и вся современная культура, способно отравить своим ядом и церковную жизнь, и религиозное сознание. В этой области, как и во всех других, оно превращает живой организм в готовую систему, которую можно избрать, не пережив, в которую можно «включиться» произвольным актом, механически влекущим за собой постепенное приспособление к сложному, раз навсегда расчисленному механизму. Дух уступает букве, живая вера истлевает в мертвом знании, религия Христа заменяется христианством, т. е. чем-то, что и в самом деле можно обозначить словом, не только по грамматическому составу, но и по смыслу близким к таким словам, как «кантианство» или «гегелианство», как будто и в самом деле есть некий соизмеримый с томизмом или марксизмом «христианизм». Любое христианское исповедание насчитывает множество людей, называющих себя верующими только потому, что некогда они как бы заявили остальным: «Вы следуете Евклиду, мы же решили последовать за Лобачевским или Риманом», после чего ни и замкнулись в свою геометрию, столь же неукоснительно-отвлеченную, как и всякая другая. Конечно, люди творчески одаренные на таком христианстве успокоиться не могут, однако сплошь и рядом и они как-то уж за слишком безмятежно утверждаются в своей унаследованной или заново приобретенной вере, тем самым превращая ее в наукоподобную уверенность или идейную убежденность, так что и никейский символ в их устах становится похож на таблицу умножения, если не и на декларацию прав или эрфуртскую программу. Даже и люди подлинной и горячей веры не всегда находят в ней стимул своему творчеству, и книги Папини, написанные после обращения, не могут сравниться с воплем отчаяния, каким был его «Конченый человек». Даже художник религиозно одаренный может религией усыпить в себе художника, если она представляется ему чем-то установленным извне, чем-то, что не свершается, а уже свершилось. Вот почему воссоединение искусства с религией, если ему суждено осуществиться, будет не только спасением искусства, но и симптомом религиозного возрождения. Когда отвердевшая вера станет вновь расплавленной, когда в душах людей она будет вновь любовью и свободой, тогда зажжется и искусство ее собственным живым огнем. К этому в мире многое идет, и только это одно может спасти искусство. Другого пути для него нет и не может быть, — потому что художественный опыт есть в самой своей глубине опыт религиозный, потому что изъявления веры не может не заключать в себе каждый творческий акт, потому что вам, мир, где живет искусство, до конца прозрачен только для религии.
Все изображаемое да будет преображено; все, что выражено, да станет воплощенным. Это звучит мистическим заклятием, но это и есть тайный закон всякого искусства, несоблюдение которого, вольное или невольное, сознательное или нет, карается нескончаемым хождением по мукам. Художник проваливается из ада в худший ад, странствуя из сырой действительности в мир развоплощенных форм и возвращаясь опять к образам, жаждущим преображения. Никакой ум и талант, никакие знания одни его не спасут, не помогут найти животворящее, утраченное им слово. Преображение не есть операция вычисляющего рассудка, оно есть чудо, и воплощение — чудо, еще более чудесное. Их истинный смысл открывается не в философии, не в науке, не в самом искусстве, а только в мифах и таинствах религии. Из религии исходит и в религию возвращается всякое искусство, не только в смысле историческом или индивидуально-психологическом, но и в силу собственной своей логики или металогики, зависящей от неотъемлемой его природы. Все понятия, без которых нельзя и подойти к сколько-нибудь углубленному истолкованию искусства коренятся в религиозной мысли, и даже словесные формы, отвечающие им, заимствованы у богословия. Верно это не только о понятиях преображения и воплощения, определяющих творческий путь художника, но и о понятиях, относящихся к законченному произведению искусства, где мы находим ту антиномическую целостность, то совмещение противоположностей, понимание которых составляет важнейший предмет религиозной онтологии и высшую свою форму получает в христианской догме. Если в художественном произведении противоположности не совмещены, оно распадается на составные части; если они недостаточно противоположны, оно оказывается вялым и пустым. Уже в его творческом ядре совмещаются необходимость и свобода, личный выбор и надличное предопределение; единство стиля потому так и насущно для искусства, что оно есть гарантия этой совместности, этого слияния, подобного тому слиянию враждующих начал, какое постулируется христианским учением о свободе воли.
Закон противоречия для искусства отменен или, вернее, заменен законом всеединства. Логика искусства есть логика религии. Искусство ее принимает, как условие своего бытия; религия ее дает, как раскрытие, в пределах доступного человеку, сокровенной своей сущности. При этом искусство не только тяготеет к религии, вроде того как тяготеет к математике современное естествознание, да и вся современная наука, т. е. заимствуя у нее свое интеллектуальное строение, но и реально коренится в ней, будучи в своей глубине с нею соприродно. Вот почему искусство еще не гибнет, когда отделяется от церкви, когда художник перестает исповедовать внутренне еще живущую в нем веру, тогда как естествознание в современной его форме стало бы невозможным, если бы исчезла вера в математику. Гибнет искусство после того, как погибает стиль, хотя бы не религиозный, но утверждающий, в силу самого своего существа, сверхразумный, коренящийся в религии смысл искусства. Окончательно разрушают этот смысл рационализирующие, механизирующие силы, удушающие всякий зародыш художественного творчества. Механическим сложением распавшихся частиц духа не воплотить, мира не преобразить, антиномической ткани художественного произведения не создать и целостной вселенной не построить. Последняя отторженность от религии, от религиозного мышления, от укорененного в религии миросозерцания и миропостроения (заменяемого рассудочным мироразложением) не то что отдаляет искусство от церкви, делает его нерелигиозным, «светским»; она отнимает у него жизнь.
Без видимой связи с религией искусство существовало долгие века. Но невидимая связь в те века не порывалась. Художник новой истории — Шекспир, Гёте, Пушкин — жил в мире уже не религиозном (в каком жил Данте), но все еще в подлинно человеческом, управляемом совестью, иначе говоря, проникнутым тайной религией, мире, не в мире, верующем во власть одной лишь таблицы умножения. Художник, пусть и неверующий, в своем искусстве все же творил таинство, последнее оправдание которого религиозно. Совершению таинства помогало чувство стиля, чувство связи с миром и людьми. Таинство может совершаться и грешными руками; современное искусство разлагается не потому, что художник грешен, а потому, что, сознательно или нет, он отказывается совершить таинство . Художественное творчество есть своего рода пресуществление даров, которого никто еще не совершал по учебнику химии, в стерилизованной реторте. Рассудок убивает искусство, вытесняя высший разум, издревле свойственный художнику. Там, где этот разум сохранился, — а в современном мире мы еще повсюду наталкиваемся на его следы, — человек уже понял, что искусство он снова обретет только на путях религии. Все живое, что пробивается сейчас сквозь тление, прикрытое камнем и металлом, только упованием этим и живет. Нет пути назад, в человеческий мир, согреваемый незримо божественным огнем, светящим сквозь густое облако. От смерти не выздоравливают. Искусство — не больной, ожидающий врача, а мертвый, чающий воскресения. Оно восстанет из гроба в сожигающем свете религиозного прозрения, или, отслужив по нем скорбную панихиду, нам придется его прах предать земле.
Страстная Суббота.
Париж. 1935
РИМ ИЗ БЕСЕД О ГОРОДАХ ИТАЛИИ
Удивительные есть города… Крутые — взлет и провал: Эдинбург, Рио. Полноводные, волшебные: Венеция, старый Амстердам, Петербург. Есть мечами рассеченный шлем за оврагом: Толедо. Есть ранняя обедня в Notre Dame для того, кто, за ночь глаз не сомкнув, спустится к ней с трущобных монмартрских высот. И навек пронзившая душу прелесть Флоренции, когда глядишь вновь и вновь, поднявшись к Сан Миниато, на ее черепичные крыши, на знакомые до боли изгибы реки и очертания холмов. Но нет нигде ничего, что могло бы Рим заменить, что утолить бы могло вечную жажду Рима. Начинаю с поклона ему — поклона и просьбы о прощении. У него прощенья прошу и у тех, кто ради него листки эти вздумает читать. Как мало их, этих листков! И сказанное — как оно скудно! Это не Рим, это облики Рима. Семь. Только семь. И не облики: отблески обликов.
В. В.
Париж. Июль 1966
СЕМЬ ХОЛМОВ
Единственность Рима — в его насыщенности прошлым, двойным европейским прошлым, христианским и дохристианским. Такой, как тут, насыщенности и тем и другим нет нигде. Изваяния и храмы афинского Акрополя — более высокая святыня дохристианского искусства и создавшей его религии, чем все, чему мы поклоняемся здесь, не исключая Пантеона. Но в Афинах и во всей Греции нет памятников христианства, по значению равных памятникам ее язычества. Да и получено было Европой греческое, как и христианское, наследство не из Афин, а либо из Рима, сквозь латынь, либо из второго Рима, от православных греков, недаром называвших себя римлянами, «ромеями». В Иерусалиме родилась вера, но не религия христиан. Религия на основе этой веры создалась в Антиохии, Эфесе, Александрии и в других менее столичных городах, а также и в самой столице Римской империи, где суждено было религии этой стать ее религией и превратить ее столицу в столицу западного христианства, которой осталась она по сей день, хоть и не в столь полном объеме, как до Реформации. Этим не сказано, конечно, что здесь мы обретаем все западнохристианское наследство в пропорционально подобранных выдержках из него. Пробелов много, но как раз самый главный, почти полное отсутствие готики, не представляется здесь случайным.
Из всего европейского готическое наименее совместимо с античным, хотя, не будь древнеримской и зависимой от нее романской архитектуры, не было бы и готики. Однако Рим ее не случайно отстраняет. С единственной в мире наглядностью являет он не противоречия и разрывы, а преодолевающее их единство в унаследованном нами прошлом и укорененность более близких его слоев в слоях более отдаленных. Недаром готическая церковь его (одна, другой и нет) носит имя Santa Maria sopra Minerva, и недаром сказано было о Браманте, что его замысел собора св. Петра взгромождает Пантеон на Базилику Максентия. Рим — это преемственность, это непрерывность предания. Оттого, знакомясь с ним, вступаем мы в наследство, узнаем не чужое, а свое. Отечеством всех нас, как и отцов наших — Roma est omnium patria fuitque, – назвал его на своей надгробной плите один погребенный здесь в XVI веке трансильванский прелат. Но и наш Гоголь, к римской церкви не принадлежавший, ничуть не отрекаясь от Миргорода с Диканькой, ничуть не забывая о местах, откуда поврежденное колесо «в Москву доедет, а в Казань, пожалуй, не доедет», все же, сам тому удивляясь, мог о Риме сказать, что «родину души своей» он в нем увидел, «где душа моя, — пишет он, — жила еще прежде меня, прежде, чем я родился на свет».
Но не в этом одном единственность Рима. При всей насыщенности историей сквозит здесь повсюду, просвечивает и сейчас то, что старше истории, — вырастившая ее, но частью и принявшая ее назад в свое лоно природа. Есть, правда, и другие старинные города, чей исконный, природой обусловленный облик искалечен только, но еще не уничтожен новейшим порождением истории, уравнительной индустриальной техникой. Но нет ни одного, где было бы столько истории и столько природы одновременно, такой величественной, так много значащей для всех нас истории, и такой созвучной этому величию гордой и сильной, четко очерченной во всех своих особенностях природы.
Римская Кампанья несравненным образом сочетает архитектурность, пластичность, искусствоподобие и тем самым человечность основных своих форм с впечатлениями довременной, дочеловеческой неукротимости и пустынности. Шатобриан, один из неитальянских писарей, всего глубже переживших и понявших Рим, говорит, что земля эта осталась древней, такой же древнеримской, как покрывающие ее развалины. Объясняется это именно тем, что природа вокруг Рима, как и в самом Риме, присвоила, сделала частью самой себя остатки древнего строительства. Новейшие наши изобретения, чего доброго, лет через пятьдесят сделают неузнаваемой Кампанью, а может быть, и Рим, но сквозь века сила сопротивления этой римской природы была огромна.
В борьбе с нею, в борьбе-дружбе — другой до изобретений наших не было — проходила жизнь земледельца и винодела, как и воздвигался город. Полон Рим еще и сейчас свидетельств этой дружбы и борьбы. Не в одних окрестностях его, но и внутри его стен видимо и живо то, что здесь было, когда его самого еще не было. Конечно, и от Венеции неотъемлема ее лагуна, и от Флоренции — ее река и две линии ее холмов; нельзя Неаполь или Геную оторвать от моря или от рельефа берегов, с которым они срослись; но в Риме, вопреки его бесформенному нынешнему разрастанию, еще прочнее держится внутри стен своевольная лепка земли, определившая в древности его облик. Вырывали, зарывали, прокладывали дороги, буравили туннели, растаскивали камни и поверх разрушенных строений возводили новые на трех, на четырех уровнях, одно над другим. А все еще стоит старый, да еще и недавний Рим на древних своих семи холмах, и дают они о себе знать, и есть у каждого свое лицо, и все вместе являют они неотделимую от древности почвенность и природность Рима.
* * *
Деревушка на холме у левого берега реки. За холмом — выгон, болотистые луга. Этот холм — Палатин. Болотце это — будущий Форум. С этого началось. Когда деревню обнесли стеной, в легендарные ромуловы времена, родился первобытный, квадратный Рим. Затем возникло первое семихолмье, куда из классических холмов, с искони зазубренными школярами всех наций именами, вошел кроме Палатина один лишь, и то не во всем объеме, Эксвилин. Предстояло осушить болото, перенести туда с берега реки рынок и там же создать заботами этрусских царей первый священный, освященный алтарями и храмами город, а также заключить на вечные времена союз с иноплеменными жителями деревень на соседнем Капитолийском холме, поначалу не отделенном нынешней глубокой впадиной от Квиринала.
Сервиева стена уже включала кроме Палатина и этих двух холмов Целий, Эсквилин, Виминал, но не Авентин, не сразу и при республике вошедший в состав второго, окончательного семихолмья. Правый берег Тибра оставался долгое время незаселенным. Лишь Аврелианова стена в конце III века нашей эры охватила часть нынешнего Трастевере. И характерно для устойчивости римского городского обихода, что и по сей день Тибр, набережные Тибра, мосты его в римской жизни, в осознании римлянами своего города большой роли не играют. Тибр окаймляет Рим, и только. Все его семь холмов — на левом берегу. Старое заречье — придаток, живущий своей жизнью (это чувствуется и сейчас), простонародной, красочной, старинной, но совсем не палатино-капитолийской. Новое заречье — произвол, как и все застенные новые кварталы, приклеенные к Риму куски не-Рима. Яникул никогда к городским холмам не причислялся, как и левобережный холм садов, ныне называемый Пинчио, или заречные ватиканские холмы, составлявшие вместе с нынешним Monte Mario (а когда-то и с Яникулом) лесистый кряж, от которого не отделилась еще нижняя ступень, позже послужившая пьедесталом граду Ватикану. Между Капитолием и Пинчио расстилалось Марсово поле, застроенное лишь в императорскую эпоху, и то не сплошь и не многоквартирными домами в три или четыре этажа, которых в других кварталах было много, а зданиями или памятниками вроде тех, что и сейчас нам предстоят в самой гуще папского Рима: мавзолей Августа, термы Агриппы, Пантеон, колонна Марка Аврелия или пьяцца Навона – стадий Домициана, обернувшийся площадью.
Средоточием древнего города в эту эпоху, как и раньше, были Капитолий, Палатин, Форум, императорские форумы и прилегающие к ним кварталы возле и повыше Колизея. Равномерно населен и застроен не был он и теперь. Не все дубы, не все буки исчезли на Эсквилине, давшие некогда имена двум отрогам его: Кверкветалу и Фагуталу. Авентин и Целий увенчивались садами, как и Квиринал, с обеих сторон той прямой улицы, что идет по хребту его и нынче и что звалась тогда Высокою тропой.
При всем многолюдии и разноязычной толчее тесноты жилья в городе не было, да и население его, вопреки фантастическим цифрам, называвшимся прежде, вряд ли когда-либо числом превышало миллион. Таять оно стало в очень быстром темпе еще до падения Западной империи. В те тревожные века холмы первыми опустели; жилые дома внизу теснее прижались друг к другу и сбились в кучки, развалин было больше, чем их, и развалины эти постепенно уходили в землю. Те, что громоздились повыше, как мавзолей Адриана, превращены были в укрепленные замки. Триумфальные арки возвышались лишь в полроста, и под иными из них ютились хижины. Капитолий недаром стал зваться Козьей горой и Форум — Коровьим полем. До такой степени неузнаваемым стал Форум, что археологи Возрождения искали его в других местах, и еще Гёте, столь восхищавшийся древним Римом, ни одним словом о бедном Campo Vaccino не обмолвился. Всего сто лет тому назад часть его продолжала служить выгоном, как во времена, когда еще не было Рима. Палатин, чье имя (или, верней, более древнее имя одной из его вершин, Palatium) стало в большинстве европейских языков словом, обозначающим «дворец», так теперь Дворцом или Большим Дворцом и назывался, чему содействовала, должно быть, кроме смутной памяти о былом, еще и сама огромность его развалин. Никто среди них не жил, хотя пониже и прилеплялись к склонам его монастырьки. Этих пустынь, пустынь, пустырей в городе было множество. Не заполнял он больше не только Аврелиановых, но и Сервиевых стен. Средневековый Рим, как раз по средневековым понятиям, не был настоящим городом — дом к дому в кольце стены, — «не являл городского лица», как пишет гуманист Платина еще в XV веке, хотя, по этим же понятиям, он оставался главой всех городов и в идеале — столицею вселенной.
Как раз с середины XV века только и начали папы по-настоящему отстраивать свой город — заново его мостить, недоразрушенное разрушать вконец, но и восстанавливать то, что поддавалось восстановлению, а главное — строить и строить, создавая на развалинах древнего новый Рим, не уступающий древнему в величии и великолепии. Эта их деятельность затем уже не прекращалась в течение трех с половиной веков, и то, к чему они сознательно или полусознательно стремились, было полностью достигнуто. Их новый Рим — для нас он старый, и в безупречную гармонию свою включает он и древний, и средневековый. Все диссонансы, которых, увы, не можем мы не замечать, диссонируют не с чем-нибудь в отдельности, а со всем этим старым Римом, вместе взятым. Появляться они начали после того, как город стал столицей объединенной Италии, и особенно громкими сделались со времени постройки памятника этому объединению — Национального памятника, законченного в 1911 году. Им изуродована сердцевина города; огромный Дворец правосудия обезобразил заречье возле замка св. Ангела; проведенная от реки к собору св. Петра широкая улица исказила пропорции и нарушила замкнутость изумительной его площади; хаотически застроенные предместья навсегда уничтожили то вырастание Рима из окрестных земель, те плавные переходы от Кампаньи к нему, которые сейчас только еще угадываются кое-где и скоро станут так же трудно представимы, как медленное приближение прежних путешественников к Piazza del Popolo по Фламиниевой дороге или как прогулка по Аппиевой всего лишь накануне последней, когда ее древние камни еще не были залиты асфальтом и не сновали по ней беспрестанно зловонные грохочущие грузовики.
За последние сто лет каждое новое поколение чужеземцев из тех, кому выпало на долю увидеть Рим, понять его и полюбить, нисколько не заблуждалось на тот счет, что предыдущее поколение видело его менее искаженным, более близким к тому гармоническому его облику, который установился к концу XVIII века и почти не изменился за первую половину прошлого столетия. Верно, однако, и то, что облик этот не исчез; он исковеркан кое-где, но в целом отнюдь не уничтожен. Преобладают еще места, где он вовсе невредим и где только стало трудней воспринять его и насытиться им из-за гремучей суматохи уличного движения. Есть еще Рим для нас, поскольку мы сумеем отделить то, что созерцается в нем, от того, что мешает созерцанию. Для этого нужна соответственная склонность, нужны кое-какие знания и немалая выносливость. Если у вас все это есть, вы можете начать с тех мест, с которых и Рим начался и которые сквозь все века продолжали ощущаться самыми срединными и римскими его местами.
* * *
На Капитолии встречаются старый и древний Рим, а Национальный памятник хоть и сунулся сюда, но стал боком и встрече не помешал. В древности подниматься на капитолийскую скалу можно было лишь с той стороны, где Форум, и когда вы глядите теперь сквозь одну из аркад Табулярия — государственного архива, пережившего Империю и послужившего фундаментом Капитолийскому Дворцу, — вам открывается именно древний Рим: широкое поле развалин с Палатином справа, Колизеем и аркой Константина вдали. Но дворец, что над вами, обращен в противоположную сторону, не к древнему, а к старому, папскому Риму, к лестнице и площади, сооруженным по рисункам Микеланджело, с памятником Марка Аврелия на коне, им же, Микеланджело, здесь установленным, и двумя боковыми дворцами, выстроенными по его плану. Тут же рядом, за лестницей — другая лестница, более высокая и крутая, ведет к «алтарю Неба», к твердыне, где некогда был храм Юноны и монетный двор, но где высится уже полторы тысячи лет, пусть и перестроенная позже, церковь Santa Maria d'Aracoeli. Это — средневековый Рим.
Но есть союз между всем этим — между церковью и Марком Аврелием, и дворцами Микеланджело, и этрусской бронзовой волчицей в Сенаторском дворце, вернувшейся на Капитолий из Латерана в XV веке; только та сахарно-белая громада памятника за церковью не входит в этот союз, в союз всех семи холмов, всех садов и домов на семи холмах, с самими этими холмами, с вечным римским вверх и вниз, с несравненными римскими соснами, с фонтанами римских площадей, с необъятно голубеющим римским небом, с легким, пронизанным легкими лучами воздухом. Этот союз в ваших прогулках по Риму вы почувствуете и везде найдете ему подтверждение. В старом Риме века не враждуют между собой, и природа ею живет в мире с его прошлым; оттого, когда позже будете вы вспоминать этот огромный шумный город, вы удивитесь: память о нем тиха.
СЕМЬ ЦЕРКВЕЙ
Древний Рим еще не был разрушен, когда начались — полторы тысячи лет тому назад — паломничества христиан к его святыням: церквам и кладбищам, могилам мучеников, в первую очередь апостолов Петра и Павла. С тех пор, без долгих перерывов, паломничества эти длятся по сей день. Сохранился и основной их ритуал, состоящий в молитвенном посещении семи древнейших и прославленнейших храмов, приуроченном теперь в процессиональной своей форме к маю месяцу. Немного раньше, сразу же после конца гонений, начались странствия ко святым местам: к Вифлеемской пещере, Голгофе, ко гробу Господню. Это прообраз всех вообще христианских паломничеств, и они точно так же продолжаются по сей день. Но есть и различие. В Палестине никаких других воспоминаний, кроме библейских, не ищут; в Риме спокон веков любопытствуют и насчет Рима вообще. Средневековые, для паломников предназначенные перечни его диковин, Mirabilia urbis Romae, неизменно содержат сведения — весьма фантастические порой — и о дохристианских его древностях. Позже, в эпоху Возрождения или еще позже, во времена процветавшего тут под эгидой Менгса и Винкельмана неоклассицизма, исключительно ради этих его древностей многие сюда и ездили. Но эти энтузиасты античности, разве не были паломниками и они? Да и мы сами, нынешние гости Рима, разве нет у нас чувства, что мы — паломники здесь и что прибыли мы сюда хоть и не пешим хождением, как дальние наши предки, а все же по стопам других паломников?
Паломником можно ведь назвать и того, кто предпринимает странствие к местам пусть и не святым по его вере, но все же таким, где он чает воочию увидеть драгоценное, священное для него прошлое. Таким местом был, и по преимуществу был для многих поколений, таким местом и для нас остался Рим. Даже и те, кто компактными стадами с вожаком во главе устремляются сюда, все же взирают на показываемое им здесь не с любопытством только, но и почти всегда с некоторой долей благоговения. Оно завещано каждому всеми теми, кто из века в век являлись сюда на поклон, чему бы они здесь ни поклонялись. Если, однако, мы спросим себя, что же теперь в Риме всего сильней вызывает такого рода чувство и каков поэтому главный или первый предмет нашего паломничества сюда, то без колебаний ответить на этот вопрос будет затруднительно. За последние сто лет мы научились не отдавать предпочтения древнему Риму перед Римом последующих времен, научились высоко ценить Рим эпохи барокко, а главное — единым видеть весь Рим, каким он был до ближайших к нам ста лет. Но все-таки, пожалуй, дерзнул бы я на тот вопрос дать и ответ, или совет вместо ответа: пойдите, как те богомольные и верные старине пилигримы, посетите одну за другой посещаемые ими семь церквей, и вы обретете ключ к познанию Рима не хуже других ключей, а может быть, и вернее их. Да еще и так скажу: велик древний Рим, велик и старый (то есть в главном XVI и XVII веков), но позволительно не только с ним наравне, а и выше еще ставить не столь заметное на первый взгляд раннехристианское его величие.
* * *
Санта Мариа Маджоре — одна из тех семи церквей. Папа Сикст III ее воздвиг во второй четверти V века. Снаружи она целиком перестроена, застроена, но внутри хоть и многое изменено, а исконная мысль господствует над всеми примышлениями к ней, и не роскошь отделки покоряет, а простота основного замысла. Сохранились тут мозаики V века на триумфальной арке и на стенах среднего корабля, но и они главного впечатления не определяют. Вы вошли, и вы медленно идете между этих стен по середине храма к алтарю и к полукругом выгнутой апсиде за алтарем. Выгнутостью этой она как бы вовлекает вас в себя, замыкая пространство — широкое, высокое, но все же в длину вытянутое пространство, — по срединной оси которого вы движетесь и которое направлено к ней. В этой направленности все дело. Ею отличается христианская базилика от всех тех римских предшественниц своих, рыночных, судебных базилик, где колоннады с четырех сторон замыкали продолговатое пространство или где имелось две апсиды одна против другой, или одна в короткой стене, другая в длинной. Направленность эта не превращает, конечно, церковь в какой-то пассаж вы направляетесь от входа не к выходу и вообще не к реальной, а к идеальной цели; нормальным образом вы совсем и не доходите до алтаря, не говоря уже об апсиде позади него, где полагалось быть в центре креслу епископа, а по сторонам, в полукруге — сиденьям для сослужащего с ним клира; вы только внимание ваше, вы, если для молитвы пришли, молитву вашу обращаете туда, куда обращен — ко святому святых — весь храм. Этим и захватывает Санта Мариа Маджоре. Довелось мне здесь видеть однажды живое тому подтверждение. В предвечерний тот час богослужения не было, и было в огромной церкви тихо и пусто. Но вот вошла целая маленькая толпа, человек двадцать пять, мужчины и женщины средних лет, немцы, по-видимому, баварцы. От главного входа пошли они прямо вперед, не очень озираясь по сторонам, но и не прибавляя шагу, а скорей его замедляя, и, не дойдя до алтарной преграды, вдруг опустились на колени — неожиданно, как мне показалось, для самих себя — и запели, довольно стройно, совсем не подходящий для весеннего того дня рождественский гимн «Тихая ночь, святая ночь», вероятно, потому, что ничего другого спеть они бы совместно не сумели.
Быть может, впрочем, и не поэтому. Тут хранятся в крипте под алтарем реликвии яслей Христовых, и к яслям подходит та песнь. Но все-таки религиозный смысл этой архитектуры, который как бы воплотился в молитвенном движении тех вошедших в церковь людей, отодвигает отдельные мотивировки на второй план, как и торжествует над всем тем, чем исконный замысел здесь отягощен или замаскирован. Апсида тут теперь отодвинута чересчур далеко в глубь, отдалена трансептом — поперечным кораблем — от триумфальной арки, к которой она прежде непосредственно примыкала, да и первоначальная мозаика ее заменена была другой в конце XIII века. Над алтарем в XVIII веке был водружен огромный, нарушающий пропорции и заслоняющий апсиду бронзовый балдахин. Роскошный резной потолок восходит к XVI веку; поначалу, вероятно, тут и вообще не было потолка, а были открытые стропила крыши: пространство неопределенно замыкалось вверху; четко замыкалось оно только впереди — апсидой. Но несмотря на все это, и как бы мы к этим переменам ни относились, как бы ни восхищались, например, наружным оформлением апсидной стороны — одним из великолепнейших созданий Райнальди, да и всего римского барокко, — тем не менее Санта Мариа Маджоре остается — в том главном, о чем она говорит и что мы немедленно, входя в храм, воспринимаем, — свидетельством времен, когда только еще создавалась христианская церковная архитектура и когда закладывалась основа всего ее дальнейшего развития.
На сходные чувства и мысли наводит и еще одна из тех семи церквей — базилика апостола Павла «фуориле мура», то есть вне стен города. Построенная лет на сорок раньше, она простояла без крупных перестроек больше тысячи четырехсот лет, когда в ночь с 15 на 16 июля 1823 года ее посетил пожар, столь разрушительный, что от тогдашнего папы, тяжело больного, его скрыли, и Пий VII умер через месяц, 20 августа, так о нем ничего и не узнав. Его преемники отстроили храм заново, сохранив его план, но не очень заботясь о точном соответствии прежнему его облику даже исказив опрометчивым обновлением те его части (трансепт и апсиду), которые от пожара почти не пострадали. Еще грандиозней это здание, чем то, о котором что шла речь. В нем пять кораблей. Его четырежды двадцать колонн, некогда с каннелюрами, а теперь гладкие, отполированные, цвета восковой свечи, вместе с такими же полированными, зеркально-сияющими плитами пола и золотой на белом резьбой потолка, впечатление производят ошеломляющее, какое-то прохладно-одурманивающее и вместе с тем — хоть и не сразу это замечаешь — противоречивое. В нем как бы два слоя. Сперва воспринимаешь светлую, праздничную, но слишком вылощенную, академически-ложноклассическую нарядность, а затем, когда начнешь от главного входа двигаться к алтарю, весь этот поздний неоклассицизм окажется всего лишь оболочкой, шелухой, и сразу же проявится сила исконного, необычайно простого, но и необычайно действенного замысла. Средний корабль спокойно и величаво господствует над двойными боковыми; те ему вторят, пасуя перед ним, а он не то что плывет, а мысль твою и чувство заставляет плыть туда, вперед, к выгибу с золотой мозаикой вверху, объемлющему, приемлющему все стремление твое, нашедшее себе путь в тот миг, когда ты переступил порог и тот выгиб издали увидел.
Базилика — это первый и решающий шаг церковного зодчества, осознавшего свою задачу. Есть все основания думать, что шаг этот осуществлен был в Риме и притом сразу же после признания христианства Константином, после Миланского эдикта 312 года, когда воздвиг император на месте снесенных конногвардейских казарм и возле зданий, сохранивших имя казненного еще при Нероне Плация Латерана, огромный, богато украшенный храм, справедливо получивший титул «матери и главы всех церквей Города и мира». Латеранский собор первым значится в списке тех семи паломниками посещаемых церквей, и мы паломничество наше тоже начали бы с него, если бы хоть частично он сохранил первоначальный свой облик и убранство. Он утратил их, однако, хотя и стоит еще на старом фундаменте своем. Не говоря уже о фасаде, возведенном Алессандро Галилеи в начале XVIII века (и обо всем внешнем его виде), он и внутри совершенно был перестроен Борромини за полвека до того, так что и базиликальный его план мы больше не чувствуем, когда в него входим, хоть и знаем о нем по изображениям и описаниям, утонченным недавними раскопками. «Мать и глава всех церквей» была базиликой с пятью кораблями. Присущи ей были особенности, объясняемые, быть может, спешностью постройки или новизной задачи, но замысел, составляющий суть базилики, был в ней все же осуществлен, по всей вероятности, впервые и уж несомненно впервые при столь монументальных размерах и столь образцово для всего последующего. Был ведь это собор города Рима, столицы империи, кафедральный храм римского епископа, наместника Христа, и посвящен он был не Иоанну Предтече совместно с Иоанном Богословом, как теперь (и уже давно), а непосредственно Христу Спасителю. Рядом с ним построен был дворец, который тысячу лет, до переселения их в Ватикан, оставался резиденцией этих епископов. Что же касается не менее монументального и сходного с латеранским, хоть и не во всех деталях, собора святого Петра, то заложен он был (у подножия ватиканского холма, возле старого Неронова цирка и над кладбищем, где хоронили и язычников, и христиан) лет на двадцать позже, а закончен был в середине века. Его нет, но представить мы себе его можем довольно хорошо, и раскопки, произведенные во время последней войны, очень ясно показывают нам, как и для чего он был построен. Константин и его посвятил не апостолу, а самому Христу, но все же он был не кафедральным, а мемориальным храмом, возведенным над предполагаемой могилой апостола Петра, подобно тому, как позже был выстроен такой же огромный, о пяти кораблях, мемориальный храм над предполагаемой могилой апостола Павла.
Семь церквей перечисляют обычно — хоть и не всегда посещают — в следующем порядке: Латеранский собор, собор св. Петра, Санта-Мариа-Маджоре, собор св. Павла, Сан Лоренцо фуориле Мура, Сан Кроче ин Джерузалемме, Сан Себастьяно (на Аппиевой дороге). Из них наиболее почитаемы паломниками были во все времена первые четыре, да и для нас, паломников новейшего призыва, четыре зги церкви — главные. Без них и Рим — не Рим. И не только без нынешних соборов Ватикана и Латерана его нельзя себе представить, но и без исчезнувших старых, без тех базилик, которыми они были (в архитектурном смысле слова) и которыми те другие два храма остались, как мы видели, до сих пор. Иначе обстоит дело с тремя последними церквами из семи, хотя и без них Рим не совсем был бы Римом. Заново отстроенный в XVIII веке храм св. Креста «во Иерусалиме» воздвигнут был — по преданию, оспаривать которое оснований нет, — императрицей Еленой, матерью Константина, для хранения реликвий крестного древа, привезенных ею из Иерусалима. Базиликальной формы он не имел: возник из перестройки квадратной залы принадлежавшего императорской семье Сессорианского дворца. Что же до кладбищенских церквей св. Лаврентия и св. Севастьяна, то первоначальные постройки IV века, которых память, но не облик они хранят, также были не базиликального, а другого, позже не встречавшегося типа (без апсиды, с полукруглым завершением всей церкви), очень интересного, однако, для истории возникновения раннехристианской архитектуры. Нынешний Сан Лоренцо — соединение двух базилик VI и XIII веков. Нынешний Сан Себастьяно построен в начале XVII столетия. Паломничество наше к семи церквам, перестроенным на разные лады, всю архитектурную историю Рима перед нами раскрывает, но главное — учит нас понимать идею базилики, самую плодотворную храмостроительную идею раннего христианства.
* * *
Для того, однако, чтобы наилучшее из дошедших до нас воплощений этой идеи воочию увидать, надо совершить особое паломничество — отрадней которого в Риме, быть может, и нет — к церкви св. Сабины на Авентине. Выстроена была эта церковь, базилика с тремя кораблями, незадолго до Санта Мариа Маджоре и вскоре после собора св. Павла, но не императором и не папой, а частным лицом духовного звания, при немалых, впрочем, затратах, как о том говорят ее размеры и тщательность, при всей простоте, ее постройки и отделки. Отделка сохранилась лишь частично, но строительный облик церкви не был сильно искажен, и недавняя реставрация восстановила его почти полностью. Очень важно для общего впечатления, что над колоннами среднего корабля здесь аркады (решение новое, как в соборе св. Павла), а не соответствующий прежним строительным привычкам прямолинейный массивный архитрав (как в Санта Мариа Маджоре и как было в соборе св. Петра), и еще важней, что над аркадами нет ни малейшего карниза и вообще ничего выпуклого, рельефного, а лишь совершенно гладкая стена, прорезанная вверху большими окнами. Для греческой, а затем и для римской архитектуры высокая стена над колоннадой — полная нелепость, но здесь, в этой отрицающей впервые всякую земную тяжесть церкви, мы впервые именно и чувствуем, что «нелепость» эту базилика поставила себе в закон, что архитектура становится отныне невесомой, бестелесной, состоящей из плоскостей, выгнутых и прямых, и из отгороженных ими вырезов пространства. Выгнутая в полукруг поверхность апсиды тем самым противополагается всем прямым поверхностям, а шествие к апсиде (или путь взгляда к апсиде) замыкается по бокам высокими, гладкими, включающими в себя и колоннады, и все же как бы двухмерными безобъемными стенами среднего корабля.
Санта Сабина — светлая, легкая, целомудренная, благостная, — это почти совершенный образ того, к чему устремляется новая, в христианском Риме возникшая архитектура, которой древний Рим не знал и которая полагает начало новой эре как в истории архитектуры, так и в истории искусства вообще.
ПОДЗЕМНЫЙ РИМ
Для большинства приезжих, осматривающих Рим, память о посещении катакомб связана с воспоминанием об Аппиевой дороге. Так и для меня — очень издавна, неразрывно. Первый раз я тут был больше полувека тому назад. Других катакомб тогда не видал, а здесь был захвачен и пронзен с одинаковой силой и величием прошлого на величавой, как никакая другая, земле, и отрицающим смерть приятием смерти там, под землею. Двадцать лет после того не возвращался в Рим, но двойную ту память хранил всегда, пусть порой и не помня, что ее храню. Мерой того времени, того величия, земного и подземного, многое мерил; мерой прошедшего мерил настоящее — не к выгоде его, не к радости о нем. Что ж, разве мы не вправе желать, чтобы люди и дела людей были не ниже того, чем они некогда были?
Еще не чернела асфальтом Аппиева дорога. Еще и не предчувствовала грохота и вони несущихся по ней машин. Еще не видно было с нее, хоть и повернувшись назад к городу, никаких торчащих и кричащих об уродстве своем построек. Тишина была, простор; широко расстилалась равнина; дорога — меж садов, акведуков, могил — мирно уходила вдаль, древние камни ее грелись на солнце; стрекотали цикады; Альбанские горы голубели вдали, как голубеют и сейчас. А под землю был путь тоже почти там, где и теперь: за поворотом, отворив калитку, возле кипарисов и низеньких строений. Монашек зажигал свечу; вшестером, всемером вы шли за ним, спускались сперва по лестнице, потом узкими переходами со слабым наклоном медленно, чуть боязливо уходили вглубь. При мерцании свечи обрисовывались не очень ясно в стенах из податливого туфа выбоины, куда клали покойников без гробов, – давно пустые, но с оставленными кое-где костями, а то (для наглядности, должно быть) и целым скелетом. Не отставайте, говорил монашек, в сторону не отходите, заблудиться ничего не стоит, пять или шесть в этом лабиринте неотчетливо разграниченных этажей. Потом он освещал вам трепещущим своим огоньком роспись на стенах и на потолке тесной погребальной комнатки. То же зрелище открывалось тогда, что при электричестве откроется вам нынче. И точно так же оно вас поразит, если вы его видите в первый раз.
* * *
На белом фоне разноцветными тонкими штрихами небрежно намечены в потолке концентрические круги и звездой расходящиеся от них трапеции или прямоугольники на стенах, и бойкой кистью вписаны в них фигурки, узоры, бегло намеченные пейзажи, деревенские идиллии, голуби, гирлянды, овечки, пастушки… Как все это беспечально и светло! Никаких тут нет скелетов, черепов, ни могильной тьмы, ни надгробных рыданий; не только ничего напоминающего смерть, но и ничего священнодейственного, ничего торжественного. Декорация, подумаете вы, разве что пригодная для спальни, или лучше еще — для детской. Вам укажут, правда, во многих местах библейские сюжеты, но еще нигде не приходилось вам встречать такой странной их трактовки, несерьезной; покажется вам даже — шуточной. Что же это за пророк Иона, которого изрыгает на берег его кит, веселенький дракончик с хвостом-завитушкой, применяемый порой и просто для украшения? Что же это за пророк, который дремлет потом, закинув руку за голову, под тыквенным своим навесом, в позе Эндимиона, пленившего Луну — Селену — юной своей красой? Или какой же это Ной, патриарх, «обретший благодать пред очами Господа», шестисот лет от роду, когда «потоп водный пришел на землю», этот безбородый паренек, молитвенно поднявший руки и к которому голубь подлетает со своей веточкой? Разве это ковчег, этот ящик или сундук, в котором он стоит? Где же Ноева семья? Где же «скоты», чистые и нечистые? А этот пастушок с ягненком на руках? Вам говорят, что это Добрый Пастырь, Спаситель, но ведь на потолке одной из древнейших усыпальниц, там, где в центре не пророк, а скорее отрок Даниил между двух львов, вы пастушка этого видели изображенным в боковых медальонах два раза. Что ж это: беспечное повторение пасторального мотива или в самом деле два Спасителя?
Недоумений или удивлений — если только не лишены вы дара удивляться — возникнет у вас еще немало и возникло бы гораздо больше, если бы подземная ваша прогулка не была так коротка. Нынче прогулки эти еще короче сделались, чем прежде. Желающих много, водят их быстро, группами человек по десять — пятнадцать, объяснения дают разным группам на различных языках. Но показывают возле Аппиевой дороги небольшие отрезки тех же трех знаменитейших и старейших катакомб — св. Каллиста, Домициллы, св. Севастьяна (под церковью того же имени). Местность, где вырыто было последнее это кладбище, носила странное латино-греческое, не очень грамотное название: ad catacumbas, — как если бы мы сказали «возле близ оврагов» (латинский предлог и греческая приставка значат в данном случае то же самое). Лишь в недавнее сравнительно время слово «катакомбы» стали применять для обозначения всех вообще подземных кладбищ, которых в Риме было много, но которые все находились вне стен города. Хоронить внутри этих стен древнеримский закон строжайше запрещал.
Рыли эти кладбища под землей с середины II до конца IV века. Не все они христианские; есть, например, тут же, близ Аппиевой дороги, еврейское; есть принадлежавшие гностическим, не совсем ясно, какой именно веры, общинам; есть смешанные — частью христианские, частью языческие, как недавно открытое на via Latina. Некоторые предназначались для членов одного лишь семейства. Таково было начало и старейших христианских, разросшихся затем, ушедших вглубь этаж за этажом, как Сан Каллисто, где подземные коридоры растянулись на десять километров, если не больше (не все они еще откопаны). Общая их длина во всех катакомбах достигает, по различным подсчетам, от ста до полутораста километров. Это целый город с населением в пол– или в три четверти миллиона мертвых — подземный Рим! Недаром так и назвал свой труд о нем энтузиаст-открыватель, «Христофор Колумб» этих кладбищ, римский юрист и ходатай по делам Антонио Бозио.
Погребения в них прекратились к концу V века, а затем забросили их. Память о них заглохла, потерян был и доступ к ним, кроме как к небольшому числу подземных могил у церквей св. Севастьяна и св. Агнесы. Воскресло внимание к ним лишь во второй половине XVI века, особенно после того, как 31 мая 1578 года землекопы-рабочие наткнулись в пригородном саду на покрытые росписями подземные галереи, которые позже были вновь засыпаны. Пятнадцать лет спустя Бозио впервые проник в катакомбы и чуть в них не заблудился. С тех пор не прекращал он своих расследований до самой своей смерти в 1629 году. Объемистый труд его опубликован был посмертно и произвел большое впечатление. Нашел он и последователей, но тогда же началась печальная эпопея не столько изучения, сколько бессовестного разграбления катакомб. Похищались саркофаги, надписи; куски штукатурки с росписями выламывались и продавались любителям древностей, в чьи собрания они нередко поступали уже в сильно поврежденном виде. Безобразия эти окончательно пресеклись лишь к середине прошлого века, когда началась деятельность заслуженнейшего в катакомбных делах археолога Джованни Баттиста де Росси. По его инициативе создана была в Ватикане и «Комиссия христианской археологии», которая с той поры ведает этими делами. Ей принадлежит верховное руководство раскопками, производимыми специалистами, которым папский Институт христианской археологии дает необходимую дня этого подготовку. Если вы не удовлетворитесь тем сравнительно немногим, что показывают простым смертным в трех катакомбах из тех, что близ Аппиевой дороги, и в некоторых других, из коих всего больше стоит посещения кладбище Присциллы на via Salaria, то придется вам, подольше оставшись в Риме, записаться в «Общество друзей катакомб», и тогда постепенно ознакомитесь вы со многим, что вам было недоступно, так что, пожалуй, в конце концов и впрямь вообразите вы себя, друзья, римлянами второго Рима, подземного этого города.
Нет, не воображайте: это все-таки город мертвых. Но почему же так не похож этот некрополь на другие? Почему при первом же посещении загадывает он вам загадки, которые не одно наше любопытство, но и что-то другое в нас, поглубже, требует, чтобы мы попытались разгадать? Почему? Потому что это город мертвых, веривших, что смерти нет.
* * *
Об этой вере свидетельствуют найденные здесь в огромном количестве надписи. Но еще вернее и глубже живопись катакомб — не только темами своими, но и особым осмыслением их; не только их выбором, но и толкованием их, и всем вообще своим характером. Живопись эта — единственная в своем роде во всей истории искусства христианской эры; и вместе с тем именно ею история эта и началась, подобно тому как с базилик, построенных в Риме (но и не только в Риме) при императоре Константине, началась история христианского храмостроительства.
Но тут необходимо сделать очень существенную оговорку: этот совсем особенный характер присущ не всей катакомбной живописи, а лишь первоначальной. Он присущ тем ее памятникам, как и тем изображениям на саркофагах и на некоторых изделиях из металла и стекла, которые предшествуют признанию христианства Константином или, возникнув поздней, придерживаются старых образцов. Базиликам соответствовать и их собою украшать будет совсем другая, новая живопись, гораздо более близкая к искусству последующих веков, чем та, что нам предстает в древнейших катакомбных росписях. Росписи эти не старше III века — более ранние датировки оказались неверными; но ведь признание христианства Константином и превращение его в государственную религию как раз и обозначило тот перелом в его истории, который был и переломом в истории христианского искусства.
Первоначальные особенности его долгое время пытались объяснять погребальным, кладбищенским назначением большинства сохранившихся его памятников, но объяснение это не объясняет ни различия между погребальным искусством III и IV веков, ни сходства между погребальным и непогребальным искусством доконстантиновского времени. Остается, однако, незыблемым тот случайный в основе своей факт, что нигде у нас нет столь обильного материала для суждения об особенностях этих, как именно здесь, в подземном Риме.
В чем же эти особенности состоят? Прежде всего в том, что первоначальная катакомбная живопись, первоначальная скульптура саркофагов, как и все известное нам христианское искусство III века, не повествует, не иллюстрирует Священное писание, и вместе с тем не создает священных образов. В следующем веке начнет оно и повествовать, и образы эти создавать; но пока что, хоть и не переставая изображать, оно не ради изображения существует и свою изобразительность сводит к самому необходимому, без чего никак обойтись нельзя. Необходимому для чего? Для того, чтобы зритель понял, о чем идет речь, уловил бы мысль, передаваемую если не чисто условными, то все же очень близкими к условным описательными знаками.
В катакомбах Каллиста и Домициллы, где показали нам некоторые из древнейших росписей, нас уже успели удивить образцы такого минимально изображения. Родственники погребенных там, посещавшие их могилы, когда видели человечка по пояс в ящике и голубя, подлетающего к нему, понимали, что речь идет о Ное, или, вернее, о спасении Ноя, и этого, нужно думать, было им вполне достаточно. Совсем они и не требовали от живописца, чтобы он им рассказал историю Ноя или чтобы он праведного этого старца в согласии с Библией изобразил. Молящийся, воздев руки, как Ной, юноша и два льва по сторонам — этого зрителю достаточно: это пророк Даниил во рву львином. Три молящиеся фигурки и пламя под ними — это три отрока в печи огненной. Столь же немногословно сообщает живописец о Моисее, источающем воду из скалы, о Христе, воскрешающем Лазаря или беседующем с самаритянкой у колодца, причем узнает зритель Христа или Моисея только потому, что по минимальным данным угадывает имеющуюся в виду сцену, а не по какой-нибудь характеристике Моисея или Христа, которую художник вовсе и не дает. Пространнее он излагает лишь рассказ о пророке Ионе, не весь, однако, рассказ, а выдержку из него, разделенную обычно на четыре эпизода: Иону с корабля выбрасывают в море; кит проглатывает его; кит изрыгает его; Иона в позе любезного богине Луны греческого пастушка покоится под своим тыквенным насаждением. Четыре картинки — это удобно для симметричной декорации усыпальниц. Но ничто не мешает и свести их к двум или к одной. Если всего одна и есть, то это всегда последняя: спасенный Иона, спасение Ионы. Да и от нее можно отказаться; тому есть ряд примеров — достаточно одной веточки того насаждения, достаточно одной тыквочки… А если так, то разве не ясно: не в изображении дело, а в мысли, обозначаемой им.
Какая же это мысль? Та самая, всегда одна, другой и не нужно: мысль о спасении, мысль о том, что для погребенных здесь крещеных христиан смерти нет, что все они избавлены от греха и смерти своим крещением. Недаром в те времена все крещеные звались святыми; недаром день смерти называли христиане днем рождения. Горячей верой в эту сокрушающую смерть силу крещения именно и объясняется как осмысление сюжетов, препоручавшихся здесь живописцам, так и самый выбор этих сюжетов. Выбирались темы, непосредственнее других поддававшиеся такому осмыслению, упрощенное изображение которых упрощало бы их именно в эту сторону. Не исключалась при этом и некоторая доля насилия над библейским рассказом, как это особенно заметно в темах Ионы, Даниила, трех отроков, Ноя. Ведь не в Ное дело, а в спасении Ноя, и даже не в его спасении, а в спасении погребенного, подобном его спасению. Существует саркофаг некой Юлии Юлианы, где она сама вместо Ноя изображена в ковчеге-ящике с подлетающим сбоку голубком, точно так же как есть катакомбная фреска, где возле спасенного Ионы начертано имя погребенного здесь покойника. Иона, Ной, три отрока, Даниил — все они спасены, как Лазарь воскресший, как Исаак спасен из-под ножа Авраама, как израильтяне спасены в пустыне водой, изведенной из скалы. Вода эта — прообраз воды крещения, «воды жизни», которую зачерпнула самаритянка в своем колодце и которой спасены все крещеные, все на этом кладбище погребенные. Только это и важно, только об этом «идет речь», только это «имеется в виду». И сам Добрый Пастырь — не образ Христа, а лишь картинка, повторяемая сколько угодно раз — пастушок со спасенным ягненком на плечах. Важно не что она изображает, и еще меньше — как она изображает, а что она значит. Значит же она все то же: смерти нет.
* * *
Таково первоначальное искусство христиан. Полно, да искусство ли оно? Разве искусство может удовлетвориться обозначением вместо изображения? Разве может ему быть безразлично, как именно оно изображает? Очень показательно, кроме того, что поскольку мы сравниваем памятники того же времени, никакие формальные особенности не отличают скульптуру христианских саркофагов от скульптуры саркофагов нехристианских и росписи христианских катакомб от росписей языческих кладбищ и жилищ. Христианские и нехристианские саркофаги выходили часто из тех же мастерских. Те и другие росписи исполнялись мастерами той же выучки. То немножко лучше исполнялись, то немножко хуже. С точки зрения искусства — или ремесла — всему этому цена одна. Различие, однако, есть — огромное, но не стилистическое, а смысловое; различие не языка, а того, что сказано на этом языке; и различие в самом отношении к этому языку, к тому языку, который называем мы искусством. Христиане III века пользуются им и вместе с тем отвергают его; они в искусстве отвергают искусство. Очень скоро оно у них будет, но им пока не до него. Пока у них есть другое, чего потом будет у них меньше… Вот чему нас учит подземный Рим.
ВЕЛИЧИЕ РИМА
Есть латинское слово res — жесткое, резкое, юридическое, очень римское. Хоть и женского рода, а как прутья ликторов, как лезвие их топора. Res в единственном числе, res и во множественном. Смысл — самый широкий: вещь, предмет; дело, факт, существо, обстоятельство, событие. Все, что есть, все, что налицо. Многообъемлющий смысл, но не облачный и уж вовсе не заоблачный. Все значения объединены трезвостью, всем им общей. Недаром от этого слова происходят наши, неизвестные древним, «реальность» и «реализм». Это Афины были гимназией Европы; Рим — ее реальное училище. Но тут не мелочный реализм, не мещанский, а крестьянский и военно-государственный. Res publica — общее дело; res populi romani (у Ливия) — деяния римлян; res Romana (у Вергилия) — римская держава. Люди, дела их, власть над ними, пролитая кровь, чужая и своя. Все это вещно и дельно, не столь уж возвышенно, а величественно. Как работа плуга, как жест оратора или полководца — величаво. И Roma, столица этих людей, была то самое, что сказал о ней их поэт Гораций, когда назвал ее величайшей из всех мыслимых res, всех дел и вещей, всех наличностей: maxima rerum.
Никто не поименовал этот город вернее и точней. «Прекраснейшим», rerum pulcherrima, назвал его Вергилий; это преувеличенно и не метко. «Вечным» — Тибулл; это пророчественно, и пророчество сбылось; но ничто не вечно на земле, а малая вечность дана была не только Риму. «Золотым» его назвал Овидий в изгнании, aurea Roma; но мечтой позлащается все, что мы любим и с чем разлучены. Только в величии, в нем одном, не знал, как и не знает, соперников Рим. И не утратил он его, а приумножил со времен Горация. Не в объеме и весе приумножил, а прибавил к тому величию новое, возвышенность ему придал, ту, что была у Афин, не у древнего Рима, и еще другую, которой до Креста, до Евангелия, до мучеников не могло быть ни у Рима, ни у Афин. Был он maxima rerum, но res: средоточием фактов, нагромождением вещей. Амфитеатры, рынки, казармы, гостиные дворы; бани огромнейшие и роскошнее всех храмов. Были, правда, и храмы — трезвых римских богов и слегка подвыпивших восточных. Был образ вселенной, Пантеон, «совокупление неба и земли» по слову, позднему слову, Аммиана Марцеллина. Чего только не было: волчица, Тарпейская скала, «и ты, Брут», всесожжения, гладиаторы, триумфы; Цинциннат, Сципионы, Сулла, шествие Августа к Алтарю Мира со свитой и августейшею семьей, Нерон с его котурнами и трагическою маской, Адриановы архитектурные потехи в летней резиденции близ Тибура и среди свирепых сеч вечно грустный Марк Аврелий. Было и небо над всем этим, но как в Пантеоне — чересчур в супружестве с землей. Было небо, да не было небес, или разве те, куда так грузно возлетает ширококрылый отрок, знаменующий, Время и посмертное обожествление императорской четы, на цоколе исчезнувшей колонны Антонина Пия в одном из ватиканских внутренних дворов…
* * *
Небеса невидимы. Но молитвы, что стали возноситься к ним, словно приподняли небо над Римом, сделали его легче и светлей. Выросли базилики на холмах, колокольни устремились ввысь, а потом пришла очередь и куполам. Сколько их нынче, не счесть. Но всех выше, округленнее, стройней поднялся тот, что в мечте своей выносил одинокий, скорбный, даже и славой своей измученный старик, и поставил над собором, воздвиг в небо и в небеса, дабы вечно он плыл и сиял над величественнейшим в мире городом.
С тех пор высоким, возвышенным величие это стало с окончательной ясностью для всех. Завершилось восполнение того, чего некогда Риму недоставало. Посреди Колизея нынче стоит большой деревянный крест в память мучеников, принявших смерть на его арене. Но искупительное просветление началось с первых же их погребений и с первых базилик. Был еще по-древнему великолепен Рим, когда к подземным усыпальницам и апостольским его гробницам вереницей потянулись с пением, ладаном и зажженными свечами паломники из отдаленнейших земель. Однако надлежало в развалины превратиться этому великолепию, чтобы гораздо позже с остатками его сплавилось воедино другое, высшее, росшее веками, поклоняться которому по сей день стекаются пришельцы, теперь большей частью без ладана и без свечей. Но и те, что пения того или подобного ему вовсе никогда и не слыхали, все-таки видят Рим преображенным, видят новый Рим — пусть старым стал и он, — а под ним или с ним рядом, но не иначе как сквозь него — прежний: древний город волчицы и орла, чья мощь и власть, одухотворившись, вошла составною частью в его немеркнущее величие.
Хоть и не замирала в нем жизнь, но разрушался он все–таки и беднел, покуда длилась церковная распря и владыки его, наместники Петра, бесславно пребывали в авиньонском пленении своем, построив себе там величественный все же — иначе быть не могло, — огромный, толстостенный замок. Но с тех пор как вернулись они назад, лишь очень немногие из них отлагали попечение о том, чтобы город свой отстроить заново, снабдить его водой, вымостить улицы, укрепить стены, умножить его храмы и дворцы, сделать столицу христианского мира, по благолепию и в зодчестве выраженному могуществу, достойной наследницей древней императорской столицы. Были среди них гуманисты, юристы, святоши, святые, откровенные язычники, виртуозы политической интриги, военачальники, способные сутками не сходить с коня; но равнодушных к славе своего престола и престольного града не было. Недаром сын (незаконный, конечно) испанского кардинала Борха, будущего Александра VI, при крещении наречен был Цезарем, а воинственный генуэзец, кардинал делла Ровере, став папой, принял имя Юлия II. Это он, папа Юлий, повелел архитектору своему Браманте снести константиновскую базилику св. Петра и 18 апреля 1506 года первый камень освятил нового собора, гигантского здания, в замысле завершавшего все, о чем мечтали итальянские зодчие, начиная с Брунеллески и Альберта, но планы которого несколько раз менялись, так что достроили его лишь через 120 лет после того. И он же, папа Юлий, призвал Рафаэля, чтобы расписал он ему «станцы», ватиканские его покои, призвал Микеланджело, заказал ему роспись потолка построенной для Сикста IV делла Ровере, дяди его, капеллы, заказал ему и мраморную свою гробницу, незавершенную, измененную, наскоро доделанную много позже и «сосланную» в другую церковь, но где и сейчас гневный и высокий его дух живет в образе Моисея — жарче еще и без сходства живей, чем в Рафаэлевых портретах, — дух единственного церковного государя, наравне спорившего с Буонаротти, и которого тот по духу равным почитал себе.
Собор св. Петра, площадь перед ним и здания ватиканского дворца, не сразу составившие то целое, которое образуют они нынче, оставались в центре строительного рвения пап вплоть до конца XVIII века; но, конечно, не исчерпывалось оно этим и не это одно питало находчивость и окрыляло воображение привлекавшихся ими к работам архитекторов, скульпторов и живописцев. Были и другие большие ансамбли — Латеран (базилика, дворец, монастырь); Квиринал, излюбленная резиденция пап с конца XVII века, площадь перед ним, соседние, под канцелярии отведенные дворцы; Санта Мария Маджоре, заново оформленная снаружи, включая площадь перед ней, колонну (из базилики Константина) посреди этой площади, улицу, ведущую к апсиде церкви. Да и не одни папы были строителями: один за другим строились дворцы в XVI и особенно в XVII веке знатными римскими семьями, которые и святейших отцов почти всегда поставляли в том веке. Но все же в церковном строительстве, и прежде всего в папском, выработался тот целостный стиль, называемый нами барокко, который именно в Риме родился, распространился, исходя отсюда, по всей католической Европе, повлиял и на протестантскую, а в Риме все же принял ту особую римскую форму, главными создателями которой в архитектуре, по следам Микеланджело и Джакомо делла Порта, были Мадерно, Бернини, Райнальди и Борромини. Царил этот стиль в светском искусстве, как и в церковном, но корни его все же в религиозной жизни римской церкви, обновленной борьбой с Реформацией и со светскостью Возрождения, а также в том повороте художественного вкуса к великолепной тяжести и мощному движению масс, которому именно в Риме очень посодействовало восхищение древнеримской архитектурой императорского времени. Именно созвучием с нею и объясняется то единство римских впечатлений, которого не нарушают ни базилики (частью, к тому же, бароккизированные), ни то сравнительно немногое, что осталось в Риме от позднего средневековья или раннего Возрождения и что здесь, да еще с барочной приправой, почти всегда представляется каким-то подступом к барокко, преддверием к тому «старому» Риму, который с древним вступил в союз, к тому «папскому» Риму, который в памяти нашей — точно во сне — нас объемлет колоннадою Бернини и над которым высится мощно и легко купол Микеланджело.
* * *
Собор, увенчанный им, площадь, окаймленная колоннадой, — тут Рим почти уже кончился, тут начинается Ватикан, церковный город, папская держава. Но это и сверх-Рим, это Рим, помноженный на Рим. Где же еще, на каких холмах и площадях, глядя на какие церкви и дворцы, более, чем здесь, вы почувствуете себя в Риме? Рима нет там, где скрылся от вас купол св. Петра, и вы знаете, что не увидеть вам его ни с соседнего холма, ни выйдя к реке, ни взобравшись на ближайшую колокольню. На площади вы его видите, покуда вы вдалеке от широких плоских ступеней, ведущих к фасаду, который, когда приблизитесь вы, его заслонит, оттого что Мадерно отступил от планов Браманте и Микеланджело, равноконечный их крест заменил латинским, тысячу дет царившим в западном церковном зодчестве, и, покорясь завету отцов, тремя тяжелыми шагами сголпов и сводов шагнул ко входу, а затем широким притвором выдвинул вперед многоколонный, статуями увенчанный фасад.
Пять входов, два проезда по бокам; но мы не будем входить: не надышались мы еще мудрым простором, замкнутым простором площади. Ее в ширину положенный овал обрамляют слева и справа две колоннады в четыре ряда, причем внутренние ряды несколько дальше отстоят друг от друга, чем от внешних. 284 дорические колонны; над ними архитрав с низким аттиком, несущим статуи. Открыт овал к собору на ту же ширину, что и к городу, но эту открытость как раз и преграждает собор — не сразу, а позади второго отдела площади, которому дана форма трапеции, тогда как противоположная сторона теперь зияет пустотой из-за новой широкой улицы, ведущей к Тибру. Бернини этого не предвидел. Тут были наискосок прорезанные переулки, невысокие дома, приветливый беспорядок старого города; площадь была заграждена и с этой стороны — никакого сквозняка, никакого зияния. Вы нежданно попадали из каждодневного привычного хаоса в созданный искусством и религией космос. Так было еще недавно… Нынче остается только в пустоту не глядеть, проникнуть на площадь сбоку, сквозь колоннаду, подойти к одному из фонтанов — их два, между ними в центре обелиск, тот самый, из Гелиополя, что привезен был для цирка, где потом… Но вот вы уже и наяву, как во сне. Эти колонны и еще колонны за ними, это раскрытое объятие колонн, этот купол, фасад, статуи на фоне синего неба, это тихое восхождение по незаметным почти ступеням, приближающаяся глухо-золотистая шершавая желтизна камня… Теперь они круче немного. Войдем в собор.
Когда он полон, это ликование славы; когда он пуст, его огромность подразумевает присутствие — во всю ширь, во всю глубь — того, чего нам видеть не дано. В притворе полумгла; переступишь порог — свет, но другой, не солнечный, архитектурный. Широкие и высокие коробовые кассетированные своды, тяжелые карнизы, могучие опорные столпы — целые здания со статуями в нишах, пилястрами, колоннами; крупнейшие, подкупольные, такого размера, что Борромини свою церковку Сан Карлино возле четырех фонтанов с точностью уместил в пространстве, равном занимаемому одним из них. Это все и впрямь похоже на ту, близ Форума, базилику Максенция и Константина, о которой говорилось, что Браманте, замышляя собор, собирался взгромоздить поверх нее Пантеон. Только нынешний купол не таков, как задуманный им: он в вышину устремляется, а не покоится широко; он вертикально расчленен ребрами, показанными и внутри, хотя главная действенность всей его формы проявляется в наружном его облике, а не во внутреннем. Тут Микеланджело покинул Браманте и последовал за Брунеллески; флорентийскую традицию продумал заново, завершил и увенчал. Но подкупольное пространство собора, творение двух гениальных зодчих, все же возглавляет его с несокрушимой силой. Только оно дает нам ключ к верному восприятию его. Как мы на площади шли к обелиску, так здесь мы идем, пока не остановимся под куполом. В самом центре мешает нам стать папский алтарь под высоким бронзовым, на четырех витых колоннах балдахином Бернини и перед ним, со ступенями вниз, с вечно горящими лампадами — так называемая исповедальня, ведущая к предполагаемой могиле апостола Петра. Но тут, подойдя к балюстраде, когда мы глянем вверх, вперед и вокруг, нам откроется все величие храма, именно римское его величие, maxima rerum, древний Рим в христианском его осмыслении и просветлении.
Многое в отделке, в украшении собора — лучше сказать, в переукрашенности его, — не очень радует или к архитектуре его не совсем подходит. Уже балдахин Бернини или его же «престол святого Петра» в апсиде – поразительная бронзовая фантасмагория, апогей барокко, – как и великолепные его папские гробницы или статуя Лонтина в одной из подкупольных ниш, скорей сами по себе хороши, чем здесь хороши. Колоннадой лучше, чем ими, он собору послужил, хотя гений его не слабей в них проявился. Странным образом, однако, и ранняя Pieta Микеланджело (Богоматерь со снятым с креста Спасителем на коленях), творение строгое и нежное, хоть и трудно оторваться от него, когда мы перед ним стоим в первой капелле справа, скорее заставляет нас забывать об архитектуре собора: не дополняет ее, не связывается с ней. Она — «раньше» (да и не для собора предназначалась); балдахин и престол Бернини «позже», как и многое другое, как совсем уже чуждые этой архитектуре работы Торвальдсена и Кановы или вовсе безжизненные мозаические копии знаменитых картин XVI и XVII веков. Но вместе с тем, если вы эту архитектуру воспримете как нужно, вы убедитесь, что она сильней. Мелочны инкрустации из цветного мрамора, мелочна порой фигурная или орнаментальная каменная резьба, но для здания в целом все это, да и многое покрупней, как раз мелочью и остается, даже трогательным кажется — ишь ведь, бились, старались! — так безраздельно царствует оно над всем, что в себя вмещает. Мадерно хоть план и изменил, но не изменил пропорций. Микеланджело не зачеркнул замысла Браманте; развивая, усиливая его, он его преобразил. Свое, но и глубоко флорентийское — а значит, итальянское — высказал он куполом; свое, одно свое — наружным оформлением апсидной и боковых стен собора. Увидеть их, к сожалению, не так просто: просите разрешения. Ни с чем не сравнима их суровость, их трагическая тяжесть. Тесно окнам, тяжело пилястрам, ниши словно вздохнуть хотят и не могут вздохнуть. Тяжел самый ритм, которому подчинены выгибы этих стен. Мрачное largo, почти надгробное рыдание. А над всем этим — купол в свете и радости, высоко, свободно, легко.
Величие Рима.
ОТ ДЕВЯТИ ДО ЧАСУ: ВАТИКАН
Утро — солнечное. Небо — голубое. К счастью, это в Риме не редкость. Вы проснулись рано, открыли ставни; стукнули одной, стукнули другой. Разве нет радостей в жизни? Отчего мы так раздражительны и хмуры? Еще тихо, дышится легко. Дом напротив дремлет и застенчиво светлеет, точно улыбается во сне. Молоко везут в ручной тележке. Цветочница сортирует гвоздики на углу. Куда же сегодня? На тот берег? Решено! Уже неделя, как вы тут, а еще не побывали в Ватикане. Там — с девяти до двух, но к часу, пожалуй, проголодаетесь, да и не посмотришь всего сразу. А сейчас времени много. Можно пойти пешком.
Удивительный воздух в Риме. Отравляют его все усердней с каждым годом. К полудню или к часам пяти-шести на главных улицах цивилизация наша, нисколько не стыдясь, празднует и здесь свои зловонные и грохочущие триумфы. Но за ночь, словно волшебством, происходит очищение. Рождается день — чистый, как полвека, как двадцать веков назад; сверкает свет; молодеет старый город; так что не вспоминайте и вы колодцев серы в Дантовом аду, вчерашнюю via del Tritone. Вы сегодня и сами моложе, чем были вчера. Глотните горячего кофе, съешьте рогульку, здесь называемую по-французски (хоть и невпопад) бриошь, и бодро шагайте мимо бывшего монетного двора, того самого, знаете, где «Банк св. Духа», по улице того же имени, которая выведет вас к мосту Архангела Михаила, мост св. Ангела, с изваяниями ангелов Берниниевой работы (замененных, впрочем, копиями). А на противоположном берегу сразу предстанет вам круглое, с квадратной надстройкой и зубчатыми стенами, очень внушительное здание: некогда мавзолей императора Адриана, а потом тысячелетняя папская твердыня – крепость, тюрьма, палаццо в трудные времена, – плошками иллюминуемый раз в год, любимый горожанами, хоть для иных в былое время и зловещий, Кастель Сант-Анджело.
Впрочем, вы человек бывалый, незачем вам всего этого объяснять. Вот и насчет «Банка св. Духа» удивления вы не проявили: должно быть, меняли там деньги, если не в этой, самой старой его конторе, то в другой, и знаете, что основан он был в 1605 году, сразу же по восшествии на святейший престол, Павлом V Боргезе, коего род (не по этой ли самой причине?) преуспевает и по сей день. Я ведь и вообще вас вообразил только для того, чтобы вообразить себя в Риме вместе с вами. Вижу, миновали вы и ангелов, и Замок Ангела, – а хорошо было на мосту? Что скажете? Ведь а все за рекой сияет, как эти ангелы в такое солнечное утро, к и собор святого Петра почти столь же великолепно открывается с моста, как и с террасы Замка, куда непременно мы подымемся с вами в другой раз. Но теперь мы уже идем по тенистой, обсаженной деревьями широкой улице, в приятном этом, хоть и не старинном квартале, и скоро выйдем на продолговатую, тоже с деревьями, площадь е Рисорджименто; тут уж до входа в ватиканские музеи совсем недалеко. Торопиться не будем, выпьем еще один эспрессо, а потом — медленно в гору, по улице Льва IV, по ватиканскому виале — дороге, окаймляющей государство это с трех сторон, вдоль высокой голой стены… Когда-то в Апостолический дворец (таково подлинное его имя) проникали совсем иначе — обогнув собор, через сад; но теперь, уже давно… Вот и монументальный новый вход. Что же нас там ожидает?
Знаем. Бывали не раз. Однако безразличию не верьте — напускное. Ожидает нас тут многое, слишком многое. Но не все мы будем смотреть, а то, что будем, — не насмотришься на это, хоть каждый день сюда ходи три месяца подряд. Беда вся в том, что именно это смотреть, или, вернее, видеть, должным образом видеть, всего трудней, оттого что не одни мы, а все, все, все тоже хотят видеть именно это больше всего прочего. Не потому хотят, чтобы того требовала мода: мода совсем этого не требует; а потому, что старая привычная слава оказывается сильнее, да и в тысячу раз она тут справедливее всех мод. Нет, пожалуй, нынче менее модного художника, чем Рафаэль, но «все», о которых идет речь и которых обслуживают туристические агентства, от четырехсотлетней его славы еще опомниться не успели. Мод они не делают, да и не всегда знают о них; что же касается Микеланджело, то и те, кто делает моды, пренебрежения проявлять к нему не решаются, — так только, молчат, переводят разговор на другую тему, о чем непосвященные вовсе уж и не ведают. Бедняжки! Они еще и «Лаокооном» восторгаются, как (не без основания) восторгался им сам Микеланджело, когда извлекли его из-под развалин неронова «Золотого дома» в 1506 году. Они чуть раньше найденным Аполлоном Бельведерским любуются, не вспоминая о Гёте, о Винкельмане, но почти так же, как Гёте, Винкельман и многие, многие до и после них. Впрочем, если бы мы пожелали сегодня бесчисленные здешние «антики» осматривать, беспокоиться нам не было бы причины: в длинных галереях этих бывает пусто, не очень людно и в павильонах Бельведерского двора: «антики» развенчаны всерьез. Даже те, кто не в состоянии отличить римской копии от греческого оригинала, усвоили урок о том, что копиями следует пренебрегать. Даже в залах этрусских, египетских, в чудесном собрании греческих ваз бывает пустовато. Только нам от этого не легче: мы туда, куда и все, мы хотим Рафаэля и Микеланджело еще раз повидать, «станцы» Рафаэлевы посетить и Сикстинскую капеллу. А нашествие уже начинается — автокары подкатывают один за другим, посетители выстраиваются взводами, вожаки их окликают. Беда! Все-таки вы нас очень не жалейте. Мы ведь люди опытные, оттого мы без четверти девять и пришли, оттого у двери и стоим. Как только ее откроют, мы тотчас шмыгнем в лифт, а затем по нескончаемой галерее, где чего только нет, почти бегом, минуя библиотеку, дальше, все прямо, потом налево и вниз через Сикстинскую капеллу (другого пути нет), опять наверх через залу, где висят довольно ужасающие творения прошлого столетия (сторожа взирают на нас не без испуга)… Но вот мы и в Stanza della Segnatura. Никого. Мы спасены.
* * *
Могли бы мы, конечно, остаться в Сикстинскои капелле — другой раз так и сделаем, — но эти покои папы Юлия, я — расписанные Рафаэлем и его учениками, еще трудней, чем ее, осматривать, когда набиты они людьми и уши у вас и просверлены многоязычной болтовней их водителей и осведомителей. То есть осмотреть, пожалуй, возможно, но получить настоящее о них представление нельзя. Если же вы их уже видели, то вам хочется вновь их увидеть, а не просто убедиться, что они на прежнем месте, после чего останется вам только разглядывать их в книгах и на фотографиях — да ведь это не то, совсем не то! Теперь у вас впереди двадцать минут или полчаса; даже если вы этого не забыли, вас вновь поразит (фотографии как раз этого и не передают), до чего искусно вправлены композиции эти с их созданным живописью пространством в реальное пространство этих средней величины зал, предназначавшихся вовсе не для них. Тут были другие росписи больших мастеров — Синьорелли, Пьеро делла Франческа; Юлий II повелел их соскоблить, как отменил и собственные заказы Содоме, Перуджино, Лоренцо Лотто. Когда седовласый еще Браманте в конце 1508 года представил ему своего двадцатипятилетнего земляка, он тотчас «поверил в Рафаэля», угадал его гений, как незадолго до того гений самого Браманте, гений Микеланджело, и без малейших колебаний поручил ему роспись всех четырех зал, или «станц». Мы с того зала начинаем, с которого начал и он. Тут направо — «Диспут», вернее, «Триумф Церкви», налево — «Афинская школа», над одним окном — «Парнас», над другим — «Добродетели» (три женские фигуры и ангелочки), то есть по идейному содержанию Истина (небесная и земная), Красота (воплощенная в творчестве), Добро и Правосудие (две фрески, относящиеся к этой последней идее, написаны не Рафаэлем или не полностью им). Те три женские фигуры образуют прелестнейшую линейную мелодию; «Триумф Церкви», «Парнас» скомпонованы и строго, и свободно; заметны в них, однако, некоторые следы ученичества, несогласованность изобразительных приемов. Наибольшую зрелость являет «Афинская школа». Академиям всей Европы служила она учебником, но ведь и Расином, Гёте, Пушкиным муштруют ребят, и все же остаются они Пушкиным, Гёте, Расином, а ребята, подросши, могут и смекнуть, что на школьной скамье они их только по складам читали. Платон и Аристотель «Афинской школы» стоят под высоким сводом на средней линии одного из рукавов крестообразного великолепного здания, написанного, вероятно, Браманте, по которому можно судить, каким был бы собор св. Петра, если бы успел построить его он. Но и Рафаэль был архитектор — в живописи, как и в архитектуре, — и фигуры этой фрески архитектурно сопоставлены одна с другой и вместе с тем органически включены как в ее архитектуру, так и в архитектуру зала, откуда мы на них смотрим. Этого, однако, когда в зале толпа, когда пространство ее сведено на нет, ощутить невозможно, как и невозможно, подойдя ближе, оценить живописные качества этой якобы сухой, якобы рисунком одним живой и действенной живописи.
Рафаэль — изумительный живописец в самом непосредственном смысле слова, мастер тона, мазка, красочного письма. Он только не хвастает этим, не щеголяет своим «брио»; он и вообще образец изящества, которому щегольство совершенно чуждо. Посмотрите, например, какова живопись в «Афинской школе» налево внизу, возле увенчанного виноградными листьями Эпикура, и как написаны его лицо, волосы, сами эти листья. Вся эта красочная ткань не менее жива, чем у венецианцев, да и несомненно, что Рафаэль, самый восприимчивый из гениев (один ему тут соперник Пушкин), именно в это время и воспринял их урок. Это еще заметней в соседнем зале, где встречают нас «Изгнание Илиодора», «Больсенская месса», «Освобождение Петра» — лучшие создания мастера, наряду с поздними его портретами и Мадоннами.
В 1511 году приехал из Венеции — перебежал от Тициана к Микельанджело, — отличный живописец Себастьяно дель Пьомбо; было у кого набраться красочного уменья. Но не сумел бы приезжий так использовать то, чему надоумил соперника. Как золотятся венецианские купола внутри храма, где первосвященник склонил колено перед алтарем, и сверкают доспехи небесного всадника, повергшего наземь Илиодора! Как бархатисто и влажно написаны тут же папа Юлий и приближенные его! А портреты того же папы и швейцарских его стражников в «Больсенской мессе», столь естественно, то есть сверхискусно вкомпанованной в подаркадное поле, ассиметрично прорезанное окном! И еще поразительнее, напротив, ночное освобождение светоносным ангелом апостола за решеткою тюрьмы — одно из величайших созданий европейской живописи. Как слепы те, кто этого не видит…
Но вот уже прижимают нас к стене. Тридцать человек, и объяснения по-голландски. Не знаю, слепы ли эти, но нам они видеть не дают. Скорей в Сикстинскую капеллу: что-то делается там? Остальные две станцы лишь частью и с помощью учеников расписаны Рафаэлем. Протолкнемся! В Лоджии заглянем позже, как и в ту тихую тесную капеллу, расписанную за полвека до того монахом из Фьезоле, ангельским и блаженным фра Джованни, над чьей могилой в Santa Maria sopra Minerva (мы пойдем туда еще сегодня) все горит негасимой лампадой желтенькая электрическая лампочка. Да и могиле Рафаэля поклониться зайдем, неподалеку оттуда, в Пантеоне…
* * *
Удивляюсь тем, кому дано не удивляться; тем, кто тут, в Сикстинской капелле, аккуратно рассматривает сперва нижний ярус, потом, ломая шею, плафон; потом, перестав ее ломать, алтарную стену. Приходится! Порядок правильный: в три приема создавалась роспись, с одинаковыми примерно промежутками — тридцать лет, и опять без малого тридцать лет. Так и я не раз смотрел, но с каким ворчливым усилием и настойчивым самообузданьем! Чуть подымешь голову к потолку, и уж не оторваться от него! А если оторвешься, глянешь пониже — чинные, терпеливо – повествовательные фрески Перуджино, Гирландайо, Боттичелли, хоть и много хорошего в них есть, покажутся ничтожными и ненужными, не говоря уже об изображениях канонизированных пап над ними… этих никогда, пожалуй, и не рассматривали, а те убиты. Жилось им тут неплохо, покуда над алтарем Божия Матерь Перуджино скромно поднималась из гроба к престолу сына, а потолок усеивали звезды, золотом по синему. Тридцать лет пожили, Бог с ними. Но Микеланджело спорит и с самим собой.
Потолок архитектурно расчленен, и живопись с этим членением сочетает свое, ступенчатое, причем обрамленные поля разнятся и по форме, и по формату в соответствии с размером и удельным весом (степенью иллюзорной объемности) размещенных в них сюжетов или фигур. Алтарная же стена никак не расчленена, и огромная, сплошь из тел человеческих состоящая, безо всякой рамы композиция занимает ее всю. Нет стены, вместо нее — Страшный Суд. И это видение конца, если поддашься ты ему, зачеркнет начало, не позволит тебе вернуться к Сотворению Мира, к первым главам Книги Бытия, к предкам Спасителя, к пророкам и сивиллам. Два раза воля Микеланджело подверглась насилию, и два раза он ответил на него удесятеренной силы взрывом той же творческой воли. В 1508 году папа Юлий оторвал его от работы над им же заказанной гробницей, включавшей, по замыслу, сорок изваяний во весь рост, повелел ему променять резец на кисть; и он бежал было во Флоренцию, но вернулся, покорился. Двадцать восемь лет спустя Павел III Фарнезе снова его оторвал от все той же, так по-настоящему никогда и не законченной работы и заставил его приняться за Страшный Суд, который еще при жизни автора Павел IV Карафа приказал содрать со стены и отменил приказ, лишь уступая мольбам усердных и влиятельных заступников.
Но не будем вспоминать, будем глядеть, покуда есть место на скамьях и не гудит еще толпа, как на вокзалах подземных дорог в часы возвращения домой после работы.
Запрокинув голову, уйдем как можно глубже в этот мир, о котором Гёте сказал, что не видевший его не знает могущества, отпущенного человеку. Ваятель, измеривший могущество это до предела, измерял его кистью, но остался и тут ваятелем. Все эти «putti», все «ignudi», одушевленная телесность мира, обнаженная его юность, мощное его младенчество, все действующие лица библейского рассказа, все пророки и сивиллы, творящий Бог и сотворенный им Адам — это все изваяния; в десять раз их больше, чем должно их было быть на гробнице папы Юлия. Сперва, в кручине своей, в затаенном своем гневе предполагал Микеланджело ограничиться двенадцатью апостолами, в рамах, без большого движения; но потом, когда построил леса, понял он, лежа на верхних досках, к какому простору его приковали, на какую свободу обрекли. Сказал он папе: «Бедновато будет». И получил знаменитый ответ: «Делай что хочешь!» Тему он, конечно, не сочинил, но выполнил все, как хотел, дал себе волю — эта банальная формула приобрела здесь смысл, которого никто другой не мог и не сможет в нее вложить. Глядишь — и точно слышишь глухое клокотанье вымышляющей все новые положения и движения созидательной энергии. Напряжение ее в четырехлетней работе не ослабевало, а возрастало. Роспись шла в порядке, обратном библейскому рассказу, причем размеры фигур росли, а движения их усложнялись и все меньше сдерживались рамой. Всего сложней построена фигура последней, ближайшей к алтарной стене ливийской сивиллы; всего могущественней последние два пророка — Иеремия в глубокой скорби и богоборческий Иона в своем вызове и отчаянии. Но могущественно все, и все пластично, объемно до предела, из чего, однако, не следует, что кисть упразднена, подменена резцом. Плафон Сикстинской капеллы — чудеснейшая живопись, вся выдержанная в нежно-серых, голубоватых, лимонно– и оранжево-желтых тонах, несравненно сочетающихся с тоном мрамора, подлинного или изображенного. Это — первое впечатление от него; пусть оно будет и последним.
Оно останется. Оно сохранялось много лет после давнего первого знакомства, но что тогда еще глубже запало в душу, это его поражающая трагичность. Не повторилось ни разу во всей истории искусства сочетание это — такая сила и такая грусть! Верно было сказано, что не может Микеланджело передать движения, тут же не поставив ему препятствий; не может изобразить покоя, тут же не выразив того, что губит покой. Грозен Творец светил, а когда посветлел он, глядя в глаза Адаму, с грустью глядит на Него Адам, скорбно принимает бытие. Даже предки Христа, эти «семейные картины» в треугольных распалубках свода, — справедливо сказал о них тот же историк (Эрвин Пановский): «Супруги, пребывая вместе, печальны; дети приносят родителям больше горя, чем радости. Даже сон не дает людям облегчения — охватывает утомленных, как дурман, тела остаются в сложных, изломанных положениях, спящие похожи больше на мертвых, чем на спящих».
Если таково начало, каков же будет конец — день гнева и суда? Вот он перед нами. Какой водоворот или водопад атлетических, обнаженных тел! Ничего, кроме них; только внизу мрачная полоса земли да ладья Харона. Карающая десница поднята…
Нет. Пора уходить. Полным-полно. Содержимое автокаров сплющивается с нами в одно тесто. Говорят вполголоса, но гул растет. Вожаки перекрикивают его по-румынски, по-датски, по-испански. Сторож свирепо: шшш..! Но мы прикованы, и оторваться трудно. Страшный Суд! Могуч и грозен Судия, неподвижным взглядом к отверженным обращен и, как Матерь Его, прижавшаяся к Нему, грустен, несказанно грустен. Не радостны и спасенные. Мускулистый грешник, которого дьяволы увлекают вниз, закрыл ладонью глаз, а другим глядит перед собой не в ужасе только, но и в бездонной грусти. Чуть выше и налево апостол Варфоломей показывает Христу нож, которым содрали с него кожу. Ее он держит в левой руке, и виднеется посреди нее нечто вроде трагической маски: это мастер на ней начертал скорбное свое лицо…
Гул. Хоть уши затыкай. «Шшш!» Протиснемся к двери. Вот если бы наедине… Но кто же достоин с такими образами, с Иеремией, с Творцом — и с их творцом — оставаться наедине? Или готовиться к этому надо — воздерживаться, поститься, как он сам, сказавший ученику: «Пусть я и богат, но жил и живу бедняком»…
Теперь мы в географической галерее, расписанной картами Италии, планами городов. Длинная вереница… И подумать только: то видение, скольким рисовальщикам заменяло оно мертвецкую или анатомический театр! Краски потемнели и погрубели. Копоть на них легла от свечей и ладана. Служат и нынче обедню на этом алтаре. Поднимают чашу ко гневу Судии. Наготу Пий IV велел прикрыть. Богоматерь и та была хоть и боком повернута, но обнажена. Даниэле де Вольтерра подмалевал, что нужно. А его учитель? Зашел взглянуть? Никто нам об этом не рассказал.
Вот и терраса. Остановимся на минуту. Как сияет недоступный нам сад, где никого — никогда не видно никого. Только римские сосны и купол в синих полдневных небесах. Стройный, легкий… Мастер, не грусти. Это твое светлое творенье.
ПЬЯЦЦА НАВОНА
Начну день, перейдя Тибр, в милом сердцу моему заречье, а позавтракаю у Мастростефано на самой римской из римских площадей.
Так бывало наяву, отчего не быть этому в мечте? Да и что там — «бывало»? Ведь было совсем недавно, пригожим солнечным утром в октябре. И с чего это я по-старинному начал изъясняться — «милый сердцу», «пригожий», — с подозрительной какой-то, осенней и прощальной ласкою? «Кто смеет молвить до свиданья…» Но разве я знаю? Видел не раз и еще увижу, может быть.
Только нет, в этом невольно взятом мною тоне есть что–то и другое. Когда я сидел за столиком в то утро против Santa Maria in Trastevere, я уже думал в этом самом тоне и словно в прошлое переносил все то, что видел вокруг себя. Ну, положим, не все, не машины, конечно, что втыкались одна в другую и яростно трубили на мосту, а ту площадь по мере сил уродовали, хоть и не очень их там было много. От уродства как раз и приходится ограждать себя мечтой. В памяти оно — у меня по крайней мере — не остается или хранится в ее подвалах, так что фонтаны римские помнятся мне, как будто грузовики никогда их от меня не заслоняли. А вот когда все эти заслоны, да еще грохочущие, тут как тут, тогда остается одно — воображать, что их нет, то есть, будучи в Риме, еще и мечтать, что ты в Риме.
Глядел я на церковь, на площадь и мечтал, что на них гляжу. Препятствия мысленно устранял: это нетрудно, они здесь небольшие. Но, кроме того, и вообще всей нашей современности говорил: простимся, до скорого свидания Нечего тебе делать в старом Риме. Обойдется он отлично и без тебя. А уж тут, в Трастевере, и совсем тебе не место: ты насквозь городская, а внутри города деревня. Теперь, в рабочие часы, не так это заметно; строили тут не иначе, как и на том берегу; долговечные церкви воздвигали и толстостенные палаты, камнем улицы мостили… Но под вечер, когда спускался я с Яникула, какая пестрая, как на деревенской ярмарке, наполняла эти улицы толпа! Яблоки, груши, виноград, всяческая снедь и бакалея продавалась с возков и лотков. Лавки — дверь и окно, как встарь, без всяких стеклобетонов, — торговали весело и многолюдно. Ребятишки кидались за мячом прямо тебе под ноги, не боясь машин, раздвигавших изредка толпу. Женщины, сидя у порога домов, вышивали по канве или грудью кормили младенцев. Всюду слышался римский особый говорок, тот самый, пользуясь которым полтораста лет тому назад, Белли написал свои две тысячи любимых здесь, да порою и впрямь прелестнейших сонетов. На языке этом и нынче бранятся, любезничают, торгуются и обмениваются новостями в коренном, простонародном Риме. Его и аристократы здешние знают, не какие-нибудь, без году неделя, а настоящие, прежние, те, что среди этого народа родились. До палаццо Корсини тут рукой подать, как и до Фарнезины. Да и везде в городе и за городом жив еще этот говорок Латынь тут звучала и умолкла, тосканская речь зазвучала и поныне звучит — lingua toscana in bocca romana — всего чище, уверяют нас, на римских именно устах. Но есть тут еще и этот, свой собственный, столично-деревенский говор. Если бы жить мне в Риме, непременно научился бы ему.
Как это любопытно, думал я, сидя за своим столиком против церкви и слушая, как лопочут мои соседи быстро-быстро по-римски. Ведь вот не нашлось же и не может найтись никакого Белли, который стал бы писать сонеты на зубоскальном лондонском «кокней», на издевательском парижском, на берлинском язвительном арго. Это уж все городские до мозга костей, табачно-спиртные говорки, для прибауток годные, для частушек, пожалуй, но не для сонетов, пусть порой и шутливых. А тут — город, всех парижей и лондонов древней, но с землей не разлучен; я еще видел сам не так давно, как вспахивали поле у самых его стен. Не тракторы пахали, а волы. Да и какой крестьянкой глядела вчера молодая мать, грудью кормившая первенца. Оттого, должно быть, и язык их еще певуч, если не тараторить на нем, как за столиком тараторят мои соседи. Да и сами они, большинство здешних простых людей: едкости городской как-то в них не чувствуешь…
Здесь мы, впрочем, в Цэастевере. Это — Рим, но не совсем теми людьми он заселен, что живут в других кварталах Рима. И жизнь не совсем здесь та же, — более похожая на ту, которая шла прежде на обоих берегах. Старая папская столица, хоть и столетие минуло с тех пор, как ее больше нет, как-то ближе отсюда, чем за мостами столица объединенной Италии. Оттого тут и восстанавливаешь прошлое, даже совсем насчет этого и не стараясь.
Вот пересекают площадь, направляясь к церкви, два молодых аббата в длинном черном своем одеянии, в черных плоских шляпах с широкими, загнутыми вверх полями. Мальчуган пробежал с палкою в руке и вцепившейся в эту палку собачонкой. Беспечного вида оборванец подошел было к фонтану, охотно, должно быть, сполоснул бы руки, подставил бы пригоршни под струю и напился воды. Да фонтан здесь отчего-то за решеткой, — не удалось. Сел на тумбу отдохнуть… Это все и сто лет назад могло быть точно так же. И я за столиком тоже: разве не приезжали во все времена чужеземцы поглазеть на Рим?
Вот и сейчас гуртом устремились в церковь, где я успел уже сегодня побывать — а до этого в трех других, после чего и отдыхаю здесь, невдалеке от оборванца, которого собираюсь угостить стаканчиком какой-нибудь желаемой им влаги. Но вот он уже и ушел. Лопочущие мои соседи тоже. В кафе у стойки людей немало, но за его столиками на площади никого, кроме меня. Стрелка часов на колокольне еще только приближается к десяти. Торопиться незачем. Посижу еще. А потом загляну в Фарнезину, перейду мост, погляжу на то и на это, зайду сам еще не знаю куда и сквозь гущу старого Рима проберусь к той длинной просеке в нем с закругленными концами, где положил я завершить нынешнее утро порцией барашка, которого зажарит для меня сам маэстро, или, по-римски, мастро Стефано.
Честь и слава тебе, древняя церковь Santa Maria in Trastevere! Стой и славься после меня столько же и больше веков, чем до меня. По преданию, ты была первой церковью в Риме, не внутри дома спрятанной, открытой, а в IV веке ты наверняка существовала; в XII отстроили тебя заною, не изменив плана; в конце следующего Каваллини мозаиками тебя украсил (те, что на фасаде, выполнены были раньше, но от поновлений сильно пострадали); портик перед фасадом в XVIII веке возвели — и ничего, совсем не обидно для тебя это вышло; а за сто лет перед тем под прямым углом к тебе построили дворец, еще и теперь принадлежащий Святейшему Престолу.
Слава и дворцу! Хорошо мне тут, на площади, с тобой и с ним; да и на другие дома кругом никому глядеть не стыдно, и величия в простоте своей они, как в Риме и надлежит, не лишены. Хорошо. Да и, думаю, оборванцу тому было хорошо, оттого что хоть и два гроша в кармане, а все же человеку и в нищете лучше там, где он от земли не оторван, где небо от него не спрятано и где величие построенного людьми природу не зачеркивает и остается человечным.
Коренной римлянин, кроме того, еще и чувствует себя тут дома и гордится, конечно, тем, что он дома именно тут. Но и чужеземец христианско-европейской культуры (а какой же еще? Другой ведь у нас и нет…) не чувствует себя здесь чужим или, по крайней мере, не должен чувствовать. Мы наследуем здесь всем нам общее наследство.
Только что я в базилике этой, как по широкой аллее, обсаженной двумя рядами колонн, медленно шел к алтарю, над которым темным золотом мерцали чудесные мозаики Каваллини, близкие к иным нашим иконам, византийствующие гармонией своих композиций, музыкальной линией и вместе с тем преподавшие Джотто и сквозь него Возрождению такой высокий урюк ясности и простоты. Разве это нечто мне — или англичанину, немцу, чеху, венгру — чужое? Или у св. Цецилии, неподалеку, его же «Страшный Суд», где так милостив облик, пухлощекий немного и славянский,
крепкий облик Судии. Сегодня я его не видал, хоть в церкви той и был, потому что роспись эта не в ней, а в прилегающем к ней женском монастыре, и на этот раз у меня не было к ней доступа. Но церковь св. Цецилии, так забавно переделанную в XVIII веке на какой-то церемонно-«хорошенький» лад, посетить было все-таки приятно, как и строгую, несмотря на все переделки, базилику св. Хрисогона; да и в церковь Франциска — S. Francesco a Ripa — я тоже зайти не позабыл, чтобы заглянуть в совсем другой мир, тот, куда предстоит погрузиться мне теперь и в котором точно так же не чувствую я себя чужим, — в патетически пышный, и взволнованный, и торжественный мир римского барокко. Есть тут, во францисканской этой церкви, капелла семьи Альтьери, для которой Бернини в мраморе изваял св. Людовику Альбертони в момент мистического экстаза или, верней, экстатического изнеможения. Произведение это менее знаменито, чем сходное по замыслу изображение св. Терезы в S. Maria della Vittoria, но мало в чем ему уступает, только фотографии его еще хуже передают. Надо видеть все вместе — спереди внизу откинутое светло-коричневого мрамора с белыми жилами огромное тяжелое покрывало, складки которого, бурные, как бушующий прилив, точно аккомпанируют в басах пронзительно белому ложу и одеянию монахини, ее откинутой на подушку голове, прижатой к груди руке, но и быстрым беспокойным складкам более тонких этих тканей, точно какому-то скрипичному пиццикато, вихрем пронесшемуся и застывшему у нас перед глазами; между тем как фоном этому служит Мадонна с Младенцем и св. Анной, живописная композиция Бачиччии, красочно насыщенная, благостная, спокойная, а по бокам и сверху ангелочки — одни головки с крылышками — так умилительно трепещут, обещая небесную прохладу горящей в огне своей веры живой человеческой душе…
* * *
Сладко Рим узнавать, но слаще, пожалуй, его знать. Не раз я все это видел, и за столиком этим сиживал не раз, и сейчас пойду в места, издавна мне знакомые. Неисчерпаем этот город. Не только тем, что всегда тут остается еще не виданное, но и тем, что увиденное всегда хочешь вновь увидать и видишь с новою отрадой. Никогда я больше месяца подряд здесь не жил, но мне кажется, проживи я тут всю жизнь, пресыщения так бы я и не узнал. Предвкушаю, расплачиваясь за мой кофе, темную громаду дворца Фарнезе, но когда взгромоздится она передо мной, будет то, чего не было, — не было, хоть и было, — будет новое свидание, будет повторение, о котором столь многие не знают, сколь многих даже музыка не научила, что оно может быть не менее прекрасно, чем увиденное в первый раз.
Да и нет повторений. Наши дни и часы неповторимы. Разве музыка не знает, что в каждом ее повторении новый шаг от начала к концу, новый шаг и новый смысл? Какой легкой и светлой показалась мне нынче Фарнезина! Вероятно, потому, что заранее в мыслях у меня был дворец, который я увижу после нее. Контраст этот мне, как и всем, был, разумеется, известен, но с такою силой, как в тот день, я его еще никогда не ощущал. Фарнезина лишь позже получила это имя, когда куплена была владельцами дворца, предполагавшими одно время соединить ее с ним висячим мостом поверх Тибра. Построил же виллу сиенский банкир Агостино Киджи около 1510 года, то есть всего лет за пять до того, как кардинал Алессандро Фарнезе, будущий папа Павел III, приступил к постройке дворца, достроенного, однако, лишь через тридцать лет после того, и не кем-нибудь, а Микеланджело (начал его строить младший Антонио Сангалло, Фарнезину построил в очень рафаэлевом духе Перуцци).
За это время произошли в итальянском искусстве крупные перемены. Сильнее, чем где-либо, именно в Риме изменился и весь жизненный уклад Людям, видевшим постройку Фарнезины, впервые глядевшим на «Свадьбу Александра и Роксаны» Содомы, на «Галатею» Рафаэля, на «Историю Амура и Психеи» его же и его школы, какой вдвойне скоротечной должна была казаться молодость века, которой так скоро, уже в двадцатых годах, пришел конец. Вскоре после смерти Рафаэля (1520) и особенно после взятия и разграбления Рима швейцарскими наемниками Карла V (1527) — какой странной должна была казаться и беспечальная эта живопись, и непринужденная ясность, гармоничность этой архитектуры. Фарнезина не великолепна, она только совсем хороша. Войдешь, и становится легче дышать. Радуешься и думаешь: ну да, так и должно быть, это и есть жизнь, для этого и дана, только это она и есть! Все остальное — гримасы и причуды.
Ну вот и расстались. Хрустя по гравию в ее саду, выхожу на улицу, перехожу ponte Sisto, Сикстинский мост, построенный тем же папой, который построил Сикстинскую капеллу, и пройдя всего несколько шагов по длинной, прямой как стрела виа Джулиа — первой улице такого рода в Риме, проведенной папой Юлием II, — заворачиваю направо, вдоль боковой стены палаццо Фарнезе выхожу на площадь и становлюсь посредине, между двух фонтанов, откуда во всю ширину предстоит мне его фасад. Великолепны эти фонтаны с фарнезианскими лилиями и гранитными чашами из терм Каракаллы. Но я уверен, что очень немногие их видели: трудно оторвать взор от великолепия дворца. Микеланджело тут принадлежит только карниз и среднее окно с балконом, но огромный этот, мощно выдвинутый вперед, грозно нависающий карниз придает фасаду непредусмотренное в первоначальном его замысле выражение, как и двору, куда мы сейчас войдем, третий его этаж, которым Микеланджело и увенчал и придавил два первых.
Как же это так? Была ведь только что Фарнезина, и вот исчезла, улетучилась, точно и не было никогда ее. Как безулыбчиво! Как немолодо! Все величие это нести нужно, как тяжелую ношу, торжественным медленным шагом, от колыбели до гроба, как атланты несут тяжесть мира на могучих плечах… Так начинается барокко. Не все оно в этом и не сразу оно в те времена началось; но Микеланджело все же в архитектурном творчестве своем первый расстался с улыбкой, первый пошел по пути, откуда к Фарнезине возврата нет. Нужно забыть ее. Теперь мы в мире римского барокко. Со всех сторон, покуда приближаемся мы к нашей площади, окружают нас его церкви и дворцы. И она сама, пьяцца Навона, с тремя фонтанами своими, с церковью св. Агнесы — одно из лучших его созданий, одно из чудес, одно из римских чудес. Кто тут не был, тот города не видал. Древний стадион полностью сохранил общую свою форму; дома, окаймляющие его, хоть и разных времен, разношерстными не кажутся, и Борроминиева изумительная церковь, со своим овальным (в ширину) куполом, двумя башнями по бокам и прилегающими с двух сторон одинаковыми домами, управляет всей площадью и дает ей единство, которое тотчас мы почувствуем, какая бы из впадающих в нее улиц нас к ней ни привела.
Как ни хороши фонтаны Бернини, особенно средний, с обелиском (за один из боковых ответствен вообще лишь прошлый век), но все же не он, а соперник его здесь царствует. Пусть Райнальди, а не Борромини начал строите эту церковь, но закончил он ее так, что тем самым и всю площадь завершил, сделал ее этой площадью. Попадешь сюда, и трудно отсюда уйти. Вот я усядусь сейчас прямо против церкви у Мастростефано; прикончу своего барашка (в Риме называемого «абаккио»), допью свой графинчик фраскати, и что же, так-таки встану и уйду? Нет. Я пойду рядом или наискосок в кафе и там за чашечкой своей долго еще просижу, на площадь глядя. Почти так же трудно расстаться с ней, как расстаться с Римом. Заливали ее до середины прошлого века водой (в августе, по субботам и воскресеньям) и веселились при этих случаях до одури; да и сейчас веселятся на ярмарке игрушек и сластей в день Богоявленья, 6 января. Рано утром бывает пуста, и до чего хороша! Вообще же, что и говорить — достопримечательность. Полагается: глядите. Толпы то нахлынут, то отхлынут… А только есть в ней тишина, которую ничем не заглушить. Есть стародавняя замкнутость и при всем величии уютность, которую ничем не вытравить. Думаю, это сердце Рима. Если бы надо было обозначить Рим какой-нибудь частью Рима, я бы назвал его именем этой площади.
ИСПАНСКАЯ ЛЕСТНИЦА
Приезжему, если он в Риме уже бывал, не может не казаться иногда, что его тень водит его по Риму. Но и он, и тот, кто здесь впервые, еще глубже, еще неизбежней чувствует — даже и не думая о том, — что ведут его те, кого больше нет, что идет он, куда бы он здесь ни шел, по бесчисленным чужим следам. Нужна крайняя наивность, чтобы думать, что увидели мы Рим совсем по-своему, одними собственными глазами, как если бы никто до нас его не знал и не видал. В такой наивности не отказано лишь тем, кому и вообще даны глаза лишь для подтверждения открыток. Остальным другой надежды нет, кроме той, что научатся они во всеми виденном порою находить то, что им одним предстояло в нем увидеть, или — уже и это хорошо — живое слово уловить в себе, точней приложимое к тому, о чем говорилось много раз и ведь не всегда пустыми, ничего не значащими словами. Для этого требуется, однако, и яснее осознать, что не первые мы все это видим, и вместе с тем эту мысль полюбить или хоть свыкнуться с ней, перестать ее пугаться. Среди всех священных своим и чужим старинных городов в Риме требование это всего слышней, оттого что сама эта мысль предстает нам здесь с наибольшей силой. Чужеземцу сюда до такой степени проторен путь и приготовлен здесь прием, что есть тут для него хоть и не совсем как в старой Москве Немецкая Слобода, но все-таки город в городе, с чужеземною приправой: наш Рим или нарядный Рим (как я его называю про себя), где исстари положено ему жить-поживать и добро проживать, да и мечтать, что он там, когда он уже не в Риме.
Стеною, что и говорить, этот «наш» Рим не обнесен, и не избежал он в веках кое-каких перемен, перемещений и вовне лежащих дополнений. Когда провели железную дорогу и северяне начали в Рим приезжать не с севера, а с юго-востока, то, разумеется, стали строить гостиницы неподалеку от вокзала, но эта вокзальная «слобода» нарядного Рима не упразднила и сама нарядной не сделалась.
Рим, где иностранцам предки завещали жить и не тужить, остался там же, где он был в последние полтора века папского Рима; между Корсо и склонами Пинчио, кончаясь примерно у площади Барберини, откуда за последние 30 лет стал он к тому же Пинчио подступать по широкой новой улице, столичной и безличной, не по-римски хвастливой, не по-римски щегольской. Настоящую, милую, ласково-небрежную нарядность он, однако, в старой своей части сохранил, где всего охотнее селятся и теперь иностранцы, по душевной склонности находящиеся в Риме. На грохочущем Корсо, где некогда жили Гёте и Шелли, мало кто нынче изберет жилье, но у Гоголя на виа Систина, у Стендаля на виа Грегориана есть еще хоть отбавляй соседей-форестьеров, и где же им лучше чай по-английски подадут, чем против того дома у подножия Испанской лестницы, где на руках своего друга Северна двадцати пяти лет от роду умер Китс. Похоронили его, как и Шелли, возле пирамиды Гая Цестия, далеко отсюда, но цветы, что продают под его окном, — будем думать — они для него; и гораздо больше их здесь, чем на его могиле. А в мае вся лестница розами цветет, пододвинет Северн его кресло к окну, и будет он ими дышать, и кашлять перестанет…
* * *
Лестница эта даже и без цветов — самое нарядное, что есть в нарядном Риме, и она — центр его (еще будет о ней речь). Перед ней, на стыке двух треугольников, образующих Испанскую площадь, — продолговатый плоский водоем с полузатонувшей мраморной баркой; за площадью — сеть узких улиц, рассекаемая посредине, — но слегка наискосок, чтобы не было скучной-подтянутой, пряменькой, окаймленной уютными, при всей нарядности, лавками, любезной заальпийским сердцам виа Кондотти. Предел ей кладет, и веем параллельным ей улочкам, Корсо; а с другой стороны, под острым к нему углом (если с Пьяцца дель Пополо взглянуть), столь же форестьерами излюбленная виа дель Бабуино, прозванье свое получившая, однако, от местных жителей, принявших фонтанного Силена, некогда красовавшегося тут, за изваяние обезьяны. Туземцы эти и сейчас не покинули мелкоскрещенные улочки, где так славно приперчивает коренная римская речь разноязычный говор, доносящийся из лавочек, подвальных остерий или окон маленьких гостиниц. Больших тут немного, но верность этим местам хранят и те иностранцы, которые живут не здесь. Гостиницы «Россия» на виа дель Бабуино больше нет, но англиканская церковь Всех Святых тут как тут, равно как и старинная, католическим грекам отведенная, церковь св. Афанасия. Об этой улице и соседних с ней англо-ирландская путешественница леди Морган, видевшая их в 1820 году, писала, что они с Испанской площадью образуют настоящую британскую колонию. Пожалуй, и нынче встречаешь здесь чаще всего англичан и американцев; да и крупнейшее американское бюро путешествий должно быть, не случайно приютилось тут, на площади, против давшего ей имя палаццо испанского посла при Апостоличском Престоле. Но «колония» тут все же не англосаксонская, а всемирная; да и прежде «нарядный Рим» принадлежал всем европейцам вкупе, а не только англичанам. Здесь и XX век еще с XIX не порвал. Любопытно, что и обе знаменитые старые фотографические фирмы хоть за последние годы и переменили адрес, но остались в тех же, что прежде, местах: Алинари — неподалеку от виа Кондотти, Андерсон — по соседству с Испанской площадью.
В более отдаленные времена было, однако, не так. Наш этот Рим, он новешенек по сравнению с Римом. Старейшая гостиница города «Медведь», где останавливались Рабле и Монтень,— а по преданию (отнюдь не достоверному), и Данте, — находится не здесь, а недалеко от площади Навоны, близ прелестной церковки св. Антония, принадлежащей португальцам; а другая — «Солнце», где жил Ариосто в 1513 году, – в тех же краях, но ближе к Пантеону. Въехав в город по Фламиниевой дороге, Ариосто, Рабле, Монтень и другие приезжие, их и следующие века, сворачивали с нее (то есть с улицы, которую мы, в память прежних увеселений, называем Корсо или Беговой) не налево, к холмам, а направо, в сторону реки, здесь и находя себе пристанище между мавзолеем Августа, лишь при Муссолини принявшем свой нынешний «археологический» вид, и, скажем, термами Агриппы, в самой гуще старого Рима, под которым дремлет и нынче древний Рим, как бы усердно ни заботились с тех пор о его хотя бы частичном пробуждении.
Повсюду встречаются тут и церкви различных наций, напоминающие нам о средневековом смысле этого слова, не совсем том, какой присущ ему в наши дни. О португальской я уже упомянул, но нынешняя испанская Санта Мария ди Монсеррато называлась некогда «каталанской» в отличие от церкви Пресвятой Троицы на улице Кондотти, которая «испанской» была всегда, как другая Троица невдалеке от церкви каталонцев была некогда церковью шотландцев. Теперь это английская католическая церковь св. Фомы Кентерберийского. Есть тут, в двадцати шагах от Навоны, церковь «немцев» Санта Мария дель Анима, а по другую сторону площади, в столь же малом расстоянии от нее, церковь св. Людовика, французской нации, Сан Луиджи деи Франчези, куда ходят любоваться тремя холстами Караваджо и где стараниями Шатобриана помянуты Пуссен и Клод Лоррен. Но в первом случае к «немцам» причислены фламандцы и голландцы — в этой церкви гробница последнего неитальянского папы Адриана VI, из Утрехта родом, — а кроме церкви французов, есть в Риме и церковь бургундцев (SS. Claudio е Andrea degli Borgognoni), и церковь бретонцев (S. Ivo die Brettoni), перестроенная в прошлом веке и причисленная к французской «нации». Находится она возле палаццо, где три года жил Торквато Тассо в качестве гостя кардинала Гонзага, но который носит имя позднейших его владельцев, князей Голицыных. В Риме были и есть русские церкви, но папский Рим признавал, разумеется, лишь католические «нации». Однако русское имя в номенклатуре римских зданий не единично. Вилла Зинаиды Волконской на Эсквилине, принадлежавшая нашему, нынче принадлежит британскому посольству. Особняк графа Строганова на виа Систина, построенные около ста лет назад, в 1965 году перешел в собственность соседней с ним немецкой, посвященной истории искусства Bibliotheca Hertziana.
Как характерна для Рима вся эта чересполосица иностранных владений и учреждений, вся эта вкрапленная в него пестрая чужеземщина! Повсюду она вкраплена в старом папском Риме, столице не Италии, но католического мира; только все же тут, возле Испанской лестницы, и больше ее, и немножко она другая: не паломники ее сюда занесли и не святейшие отцы насадили. Здесь чужеземщина эта — мы сами, а до нас деды и прадеды наши, любопытствующие, вроде как и мы, насчет достопримечательностей столицы,
общей нашей столицы, матери всех столиц.
* * *
Первыми «туристами», как известно, были англичане. Еще лет за полтораста до леди Морган придумали те из них, кому это было по средствам, после университета совершать образовательный grand tour (слова французские, но чтобы их должным образом осмыслить, надо произносить их по-английски), длившийся год или два, порой и больше, через Францию и Италию, затем нередко — и в Испанию или Грецию, но не без того, чтобы в Риме провести положенный и немалый срок. Иные снимали городской или загородный дом (что им обходилось даже и не очень дорого), иные довольствовались меньшим; но селились теперь и они, и другие приезжие больше в новых кварталах налево от Корсо, там, откуда был доступ к садам и виллам на холме.
На полпути к верхушке его стояла еще в XVI веке построенная церковь Пресвятой Троицы на Горах, Trinita dei Monti, с редкостным в Риме двухбашенным фасадом, от которой вниз и вбок вели две, в конце того же века по велению паи Григория XIII и Сикста V проведенные улицы, нынешние виа Грегориана и виа Систина. Они ее с городом и соединяли, но не с площадью внизу под ней, куда повернут был ее фасад и откуда по крутому склону загибались вверх всего лишь узенькие тропинки. Давно уже замышляли построить здесь монументальную, широкую, с промежуточными площадками лестницу, которая подымалась бы к церкви от «Баркаччии», уже помянутой фонтанной мраморной барки, изваянной Пьетро Бернини, отцом знаменитого ваятеля и зодчего. Но давно уже не было на свете и самого Джан Лоренцо, когда, наконец, в 20-х годах XVIII века замысел этот был осуществлен. Франческо де Санктис, архитектор борроминиевой школы, использовал при этом прежние проекты, а кое в чем и пример незадолго до того построенной очень «сценичной» речной гавани Рипетта (близ мавзолея Августа), так заманчиво изображенной Пиранези, но, увы, уничтоженной в конце прошлого столетия. Лестница получила прозвище испанской (из-за площади, конечно), но скорее имела бы она право называться «Французской лестницей».
Французский король Карл VIII за два с лишним века до того приобрел немало земель на склонах Пинчио. Часть их преемник его Людовик XII даровал Троице на Горах и ее монастырю, францисканскому в те времена, французскому до сих пор, который получил и ту землю, на которой впоследствии воздвигали лестницу. Покуда ее собирались воздвигать и воздвигли, шли юрисдикционные споры между монастырем, чьи права поддерживало французское посольство, и папской администрацией, склонной их оспаривать. Предполагалось даже по первому проекту в центре лестницы, на половине ее высоты, поставить прижизненный конный памятник Людовику XIV. От этого намерения пришлось французам отказаться. Но лестница все же построена была на их деньги — на деньги монастыря и на те, что завещаны ему были для этой цели еще в 1661 году Этьеном Геффье, бывшим секретарем французского посольства, большую часть жизни прожившим в Риме и, нужно думать, как столькие другие иностранцы, полюбившим его, в нем нашедшим вторую родину.
Когда лестница была закончена или почти закончена (она так никогда и не увидала долженствовавших ее украсить статуй и маленьких фонтанов), блистательный и очень «версальский» кардинал Мельхиор де Полиньяк в письме от 1 августа 1726 года хвалил ее красу, сообщая одному из своих корреспондентов, что она стала излюбленным местопребыванием тех, кто после жаркого летнего дня любит проводить ночь на свежем воздухе; и он же, несколько дней спустя, жаловался в письме к испанскому послу на стражников его посольства, учинивших беззаконную расправу над какими-то из этих искателей ночной прохлады, за что-то, в чем просвещенный князь церкви не находил состава преступления. Как бы огорчился он, если бы узнал, что лестницу эту уже добрые двести лет никто иначе не называет как Испанской!
Однако, если прилагательное это с прописной буквы начинать, то не испанская она, как и не французская, а самая что ни на есть итальянская и римская. В этом подлинном качестве своем она испанцам и французам так же мила, как и всем нам; а про себя, на худой конец, пусть и немцы называют ее своей: немец написал ее историю, немка основала Гертциану; пусть и англичане ради их великого поэта — или чая с поджаренным хлебом — считают ее английской. А соотечественники наши? Муратов о ней не говорит; Грифцов — на последних страницах (это хорошо!) — своего «Рима» мельком о ней упоминает. Но ведь стоит мне отсчитать по Кондотти сорок шагов, как попаду я в кафе Греко, где не одни назорейцы сидели, угощаясь из любви к Риму, я уверен, не пивом, а вином, но и Гоголь встречался с Александром Ивановым. А как же ему было прийти туда с виа Систина, с виа Феличе (как она тогда звалась), если не спустившись по Испанской лестнице?
И я, поздний пришелец, в тот давно улетевший год, когда впервые был я здесь, каждый божий день спускался и подымался по ней, потому что жил в той гостинице рядом с церковью вверху, из окон которой так чудесно был виден Рим, в «Albergo Hassler», переименованном и таком расфуфыренном нынче для экранных див и всех тех, на кого смотрят и кому незачем или некогда смотреть. Жил я там, а уж смотрел!.. Все глаза мои семнадцатилетние высмотрел. Оттого эта лестница и моя. Наша она, как все в Риме, и тем более в этом полуиностранном Риме. Все мы ему чужие, и для всех нас он все-таки наш.
От фонтана Треви (он был закончен еще немного поздней, чем лестница), куда столько раз бросал я с трепетом суеверную монетку, до площади у Фламиниевых ворот или, если поверху идти, до виллы Медичи, откуда начинаются сады и дорога ко всем памятной террасе над той площадью, это все места хоть и древние — Пинчио имя получил от владений Пинциев, окруженных садами и виллами Ацилиев, Лукулла, Домициев (как раз там, где терраса), — но и новые места, приобретшие нынешний свой облик главным образом в восемнадцатом и в начале прошлого столетия, а значит, в те времена, когда «мы» — не паломники, а форестьеры — стали все чаще и чаще наведываться в Рим. А кто же из нас не любовался Куполом и городом поверх площади, кто не бывал на вилле и в казино Боргезе? Места эти — наши бивуаки, чуть в стороне от главных здешних чудес и все-таки совсем близко к ним. Сосредоточие же всего нашего лагеря или табора — Испанская лестница, широко раскинутая, привольная, не совсем, не жестко городская и такая праздничная в своем гостеприимном и непринужденном (есть ведь деревья, есть и зелень возле нее), но все же царственном мраморном величии.
Монетка монеткой, а надо проститься и с ней. Подымусь еще раз, заверну в Грегориану — там вход в библиотеку. Подходит вечер; завтра уезжать. Купол! Купол! Но и оторвавшись от него, еще долго я уйти не в силах. Все сияет и млеет в перламутрово-млечных сумерках. Фасад церкви невещественно светел. Обелиск розовеет на побледневшем, прозрачно-бесцветном небе. Затеплилась звездочка…
Как же нам жить без Рима? Если б не память о нем, нельзя было бы, нельзя.
Приложение РИМЛЯНИН ГОГОЛЬ
Вряд ли есть в Европе страна, чья литература не была бы так или иначе связана с Италией, и не только книгами и через книги связана, но и личной судьбой авторов этих книг. Итальянское путешествие Гёте знаменует решающий перелом в его жизни, как и в его творчестве. Нельзя не вспомнить об Италии, когда читаешь Байрона или Шатобриана. Стендаль на своем надгробном камне именует себя жителем Милана, а не французским писателем. Китс умер в Риме и погребен — как и Шелли, утонувший недалеко от Пизы, — на римском протестантском кладбище. Можно было бы привести много других имен, в том числе и русских: Баратынский скончался в Неаполе; роман Достоевского «Идиот» закончен был во Флоренции, и здесь же возникли первые наброски «Бесов». Не странно ли это? Ничем как будто не связаны с Флоренцией ни Достоевский, ни его герои. Да ведь никак она в его произведениях и не отразилась. Встречи не произошло. Вот у Гоголя в отношении Рима — другое дело. Была встреча; остался и след ее — незаконченный полуочерк-полурассказ. И не девять месяцев, как Достоевский во Флоренции после первого кратковременного пребывания, а почти шесть лет с небольшими перерывами прожил Гоголь в Риме. Совсем римлянином стал! Изучил город, любил разыгрывать чичероне, показывать его красота и древности приезжим; дружил с художниками, работавшими здесь, с Александром Ивановым прежде всего. Восторженные письма отсюда писал, утверждал, что душа его тут родилась. Прожил тут и в самом деле едва ли не счастливейшие дни своей жизни, те, когда писалось лучшее из написанного им. Лучшее? Уж не «Рим» ли это? О нет, отрывок это никто никогда к лучшим вещам его не причислял. В том-то и странность, что писал он здесь нечто глубоко противоположное и повести этой своей, и самому городу Риму. Не просто чуждое, как Рогожкин и Настасья Филипповна чужды Флоренции, а нечто находящееся в предельно резком контрасте с тем, что как раз самого Гоголя в Риме пленяло и восторгало. Остается лишь удивляться тому, как мало удивлялись этому до сих пор…
* * *
О себе скажу, что когда я в Риме, я всегда нет-нет да и подумаю о Гоголе. Наглядишься, бывало, с верхушки Испанской лестницы на то, как в небо взлетает и покоится в небе купол св. Петра, да и начнешь медленно спускаться по улице, образующей с двумя продолжениями своими вытянутую по шнуру каменную просеку, которая, опускаясь и поднимаясь с холма на холм до самой Санта Мариа Маджоре, перерезает старый папский город. Прорубить повелел ее в конце XVI века папа Сикст V, в честь которого и называется она Сикстинской, но в гоголевские времена звалась она «Счастливой» — «виа Феличе», — и, спускаясь по ней, редко забывал я остановиться против дома номер 126 и взглянуть лишний раз на мраморную доску, прибитую между двумя его окнами в 1901 году заботами, как на ней указано, русской колонии в Риме.
Здесь-то, в этом доме на «Счастливой» улице, на третьем этаже Гоголь и прожил, не считая непродолжительных отлучек, с октября 1837 до мая 1843 года. Здесь писал он «Мертвые души». Начал он их, правда, еще в России, но продвинул ненамного, да и первые две или три главы, написанные там, подверглись в Риме коренной переработке. Можно сказать, что почти целиком первую часть своей «поэмы» он если не задумал, то создал именно здесь. Так что, в сущности — каждый раз себе это говорю и каждый раз дивлюсь, — из ворот вот этого самого дома и выехала бричка, на которой ездят господа средней руки, с Селифаном и Петрушкой на козлах; в этом самом доме на третьем этаже и родились (хоть и не здесь были зачата) и Манилов, и Коробочка, и Плюшкин, и дама приятная во всех отношениях, и губернатор, вышивающий по тюлю, и сам Павел Иванович Чичиков.
Сикстинская улица стала в нашем веке нарядной и шумной. Однако гоголевский дом скромней соседних, изменился он, по-видимому, очень мало. Глядишь на него и думаешь: этот дом — это еще патриархальный папский Рим, тот Рим, где настоящее ничем не мешало прошлому, не отгораживало от него разноплеменных посетителей, не заставляло их глядеть на это прошлое как на музейный экспонат, красующийся если не в реальной, то в неизбежно воображаемой, примышляемой к нему витрине. Пойди налево, направо, спустись немного ниже, поднимись на следующий холм — всюду фонтаны, дворцы, колоннады, купола, фронтоны, а за ними другие, далекие века. Они с тобой, ты в них живешь, ты все дальше уходишь в них с каждым шагом. И что же? Все ведь это понапрасну. Все Коробочку ты встречаешь утром, когда выйдешь погулять между Тритоном, радостно мечущим вверх водную струю, и великолепной громадной палаццо Барберини: «Может быть, понадобится птичьих перьев? У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья!» А на площади Квиринала, возле Диоскуров, где сияет вдали тот же купол, увенчивающий Рим, тебе слышится голос Ноздрева: «Брудастая, с усами; шерсть стоит вверх как щетина; бочковатость ребер уму непостижимая; лапа вся в комке — земли не заденет!». Или на крутой тропе, что ведет меж пиний и кипарисов от говорливых мраморов Форума к тенистому молчанию Палатина, Собакевич, наступив тебе на ногу, «входит в самую силу речи»: «А Пробка Степан, плотник? Я голову прозакладую, если вы где сыщите такого мужика! Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы Бог знает что дали — трех аршин с вершком ростом!»
Все эти слова и голоса звучали для него здесь — возле Траянова столпа, у пирамиды Гая Цестия, на Латинской, на Аппиевой дороге. И не Цицеронов и Цезарей, не Иннокентиев и Климентов, не Орсини, не Колонна были имена, что ему приходили тут на ум, а совсем другие:
– Бобров, Свиньин, Канапатьев, Хорпакин, Трепакин, Плешаков…
– Богатые люди или нет?
– Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого тридцать; а таких, чтоб по сотне, таких нет.
– Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь…
А Гоголь? Живя вот здесь, между Обелиском и Тритоном на via Sistina, в городе, которому нет равного на свете, он из этой глуши не выезжал. Его гений не давал ему выехать из нее, забыть ее, изменить ей. Был бы он, может быть, и не прочь ее забыть… Рим полюбил всей душой. Знал его хорошо. Гимны ему пел. Не на шутку захотелось ему нечто «римское» в Риме написать. Почему бы не родиться в этом сикстинском доме сказанию совсем другого рода, с вплетенными в него мыслями, образами, героями, гораздо более подходящими к этому городу и дому? Да и стало оно рождаться. Но удивительное дело: так-таки все же и не родилось.
Задумал здесь Гоголь в 1839 году написать «Аннунциату», «итальянскую повесть», то есть повесть, чьи герои были бы итальянцы и чье действие протекало бы в Риме. Два года спустя он от этого замысла отказался и ограничился тем, что из уже написанного выделил «отрывок», озаглавил его «Рим» и послал в журнал «Москвитянин», где и был он напечатан в 1842 году, незадолго до выхода в свет первой части «Мертвых душ». Белинский, как известно, остался «Римом» недоволен, отчасти по соображениям «идейным» (что уже в то время означало политическим), а отчасти по чисто литературным. Осудил он в этой «статье», как он характерным образом называет отрывок все же повествовательный, не только «косые взгляды на Париж и близорукие взгляды на Рим», но и «фразы, напоминающие своею вычурной изысканностью язык Марлинского». Насчет косых и близоруких взглядов Гоголь вполне резонно (хоть и вряд ли вполне искренне) заметил в письме к Шевыреву, что взгляды эти принадлежат не ему, а его герою, римскому князю, которому позволительно не разделять мнений Белинского о Париже или Риме; что же касается «фраз», не то чтобы вычурности, а безвкусной напыщенности их, то тут защититься было бы Гоголю трудней.
«Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска — таковы очи у альбанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы, густая смола волос…» — так начинается повесть. Передохнем немножко, пропустим несколько строк. — «…Полный голос ее звенит как медь. Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец создания, от плеч до античной дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге…»
В таком же роде описана далее и внешность самого князя, «несущего свои черные очи, метатели огней из-за перекинутого через плечо плаща, нос, очеркнутый античной линией, слоновую белизну лба и брошенный на него летучий шелковый локон».
Нет уж, увольте! Все эти «античные» линии и ноги, «гибкие пантеры» и слоновые лбы, все это отзывается больше еще, чем Марлинским, стихами Бенедиктова, столь прославлявшегося в то время, а нам напоминает пародии на них Козьмы Пруткова. Если что погубило итальянскую повесть Гоголя, то это именно такая, претящая самой своей красивостью, красовитая, разукрашенная «красота».
Гоголь и вообще разницу между красотой и красивостью чувствовал плохо. Гениальны у него не «Чуден Днепр» и не знаменитая «Тройка» — «Эх, кони, кони!.. Чуткое ли ухо горит во всей вашей жилке?». А когда до античных времен доходит дело или до «стройного согласия красоты, чувство которой зарождено уже в груди у итальянца», как сказано в той же повести, то уж тут совсем неизвестно, захочет ли читатель последовать автору и доверчиво вместе с ним «удалиться под сень струй». Само это предложение Хлестакова Анне Андреевне: «Для любви нет различия, и Карамзин сказал — законы осуждают. Мы удалимся под сень струй», что и говорить, в своем роде гениально, при условии, однако, не принимать этих слов за чистую лирику. Когда Гоголь искушался ею, изменяло ему порой даже чувство языка, столь неслыханно острое в лучших его созданиях.
При всем том есть в римском отрывке превосходные, вполне достойные Гоголя страницы. Есть, как признал и Белинский, «удивительно яркие и верные картины действительности»; есть любовь к Риму и к римской жизни, выраженная с большой силой; но, увы, как только появляется красавица Аннунциата — «взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего недостает в груди и бюстах прочих красавиц» — все идет насмарку, и невозможная красовитость снова зачеркивает и Рим, и римскую жизнь, и все, что Гоголь полюбил, живя вот тут, на этой старинной и такой характерно римской улице, в доме, где посещало его и совсем иное вдохновение. Совсем иное? Да, конечно. И все же посещало оно того же Гоголя. А если подумать не о первой только части «Мертвых душ», но и о замысле их продолжения, тоже ведь назревавшем тут же, в Риме, станет ясно, что речь должна идти не столько о различии двух произведений, одно из которых Гоголю не удалось, сколько о глубоком, о губительном изъяне, о червоточине, проникшей в самую сердцевину огромного гоголевского дарования.
Вспомним записи Анненкова о его жизни с Гоголем вот здесь, на третьем этаже; о работе Гоголя над своей поэмой, которая шла так ровно, так счастливо на «Счастливой» улице.
«Почти каждое утро, — пишет Анненков, — заставал я его в кофейной, отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок, за которые почасту происходили у него ссоры с прислужниками кофейной; яркий румянец пылал на его щеках, а глаза светились необыкновенно. Затем отправлялись мы в разные стороны до условленного часа, когда положено было сходиться домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от нестерпимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе поодаль, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Превосходный тон этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен или изменен». Когда же дошло чтение до описания сада Плюшкина, Гоголь даже встал с кресел, повествует Анненков, «и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом. По окончании всей этой изумительной шестой главы я был в волнении и, положив перо на стол, сказал откровенно: «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью!» Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, едва слышным голосом: «Поверьте, что и другие не хуже ее».
Больше века прошло с тех пор, но волнуемся и мы, особенно если в Риме доведется нам вспомнить этот рассказ; только хочется нам крикнуть, в разногласии с Анненковым: Николай Васильевич, другие главы лучше! Все в живой записи этой с полной ясностью развернуто перед нами — и счастливая римская жизнь в пору полного расцвета сил, и торжественная плавность чтения, подчеркивающая значительность каждого слова, звука, ритмического хода, смыслового оттенка, и эта упоенность собственным творением, столь для Гоголя характерная и связанная как с вернейшими победами его гения, так и со срывами, от которых и самый этот гений его не уберег. Не то чтобы не было у него критического чутья и критического отношения к собственным писаниям, но критика эта являлась у него, по-видимому, слишком поздно и приводила не столько к поправкам, сколько к полному зачеркиванию написанного, а то и к отказу от выполнения дорогих ему когда-то замыслов — гордых, но неосуществимых замыслов, вроде преображения Чичикова и всего чичиковского мира: ад, чистилище, рай по образцу дантовой Комедии. Порой даже независимо от таких совсем уж недоступных ему полетов, он от некоторого переигрывания или от подслащивания, когда переигрывание замечал, удержаться был не в силах. Не совсем свободна от этого и та шестая глава «Мертвых душ», что во вдохновенном чтении его так восхитила Анненкова. Это относится особенно к начальным лирическим ее страницам, но переигран отчасти и сам Плюшкин, в отличие от Ноздрева, Коробочки, Собакевича, а затем не без сентиментальности смягчен. И уж особенно переигрывание это угрожало Гоголю там, где искушала его ходульность, принимаемая за возвышенность, и красивость, казавшаяся ему красотою. Тут-то и появлялись у него «венцы создания» и «гибкие пантеры». А когда вспомнишь о картинах в гостиной Собакевича — «Маврокордато в красных панталонах и мундире с очками на носу, Миаули, Канари… Все эти герои были с такими толстыми ляжками и такими неслыханными усами, что дрожь проходила по телу», — пожалуй, и поймешь, почему сожжена была вторая часть «Мертвых душ». Нельзя же об этаких героях, как нельзя и о самом Собакевиче или Чичикове, всерьез, как о «южной красе» и об «античной дышащей ноге» альбанки Аннунциаты…
Здесь, в это счастливое время, на звавшейся «счастливой» улице была создана одна из удивительнейших книг, какие есть на свете, но и был завязан решающий узел в трагической судьбе Гоголя.
Примечания
1
Гипостазирование (от ипостась) — наделение самостоятельным бытием какого-либо отвлеченного понятия, свойства, идеи. — Ред.
(обратно)2
Hilaire Belloc. Europe and the Faith. London, 1920. Henri Massis. Defense de l’Occident. Parts, 1927.
(обратно)3
V. Hehn. De moribus Ruthenorum. Zur Charakteristik der russichen Volksseele. Tagebuchblatter aus den Jahren 1857-1873. Stuttgart , 1892
(обратно)4
Антиномия — противоречие между двумя суждениями, одинаково логически доказуемыми. — Ред.
(обратно)5
Кенозис — самоумаление, самоуничижение Христа, пришедшего в мир, — Ред.
(обратно)6
«Я занялся моими делами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказочки и не ездя по соседям…». 1831 («Заметки о холере»)
(обратно)7
Сэмуэль Кольридж умер 25 июля 1834 г. Упомянутая книга была напечатана в 1835 г., в 1836 г. вышли упоминаемые далее «Разговоры» (Letters, Conversations and Recollections of S. T. Coleridge). — Ред.
(обратно)8
«Друг мой, я с вами буду говорить на языке Европы, Он мне более близок, нежели наш собственный».
(обратно)9
Два последних произведения, очевидно, лишь по материалу, в них использованному.
(обратно)10
Прежде всего я, конечно, имею в виду письма к его второй жене, урожденной баронессе Пфеффель (по первому мужу Дёрнбург). Они были изданы во время войны 1914—1918 гг. в четырех выпусках малораспространенного журнала «Старина и Новизна», к сожалению, с пропусками и вообще довольно небрежно. Небезупречен и сделанный для этого издания перевод их французского текста. Цитаты из них я привожу в заново сделанном переводе.
(обратно)11
Другой поэт, англичанин, человек строгий к себе и к другим, находил, что «говорить о погоде или здоровье, и особенно жаловаться на них, никчемное дело» (письмо Хопкннса Роберту Бриджесу 7 марта 1884 года).
(обратно)12
Th.Schientarm. Victor Hehn (1894), С 25.
(обратно)13
См:.В.А.Кштрович. Фельетоны сороковых годов. 1930. Там же — приводимые далее тексты из черновых записей Достоевского.
(обратно)14
Писалось это в 1961 году. С тех пор в этом книжном деле наметились перемены к лучшему. Но даже до 1911 года путь еще далек.
(обратно)15
Трюизм — общеизвестная, избитая истина. — Ред.
(обратно)16
Цитирую по переводу о. Павла Флоренского «Столп и Утверждение Истины» (под существами разумеются здесь и живые существа, и неодушевленные предметы).
(обратно)

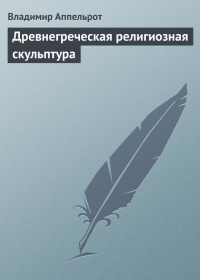



Комментарии к книге «Задача России», Владимир Васильевич Вейдле
Всего 0 комментариев